Четыре ветра бесплатное чтение
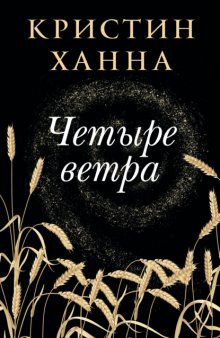
KRISTIN HANNAH
THE FOUR WINDS
Copyright © 2021 by Kristin Hannah
© Наталья Рашковская, перевод, 2021
© «Фантом Пресс», издание, 2021
Пролог
Надежда у меня всегда с собой – это одноцентовая монетка. Мне ее подарила мать мужчины, которого я полюбила. Иногда мне казалось, что я продолжаю свой путь только благодаря этой монетке, символу надежды.
Я приехала на Запад в поисках лучшей жизни, но нищета, невзгоды и людская жадность превратили мою американскую мечту в кошмар. За последние годы люди многое потеряли. Работу. Дома. Еду.
Наша любимая земля обратилась против нас, сломала нас всех, даже упрямых стариков, привыкших нахваливать погоду и поздравлять друг друга с рекордными урожаями пшеницы. «Без борьбы мужчине здесь на жизнь не заработать», – говорили они друг другу.
Мужчине.
Всегда говорили только о мужчинах. Они как будто думали, что готовить, убирать, рожать детей и работать в огороде ничего не значит. Но и мы, женщины Великих равнин, не знали отдыха от рассвета до заката, мы трудились на пшеничных полях, пока не иссохли так же, как наша любимая земля. Иногда, закрывая глаза, я готова поклясться, что все еще чувствую вкус пыли…
1921
Навредить земле – значит навредить своим детям.
Уэнделл Берри[1],фермер и поэт
Глава первая
Не по своей воле Элса Уолкотт провела в одиночестве многие годы, читая о вымышленных приключениях и воображая себе другие жизни. В одиночестве спальни, в окружении романов, которые стали ее друзьями, она иногда осмеливалась мечтать о собственных приключениях, но это бывало нечасто. Родственники твердили, что тяжелая болезнь, которую она перенесла в детстве, определила ее будущее, сделала Элсу хрупкой и нелюдимой, и в хорошие дни она верила этому.
В плохие дни, как сегодня, она знала, что всегда была чужой в своей семье. Родственники рано почувствовали, что она не такая, как все, что она не вписывается в общество.
Постоянное неодобрение отзывалось болью, Элса чувствовала, будто потеряла что-то неназванное, неизвестное. В ответ она молчала, не требовала внимания и не искала его, она принимала, что не нравится родным, пусть они и любят ее. Обида стала такой привычной, что она редко замечала ее. Она знала, что эта боль никак не связана с болезнью, которой обычно объясняли ее изгойство.
Но теперь, сидя в гостиной, в своем любимом кресле, она закрыла книгу, что лежала у нее на коленях, и задумалась. «Век невинности»[2] что-то разбудил в ней, остро напомнил, что время проходит.
Завтра у нее день рождения.
Ей исполняется двадцать пять лет.
По большому счету, это молодость. В этом возрасте мужчины пьют самогон, гоняют на машинах, слушают регтаймы и танцуют с женщинами, которые носят платья с бахромой и повязки на голове.
Для женщин все иначе.
Для женщины надежда начинает меркнуть, когда ей исполняется двадцать. К двадцати двум в городе, в церкви о ней начинают шептаться, бросать на нее долгие грустные взгляды. К двадцати пяти годам жребий определен. Незамужняя женщина считается старой девой. «Залежалый товар», – называют ее, покачивая головой и цыкая, как бы жалея об утраченных возможностях. Чаще всего люди задавались вопросом, почему совершенно обычная женщина из хорошей семьи осталась старой девой. Но в случае Элсы все знали почему. О ней говорили так, будто она глухая. Бедняжка. Тощая как палка. Куда ей до красоток сестер.
Красота. Элса знала, что в ней-то все и дело. Она некрасива. Когда она надевала свое лучшее платье, человек, с ней незнакомый, мог сказать, что она неплохо выглядит, но и только. Очень уж она «слишком»: слишком высокая, слишком худая, слишком бледная, слишком неуверенная в себе.
Элса была на свадьбах обеих сестер. Ни одна не попросила ее встать рядом с ней у алтаря, и Элса понимала причину. Ростом она почти шесть футов, выше женихов; она бы испортила фотографии, а для Уолкоттов чрезвычайно важно выглядеть как полагается. Внешние приличия ее родители ценили превыше всего.
Не нужно особой прозорливости, чтобы предвидеть будущее Элсы. Она останется здесь, в родительском доме на Рок-роуд, под присмотром Марии, горничной, которая уже много лет занимается домом. А когда Мария уйдет на покой, Элсе придется заботиться о родителях, когда же их не станет, она окажется одна.
И каков же будет итог ее жизни? Чем будет отмечено ее время на Земле? Кто запомнит ее и благодаря чему?
Она закрыла глаза и позволила знакомой, давней мечте на цыпочках войти в ее сознание. Она представила, что живет где-то в другом месте. В своем доме. Она слышала детский смех. Смех своих детей.
Жизнь, а не просто существование. Вот о чем она мечтала – о мире, где ее жизнь и выбор не определяются ревматической лихорадкой, которую она перенесла в четырнадцать лет, о жизни, в которой она открывает свою еще неизведанную силу, где ее судят не только по внешности.
Распахнулась входная дверь, и родственники Элсы шумно вошли в дом. Они, как всегда, держались толпой, смеялись и болтали; шествие возглавлял дородный отец Элсы (лицо раскраснелось от выпивки), по бокам от него, словно крылья лебедя, двигались две младших сестры Элсы, красавицы Шарлотта и Сюзанна, а замыкала процессию элегантная мать, беседовавшая со своими видными зятьями.
Отец остановился, увидев Элсу.
– Элса, почему ты до сих пор не легла?
– Я хотела поговорить с вами.
– В этот час? – удивилась мать. – Ты раскраснелась. У тебя жар?
– У меня уже много лет не было жара, мама. Ты это знаешь.
Элса встала, сцепив руки, и обвела взглядом родню.
Сейчас, подумала она. Она должна это сделать. Главное, не терять присутствия духа.
– Папа.
Она сказала слишком тихо, так, что ее никто не услышал, и тогда она попробовала снова, возвысив голос:
– Папа.
Отец посмотрел на нее.
– Завтра мне исполняется двадцать пять лет, – сказала Элса.
Это напоминание как будто вызвало у матери раздражение.
– Мы знаем, Элса.
– Да, конечно. Я просто хотела сказать, что я приняла решение.
При этих словах все замерли.
– Я… В Чикаго есть колледж, где учат литературе, туда принимают женщин. Я хочу посещать лекции…
– Элсинор, – заговорил отец, – зачем тебе образование? Ты даже школу закончить не смогла из-за болезни. Что за чепуха.
Ей было нестерпимо видеть, как ее недостатки отражаются в глазах других людей. Борись за себя. Будь смелой.
– Но, папа, я взрослая женщина. Я с четырнадцати лет не болею. Я думаю, что доктор… слишком поспешно поставил диагноз. Теперь я здорова. Правда. Я могу стать учительницей. Или писательницей.
– Писательницей? – спросил отец. – У тебя что, талант прорезался?
Его насмешливый взгляд едва не подкосил Элсу.
– Возможно, – ответила она слабым голосом.
Отец повернулся к матери:
– Миссис Уолкотт, дайте ей чего-нибудь от нервов.
– Это не истерика, папа. – Элса знала, что все кончено. Ей не выиграть в этой борьбе. Она должна оставаться тихой и невидимой для всего мира. – Со мной все в порядке. Я пойду наверх.
Она отвернулась. Момент уже миновал, и на нее никто не смотрел. Она будто исчезла из комнаты – в своей обычной манере как бы растворяться в воздухе.
Лучше бы она никогда не читала «Век невинности». Что хорошего вышло из всего этого толком не высказанного желания? Она никогда не влюбится, у нее никогда не будет детей.
Когда Элса поднималась по лестнице, снизу донеслась музыка. Включили новую виктролу.
Она остановилась.
Спустись вниз, возьми стул.
Она решительно закрыла дверь в спальню, отрезая звуки с первого этажа. Там ее никто не ждет.
Элса посмотрела на свое отражение в зеркале над рукомойником. Словно чьи-то недобрые руки стянули ее бледное лицо к острому подбородку. Длинные и прямые светлые волосы совсем тонкие, как кукурузные рыльца, их невозможно уложить во вьющиеся локоны, как делают все девушки. Мать не позволила Элсе подстричься по моде, сказала, что короткими ее волосы будут выглядеть еще хуже. Все у Элсы бесцветное, полинявшее, выделялись только голубые глаза.
Она зажгла лампу, стоявшую на тумбочке возле кровати, и взяла один из романов, которыми наиболее дорожила.
«Мемуары женщины для утех».[3]
Забравшись в постель, Элса погрузилась в скандальную историю, и ее охватило пугающее, греховное желание ласкать себя, она едва не поддалась ему. Книга вызывала почти невыносимую боль – боль желания.
Она закрыла книгу, теперь еще сильнее чувствуя себя отверженной. Беспокойной. Неудовлетворенной.
Если она в ближайшее время не предпримет каких-то шагов, решительных шагов, ее будущее ничем не будет отличаться от настоящего. Она всю жизнь проведет в этом доме, и ее дни и ночи будет определять болезнь, которую она перенесла десять лет назад, и непривлекательность, которую она не в силах изменить. Она никогда не почувствует возбуждения от прикосновений мужчины, не познает удовольствия общей с мужчиной постели. Никогда не возьмет на руки своего ребенка. У нее никогда не будет собственного дома.
В ту ночь Элсу мучило желание. К утру она решила: нужно что-то сделать, чтобы изменить свою жизнь.
Но что?
Не каждая женщина красива, не каждую можно назвать хотя бы хорошенькой. И другие в детстве болели лихорадкой, но потом жили полной жизнью. Насколько она могла понять, все разговоры о том, что болезнь дала осложнение на сердце, – только предположения медиков. Сердце исправно билось и не давало поводов для беспокойства. Она должна верить, что ей хватит выдержки, хотя ей ни разу за эти годы не давали шанса испытать свою силу, выносливость. И откуда им всем знать? Ей не разрешали бегать, играть, танцевать. Она была вынуждена оставить школу в четырнадцать лет, поэтому у нее никогда не было кавалера. Бо́льшую часть жизни она провела в комнате, читая о вымышленных приключениях, придумывая истории, занимаясь самообразованием.
И для нее должны быть возможности, но где их найти?
В библиотеке. В книгах есть ответы на любые вопросы.
Элса заправила постель, подошла к умывальнику, зачесала свои светлые, доходящие до талии волосы набок и заплела их, потом надела простое синее платье из крепа, шелковые чулки и черные туфли на каблуках. Шляпка-клош, лайковые перчатки и сумочка.
Она спустилась по лестнице, радуясь, что в этот ранний утренний час мать еще спит. Маме не нравилось, когда Элса, рискуя устать, выходила из дому, если речь не шла о воскресных службах; в таких случаях мама всегда просила прихожан помолиться за здоровье Элсы. Выпив кофе, Элса вышла на улицу, под яркое майское солнце.
Город Далхарт, расположенный в Техасском выступе[4], просыпался. Вдоль деревянных мостовых открывались двери, хозяева лавок переворачивали таблички «закрыто». За пределами города, под огромным голубым небом, простирались бескрайние Великие равнины, целое море плодородной пахотной земли.
Далхарт – административный центр округа, а экономика в то время была на подъеме. Далхарт разросся, когда здесь появилась железнодорожная станция на пути из Канзаса в Нью-Мехико. Построили новую водонапорную башню, самое высокое здание в городе. Великая война превратила эти акры в золотой прииск – пшеница и кукуруза. Пшеница выиграет войну! – этот лозунг до сих пор наполнял фермеров гордостью. Они внесли свой вклад в победу.
С появлением тракторов жизнь стала легче, и урожайные годы, когда дождей хватало, а цены на зерно держались высокими, позволили фермерам распахивать все бо́льшие площади и выращивать еще больше пшеницы. Старожилы порой заговаривали о засухе 1908 года, о которой многие уже и не помнили. Не один год дождь шел, когда это требовалось, и все в городе богатели, а в первую очередь – отец Элсы: он торговал сельскохозяйственной техникой и принимал плату за нее и наличными, и банковскими расписками.
Утром фермеры собирались возле закусочной, чтобы поговорить о ценах на урожай, а женщины провожали детей в школу. Еще несколько лет назад по улицам ездили коляски, запряженные лошадьми, теперь же в светлое будущее, пыхтя, пробирались автомобили, раздавались гудки, стелился дым. Далхарт, городок благотворительных ужинов, сквэр-данса[5] и воскресных церковных служб, быстро рос. Трудолюбивые единомышленники строили хорошую жизнь благодаря земле.
Вот и Главная улица. Дощатый тротуар под ногами Элсы слегка прогибался, будто она подпрыгивала. С карнизов домов свисали ящики с цветами, добавляя улице столь необходимые яркие пятна. Лига по благоустройству города усердно за ними ухаживала. Элса прошла мимо ссудно-сберегательной кассы и нового салона по продаже «фордов». Ее все еще поражало, что можно зайти в магазин, выбрать автомобиль и в тот же день уехать на нем домой.
Рядом открылись двери лавки, и владелец вышел на улицу с метлой в руках. Закатанные рукава обнажали мясистые руки. На побагровевшем лице выделялся нос, короткий и круглый, словно пожарный кран. Этот человек был одним из самых богатых людей в городке. Ему принадлежала эта лавка, закусочная, кафе-мороженое и аптека. Только Уолкотты жили в городе дольше него. Они были техасцами в третьем поколении и гордились этим. Любимый дедушка Элсы, Уолтер, до самой смерти называл себя техасским рейнджером.
– Здрасьте, мисс Уолкотт, – поприветствовал лавочник, смахнув с потного лба редкие пряди волос. – Славный сегодня денек. Вы в библиотеку?
– Да, – ответила Элса. – Куда же еще?
– Мне привезли новый красный шелк. Скажите сестрам. Из него получатся прекрасные платья.
Элса остановилась.
Красный шелк.
Она никогда не носила красный шелк.
– Покажите мне. Пожалуйста.
– А! Конечно! Вы можете сделать им сюрприз.
Мистер Хёрст поспешил проводить ее в магазин. Там все так и пестрело яркими цветами: коробки с грушами и клубникой, пирамиды лавандового мыла (каждый кусок завернут в папиросную бумагу), мешки с мукой и сахаром, банки с пикулями.
Лавочник провел ее мимо фарфоровых сервизов, столового серебра, всевозможных скатертей и фартуков к сложенным тканям. Покопался в товаре и вытащил отрез ярко-красного шелка.
Элса сняла лайковые перчатки, отложила их в сторонку и потянулась к шелку. Никогда она не трогала такой тонкой материи. И сегодня ее день рождения…
– С таким цветом волос, как у Шарлотты…
– Я беру его, – сказала Элса. Может быть, она грубовато подчеркнула слово «я»?
Да. Видимо, да, потому что мистер Хёрст странно посмотрел на нее.
Лавочник завернул ткань в оберточную бумагу, обвязал пакет бечевкой и протянул Элсе.
Уже собираясь уйти, девушка увидела блестящую серебряную повязку на голову, расшитую бусинами. Вот ровно такие вещицы носила графиня Оленска в «Веке невинности».
Элса шла домой из библиотеки, крепко прижимая к груди отрез красного шелка, завернутый в бумагу. Она открыла черные витые ворота и вошла в мир своей матери – сад, где все кусты аккуратно подрезаны, где пахнет жасмином и розами. В конце дорожки, обсаженной изгородью, стоял большой дом Уолкоттов. Дедушка Элсы построил его для любимой женщины сразу же после Гражданской войны.
Элса до сих пор вспоминала дедушку каждый день. Он был человеком порывистым, любителем выпить и поспорить, но если уж что любил, то любил беззаветно. Он много лет горевал по покойной жене. Единственный любитель чтения в семье Уолкоттов, кроме Элсы, дедушка часто принимал ее сторону в семейных конфликтах. Не бойся умереть, Элса. Бойся не жить. Будь смелой.
Никто не говорил ей подобных слов после смерти деда, и ей его не хватало. Его рассказы о первых беззаконных годах в Техасе, в Ларедо, и Далласе, и Остине, и на Великих равнинах были лучшими воспоминаниями.
Он, конечно же, велел бы ей купить красный шелк.
Мама оторвала взгляд от роз, сдвинула новую шляпку со лба и спросила:
– Элса, где ты была?
– В библиотеке.
– Лучше бы папа тебя отвез. Ходить пешком для тебя слишком утомительно.
– Я не устала, мама.
Честно. Иногда ей казалось, что они хотят, чтобы она болела.
Элса покрепче прижала пакет с шелком к груди.
– Пойди приляг. Будет жарко. Попроси Марию приготовить тебе лимонада.
Мама снова принялась обрезать цветы и складывать их в плетеную корзинку.
Элса подошла к входной двери и шагнула в сумрачные покои. В дни, когда ожидалась жара, шторы не раздвигали. В той части штата, где они жили, это означало, что многие дни в доме было темно. Закрыв за собой дверь, она услышала, как Мария в кухне напевает по-испански.
Проскользнув через гостиную, Элса поднялась по лестнице в спальню. Там она развернула оберточную бумагу и уставилась на ярко-красный шелк. Она не смогла удержаться от искушения потрогать его. Гладкость ткани успокоила, напомнила о ленте, которая была у нее в детстве.
Сможет ли она совершить тот сумасбродный поступок, который вдруг пришел ей в голову? Начать с внешности.
…Будь смелой.
Элса ухватила прядь длинных, до пояса, волос и обрезала их на уровне подбородка. Она чувствовала себя немного сумасшедшей, но продолжала резать, пока пол у ее ног не покрылся светлыми прядями.
Стук в дверь так напугал Элсу, что она уронила ножницы. Они с шумом упали на комод.
Дверь отворилась. Мать вошла в комнату, увидела, как Элса обкорнала свои волосы, и застыла.
– Что ты наделала?!
– Я хотела…
– Тебе нельзя выходить из дома, пока они не отрастут. Что скажут люди?
– Молодые женщины носят короткие стрижки, мама.
– Приличные молодые женщины – нет, Элсинор. Я принесу тебе шляпку.
– Я просто хотела быть красивой, – сказала Элса.
Жалость в глазах матери показалась ей невыносимой.
Глава вторая
Много дней Элса оставалась в своей комнате, отговариваясь плохим самочувствием. На самом деле она не могла показаться на глаза отцу с неровно обрезанными волосами – доказательством ее неудовлетворенности жизнью. Сначала она пыталась читать. Книги всегда утешали ее, благодаря романам она могла быть смелой, отважной, красивой – хотя бы в своем воображении.
Но красный шелк шептал ей, взывал, пока она наконец не отложила книги и не начала делать выкройку из газеты. Закончив с выкройкой, Элса решила, что останавливаться на этом глупо, поэтому она разрезала ткань и принялась шить, просто чтобы занять время.
За шитьем Элсу вдруг посетило удивительное чувство: надежда.
И вот в субботу вечером она держала в руках готовое платье. У нее получился отличный образчик моды большого города: лиф с V-образным вырезом, заниженная талия и асимметричный подол. Очень современное, смелое платье. Платье для беззаботной женщины, готовой танцевать всю ночь напролет. Таких называли «эмансипе». Эти молодые женщины кичились своей независимостью, пили алкоголь, курили сигареты и танцевали в платьях, не скрывавших ноги.
Нужно хотя бы примерить платье, даже если ей не суждено показаться в нем за пределами этих четырех стен.
Элса приняла ванну, побрила ноги и натянула шелковые чулки. Накрутила влажные волосы на бигуди, молясь, чтобы они хоть чуть-чуть завились. Когда волосы высохли, она проскользнула в комнату матери и позаимствовала косметику с туалетного столика. С первого этажа доносились звуки фонографа.
Наконец она расчесала слегка волнистые волосы и надела элегантную серебристую повязку. Воздушное, как облако, платье ласково облегало ее тело. Асимметричный подол открывал длинные ноги.
Наклонившись к зеркалу, она подчеркнула голубые глаза черным карандашом и нанесла на угловатые скулы светло-розовую пудру. Благодаря красной помаде губы выглядели более пухлыми, как и обещали женские журналы.
Элса посмотрелась в зеркало и подумала: «О боже, я почти хорошенькая».
– У тебя получится, – сказала она вслух. – Будь смелее.
Спускаясь по лестнице, она чувствовала удивительную уверенность в себе. Всю жизнь ей говорили, что она непривлекательная. Но только не сейчас…
Первой ее заметила мать. Она так сильно хлопнула папу по руке, что тот вмиг оторвался от своего «Сельскохозяйственного журнала». И нахмурился:
– Что ты на себя напялила?
– Я… я сама сшила это платье, – ответила Элса, нервно сжав руки.
Папа захлопнул «Сельскохозяйственный журнал».
– Твоя прическа. Боже мой. И это развратное платье. Вернись в комнату и больше не позорься.
Элса повернулась к матери за помощью:
– Это последняя мода…
– Не для приличных женщин, Элсинор. У тебя коленки видно. У нас тут не Нью-Йорк.
– Иди к себе в комнату, – велел отец. – Немедленно.
Элса чуть было не послушалась. Но тут же подумала о том, что значит такое послушание, и остановилась. Дедушка Уолт сказал бы ей не сдаваться.
Она вздернула подбородок.
– Я иду в бар слушать музыку.
Отец встал:
– Никуда ты не пойдешь. Я запрещаю.
Элса побежала к двери, опасаясь, что пойдет на попятную, если будет идти медленнее. Выскользнула на улицу и продолжила бежать, не обращая внимания на голоса за спиной. Она остановилась, только когда задохнулась.
Подпольный бар был втиснут между старой конюшней, заколоченной в эру автомобилей, и булочной. После принятия Восемнадцатой поправки к Конституции и вступления в силу сухого закона Элса не раз видела, как мужчины и женщины скрываются за дверью бара. И что бы там ни говорила ее мать, многие из молодых женщин были одеты в точности как она сейчас.
По деревянным ступенькам Элса поднялась к запертой двери и постучала. Открылось узкое окошечко, которое она сразу не заметила, появилась пара прищуренных глаз. До нее донеслись звуки фортепьяно – играли джаз, – и дым сигар.
– Пароль, – сказал знакомый голос.
– Пароль?
– Мисс Уолкотт, вы заблудились?
– Нет, Фрэнк. Я просто хочу послушать музыку, – ответила она, гордясь тем, что говорит так спокойно.
– Ваш старик с меня шкуру спустит, если узнает. Идите домой. Таким девушкам, как вы, не стоит разгуливать по улицам в подобных нарядах. Ничего хорошего из этого не выйдет.
Окошечко захлопнулось. Она все еще слышала музыку за запертой дверью. «Разве нам не весело?»[6]. В воздухе висел запах сигарного дыма.
Элса застыла перед дверью в растерянности. Ее даже не пустили? Но почему? Конечно, при сухом законе нельзя пить алкоголь, но все в городе могли промочить горло в подобных местах, а полицейские закрывали на это глаза.
Она бесцельно двинулась по улице в направлении окружного суда.
Тут она и заметила, что ей навстречу идет мужчина.
Он был очень высоким и худым, а блестящая помада лишь отчасти усмирила его густые черные волосы. Запыленные черные штаны обтягивали узкие бедра, белая рубашка под бежевым кардиганом застегнута на все пуговицы, узел клетчатого галстука туго затянут. Кожаная кепка лихо сдвинута на ухо.
Когда мужчина приблизился, Элса увидела, что это совсем еще мальчик – наверное, не старше восемнадцати, – загорелый, с карими глазами. (В романтических романах такие глаза именовались жгучими.)
– Здравствуйте, мэм. – Он остановился и с улыбкой сдернул кепку.
– Вы ко м-мне обращаетесь?
– Больше я здесь никого не вижу. Меня зовут Раффаэлло Мартинелли. Вы в Далхарте живете?
Итальянец. Боже мой. Отец не разрешил бы ей даже посмотреть на этого парня, не то что разговаривать с ним.
– Да.
– А я из оживленного мегаполиса под названием Тополиное у границы с Оклахомой. Не моргайте, когда поедете мимо, а то пропустите. Как вас зовут?
– Элса Уолкотт.
– Как продавца тракторов? Эй, я знаю вашего папу. – Он снова улыбнулся. – Что вы здесь делаете одна-одинешенька в таком красивом платье, Элса Уолкотт?
Будь Фанни Хилл. Будь смелой. Возможно, это ее единственный шанс. Когда она вернется домой, папа того и гляди посадит ее под замок.
– Наверное, я и в самом деле одинока.
Темные глаза Раффаэлло расширились. Он сглотнул, дернув кадыком.
Целая вечность прошла, прежде чем он заговорил.
– Я тоже одинок.
Он взял ее за руку.
Элса не отдернула ладонь, так она была поражена.
Когда к ней в последний раз кто-то прикасался?
Он просто взял тебя за руку. Не будь дурочкой.
Парень был таким красивым, что ей чуть не стало дурно. Неужели он поведет себя как те злые мальчишки, которые в школе дразнили ее «рельсой»? В вечернем полумраке его лицо казалось как будто высеченным из мрамора: высокие скулы, широкий гладкий лоб, острый прямой нос и такие пухлые губы, что ей невольно вспомнились прочитанные греховные романы.
– Пойдем со мной, Элс.
Вот так запросто он переименовал ее, сделал другой женщиной. Она почувствовала, как от этой фамильярности у нее по спине пробежала дрожь.
Он провел ее по пустому переулку через темную улицу. Из открытых окон бара доносилась песня «Ту-ту, Тутси! Прощай».[7]
Он провел ее мимо недавно построенной железнодорожной станции за пределы города, к новехонькому форду модели «Т» с большим дощатым кузовом.
– Отличная машина, – сказала Элса.
– Год выдался урожайным, вот мы и купили ее. Любишь кататься по вечерам?
– Конечно.
Она забралась на пассажирское сиденье, и он завел мотор. Машина вздрогнула, когда они покатили на север.
Далхарт отражался в зеркале заднего вида, но они не проехали и мили, а вокруг уже ничего не было видно. Ни холмов, ни равнин, ни деревьев, ни рек, только звездное небо, такое бесконечное, как будто оно проглотило весь мир.
Машина запрыгала по кочкам, свернув к старой ферме Стюардов. Когда-то она славилась на весь округ своим огромным амбаром, но во время последней засухи ферму забросили, и домик позади амбара уже много лет стоял заколоченным.
Он остановился перед пустым амбаром, заглушил мотор и некоторое время сидел, глядя вперед. Тишину нарушало только их дыхание и тиканье затихающего мотора.
Он выключил фары и открыл дверцу, потом обошел машину, чтобы открыть дверцу с ее стороны.
Он помог ей выбраться из грузовика, и все это время она неотрывно смотрела на него.
Он мог бы шагнуть назад, но не сделал этого, и она почувствовала, что от него пахнет виски и лавандой, которую мать юноши, должно быть, использовала, когда гладила или стирала его рубашку.
Он улыбнулся ей, и она улыбнулась в ответ, чувствуя надежду.
Он расстелил пару одеял в деревянном кузове, и они забрались туда.
Они лежали рядом, глядя на бесконечное, усыпанное звездами темное небо.
– Сколько тебе лет? – спросила Элса.
– Восемнадцать, но мама обращается со мной как с ребенком. Сегодня мне пришлось тайком уйти из дома. Она постоянно беспокоится о том, что подумают обо мне другие люди. Тебе везет.
– Везет?
– Ты можешь одна гулять вечером в этом платье, без сопровождения.
– Знаешь, мой отец этому совсем не рад.
– Но все же ты гуляла. Вырвалась из дому. Ты когда-нибудь думаешь, что жизнь больше, чем то, что мы видим здесь?
– Да, – ответила она.
– Ведь где-то наши ровесники пьют вино и танцуют джаз. Женщины курят на людях, – вздохнул он. – А мы здесь.
– Я обрезала волосы, – сказала она. – По реакции моего папы можно было подумать, что я кого-то убила.
– Что со стариков возьмешь. Мои родители приехали сюда с Сицилии всего с несколькими долларами. Они все время рассказывают мне эту историю и показывают свою счастливую монетку. Как будто оказаться здесь – это счастье.
– Ты мужчина, Раффаэлло. Ты можешь делать что угодно, поехать куда угодно.
– Зови меня Рафом. Мама говорит, что это звучит более по-американски, но если уж они так хотели, чтобы я стал американцем, нужно было назвать меня Джорджем. Или Линкольном. – Он вздохнул. – Здорово, что я кому-то могу все это высказать. Ты хорошая слушательница, Элс.
– Спасибо… Раф.
Он перекатился на бок. Она почувствовала, что он смотрит на нее, и постаралась дышать ровно.
– Можно поцеловать тебя, Элса?
Она едва смогла кивнуть.
Он наклонился и поцеловал ее в щеку. Губы у него были такие мягкие, от их прикосновения Элса почувствовала, что оживает.
Он осыпал поцелуями ее шею, и ей захотелось потрогать его, но она не решалась. Приличные женщины наверняка такого себе не позволяют.
– Можно… больше, Элса?
– Ты хочешь…
– Любить тебя?
Элса мечтала об этом, молилась, чтобы это случилось, сооружала фантазии об этом из прочитанного, и вот теперь все свершится. По-настоящему. Мужчина просил разрешения заняться с ней любовью.
– Да, – прошептала она.
– Ты уверена?
Она кивнула.
Он отодвинулся от нее, завозился с ремнем. Пряжка лязгнула о стенку грузовика, когда он стянул штаны.
Он задрал ее красное шелковое платье, оно скользнуло вверх по телу, щекоча и возбуждая. Он стянул с нее панталоны, и она увидела свои обнаженные ноги в свете луны. Она сжала ноги, но он раздвинул их и забрался на нее.
Боже мой.
Она закрыла глаза, когда он протиснулся в нее. Было так больно, что она вскрикнула.
Элса зажала рот рукой, чтобы не проронить больше ни звука.
Он застонал, вздрогнул и замер, лежа на ней. Она чувствовала его тяжелое дыхание у своей шеи.
Он скатился с нее, но остался рядом.
– Ух ты, – сказал он.
По голосу было похоже, что он улыбается, но разве такое возможно? Наверное, она что-то сделала не так. Не может быть, что это… все.
– Ты просто чудо, Элса, – сказал он.
– Тебе понравилось? – осмелилась спросить она.
– Очень, – ответил он.
Ей хотелось повернуться на бок и смотреть на его лицо. Целовать его. Эти звезды она видела миллион раз. Он же был чем-то новым, и он хотел ее. Весь ее мир пребывал в смятении. Элса никогда всерьез не думала, что такое случится. Можно любить тебя? – спросил он. А вдруг они вместе заснут и…
– Ну, пожалуй, мне лучше отвезти тебя домой, Элс. Отец мне голову оторвет, если я на рассвете не выеду в поле на тракторе. Завтра мы собираемся распахать еще сто двадцать акров, чтобы посадить больше пшеницы.
– О, – сказала она. – Да. Конечно.
Элса закрыла дверцу грузовика. Раф улыбнулся ей через открытое окно, медленно поднял руку и уехал.
Что это за прощание такое? Захочет ли он снова встретиться с ней?
Посмотри на него. Конечно, нет.
Кроме того, он жил в Тополином. За тридцать миль отсюда. И даже если им приведется встретиться в Далхарте, это ничего не будет значить.
Он итальянец. Католик. Совсем юный. Все это совершенно неприемлемо для ее семьи.
Она открыла калитку и вступила в благоухающий мир своей матери. С этих пор цветущий ночью жасмин всегда будет напоминать Элсе о нем.
Она открыла парадную дверь и вошла в темную прихожую.
Раздался скрип, и Элса остановилась. Через окно просачивался лунный свет. Она увидела, что у виктролы стоит отец.
– Кто ты? – спросил он, подходя к ней.
Расшитая бисером серебристая повязка Элсы соскользнула вниз, она поправила ее.
– В-ваша дочь.
– Черт возьми, это так. Мой отец воевал за присоединение Техаса к Соединенным Штатам. Он стал рейнджером, сражался в Ларедо, его ранили, и он чуть не умер. Эта земля пропитана нашей кровью.
– Д-да. Я знаю, но…
Элса не увидела, что отец замахнулся, не успела увернуться. Он так сильно ударил ее по щеке, что Элса упала.
В страхе она забилась в угол.
– Папа…
– Ты нас позоришь. Скройся с глаз моих.
Элса резко поднялась, взбежала по лестнице и захлопнула дверь спальни.
Дрожащими руками зажгла лампу у кровати и разделась.
Чуть выше груди осталась красная отметина. (Это Раф ее оставил?) На щеке уже проступал синяк, а волосы растрепались от занятий любовью, если это можно было назвать любовью.
И пусть, она снова сделала бы это, если бы могла. Пусть отец бьет ее, кричит, осыпает оскорблениями и лишает наследства.
Теперь Элса знала то, чего не знала раньше, о чем даже не подозревала: она сделает что угодно, перенесет что угодно, лишь бы ее любили, пусть хотя бы одну ночь.
На следующее утро Элсу разбудил солнечный свет, льющийся в открытое окно. На дверце шкафа висело красное платье. Боль в челюсти напомнила ей о прошлой ночи, как и боль, оставшаяся после любви с Рафом. Одну боль она хотела забыть, другую – запомнить.
На железной кровати лежала стопка лоскутных одеял – в холодные зимние месяцы она часто шила при свете свечи. У изножья кровати стоял сундук с приданым, куда Элса бережно сложила расшитое постельное белье, тонкую белую ночную сорочку из батиста и свадебное одеяло, которое она начала шить, когда ей было двенадцать лет, прежде чем выяснилось, что ее непривлекательность – это не этап, который нужно пережить, а данность. К тому времени, когда у Элсы начались месячные, мама потихоньку перестала говорить о свадьбе, перестала расшивать бисером алансонские кружева. Они лежали, переложенные папиросной бумагой, – хватило бы на половину платья.
В дверь постучали.
Элса села.
– Войдите.
В комнату вошла мама. Ее модные туфли на низком каблуке бесшумно ступали по лоскутному ковру, который почти полностью покрывал дощатый пол. Высокая широкоплечая женщина, не склонная к лишним сантиментам, ведущая безупречную жизнь, – она возглавляла церковные комитеты, руководила Лигой по благоустройству города и не повышала голоса, даже когда сердилась. Никто и ничто не могло вывести Минерву Уолкотт из себя. Она утверждала, что это семейная черта, унаследованная от предков, которые приехали в Техас, когда здесь можно было шесть дней на лошади проскакать и не встретить другого белого человека.
Мама села на край кровати. Шиньон, в который были стянуты ее выкрашенные в черный цвет волосы, подчеркивал суровость острых черт лица. Она потрогала синяк на щеке Элсы.
– Со мной отец обошелся бы куда хуже.
– Но…
– Никаких «но», Элсинор.
Она наклонилась и заправила прядку стриженых светлых волос Элсы за ухо.
– Подозреваю, что сегодня я услышу в городе сплетни. Сплетни. Об одной из моих дочерей. – Она тяжело вздохнула. – Ты попала в беду?
– Нет, мама.
– Значит, ты все еще хорошая девочка.
Элса кивнула, не в силах соврать вслух.
Мама указательным пальцем приподняла подбородок Элсы. Она изучала Элсу, медленно хмурясь, оценивая ее.
– Красивое платье не сделает тебя красавицей, дорогая.
– Я только хотела…
– Мы не будем говорить об этом, и подобное больше не повторится.
Мама встала, разгладила лавандовую креповую юбку, хотя ни одна складочка не осмелилась бы появиться на ней. Мать и дочь были так далеки друг от друга, как будто их разделял прочный забор.
– Никто на тебе не женится, Элсинор, несмотря на наши деньги и положение в обществе. Ни одному приличному мужчине не нужна непривлекательная жена на голову выше его. А если бы и появился мужчина, готовый закрыть глаза на твои слабости, то уж, конечно, запятнанная репутация его бы остановила. Научись находить радости в реальной жизни. Выбрось свои глупые романтические книги.
Выходя из комнаты, мама забрала красное шелковое платье.
Глава третья
В годы после Великой войны Далхарт охватил дух патриотизма. Дождь шел в свой срок, цены на пшеницу росли, а значит, у всех была причина отметить Четвертое июля. Витрины городских магазинов сообщали о скидках по случаю Дня независимости, и колокольчики весело звенели, встречая и провожая покупателей, которые решили запастись едой и выпивкой перед праздником.
Обычно Элса ждала праздника, но последние несколько недель выдались непростыми. После ночи с Рафом Элса чувствовала себя как в клетке. Беспокойной. Несчастливой.
Никто в семье к ней особенно не приглядывался и не замечал в ней перемен. Она не высказывала своего неудовольствия, а прятала его и шла вперед. По-другому она не умела.
Элса не поднимала глаз, старательно притворялась, будто ничего не изменилось. Проводила в своей комнате как можно больше времени, даже в самую жару. Из библиотеки ей приносили книги – подходящие книги, – и она прочитывала их от корки до корки. Она вышивала кухонные полотенца и наволочки. За ужином почти не говорила, слушала разговоры родителей и лишь кивала в нужных местах. В церкви прятала свои скандально короткие волосы под шляпкой, говорила, что плохо себя чувствует, и ее оставляли в покое.
В тех редких случаях, когда она решалась оторвать глаза от любимой книги и выглянуть в окно, она видела пустое будущее старой девы, простирающееся до самого плоского горизонта и за его пределы.
Прими это.
Синяк на щеке выцвел. Никто – даже сестры – ничего не сказал по этому поводу. Жизнь в доме Уолкоттов вернулась к норме.
Элса представляла себя запертой в башне леди Шалотт, которая из-за проклятья не могла выйти из комнаты и была обречена только наблюдать за кипением жизни снаружи. Если кто-нибудь и замечал, что Элса внезапно затихла, никто ничего не говорил по этому поводу и не спрашивал, что с ней. По правде сказать, мало что изменилось. Она уже давно научилась как будто растворяться в воздухе. Некоторые животные, защищаясь, сливаются с окружающей природой, становятся незаметными, и Элса вела себя так же. Ничего не говори, исчезни. Не давай сдачи. Если она молчала, люди забывали о ее существовании, оставляли ее в покое.
– Элса! – прокричал отец с первого этажа. – Пора идти. Мы из-за тебя опоздаем.
Элса натянула лайковые перчатки – даже в такую ужасную жару без них никак – и приколола соломенную шляпу. Послушно начала спускаться.
И неожиданно остановилась посреди лестницы, не в силах идти дальше. Что, если на празднике будет и Раф?
Четвертое июля – один из тех редких случаев, когда на праздник собирается весь округ. Обычно праздники отмечали в каждом городке отдельно, но ради этой вечеринки люди готовы были проехать много миль.
– Пойдем, – сказал отец. – Мама терпеть не может опаздывать.
Вслед за родителями Элса села в новехонький бутылочно-зеленый «форд-Т», вместе с матерью они разместились на массивных кожаных сиденьях. Семья жила в городе, и зал собраний располагался неподалеку, но они везли с собой горы еды, и мама скорее умерла бы, чем пошла на вечеринку пешком.
Далхартский зал собраний украшали красно-бело-синие флаги. У входа уже стояло с дюжину автомобилей. В основном они принадлежали фермерам, для которых последние несколько лет выдались удачными, и банкирам, что финансировали весь этот экономический рост. Женщины из Лиги по благоустройству города приложили немало усилий, чтобы лужайка перед входом была шелковистой и зеленой. Возле лестницы, ведущей к парадным дверям, пестрели цветы. Повсюду играли, смеялись, бегали дети. Подростков Элса не видела, но и они где-то здесь – наверное, целуются украдкой в темных закоулках.
Отец припарковался за оградой и выключил мотор.
Элса услышала музыку, она различила скрипку, банджо и гитару, играли «Роза секонд-хенд»[8]. Изнутри доносился шум праздника – веселые голоса, смех.
Папа открыл багажник, забитый едой, которую Мария стряпала несколько дней. Но мама, конечно, скажет, что это все она приготовила по семейным рецептам, переданным предками – техасскими пионерами. Пироги с патокой, имбирные пряники по рецепту тетушки Берты, персиковый пирог-перевертыш и любимая ветчина дедушки Уолта с подливкой «красный глаз» и кукурузной кашей должны были напомнить людям, какую роль Уолкотты сыграли в истории Техаса.
Элса шла за родителями к залу собраний, держа в руках все еще теплый противень.
Зал украшали яркие лоскутные одеяла, они же служили скатертями. У задней стены выстроились длинные столы, заваленные едой: запеченная свинина и жирное, темное жаркое, противни с зеленой фасолью, приготовленной в свином жире. И конечно, салаты с курицей и картофельные салаты, колбаски и булочки, пшеничный хлеб, кукурузный хлеб, торты и пироги всех видов. Все в округе любили праздники, и женщины расстарались, чтобы произвести впечатление. На праздник везли копченую ветчину, и колбаски из зайчатины, и булочки с только что взбитым маслом, и яйца вкрутую, и фруктовые пироги, и тарелки с хот-догами. Мама подошла к угловому столу, где женщины из Лиги по благоустройству города раскладывали угощения.
Сестры Элсы уже суетились рядом с женщинами из Лиги. На Сюзанне была блузка из красного шелка Элсы. Горло Шарлотты украшал красный шелковый шарф. Элса замерла. При виде сестер в красном шелке она совсем пала духом.
Папа присоединился к группе мужчин, громко разговаривавших возле сцены.
Сухой закон, который установил запрет на продажу алкоголя, был написан не для этих мужчин, крепких, здоровых иммигрантов из России, Германии, Италии и Ирландии. Они приехали сюда ни с чем и из этого ничего сделали нечто, потому им не нравилось, когда их учили жить какие-то шишки, которые, казалось, и знать не знают о существовании Великих равнин. Пусть и выглядели эти мужчины не особо презентабельно, счета в банке у них имелись. Пшеница продавалась по доллару тридцать за бушель против сорока центов, составлявших расходы на ее выращивание, и округа благоденствовала. Человек с более-менее солидным наделом земли чувствовал себя богачом.
– Далхарт на подъеме, – громко сказал отец, перекрывая музыку. – В следующем году я построю здесь чертов оперный театр. Почему мы должны ездить в Амарилло за культурным досугом?
– Нужно провести в город электричество. Это ключ ко всему, – добавил мистер Хёрст.
Мама раскладывала еду: без ее участия стол не будет накрыт так, как положено. Шарлотта и Сюзанна смеялись и весело болтали со своими красивыми, хорошо одетыми подругами, многие из которых уже стали матерями.
И тут Элса заметила Рафа, тот стоял у углового стола в компании других итальянцев. Ему пора было подстричься: черные волосы отросли на макушке, хотя на висках были криво обрезаны. Помаде не удалось усмирить его шевелюру, от нее волосы только лоснились. Одет он был в однотонную рубашку, истертую на локтях, коричневые брюки поддерживали кожаные подтяжки, клетчатый галстук-бабочка выглядел нелепо. Хорошенькая темноволосая девушка крепко держала его под руку.
За шесть недель, что Элса не видела Рафа, его лицо еще сильнее загорело – сказались дни, проведенные в поле.
Посмотри на меня, подумала она. И тут же: нет, не надо.
Он наверняка сделает вид, что не знаком с ней. Или хуже того – что не узнаёт ее.
Элса заставила себя сдвинуться с места.
Поставила противень на стол, застеленный белой скатертью.
– Господи, Элса. Ветчина посреди десертного стола. О чем ты думаешь? – возмутилась мать.
Элса перенесла противень на соседний стол. Каждый шаг по деревянному танцполу приближал ее к Рафу.
Она осторожно опустила противень на стол.
Раф оглянулся и увидел ее. Он не улыбнулся, только тревожно покосился на спутницу.
Элса тут же отвела взгляд. Она едва сдерживалась, ее распирало желание. Она задыхалась. И меньше всего на свете ей хотелось провести так весь вечер – без малейшего знака внимания с его стороны.
– Мама, – она подошла к матери, – мама…
– Ты видишь, что я разговариваю с миссис Толливер?
– Да. Извините. Просто…
Не смотри на него.
– Я плохо себя чувствую.
– Думаю, она слишком разволновалась, – сказала мама, обращаясь к миссис Толливер.
– Наверное, мне лучше пойти домой.
Мать кивнула:
– Конечно.
Элса не смотрела на Рафа, направляясь к открытой двери. По танцполу мимо нее проносились пары.
Золото заходящего солнца, теплый воздух. Дверь за ее спиной захлопнулась, приглушив пение скрипок и топот танцоров.
Она шла через лабиринт из припаркованных автомобилей, мимо запряженных лошадьми фургонов, на которых на праздники приезжали менее удачливые фермеры.
На Главной улице было тихо, она купалась в солнечном сиянии цвета ириски, которому вскоре предстоит растаять, обратиться в ночь. Элса шагнула на тротуар.
– Элс?
Она остановилась, медленно повернулась.
– Извини, Элс, – сказал Раф, явно чувствуя себя неловко.
– За что?
– Мне нужно было с тобой заговорить. Или рукой помахать.
– Угу.
Он подошел ближе, так близко, что до нее долетел легкий запах пшеницы.
– Я все понимаю, Раф. Она милая.
– Джиа Компосто. Наши родители решили, что мы поженимся, когда мы еще ходить не умели.
Он наклонился к ней, и Элса уловила его теплое дыхание.
– Ты мне снилась, – быстро сказал он.
– П-правда?
Он смущенно кивнул.
Чувство, будто она подошла к краю обрыва: еще шаг – и полетишь вниз. Его взгляд, его голос. Элса смотрела в глаза Рафа, темные как ночь и немного грустные, хотя о чем ему грустить, она и представить не могла.
– Приходи в старый амбар Стюарда, – сказал он. – В полночь.
Элса лежала в постели, полностью одетая.
Не нужно ей туда идти. Это очевидно. Синяк на щеке давно исчез, но незримый след от него остался. Порядочные женщины так не поступают.
Она слышала, как родители вернулись домой, поднялись по лестнице, как открылась и закрылась дверь в их спальню.
Стрелки часов у кровати показывали 21:40.
Дом затих, Элса лежала, стараясь дышать беззвучно.
Она ждала.
Не нужно ей туда идти.
Но сколько бы Элса ни твердила эти слова, она ни на один миг не поверила, что последует им.
В одиннадцать тридцать она встала. Дневная духота еще не отступила, но в окно смотрело ночное небо Великих равнин. В детстве Элса представляла, что там, за окном, ее ждут приключения. Как часто она стояла у этого окна и пыталась дотянуться в мечтах до неизведанных миров?
Элса открыла окно и вылезла на металлическую решетку для цветов. Ей показалось, что она окунулась в само звездное небо.
Она спрыгнула в густую траву и замерла, испугавшись, что ее услышали, но в доме было по-прежнему темно и тихо. Пробралась к сараю и вывела один из старых велосипедов сестер. Оказавшись на улице, она села на велосипед и покатила к выезду из города.
Для местных жителей были привычны эти бескрайние черные ночи, когда путь освещают лишь звезды, белые искорки в темном мире. Вокруг не было домов, и несколько миль Элса ехала, не видя ничего, кроме темноты.
Вот и старый амбар. Она оставила велосипед на траве у дороги.
Он не придет.
Конечно, не придет.
Элса помнила каждое сказанное им слово, пусть их было совсем мало, мельчайшие черточки его лица. Улыбку, которая будто начиналась с одного края и постепенно расползалась по губам. Бледную запятую шрама на челюсти и чуть выступающий резец.
Ты мне снилась.
Давай встретимся сегодня.
Ответила ли она ему? Или просто стояла, онемев? Она не помнила.
Но вот она здесь одна-одинешенька перед заброшенным амбаром.
Какая же она дура.
Ей придется дорого заплатить, если ее поймают.
Она сделала шаг, галька заскрипела под подошвами коричневых полуботинок. Впереди маячил амбар, месяц будто поймал на крючок конек крыши. Шифер кое-где обвалился, в траве валялись доски.
Элса обхватила себя руками, словно замерзла, хотя на самом деле ей было жарко.
Как долго она простояла здесь? Ее начало подташнивать. Она уже готова была сдаться, как вдруг услышала шум мотора, повернулась и увидела приближающиеся фары.
Раф ехал слишком быстро, рискованно. Из-под колес летела галька. Он посигналил.
Он, должно быть, резко нажал на тормоз, потому что машина внезапно остановилась. Вокруг автомобиля взвихрилось облако пыли.
Раф торопливо выпрыгнул из машины, не выключив фары.
– Элс, – сказал он, широко улыбаясь, и показал ей букет фиолетовых и розовых цветов.
– Т-ты принес мне цветы?
Он достал из машины бутылку:
– И джин!
Элса не знала, чем ответить на такие подношения.
Он протянул ей цветы. Она посмотрела ему в глаза и подумала: «Вот оно». Сейчас она готова была заплатить любую цену.
– Я хочу тебя, Элс, – прошептал он.
Она залезла в кузов вслед за ним.
Он уже расстелил одеяла. Элса чуть разгладила их и легла. Только тоненькая ниточка света тянулась к ним от лунного серпа.
Раф лег рядом.
Она чувствовала его тело рядом со своим, слышала его дыхание.
– Ты думала обо мне?
– Да.
– Я тоже. О тебе. Об этом.
Он начал расстегивать лиф ее платья.
Тело горело от его прикосновений. Внутри будто разматывался клубок. Она не могла ничего поделать, не могла скрыть возбуждения.
Он задрал платье и приспустил ее панталоны, ночной воздух ласкал кожу. Все это возбуждало – ночная прохлада, собственная нагота, его руки.
Ей хотелось трогать его, пробовать его на вкус, говорить ему, где ей хочется – где ей нужно, – чтобы он ее трогал, но она молчала, страшась насмешек. Что бы она ни сказала, все, конечно, окажется неправильным, не подобающим леди, а она так хотела сделать его счастливым.
Он вошел в нее прежде, чем она успела подготовиться, резко задвигался, застонал. Несколько секунд спустя он обрушился на нее, вздрагивая и быстро-быстро дыша. Прошептал что-то неразборчивое ей в ухо. Она понадеялась, что-то романтическое.
Элса коснулась его щетины, легонько, он, наверное, и не почувствовал.
– Я буду скучать по тебе, Элс.
Элса быстро отвела руку.
– Ты уезжаешь?
Он открыл бутылку джина и сделал основательный глоток, потом протянул бутылку ей.
– Родители заставляют меня ехать в колледж.
Он перевернулся на бок и, опершись на руку, посмотрел на нее. Она глотнула обжигающей жидкости и прикрыла рот рукой.
Он снова отпил из бутылки.
– Мама хочет, чтобы я закончил колледж и стал настоящим американцем. Что-то в этом роде.
– Колледж, – грустно сказала Элса.
– Да. Глупость, правда? Не нужны мне эти книжные знания. Я хочу увидеть Таймс-сквер, и Бруклинский мост, и Голливуд. Учиться на своем опыте. Повидать мир. – Он вновь приложился к бутылке. – А ты о чем мечтаешь, Элс?
Она так удивилась вопросу, что не сразу ответила.
– Наверное, о ребенке. О своем доме.
Он ухмыльнулся:
– Ну, такое не считается. Женщина, мечтающая о ребенке, – это все равно что зерно, мечтающее прорасти. А о чем еще мечтаешь?
– Ты будешь смеяться.
– Не буду. Обещаю.
– Я хочу быть смелой, – еле слышно прошептала она.
– А чего ты боишься?
– Всего, – сказала она. – Мой дедушка был техасским рейнджером. Он всегда говорил мне быть стойкой и бороться. Но за что? Я не знаю. Вот, я сказала это вслух, – какие глупости.
Она чувствовала его взгляд. Хоть бы ночь была милосердна к ее лицу.
– Ты не похожа на знакомых мне девушек, – сказал он, убирая прядку волос ей за ухо.
– Когда ты уезжаешь?
– В августе. У нас есть немного времени. Если ты захочешь еще со мной встретиться.
– Да, – улыбнулась Элса.
Она возьмет от Рафа все, что получится, и заплатит за это любую цену. Даже отправится в ад. За одну минуту он заставил ее почувствовать себя более красивой, чем весь мир за двадцать пять лет.
Глава четвертая
К середине августа цветы в подвесных горшках и в приоконных ящиках Далхарта совсем пожухли. Мало кому из владельцев лавок хотелось подрезать и поливать их в такую жару, да и в любом случае цветы бы недолго еще протянули. Мистер Хёрст вяло помахал Элсе, возвращающейся домой из библиотеки.
Открыв калитку, Элса ощутила дурноту от навязчивого, тошнотворно приторного запаха увядающих цветов. Она зажала рот рукой, но сдержаться не удалось. Ее вырвало на любимые розы матери, «Американскую красавицу».
Рвота сотрясала ее, пока в желудке ничего не осталось.
Наконец Элса вытерла рот и выпрямилась, ее трясло.
Послышался шорох.
Мать стояла на коленях в саду, на ней была плетеная шляпка, а поверх простого хлопчатобумажного платья она надела фартук. Она положила ножницы и встала. Карманы ее фартука, куда она складывала обрезки стеблей, выпирали. И почему колючки ей совсем не мешают?
– Элса, – резко сказала она, – в чем дело? Вроде бы тебя и несколько дней назад тошнило?
– Со мной все в порядке.
Стягивая на ходу перчатки, палец за пальцем, мать подошла к Элсе.
Тыльной стороной ладони коснулась лба дочери.
– Жара нет.
– Все в порядке. Просто расстройство желудка.
Элса ждала, что скажет мама. Та явно задумалась – нахмурилась, чего старалась никогда не делать. Леди не показывает своих чувств – одна из ее любимых фраз. Элса слышала ее всякий раз, когда плакала или умоляла, чтобы ее отпустили на танцы.
Мать изучающе смотрела на Элсу.
– Не может этого быть.
– Чего?
– Ты нас обесчестила?
– Что?
– Ты была с мужчиной?
Конечно же, мать разгадала ее секрет. Во всех книгах, которые читала Элса, связь между матерью и дочерью подавалась очень романтично. Пусть мама не всегда показывала свою любовь (привязанность леди тоже полагалось скрывать), Элса знала, как они близки.
Она взяла мать за руки, та инстинктивно дернулась.
– Я хотела тебе рассказать. Правда. Я чувствовала себя такой одинокой, я запуталась в своих чувствах. И он…
Мама вырвала ладони.
Элса услышала, как в тишине, повисшей между ними, заскрипела калитка, как кто-то захлопнул ее.
– Господи милостивый, женщины, что вы тут делаете в таком пекле? Вам бы холодного чаю выпить.
– Твоя дочь в положении, – сказала мать.
– Шарлотта? Давно пора. Я думал…
– Нет, – резко сказала мать. – Элсинор.
– Я? – удивилась Элса. – В положении?
Не может такого быть. Они с Рафом были вместе всего несколько раз. И каждый раз так быстро. Все заканчивалось почти мгновенно. Конечно, дети от этого не заводятся.
Но что она об этом знала? Матери не рассказывали дочерям о сексе до дня свадьбы, а свадьбы у Элсы не было, поэтому мать никогда не говорила с ней о страсти, о том, откуда берутся дети, полагая, что Элсе ничего подобного не светит. О сексе и продолжении рода Элса знала только из романов. И, честно говоря, деталей там было маловато.
– Элса?! – спросил отец.
– Да, – еле слышно ответила мать.
Отец схватил Элсу за руку и притянул ее к себе:
– Кто этот негодяй?!
– Нет, папа…
– Немедленно говори, кто он, или, Бог мне свидетель, я пойду от двери к двери и спрошу каждого мужчину в этом городе, кто погубил мою дочь.
Элса представила себе, как отец тащит ее от двери к двери, будто современную Эстер Прин[9], как стучится, как спрашивает мистера Хёрста, мистера Мак-Лейни и всех прочих: Ты обесчестил эту женщину?
Рано или поздно они с отцом выберутся из города и поедут по фермам…
Он сделает это. Она знала, что сделает. Если ее отец что-то решил, его не остановить.
– Я уйду, – сказала она. – Уйду немедленно. Сама уйду.
– Должно быть, это… знаешь… преступление, – сказала мама. – Ни один мужчина…
– Не захотел бы меня? – Элса развернулась к матери. – Ни один мужчина меня не пожелает. Ты ведь всю жизнь мне это внушала. Ты постаралась, чтобы я усвоила, какая я уродливая, недостойная любви, но это неправда. Раф меня захотел. Он…
– Мартинелли, – с отвращением проговорил мистер Уолкотт. – Итальяшка. Его отец в этом году купил у меня молотилку. Боже милостивый. Когда люди услышат… – Он оттолкнул Элсу:
– Иди в свою комнату. Мне нужно подумать.
Элса ушла, пошатываясь. Она хотела что-то сказать, но какие слова могли это исправить? Она поднялась по ступенькам и вошла в дом.
Мария стояла на пороге кухни, держа серебряный подсвечник и тряпку.
– Мисс Уолкотт, с вами все в порядке?
– Нет, Мария, нет.
Элса взбежала по лестнице. К глазам подступили слезы, но она не позволит им излиться и принести облегчение. Она погладила свой плоский, почти впалый живот. Невозможно представить, что в ней растет ребенок. Конечно, любая женщина понимает, когда она беременна.
Прошел час, другой. О чем говорят родители? Что они с ней сделают? Изобьют ее, запрут на замок, вызовут полицию и сообщат о преступлении, которого не было?
Она ходила по комнате. Садилась. Снова принималась ходить. В окно видела, как опускается вечер.
Ее выгонят из дома, и она пойдет бродить по Великим равнинам, нищая и падшая, пока не придет ей время рожать, и родит она в одиночестве и грязи, и тогда ее тело не выдержит. Она умрет при родах. И ребенок тоже.
Хватит. Родители такого не сделают. Ни за что. Они любят ее.
Наконец дверь в комнату отворилась. На пороге стояла мама, выглядела она непривычно измученной и растерянной.
– Собирай чемодан, Элса.
– Куда я еду? Со мной будет как с Гертрудой Ренке? После того скандала с Теодором она где-то пропадала несколько месяцев. А когда возвратилась домой, никто не сказал об этом ни слова.
– Собирай чемодан.
Элса опустилась на колени, достала из-под кровати чемоданчик. Последний раз она собирала его, когда ездила в больницу в Амарилло. Одиннадцать лет назад.
Она принялась доставать из шкафа одежду и складывать ее в чемодан. Посмотрела на переполненный книжный шкаф. Книги лежали наверху шкафа, стопками на полу. На тумбочке возле кровати тоже лежали книги. Выбирать среди них для нее было все равно что выбирать между воздухом и водой.
– Я весь день ждать не буду, – сказала мама.
Элса взяла «Волшебника страны Оз», «Разум и чувства», «Джейн Эйр» и «Грозовой перевал». Она оставила «Век невинности», из-за которого, можно сказать, все это началось. Положила четыре книги в чемодан и закрыла его.
– Библию, как я вижу, ты не берешь, – сказала мать. – Пошли. Нам пора.
Вслед за матерью Элса вышла из дома. Они прошли через сад к двухместному автомобилю, возле которого стоял отец.
– Это не должно на нас отразиться, Юджин, – сказала мать. – Ей придется выйти за него замуж.
– Выйти за него? – За долгие часы, когда Элса воображала свою ужасную судьбу, эта мысль ей в голову не приходила.
– Ты шутишь, мама. Ему только восемнадцать.
Мать с отвращением фыркнула. Отец открыл пассажирскую дверь, нетерпеливо ожидая, когда Элса сядет в машину. Как только она села, он захлопнул дверцу, занял свое место на водительском сиденье и завел мотор.
– Просто отвези меня на вокзал.
Отец включил фары.
– Боишься, что итальяшка тебя не захочет? Слишком поздно, мисси. Просто исчезнуть у тебя не получится. О нет. Ты ответишь за свой грех.
Они выехали из Далхарта, вокруг не было видно ни зги, лишь два желтых луча выхватывали дорогу. С каждой минутой, с каждой милей Элсе становилось все страшнее, ей чудилось, что еще немного – и она просто рассыплется. Тополиное – крошечный городишко у границы с Оклахомой. Они промчались через него со скоростью двадцать миль в час.
Еще через две мили фары осветили почтовый ящик с надписью «Мартинелли». Отец свернул на длинную грунтовую подъездную дорогу, с обеих сторон которой росли тополя. Забором служила колючая проволока, натянутая меж разномастных палок.
Машина заехала в ухоженный двор и остановилась перед беленым домом с крытым крыльцом и слуховыми окошками, смотревшими на дорогу.
Отец засигналил. Еще раз. И еще.
Из амбара вышел мужчина, на плечо он небрежно закинул топор. При свете фар Элса заметила, что на нем униформа местных фермеров: заштопанный комбинезон и рубашка с закатанными рукавами.
Из дома вышла женщина и присоединилась к мужчине. Невысокая, черные волосы заплетены в косу, уложенную вокруг головы. Одета в зеленое клетчатое платье, поверх которого белый накрахмаленный передник. Женщина была красивая и похожа на Рафа: оба смуглые, с высокими скулами и полными губами.
Отец вылез из машины, открыл пассажирскую дверцу и рывком выдернул Элсу.
– Юджин, – сказал фермер. – Я вроде бы в срок за молотилку плачу, разве нет?
Не обращая на него внимания, отец заорал:
– Раф Мартинелли!
Элсе хотелось, чтобы земля разверзлась и поглотила ее. Она знала, какой ее видят фермер и его жена: старая дева, тощая, ростом с мужчину, волосы неровно обрезаны. Узкое лицо с заостренным подбородком – незатейливое, как поле. Тонкие губы потрескались до крови – она нервно искусала их в дороге. В правой руке Элса держала маленький чемоданчик, все ее достояние.
На крыльце появился Раф.
– Что мы можем для вас сделать, Юджин? – спросил мистер Мартинелли.
– Твой парень обесчестил мою дочь, Тони. Она ждет ребенка.
Элса увидела, как изменилось лицо миссис Мартинелли при этих словах, как ее взгляд из доброго сделался подозрительным. Оценивающий взгляд, готовый заклеймить Элсу как лгунью, или падшую женщину, или как ту и другую разом.
Вот как жители города отныне будут смотреть на Элсу – как на старую деву, соблазнившую мальчика и погубившую себя. Элса держалась на одной силе воле, не позволяя прорваться крику, что звучал в ее голове.
Стыд.
Она думала, что и прежде знала стыд, что привыкла к нему, но сейчас она чувствовала совсем иной стыд. В семье она стыдилась своей непривлекательности, того, что на ней никто никогда не женится. Она позволила этому чувству стать ее частью, вплестись в ее тело и разум, сделаться ее соединительной тканью. Но в том стыде таилась надежда, что однажды они увидят, какая она настоящая, какая она в душе. Цветок с плотно сомкнутыми лепестками, который ждет, что на него упадет солнечный луч, и тогда он раскроется.
Теперешний стыд был совершенно иной. Она навлекла его на себя сама, только она виновата в случившемся, она разрушила жизнь этого бедного мальчика.
Раф сбежал по ступенькам и встал рядом с родителями.
Стоя в свете фар, семья Мартинелли смотрела на нее с выражением, которое можно было описать только как ужас.
– Твой сын воспользовался моей дочерью, – сказал отец.
Мистер Мартинелли нахмурился.
– Откуда вы знаете?..
– Папа, – прошептала Элса. – Пожалуйста, не надо…
Раф шагнул вперед:
– Элс, с тобой все в порядке?
Элса чуть не заплакала от этого проявления доброты.
– Не может такого быть, – сказала миссис Мартинелли. – Он помолвлен с Джией Компосто.
– Помолвлен? – спросила Элса.
Раф покраснел.
– На прошлой неделе.
Элса тяжело сглотнула и кивнула, как будто это было нечто само собой разумеющееся.
– Я никогда не думала, что ты… знаешь. То есть я понимаю. Я пойду. Только мне с этим разбираться. – Она сделала шаг назад.
– Нет уж, постой, голубушка. – Отец посмотрел на мистера Мартинелли: – Уолкотты – порядочная семья. Нас в Далхарте уважают. Твой парень должен загладить свою вину. – Он с отвращением покосился на Элсу. – Как бы то ни было, не думаю, что я когда-нибудь снова увижу тебя, Элсинор. Ты мне не дочь.
С этими словами он сел в автомобиль, мотор которого продолжал работать, и уехал. Элса осталась стоять с чемоданом в руках.
– Раффаэлло, – мистер Мартинелли повернулся к сыну, – это правда?
Раф вздрогнул и, не глядя на отца, пробормотал:
– Да.
– Мадонна миа, – простонала миссис Мартинелли и затараторила по-итальянски.
Элса поняла, что она сердится. Миссис Мартинелли отвесила Рафу затрещину и закричала:
– Выгони ее, Антонио! Путана!
Мистер Мартинелли отвел жену в сторонку.
– Прости, Раф, – прошептала Элса.
Она тонула в стыде. Миссис Мартинелли закричала «нет», а потом снова «путана». Вскоре мистер Мартинелли вернулся, и выглядел он теперь как будто старше. Вид у него был потрепанный: под выпирающим лбом топорщились брови цвета полыни, бугристая переносица намекала, что нос неоднократно ломали, подбородок плоский, как тарелка. Старомодные усы почти полностью закрывали верхнюю губу. Суровый техасский климат оставил следы на его загорелом лице – лоб бороздили морщины, словно годовые кольца на срезе дерева.
– Я Тони, – сказал он и движением подбородка указал на жену, которая так и стояла футах в пятнадцати от них. – Моя жена… Роуз.
Элса кивнула. Она знала, что он один из многих фермеров, что каждый сезон покупали технику у ее отца в кредит и возвращали долг после сбора урожая. Они встречались на общих мероприятиях в округе, но не слишком часто. Уолкотты не общались с людьми вроде Мартинелли.
– Раф, – он посмотрел на сына, – представь нам свою девушку как положено.
Свою девушку. Не свою шлюху, не свою подстилку. Элса никогда не была ничьей девушкой. И она уже слишком долго жила, чтобы называться девушкой.
– Папа, это Элса Уолкотт, – сказал Раф, и его голос дрогнул на последнем слове.
– Нет. Нет. Нет! – закричала миссис Мартинелли. Она хлопнула себя по бедрам. – Через три дня он уезжает в колледж, Тони. Мы внесли задаток. Откуда мы вообще знаем, что эта женщина в положении? Может, она врет. Ребенок…
– …меняет все, – отрезал мистер Мартинелли. Он добавил что-то по-итальянски, и его жена замолчала. – Ты женишься на ней, – сказал он сыну.
Миссис Мартинелли громко выругалась по-итальянски – по крайней мере, звучало это как ругательство.
Раф кивнул. Он выглядел таким же испуганным, какой Элса себя чувствовала.
– А как же его будущее, Тони? – спросила миссис Мартинелли. – Все, о чем мы для него мечтали?
Не глядя на жену, мистер Мартинелли сказал:
– Всему этому пришел конец, Роуз.
Элса молчала. Раф смотрел на нее, и время будто замедлилось, растянулось. Тишину нарушали только кудахтанье куриц да возня свиньи, лениво рывшейся в корыте в своем загоне.
На лице миссис Мартинелли застыла маска презрения.
– Я покажу, где ей расположиться, – отрывисто сказала она. – А вы, ребята, уберите все на ночь.
Мистер Мартинелли и Раф молча развернулись и ушли.
Уходи, говорила себе Элса. Прочь отсюда. Они этого хотят. Если я сейчас уйду, эта семья сможет жить по-прежнему.
Но куда она пойдет?
У нее нет больше дома.
Элса прижала руку к плоскому животу и подумала о растущей в нем жизни.
Ребенок.
Как в этом водовороте стыда и сожаления она пропустила единственное, что имеет значение?
Она станет матерью. Матерью. Ребенок будет любить ее, а она его.
Это чудо.
Она повернулась и двинулась прочь по длинной подъездной дороге. Она слышала каждый свой шаг, слышала шепот тополей на легком ветерке.
– Подожди!
Элса остановилась. Оглянулась.
Миссис Мартинелли стояла, стиснув кулаки и неодобрительно поджав губы. Она была такой маленькой, что сильный порыв ветра наверняка сбил бы ее с ног, и все же сила, исходившая от нее, угадывалась безошибочно.
– Ты куда собралась?
– Думаю, вас это вряд ли касается. Я ухожу.
– Родители примут тебя обесчещенной?
– Думаю, что нет.
– Так что…
– Извините, – сказала Элса. – Я не собиралась губить жизнь вашего сына. Рушить все ваши надежды. Я только… теперь это уже неважно.
Стоя напротив этой маленькой смуглой женщины, Элса казалась себе жирафой.
– И что? Просто уйдешь?
Миссис Мартинелли подошла ближе, внимательно глядя на Элсу. Они долго, напряженно молчали.
– Тебе сколько лет?
– Двадцать пять.
Миссис Мартинелли это явно не понравилось.
– Ты примешь католическую веру?
Элса не сразу поняла, что происходит. Они ведут переговоры? Католичество. Родители придут в ужас. Семья от нее откажется. Но они уже от нее отказались. Ты мне не дочь.
– Да, – сказала Элса. Ее ребенку понадобится утешение, что дает вера, а Мартинелли будут ее единственными родственниками.
Миссис Мартинелли сухо кивнула:
– Хорошо. Тогда…
– Вы будете любить ребенка? – спросила Элса. – Как любили бы ребенка от Джии?
Миссис Мартинелли удивленно посмотрела на нее.
– Или вы только смиритесь с ребенком от путаны? – Элса не знала, что значит это слово, но догадывалась, что ничего хорошего.
– Потому что я знаю, каково расти в доме, где тебя обделяют любовью. Я своему ребенку такого не хочу.
– Когда станешь матерью, то поймешь, что я сейчас чувствую, – наконец проговорила миссис Мартинелли. – Ты о таком мечтаешь для своих детей, о таком… – Она замолчала, отвернулась, скрывая слезы, затем продолжила: – Ты даже представить себе не можешь, на какие жертвы мы шли, чтобы у Раффаэлло жизнь была лучше, чем у нас.
Элса осознала, какую боль она причинила этой женщине, и стыд накрыл ее с новой силой. Ей захотелось еще раз попросить прощения, она с трудом удержалась.
– Ребенка я буду любить, – сказала миссис Мартинелли в тишине. – Моего первого внука или внучку.
Элса ясно и четко услышала невысказанное «Тебя я любить не буду», но одного этого слова, «любить», было достаточно, чтобы отозваться в ее сердце, поддержать ее хрупкую решимость. Она сможет жить нежеланной среди этих незнакомых людей, она давно научилась быть невидимой. Главное сейчас – ребенок.
Она прижала руку к животу. Тебя, тебя, малыш, я буду любить, и ты полюбишь меня в ответ.
Остальное не имеет значения.
Я стану матерью.
Ради этого ребенка Элса выйдет замуж за мужчину, который ее не любит, и войдет в семью, которой она не нужна. С этих пор ее выбор всегда будет определяться только этим. Ради ребенка.
– Куда мне положить вещи?
Глава пятая
Миссис Мартинелли шла так быстро, что за ней было трудно угнаться.
– Есть хочешь? – спросила крошечная женщина, поднимаясь по ступенькам и проходя мимо коллекции разномастных стульев на веранде.
– Нет, мэм.
Миссис Мартинелли открыла дверь и вошла в дом. Элса последовала за ней. В гостиной она увидела столпотворение самодельной деревянной мебели, среди которой выделялся исцарапанный овальный коктейльный столик. Спинки стульев покрывали белые кружевные салфетки. На двух стенах висели большие кресты.
Католические.
Но что же это на самом деле значит? Кем Элса пообещала стать?
Миссис Мартинелли прошла через гостиную, а потом, по узкому коридору, мимо открытой двери, за которой Элса заметила медную ванну и умывальник.
Туалета не было.
В доме нет канализации?
Миссис Мартинелли открыла дверь в конце коридора.
Они оказались в спальне юноши, на комоде были выставлены спортивные награды. Незаправленная кровать стояла напротив большого окна, сейчас закрытого голубыми занавесками. На столике у кровати Элса увидела фотографию Джии Компосто. На кровати лежал чемодан, вне всякого сомнения собранный для поездки в колледж.
Миссис Мартинелли схватила фотографию, а чемодан закинула под кровать.
– Ты будешь здесь, одна, до свадьбы. Раф может спать в амбаре. Он все равно любит там ночевать, когда жарко.
Миссис Мартинелли зажгла лампу.
– Я поговорю с отцом Майклом. Не будем затягивать. – Она нахмурилась и добавила: – Но сначала надо поговорить с Компосто.
– Наверное, лучше Рафу это сделать, – сказала Элса.
Миссис Мартинелли взглянула на нее. По этой маленькой женщине можно было изучать противоречия: передвигалась она быстро, бочком, словно птичка, и хотя выглядела очень хрупкой, однако Элсе она казалась невероятно сильной. С железным характером. Элса знала семейную историю Мартинелли – как Тони и Роуз приехали в Америку с Сицилии, имея в кармане лишь несколько долларов. Они нашли эту землю и выстояли, не один год проведя в сырой хижине с земляным полом, которую сами и построили. Только очень сильная женщина могла выжить на равнинах Техаса.
– Думаю, это он должен для нее сделать, – добавила Элса.
– Умойся. Разбери свой чемодан, – распорядилась миссис Мартинелли. – Увидимся утром. При солнечном свете многое выглядит лучше.
– Только не я, – ответила Элса.
Миссис Мартинелли мучительно долго рассматривала Элсу, явно сочла ее дурнушкой и ушла, закрыв за собой дверь.
Элса села на краешек кровати, ей вдруг стало трудно дышать. В дверь тихонько постучались.
– Войдите.
Раф нерешительно остановился на пороге. Лицо в грязных разводах от пыли, в руках он крутил кепку.
Потом вошел и медленно закрыл за собой дверь. Приблизился к Элсе, сел рядом на кровать. Пружины запротестовали под дополнительным весом.
Элса искоса посмотрела на его идеальный профиль. Он такой красивый.
– Прости, – сказала она.
– Черт, Элса, я все равно не хотел уезжать в колледж. – Он натянуто улыбнулся, черные волосы упали на лицо, закрыв один глаз. – Здесь я тоже не хотел оставаться, но…
Они посмотрели друг на друга. Он взял ее за руку.
– Я постараюсь быть хорошим мужем.
Элсе захотелось сжать его ладонь, чтобы показать, как много эти слова значат для нее, но она не осмелилась. Она боялась, что если вцепится в него, то уже никогда не сможет отпустить. Отныне ей придется быть осторожной, обращаться с ним, как с капризным котенком – не совершать резких движений, не привязываться к нему слишком сильно.
Элса молчала, и через какое-то время он отпустил ее руку и ушел, оставил ее в своей спальне, одиноко сидящую на кровати.
На следующее утро Элса проснулась поздно. Откинула волосы с лица. Тонкие прядки прилипли к щеке – во сне она плакала.
Хорошо. Лучше плакать ночью, когда никто не видит. Она не хотела показывать свою слабость этой новой семье.
Она встала, умылась теплой водой, почистила зубы и причесалась.
Вчера вечером, разбирая чемодан, она поняла, что ее одежда совершенно не подходит для жизни на ферме. Она городская девушка, что она знает о жизни в сельской местности? Взяла с собой только креповые платья, шелковые чулки да туфли на каблуках. Одежда для церкви.
Элса надела свое самое простое дневное платье, угольно-серое, с жемчужными пуговками и кружевным воротничком, натянула чулки, надела черные туфли на каблуках, в которых приехала сюда накануне.
В доме пахло беконом и кофе. Желудок отозвался урчанием, напомнив Элсе, что она ничего не ела со вчерашнего обеда. На кухне – ярко-желтые обои, клетчатые занавески и белый линолеум на полу – никого не было. Вымытые и составленные на столе тарелки со всей очевидностью указывали, что Элса проспала завтрак. Во сколько же Мартинелли встают? Сейчас только девять.
Элса вышла наружу и увидела ферму Мартинелли при ярком солнечном свете. Сотни акров жнивья веером раскинулись во всех направлениях, целое море сухих, обрезанных, золотистых стеблей. И в самом центре – дом с хозяйственными постройками.
Поля коричневой лентой прорезала грунтовая дорога, окаймленная проволочной оградой и тополями. Сама ферма состояла из дома, большого деревянного амбара, загона для лошадей, коровника, свинарника, курятника, нескольких сараев и ветряной мельницы. За домом – фруктовый сад, маленький виноградник и огород, где миссис Мартинелли склонилась над грядкой.
Из амбара показался мистер Мартинелли, заметил Элсу и направился к ней.
– Доброе утро, – сказал он. – Прогуляйся со мной.
Он повел ее по краю пшеничного поля, пшеница вся была уже собрана, редкие уцелевшие колоски казались Элсе сломанными, опустошенными. Как она сама. Легкий ветерок шуршал по жнивью.
– Ты девушка городская, – сказал мистер Мартинелли с заметным итальянским акцентом.
– Похоже, уже нет.
– Это хороший ответ.
Он наклонился и сгреб горсть земли.
– Моя земля рассказывает свою историю, если ее слушать. Это история нашей семьи. Мы сажаем растения, ухаживаем за ними, собираем урожай. Вино я делаю из винограда, выросшего на лозах, которые я привез с Сицилии, и это вино напоминает мне об отце. Эта земля связывает нас, и так уже много поколений. Теперь она свяжет с нами и тебя.
– Я никогда ни за чем не ухаживала.
Он посмотрел на нее:
– Ты хочешь это изменить?
Элса увидела в его темных глазах сочувствие, будто он понимал, чего она боялась всю свою жизнь, но, должно быть, ей это просто почудилось. Он знал о ней лишь то, что теперь она здесь и что вместе с собой она погубила и его сына.
– Только так и начинают, Элса. Когда мы с Розальбой приехали сюда с Сицилии, у нас было семнадцать долларов и мечта. С этого мы начали. Но не это обеспечило нам сытую жизнь. Мы владеем этой землей, потому что мы работали ради нее, потому что, какой бы тяжелой ни была жизнь, мы держались этой земли. Она кормит нас. Она прокормит и тебя, если ты ей позволишь.
Элса никогда не думала о земле как о якоре в жизни. Сама мысль остаться здесь и обрести настоящую семью и дом манила так, как ничто и никогда не манило.
Она сделает все, чтобы стать настоящей Мартинелли, стать частью их истории, может быть, даже сделать их историю своей и передать ее ребенку, которого она носит. Она сделает что угодно, станет кем угодно, чтобы эти люди полюбили ребенка безусловно, как своего.
– Я хочу этого, мистер Мартинелли, – искренне сказала она.
Он улыбнулся.
– Я увидел это в тебе.
Элса начала благодарить, но ее прервала миссис Мартинелли, звавшая мужа. Она направлялась к ним, держа корзину, полную спелых томатов и зелени.
– Элса, – сказала она. – Как хорошо, что ты встала.
– Я… проспала.
Миссис Мартинелли кивнула:
– Пойдем со мной.
На кухне миссис Мартинелли достала овощи из корзины и выложила на стол: красные помидоры, желтый лук, зеленые травы, головки чеснока. Элса никогда не видела столько чеснока разом.
– Что ты умеешь готовить? – спросила миссис Мартинелли, завязывая фартук.
– К-кофе.
Миссис Мартинелли замерла.
– Совсем не умеешь готовить? В твоем-то возрасте?
– Простите, миссис Мартинелли. Нет, но…
– А убирать умеешь?
– Ну… Я уверена, что смогу научиться.
Миссис Мартинелли скрестила руки на груди.
– А что ты умеешь?
– Шить. Вышивать. Штопать. Читать.
– Леди. Мадонна миа. – Она оглядела безупречно чистую кухню. – Хорошо. Тогда я научу тебя готовить. Начнем с аранчини[10]. И зови меня Роуз.
Свадьбу сыграли торопливо и тихо, ни до, ни после церкви праздника не устраивали. Раф надел простое кольцо на палец Элсы и сказал «Да», вот, в общем-то, и все. Во все время краткой церемонии казалось, что у него что-то болит.
В ночь после свадьбы они сошлись в темноте и скрепили свои клятвы телами, как ранее словами, и страсть их была так же тиха, как ночь вокруг. В последующие дни, и недели, и месяцы он старался быть хорошим мужем, а она – хорошей женой.
Поначалу – по крайней мере, на взгляд Роуз, – Элса была неспособна хоть что-нибудь сделать правильно. Она поранилась, когда нарезала помидоры, и обожгла руку, доставая из печи хлеб. Она не могла отличить спелую тыкву от неспелой. А фаршировать цукини для такой неуклюжей женщины, как Элса, оказалось и вовсе непосильной задачей. Она перешла в католичество и слушала мессу на латыни, не понимая ни слова, но находя странное утешение в красивом звучании службы; она выучила молитвы наизусть и всегда носила четки в кармане передника. Она исповедовалась, сидя в маленьком темном закутке, и рассказывала отцу Майклу о своих грехах, и он молился за нее и отпускал ей грехи. Сначала она не находила в этом большого смысла, но потом исповеди вошли в привычку, сделались частью новой жизни – как постные пятницы или мириады дней святых, которые они отмечали.
Элса узнала – к своему удивлению и удивлению свекрови, – что она не из тех, кто легко сдается. Она просыпалась каждое утро раньше мужа и шла на кухню, чтобы поставить кофе. Она научилась готовить, и есть, и любить еду, о которой прежде и не слышала, из продуктов, которых прежде не видела, – оливковое масло, феттуччине, аранчини, панчетта. Она научилась растворяться в делах фермы: работать больше остальных, никогда не жаловаться. Со временем у нее исподволь начало появляться новое и неожиданное чувство: она здесь своя. Она проводила часы в огороде, стоя на коленях в грязи, глядя, как семена, которые она посадила, прорастают, отталкиваются от земли и становятся зелеными стеблями, и каждый казался ей новым началом. Обещанием будущего. Она научилась собирать темно-фиолетовые грозди «Неро д’Авола» и делать из них вино, как клялся Тони, не хуже того вина, что делал его отец. Она познала душевный покой, глядя на распаханное поле, и надежду, которую давали эти поля.
Здесь, иногда думала Элса, стоя на земле, которую она возделывала, будет расти ее ребенок, здесь он будет бегать, и играть, и узнавать истории, которые рассказывает земля, и виноград, и пшеница.
Зима выдалась снежная, и они затаились в доме, привыкая к новому распорядку дня; женщины убирали, штопали и вязали, а мужчины ухаживали за скотиной и готовили сельскохозяйственную технику к весне. По вечерам все собирались у камина, и Элса читала вслух, а Тони играл на скрипке. Элса узнала разные мелочи о своем муже: он громко храпит и беспокойно спит, часто просыпается с криком посреди ночи, напуганный кошмарами.
На этой земле так тихо, что можно сойти с ума, иногда говорил Раф, и Элса пыталась понять, что он имеет в виду. Обычно она просто слушала его голос и ждала, когда он потянется к ней, что он делал, но редко и всегда в темноте. Она знала, что ее растущий живот пугает его. Когда же он все-таки разговаривал с ней, от него обычно пахло вином или виски; тогда он улыбался и плел истории о воображаемой жизни, которую они когда-нибудь будут вести в Голливуде или Нью-Йорке. Если уж начистоту, Элса никогда толком не знала, что сказать этому красивому, порывистому парню, за которого она вышла замуж, но разговоры никогда не были ее сильной стороной, и у нее все равно не хватило бы духу откровенничать, сказать ему, как она себя чувствует и что на этой ферме она неожиданно обнаружила в себе силу, а благодаря любви к мужу и его родителям она способна на очень многое. Она делала то, что всегда делала, встречая отказ: исчезала, и держала язык за зубами, и ждала – иногда с отчаянием, – когда ее муж увидит в ней женщину, которой она стала.
Февраль принес на Великие равнины дожди, питавшие растения, которые она посадила. К марту земля снова ожила – зелень тянулась на мили. По вечерам Тони стоял у своих полей, глядя на взошедшую пшеницу.
В этот особенно прозрачный, залитый солнцем день Элса открыла в доме все окна. Прохладный ветерок нес с собой запах новой жизни.
Она стояла у плиты, обжаривая хлебные крошки в чудесном импортном оливковом масле с ореховым вкусом, которое они покупали в универмаге. Кухню наполнил резкий запах подрумянившегося чеснока. Этими хлебными крошками, смешанными с сыром и свежей петрушкой, они посыпали все, от овощей до пасты.
На столе ждала глиняная миска с мукой, смолотой из богатого прошлогоднего урожая пшеницы, Элса собиралась замесить хлеб. В гостиной играла пластинка «Санта Лючия», достаточно громко, чтобы Элсе захотелось подпевать, хотя она не понимала слов.
Боль возникла внезапно, будто всадили нож в живот, Элса согнулась пополам. Она постаралась замереть и, обхватив живот, ждала, когда боль утихнет.
Но несколько минут спустя накатила новая волна боли, хуже первой.
– Роуз!
Роуз ворвалась в дом, держа в руках белье, приготовленное для стирки.
– Это…
У Элсы отошли воды, намочив чулки, на полу образовалась лужа. Увидев эту лужу, Элса запаниковала. В последние месяцы она чувствовала, что становится сильнее, но сейчас, когда боль завладела ею, она не могла думать ни о чем другом, кроме слов, которые много лет назад сказал ей доктор: не перевозбуждаться, не давать нагрузки на сердце.
Что, если он был прав? В ужасе она подняла глаза:
– Я не готова, Роуз.
Роуз положила белье.
– Никто к этому не готов.
Элса не могла отдышаться. Новая волна боли скрутила ее.
– Посмотри на меня, – велела Роуз и обхватила лицо Элсы, хотя для этого ей пришлось встать на цыпочки. – Это нормально.
Взяв Элсу за руку, Роуз отвела невестку в спальню, где сняла с кровати одеяла и простыни и бросила их на пол. После чего раздела Элсу, которой даже не было стыдно, что свекровь видит ее такую, с огромным животом и опухшими ногами, до того сильна была боль.
Какая зубастая эта боль. Вгрызается в нее, потом выплевывает, дает отдышаться и снова кусает.
– Кричи, не стесняйся, – сказала Роуз, укладывая Элсу на кровать.
Элса потеряла представление о времени, обо всем, кроме боли. Она кричала, когда не могла удержаться, а в перерывах между криками дышала тяжело, как собака.
Роуз управляла Элсой, словно куклой. Она широко раздвинула ей ноги:
– Вижу головку, Элса. Тужься.
Элса тужилась, снова и снова, и кричала, кричала, кричала…
– У меня… сейчас сердце остановится, – прохрипела она. Нужно было сказать им, что она больна, что ей нельзя рожать, что она может умереть. – Если оно остановится…
– Не накликай беду, Элса. Тужься.
Элса напряглась из последних сил и с огромным облегчением, измученная, откинулась на подушки. Комнату огласил крик младенца.
– Красивая малышка с хорошими легкими, – сказала Роуз.
Она обрезала и перевязала пуповину, завернула девочку в одно из одеялец, которые они связали за долгую зиму, и протянула сверток Элсе. Та взяла дочку на руки и с благоговением посмотрела на красное личико. Любовь наполнила Элсу до самых краев и пролилась слезами. Она никогда не чувствовала ничего подобного этому пьянящему сочетанию радости и страха.
– Привет, малышка.
Младенец замер и, моргая, уставился на нее.
Роуз открыла бархатный мешочек, который носила на шее как украшение. Внутри лежал один цент. Роуз поцеловала монетку и показала ее Элсе. На реверсе были изображены два колоска.
– Тони нашел его на улице рядом с домом моих родителей в тот день, когда мы отплывали в Америку. Можешь себе представить такую удачу? Пшеница открыла нашу судьбу. «Это знак», – сказали мы друг другу, и так оно и было. Теперь эта монетка будет присматривать за другим поколением. За моей красавицей-внучкой.
– Я хочу назвать ее Лоредой, – сказала Элса. – В честь дедушки, который родился в Лоредо.
Роуз попробовала произнести незнакомое имя.
– Ло-ре-да. Красиво. По-моему, очень по-американски, – решила она и вложила монетку в ладонь Элсы. – Поверь мне, Элса, эта маленькая девочка полюбит тебя так, как никто никогда не любил… и сведет тебя с ума, и всю душу тебе вымотает. Иногда все одновременно.
В темных, блестящих от слез глазах Роуз Элса видела отражение собственных эмоций и глубокое понимание этой связи – материнства, – которая многие тысячелетия объединяла женщин. А еще она видела в этих глазах больше нежности, чем когда-либо в глазах своей матери.
– Добро пожаловать в семью, – сказала Роуз дрожащим голосом, и Элса поняла, что она обращается не только к Лореде, но и к ней.
1934
Я вижу, что треть нации живет в плохих домах, плохо одета и плохо питается… Показатель нашего прогресса – не умножение богатства тех, кто уже владеет многим, а наша способность обеспечить необходимым тех, кто владеет слишком малым.
Франклин Д. Рузвельт
Глава шестая
Было так жарко, что птицы то и дело с шумом падали с неба на слежавшуюся, закаменевшую грязь. Курицы сидели на земле пыльными кочками, свесив головы, и две последние коровы жались друг к дружке: от жары у них не хватало сил двигаться. Вялый ветерок порой залетал на ферму, шевелил пустую бельевую веревку.
Колючая проволока по-прежнему тянулась по обе стороны подъездной дороги, которая вела к дому, но часть столбов повалилась. Едва живые тополя походили на скелеты. Ветер и засуха будто заново вылепили пейзаж вокруг фермы: сплошь сухостой и тучи голодных москитов.
Годы засухи и экономическая разруха Великой депрессии поставили Великие равнины на колени.
Жители Техасского выступа жестоко пострадали от засушливых лет, но биржевой крах 1929 года разорил всю страну, двенадцать миллионов человек остались без работы, и крупные газеты даже не упоминали о засухе. Правительство никакой помощи не выделило, да фермеры в любом случае ее не ждали. Слишком они были гордыми, чтобы жить на пособие. Они хотели лишь одного: чтобы дождь наконец смягчил почву, чтобы семена проросли и пшеница и кукуруза снова подняли к небу свои золотые руки.
Начиная с 1931 года дожди шли все реже, а в последние три года и вовсе почти прекратились. В этом, 1934-м, выпало менее ста тридцати миллиметров осадков. Не хватит даже на кувшин холодного чая, не говоря уже о том, чтобы напоить тысячи акров пшеницы.
В один рекордно жаркий день на исходе августа Элса сидела на козлах фургона, руки, сжимавшие вожжи, взмокли и чесались в замшевых перчатках. Денег на бензин больше не было, поэтому грузовик обратился в реликвию, запертую в амбаре, как трактор и плуг.
Она пониже надвинула на обожженный солнцем лоб соломенную шляпу, некогда белую, а теперь бурую от грязи, вокруг шеи был обмотан голубой платок. Она щурилась от пыли и то и дело сплевывала, выезжая на Главную улицу. Мило медленно цокал копытами по растрескавшейся от зноя земле. На телефонных проводах нахохлились птицы.
До Тополиного она добралась к трем пополудни. В городке стояла тишина, все попрятались от жары. Никто не ходил по магазинам, женщины не собирались группками у витрин. Эти дни канули в прошлое, как и зеленые лужайки.
Шляпная лавка была заколочена, как и аптека, и киоск с газировкой, и закусочная. Кинотеатр «Риальто» держался на волоске, остался только один утренний сеанс в неделю, но мало кто мог позволить себе купить билет. Одетые в лохмотья люди стояли в очереди за едой у пресвитерианской церкви, сжимая в руках металлические ложки и миски. Веснушчатые, обгоревшие на солнце дети выглядели такими же прибитыми, как их родители, и даже не шумели.
Одинокое дерево на Главной улице – дельтовидный тополь, в честь которого назвали городок, – умирал. Каждый раз, когда Элса приезжала в город, он выглядел все хуже.
Фургон катил, дребезжа по мостовой, мимо заколоченного здания окружного комитета по соцобеспечению (нуждающихся много, а денег нет), мимо тюрьмы, как никогда переполненной: здесь сидели бездомные, бродяги, без документов приехавшие по железной дороге. Кабинет врача все еще работал, но булочной пришлось закрыться. Большинство деревянных домов были одноэтажными. В тучные годы их регулярно красили. Теперь дома стояли серые.
– Но-о, Мило. – Элса натянула вожжи.
Лошадь и дребезжащий фургон остановились. Мерин потряс головой и устало фыркнул. Он тоже терпеть не мог жару.
Элса взглянула на салун «Сило». Два окна приземистого квадратного здания, которое было в два раза длиннее, чем дома по соседству, выходили на Главную улицу. Одно из них разбили в прошлом году в пьяной драке, стекло так и не вставили. Салун построили в восьмидесятые годы прошлого века для ковбоев, которые работали на огромном ранчо, занимавшем три миллиона акров и расположенном у границы Техаса и Нью-Мехико. Ранчо давно уже исчезло, да и ковбоев почти не осталось, но салун уцелел.
После отмены сухого закона заведения, подобные «Сило», снова открылись, но во время Великой депрессии все меньше оставалось мужчин, готовых потратить на пиво несколько центов.
Элса привязала мерина к коновязи и разгладила юбку своего слегка влажного хлопчатобумажного платья. Она сама сшила его из старых мешков из-под муки. Все теперь шили одежду из мешков. Производители мешков даже начали печатать на них симпатичные узоры. Подумаешь, цветочный узор, но все, что позволяло женщине ощутить себя красивой в эти тяжелые времена, дорогого стоило. Элса убедилась, что платье, топорщившееся на исхудавших бедрах и груди, застегнуто до самого горла. Грустно, что она, тридцативосьмилетняя взрослая женщина с двумя детьми, все еще боится заходить в подобные места. Хотя Элса уже много лет не видела родителей, но их неодобрение до сих пор звучало мощным, отчетливым голосом, продолжая определять представление Элсы о себе.
Элса собралась с духом и открыла дверь. Длинный и узкий салун был таким же неухоженным, как и сам городок. В прокуренном помещении разило прокисшим пивом и застарелым потом. Мужчины, пятьдесят лет сидевшие с пивом за стойкой красного дерева, натерли ее до блеска. Вдоль стойки стояли облезлые, исцарапанные барные табуреты, сейчас, в разгар знойного дня, в основном свободные.
На одном, осев всем телом и уронив голову, сидел Раф. Локти его лежали на стойке, перед ним стояла пустая рюмка. Черные волосы закрывали лицо. На нем был выцветший, заштопанный комбинезон и рубашка из мешковины. Между двумя грязными пальцами тлела коричневая самокрутка.
Откуда-то из глубины салуна раздался старческий голос:
– Берегись, Раф. Шериф в городе.
У старика заплетался язык, рта почти не было видно за седой бородой.
Бармен поднял глаза. На плече у него висела грязная тряпка.
– Здрасьте, Элса. Пришли заплатить за него?
Отлично. У них нет денег купить детям новую обувь или ей пару чулок взамен единственной, вконец изорвавшейся, а муж напивается в кредит. Элса остро почувствовала себя неуклюжей и уродливой в бесформенном платье из мешковины и толстых хлопчатобумажных чулках. Ноги в потрепанных кожаных туфлях казались огромными.
– Раф? – тихонько позвала она, подходя к мужу.
Положила руку ему на плечо, надеясь смягчить прикосновением, как своенравного жеребенка.
– Я собирался выпить только одну рюмку, – сказал он и прерывисто вздохнул.
Элса не смогла бы вспомнить, сколько раз она слышала это «Я собирался». В первые годы их брака Раф старался. Она видела, что он старался любить ее, быть счастливым, но засуха иссушила ее мужа, как иссушила землю. Последние четыре года он уже не сочинял историй о будущем. Три года назад они похоронили сына, но даже это не подкосило его так, как нищета и засуха.
– Твой отец рассчитывал, что ты сегодня поможешь ему сажать озимый картофель.
– Да.
– Детям нужна картошка, – сказала Элса.
Он приподнял голову, взглянул на нее сквозь пыльную черноту волос.
– Думаешь, я не знаю?
Я думаю, ты сидишь здесь, пропивая наши последние деньги, так что откуда мне знать, что ты знаешь? Лореде нужны новые туфли, вот это я знаю. Но вслух произнести это она не осмелилась.
– Я плохой отец, Элса, а муж еще хуже. Почему ты меня не бросаешь?
Потому что я люблю тебя.
Взгляд его темных глаз разбивал ей сердце. Она и в самом деле любила мужа так же сильно, как своих детей, Лореду и Энтони, и так же сильно, как она полюбила старших Мартинелли и землю. Элса открыла в себе практически безграничную способность любить. И, помоги ей Господь, именно ее обреченная, неизменная любовь к Рафу постоянно лишала ее дара речи, заставляла отдаляться, чтобы не показаться жалкой. Иногда, особенно в те ночи, когда он вообще не ложился в супружескую постель, она чувствовала, что заслуживает большего, и, может быть, если бы она встала и потребовала этого большего, она бы его получила. А потом вспоминала, что говорили о ней родители, вспоминала свою извечную некрасивость и продолжала молчать.
– Ладно, Элса, вези меня домой. Мне не терпится провести остаток дня, копаясь в грязи, чтобы посадить картошку, которая все равно умрет без дождя.
Элса поддержала Рафа, когда он, пошатываясь, вывалился из салуна, и помогла ему забраться в фургон. Она взяла вожжи и шлепнула по крупу мерина. Мило устало фыркнул и начал долгий, медленный путь через город, мимо заброшенного зала собраний, где когда-то встречался Ротари-клуб[11]. Раф оперся на Элсу, положив изящную руку с длинными пальцами ей на бедро.
– Прости меня, Элс, – сказал он вкрадчиво.
– Все в порядке, – ответила она искренне.
Если он рядом с ней, то все в порядке. Она всегда его простит.
Пусть Раф давал ей совсем мало, а порой едва замечал ее, она жила в страхе потерять его привязанность. Потерять любовь. Так же как боялась потерять любовь дочери-подростка, настроение которой часто менялось.
В последнее время этот страх стал таким сильным, что Элса едва с ним справлялась.
Лореде исполнилось двенадцать, и она была зла на весь мир. В один день закончилось то время, когда мать и дочь вместе возились в саду, а перед сном читали книги, когда они обсуждали характер Хитклиффа и силу Джейн Эйр. Лореда всегда была папиной дочкой, но в детстве в ее сердце хватало места для обоих родителей. На самом деле для всех. Лореда была счастливейшим ребенком, всегда готовым рассмеяться, захлопать в ладоши, всегда в центре внимания. Засыпала она, только если Элса лежала рядом и гладила ее по волосам.
И вдруг все это исчезло.
Элса каждый день горевала из-за потерянной близости со своим первенцем. Поначалу она пыталась перелезть через стены, возведенные подростковым, иррациональным гневом ее дочери, отвечая на злость любовью, но Лореда относилась к ней с едва сдерживаемым раздражением, и это лишало Элсу сил. Поведение дочери воскресило в Элсе всю ту неуверенность, в какой она провела свое собственное отрочество. Элса начала отдаляться от Лореды, сначала надеясь, что дочь перерастет все эти перепады настроения, а затем – и того хуже – поверив, что Лореда разглядела в матери изъян, который видели ее родные.
Элса чувствовала бездонный стыд от того, что дочь ее отвергала. Обиженная, она поступила так, как поступала всегда, – ушла в себя, замкнулась. И все же постоянно ждала, молилась, что муж и дочь однажды осознают, как сильно она их любит, и полюбят ее в ответ. А пока не осмеливалась давить слишком сильно или просить слишком многого. Цена могла оказаться слишком высока.
Когда она вышла замуж, когда стала матерью, она не знала того, что знала сейчас: без любви можно жить, только если у тебя ее никогда не было.
В первый учебный день единственная оставшаяся в городке учительница, Николь Баслик, стояла у доски с мелом в руках. Каштановые волосы пушистым нимбом обрамляли раскрасневшееся от жары лицо. Кружево на горле потемнело от пота, и Лореда не сомневалась, что миссис Баслик боится поднять руки и показать ученикам пятна пота под мышками.
Двенадцатилетняя Лореда развалилась за партой, не слушая, что говорит учительница. Опять разглагольствует о том, что пошло не так. Великая депрессия, засуха, бла-бла-бла. Сколько Лореда себя помнила, времена всегда были тяжелыми. О, она знала, что давным-давно, в незапамятные времена, дожди шли каждый сезон, питая почву. Лореда почти ничего не помнила об этих зеленых годах, кроме пшеницы дедушки, золотых колосьев, танцующих под огромным голубым небом. Их шуршания. Тракторов, которые двадцать четыре часа в сутки вспахивали землю, осваивая все новые поля. Стаи механических насекомых, пережевывающих почву.
Когда же начались плохие годы? Трудно точно сказать. Тут было из чего выбрать. Некоторые сказали бы, что в 1929-м, когда рухнула биржа, но только не местные жители. Тогда Лореде было семь лет, и она кое-что помнила. Люди выстраивались в очереди возле ссудно-сберегательной кассы. Дедушка жаловался на низкие цены на пшеницу. Бабушка вечно жгла свечи, бормотала молитвы, перебирала четки. Биржевой крах принес беду, но основной удар пришелся по большим городам, где Лореда никогда не бывала. Дожди в двадцать девятом году лили как положено, а значит, и урожай собрали отменный, значит, время для Мартинелли было вполне хорошим.
Дедушка продолжал ездить на тракторе, продолжал сеять пшеницу, хотя цены резко упали из-за Великой депрессии. Он даже купил грузовик новой модели, «форд-АА». В то время папа часто улыбался и, пока мама занималась домашними делами, рассказывал Лореде истории о дальних странах.
Последний богатый урожай собрали в 1930-м, когда Лореде исполнилось восемь. Она помнила свой день рождения. Прекрасный весенний день. Подарки. Тирамису бабушки со свечами, торчащими из-под слоя какао. Ее лучшей подруге Стелле впервые позволили заночевать у них. Папа учил их со Стеллой танцевать чарльстон, а дедушка подыгрывал на скрипке.
А потом дожди случались все реже, а вскоре и совсем прекратились. Засуха.
Зеленые поля стали воспоминанием, миражом детства. Взрослые выглядели такими же иссушенными, как земля. Дедушка проводил бесконечные часы в мертвых пшеничных полях, брал горсти сухой земли намозоленными руками и смотрел, как она сыплется сквозь пальцы. Он горевал, что его виноград умирает, и всем, кто готов был слушать, рассказывал, что первые лозы он привез из Италии в карманах. Бабушка повсюду воздвигала алтари, распятий на стенах стало в два раза больше, а по воскресеньям она заставляла всех молиться о дожде. Иногда весь город собирался в школе помолиться о дожде. Приверженцы всех религий молили Бога об одном и том же: пресвитерианцы, баптисты, ирландские и итальянские католики. Мексиканцы ходили в свою церковь, построенную сотню лет назад.
Все постоянно говорили о засухе и жалели о прошедших славных деньках. Кроме матери.
Лореда тяжело вздохнула.
Мама вообще когда-нибудь была веселой? Если да, то Лореда этого не запомнила, как и многое другое. Иногда, засыпая, она думала, что помнит смех матери, ее прикосновения, даже слова «Будь смелой», которые та шептала, перед тем как поцеловать ее на ночь.
Но все больше и больше эти воспоминания казались придуманными, ложными. Она не могла вспомнить, когда мать в последний раз смеялась.
Мама только и делала, что работала.
Работа, работа, работа. Как будто бы эта работа их спасет.
Лореда не могла бы сказать, когда именно она начала сердиться на… мамино исчезновение. По-другому это назвать было нельзя. Мать вставала задолго до рассвета и работала. День за днем. Час за часом. Она постоянно твердила, что нужно беречь еду, не пачкать одежду и не тратить попусту воду.
Лореда и представить себе не могла, почему ее красивый, обаятельный, веселый отец когда-то влюбился в маму. Однажды Лореда сказала отцу, что мама как будто боится смеха. Он ответил: «Нет, Лоло», ответил в своей привычной манере, наклонив голову набок и улыбаясь, что значило: он не хочет об этом говорить. Он никогда не жаловался на жену, но Лореда знала, как он себя чувствует, поэтому жаловалась за него. Это сближало их, показывало, как они похожи, она и папа.
Похожи как две капли воды. Все так говорили.
Как папа, Лореда видела, насколько ограничена жизнь на пшеничной ферме в Техасском выступе, и не имела ни малейшего намерения становиться такой, как мама. Она не собиралась всю жизнь просидеть на умирающей ферме, блекнуть и покрываться морщинами под солнцем настолько жарким, что плавилась даже резина. И тщетно молиться о дожде тоже не собиралась. Ни за что.
Она собиралась объездить весь мир и писать о своих приключениях. Когда-нибудь она станет такой же знаменитой, как Нелли Блай[12].
Когда-нибудь.
Коричневая полевая мышка выползла из-под плинтуса у окна. Остановилась возле учительского стола, попила из чернильной лужицы. Мышь повернула голову, и Лореда увидела, что носик у нее стал синим.
Лореда пихнула локтем Стеллу Деверо, которая сидела за партой рядом с ней. Стелла подняла на нее осоловевшие от жары глаза.
Лореда показала на мышку.
Стелла почти улыбнулась.
Прозвенел звонок, и мышка юркнула в норку в углу.
Лореда встала. Ее платье было липким от пота. Она подхватила сумку с учебниками и вышла из класса вместе со Стеллой. Обычно по дороге они без конца болтали о мальчиках, или книгах, или местах, которые хотели увидеть, или о фильмах, которые будут показывать в кинотеатре «Риальто», но сегодня было слишком жарко, чтобы разговаривать.
Младший брат Лореды, Энтони, как обычно, первым выбежал из школы. Семилетний Энт бегал, как необъезженный жеребенок, выбрасывая в стороны нескладные конечности. Самый бойкий в школе, Энт всегда как будто подпрыгивал. Его выцветшему, заплатанному комбинезону не хватало нескольких дюймов в длину, из потрепанных манжет торчали щиколотки, тонкие, как ручка метлы, носки ботинок прохудились. Веснушчатое угловатое лицо от загара приобрело цвет кожаного седла, а на щеках солнце оставило большие красные пятна. Кепка скрывала грязные черные волосы. Увидев фургон родителей, он замахал и кинулся им навстречу. В своей жизни он и не знал ничего, кроме засухи, поэтому играл и смеялся, как самый обычный мальчик. Младшая сестра Стеллы, София, попыталась его догнать.
– Как это твоя мама всегда сидит на жаре с такой прямой спиной? – спросила Стелла.
У нее, единственной в классе, новые туфли и платья из настоящей хлопчатобумажной ткани в клеточку. Семья Деверо жила неплохо, хотя дедушка Лореды говорил, что для всех банков настали трудные времена.
– Как бы жарко ни было, она никогда не жалуется.
– Моя мама тоже особо не жалуется, но послушала бы ты мою сестру. С тех пор как она вышла замуж, она все время орет как недорезанная свинья, возмущается, сколько всего приходится делать жене.
– Я замуж не собираюсь, – ответила Лореда. – Мы с папой когда-нибудь вместе поедем в Голливуд.
– А мама не будет против?
Лореда пожала плечами. Кто знает, что не понравится маме? И кому какое дело?
Стелла и София повернули налево и направились к своему дому на другом конце городка.
Энт подбежал к фургону.
– Привет, мама, привет, папа! – Он широко улыбался, показывая дыру на месте выпавшего зуба.
– Здорово, сынок, – сказал папа. – Залезай назад.
– Хочешь посмотреть, что я сегодня нарисовал в классе? Миссис Баслик говорит…
– Залезай в фургон, Энтони, – повторил Раф. – Посмотрю твой рисунок дома, когда солнце сядет и эта проклятая жара спадет.
Энт притих.
Лореде неприятно было видеть отца таким грустным, словно побитым. Засуха высасывала из него все силы. Они оба – яркие звезды, им нужно сиять. Папа всегда так говорил.
– Хочешь завтра пойти в кино, папочка? – спросила она, с обожанием глядя на него. – Снова показывают «Маленькую мисс Маркер»[13].
– У нас нет денег на билеты, Лореда, – сказала мама. – Садись сзади рядом с братом.
– А как насчет…
– Залезай в фургон, Лореда.
Лореда забросила в фургон сумку с книгами и залезла сама. Они с Энтом сидели рядышком на пыльном старом одеяле, которое всегда лежало сзади.
Мама щелкнула вожжами, и повозка тронулась.
Покачиваясь вместе с движущимся фургоном, Лореда смотрела на сухую землю. В воздухе висело дрожащее марево. Они проехали мимо гниющего трупа быка с торчащими ребрами, из-под песка торчали рога. Вокруг вились мухи. Ворона приземлилась на труп, властно каркнула и принялась клевать кости. Рядом стоял брошенный «форд-Т» с распахнутыми дверцами, колеса по ось ушли в сухую землю.
Слева, окруженная бурыми полями, виднелась маленькая ферма – и ни единого дерева, которое бы дало хоть подобие тени. К двери приколотили две таблички: «Аукцион» и «Конфисковано за долги». Во дворе стояла старая колымага, забитая скарбом. Сзади к колымаге привязали несколько ведер, огромную чугунную сковороду и деревянный короб, набитый консервными банками и мешками пшеницы. Работающий мотор изрыгал в воздух клубы черного дыма, корпус машины подрагивал. Кастрюли и сковородки пристроили везде, где только можно было. Двое детей стояли на ржавых подножках, а на пассажирском сиденье расположилась женщина с грустными лицом и грязными распущенными волосами, державшая на руках младенца.
Фермер – Уилл Бантинг – стоял у водительской дверцы. Грязный комбинезон, рубашка с одним рукавом, на лоб низко надвинута потрепанная ковбойская шляпа.
– Тпру… – сказала мама и сдвинула на затылок соломенную шляпу.
– Здорово, Раф, Элса, – хрипло сказал Уилл, сплюнув табак в пыль.
Он медленно преодолел расстояние от перегруженного автомобиля до фургона.
– Куда собрались? – спросил папа.
– Сматываемся отсюда. Ты знаешь, что мой сынок, Кэллсон, умер этим летом? – Уилл оглянулся на жену. – А теперь новый родился. Мы тут больше не можем. Уезжаем.
Лореда выпрямилась. Они уезжают?
Мама нахмурилась:
– А как же ваша земля…
– Теперь это земля банка. Мы не смогли вносить платежи.
– И куда вы поедете? – спросил папа.
Уилл достал из заднего кармана помятую листовку.
– В Калифорнию. Говорят, это края молока и меда. Мед мне не нужен. Только работа.
– Откуда ты знаешь, что это правда? – спросил папа, взяв у него листовку.
Работа для всех! Земля возможностей! Отправляйтесь на Запад, в Калифорнию!
– Я и не знаю.
– Нельзя же просто так уехать, – сказала мама.
– Для нас уже слишком поздно. Наша семья дошла до предела. Скажите своим, что я передал им привет.
Уилл повернулся, подошел к пыльной машине и сел на водительское место. Металлическая дверь захлопнулась.
Мама прищелкнула языком, взмахнула вожжами, и Мило снова поплелся вперед. Лореда смотрела, как колымага скрылась в облаке пыли, больше она ни о чем другом думать не могла. Уехать. Они могли бы отправиться в одно из тех мест, о которых они говорили с папой, – Сан-Франциско, или Голливуд, или Нью-Йорк.
– Гленн и Мэри-Линн Маунгер уехали на прошлой неделе, – сказал папа. – В Калифорнию. Просто собрались и уехали на своем старом «паккарде».
Мама не сразу ответила:
– Помнишь, мы смотрели хронику? Очереди за хлебом в Чикаго. Люди, ночующие в халупах и картонных коробках в Центральном парке. У нас, по крайней мере, есть яйца и молоко.
Папа вздохнул. Лореда чувствовала всю боль, всю обиду, заключенную в этом вздохе. Конечно же, мама сказала «нет».
– Да, понятное дело. – Он бросил листовку на пол фургона. – Мои все равно никогда не уедут.
– Никогда, – согласилась мама.
Вечером, после ужина, Лореда сидела на качелях на крыльце.
Уехать.
Медленно опускалось солнце, ночь поглощала плоскую, коричневую, выжженную землю. Одна из коров жалобным мычанием выпрашивала воду. В темноте дедушка начнет поить животных, станет таскать ведра из почти пересохшего колодца, а бабушка с мамой будут поливать огород.
В тишине резко раздавался скрип качелей. Из дома доносилось треньканье телефона: линию они делили с соседями. В эти дни телефонный звонок не значил ничего веселого, все говорили только о засухе.
Кроме отца. Он совсем не похож на фермеров и продавцов. Жизнь или смерть всех других мужчин как будто бы зависела от земли, погоды и урожая. Как у дедушки.
Когда Лореда была маленькой и на дождь можно было рассчитывать, когда высоко поднимались золотые колосья пшеницы, дедушка Тони постоянно улыбался, по выходным пил виски и играл на скрипке на городских праздниках. Он частенько брал ее за руку и вел гулять в шепчущую пшеницу, говорил, что если она будет внимательно слушать, колосья расскажут ей интересные истории. Он брал пригоршню земли своими большими мозолистыми ладонями, бережно, точно то была горсть бриллиантов, и говорил: «Все это однажды станет твоим, потом перейдет твоим детям и детям твоих детей». Земля. Он произносил это слово так, как отец Майкл произносил слово «Бог».
А бабушка и мама? Они как все жены фермеров в Тополином. Работали так остервенело, что до костей стирали пальцы, редко смеялись и почти не разговаривали. Если же все-таки заводили беседу, то о чем-нибудь неинтересном.
Папа единственный говорил об идеях, о выборе и мечтах. О путешествиях и приключениях, обо всех жизнях, которые может прожить человек. Он повторял, что за пределами фермы лежит большой прекрасный мир.
За спиной Лореды открылась дверь. До нее донесся запах тушеных помидоров, жареной панчетты и чеснока. Папа вышел на веранду и тихонько притворил за собой дверь. Зажег сигарету и сел на качели рядом с Лоредой. Она уловила сладкий запах вина в его дыхании. Предполагалось, что они будут на всем экономить, но папа не мог отказаться от вина и джина. Он говорил, что алкоголь – единственное, благодаря чему он еще не сошел с ума. Ему нравилось добавлять скользкий, сладкий ломтик консервированного персика в вино, которое он пил после ужина.
Лореда привалилась к отцу. Он обнял ее, притянул к себе, и так они вместе качались туда-сюда.
– Ты что-то притихла, Лореда. Не похоже на мою девочку.
Ферма погружалась в темноту, полную звуков: работала ветряная мельница, поднимая драгоценную воду, куры рылись в земле, свиньи хрюкали в пыли.
– Эта засуха, – сказала Лореда, произнося ненавистное слово как все вокруг. Засуха. Она замолчала, тщательно подбирая слова. – Она убивает землю.
– Ага.
Отец сунул окурок в горшок с мертвыми цветами.
Лореда достала из кармана листовку и аккуратно ее расправила.
Калифорния. Земля молока и меда.
– Миссис Баслик говорит, что в Калифорнии есть работа. Деньги лежат на улице. А дядя Стеллы в открытке написал, что в Орегоне есть работа.
– Я сомневаюсь, что где-то деньги лежат на улицах, Лореда. В городах жизнь еще хуже из-за этой Великой депрессии. Я читал, что сейчас больше тринадцати миллионов безработных. Ты видела бродяг, которые ездят на поездах. Ты бы расплакалась, если бы увидела гувервилль[14] в Оклахома-Сити. Семьи живут в тележках для яблок. Когда наступит зима, они будут умирать от холода на скамейках в парке.
– В Калифорнии никто не умирает от холода. Там можно найти работу. Может быть, на железной дороге.
Папа вздохнул, и по этому вздоху она поняла, о чем он думает. Они как будто настроены на одну волну.
– Мои родители… и твоя мама… они никогда не оставят эту землю.
– Но…
– Пойдет дождь, – сказал папа, но с такой печалью, как будто он даже не хотел, чтобы дождь их спас.
– Разве обязательно быть фермером?
Папа повернулся к ней. Нахмурил густые черные брови.
– Я родился фермером.
– Ты всегда говорил мне, что в Америке можно стать кем угодно.
– Ну да. Когда-то я принял неправильное решение, и… в общем… иногда жизнь выбирает за тебя.
Он надолго замолчал.
– Какое неправильное решение?
Папа не смотрел на нее. Он сидел рядом с ней, но мыслями был где-то в другом месте.
– Я не хочу здесь засохнуть и умереть, – сказала Лореда.
Он повторил:
– Пойдет дождь.
Глава седьмая
Снова невыносимо жаркий день, а еще нет и десяти утра. Пока что сентябрь не принес никакого облегчения.
Стоя на коленях, Элса изо всех сил терла кухонный линолеум. Она проснулась уже много часов назад. Лучше всего домашние дела делались на рассвете и после заката, когда было относительно прохладно.
Ее внимание привлек шорох. Из укрытия в уголке выбежал тарантул размером с яблоко. Элса встала и шваброй прогнала его на улицу. Для паука хуже снова оказаться на жаре, чем умереть под ее каблуком. Кроме того, у Элсы едва ли хватило бы энергии, а главное, воли раздавить его. В последнее время ей трудно было делать хоть что-то помимо привычных дел.
В этой сухой жаре можно выжить, только сберегая все: воду, еду, эмоции. Последнее труднее всего.
Она сознавала, как несчастны Раф и Лореда. В эти дни им двоим, похожим как две капли воды, приходилось тяжелее, чем остальным. Не то чтобы хоть кто-нибудь на ферме был счастлив. Да и как тут быть счастливым? Но Тони, и Роуз, и Элса из тех, кто ждет от жизни только испытаний, они закалились в борьбе. Родители мужа много лет вкалывали – он на железной дороге, она на ткацкой фабрике, – чтобы заработать денег на землю. Их первым домом стала землянка из торфяных брикетов, которую они сами построили. Они сошли с корабля как Антонио и Розальба, но тяжкий труд и эта земля превратили их в Тони и Роуз. Американцев. Они умрут от голода и жажды, но не откажутся от земли. И хотя Элса не родилась фермершей, она стала ею.
За прошедшие тринадцать лет она научилась любить эту землю и ферму больше, чем могла вообразить. В хорошие годы весной, глядя, как зеленеет огород, она радовалась, а осенью – гордилась; ей нравилось видеть плоды своих трудов на полках погреба: банки с красными помидорами, блестящими персиками и яблоками, приправленными корицей; панчетту – рулеты из свиной брюшины со специями и копченые окорока, свисающие с крюков на потолке; ящики, переполненные картофелем, и луком, и чесноком с огорода.
Мартинелли приняли Элсу в семью, и она отплатила за неожиданную доброту глубокой преданностью, истовой любовью к ним и их образу жизни, но пока Элса врастала в семью, Раф отдалялся от нее. Он несчастен уже много лет, и теперь Лореда шла по стопам отца. А как иначе. Как ей было не подпасть под обаяние Рафа, не начать, как и он, мечтать о невозможном. От его улыбки озарялась комната. Он кормил свою впечатлительную, порывистую дочь мечтами, когда она была маленькой, теперь же передал ей свое недовольство жизнью. Элса знала, что Раф жаловался Лореде, делился с дочерью тем, чем не делился с родителями и женой. Лореда занимала большую часть сердца Рафа с самого своего рождения.
Элса снова принялась надраивать кухонный пол, а покончив с ним, занялась остальными комнатами, которых было восемь: смахнула пыль с деревянной мебели и подоконников, вынесла ковры на улицу и принялась выбивать их палкой.
Поднялся ветер, вздыбил платье Элсы. Пот бежал по ее лицу, струился между грудями. Она перестала выбивать ковер и прикрыла глаза рукой. Мутная, желтая, как моча, дымка постепенно закрывала небо.
Элса сдвинула шляпу и вгляделась в болезненно-желтый горизонт.
Пыльная буря. Новый бич Великих равнин.
Небо быстро меняло цвет, становясь красновато-коричневым.
Усиливающийся ветер с юга набросился на ферму.
В лицо ударило перекати-поле, содрав кожу с щеки. Колючее растение полетело дальше, вращаясь по спирали. С курятника сорвалась доска и ударилась о торец дома.
Раф и Тони выбежали из амбара.
Элса закрыла нос и рот платком.
Коровы испуганно мычали и толкались, подставляя костлявые крупы пыльной буре. От статического электричества их хвосты встали торчком. Мимо пронеслась стая птиц, они часто махали крыльями, пытаясь опередить пыль.
Ковбойская шляпа слетела с головы Рафа и зацепилась за забор из колючей проволоки.
– Иди в дом! – заорал он. – Я займусь животными.
– Дети!
– Миссис Баслик знает, что делать. Иди в дом.
Ее дети. На улице в такую бурю.
Ветер уже выл, наносил удары, швырял людей из стороны в сторону. Элса согнулась и, борясь с ураганным ветром, пробралась к дому.
Она кое-как поднялась по неровным ступенькам на засыпанное песком крыльцо и ухватилась за металлическую ручку, но тут разряд статического электричества сбил ее с ног. Оглушенная, она закашлялась, попыталась восстановить дыхание.
Дверь открылась.
Роуз рывком подняла ее на ноги и затащила в трясущийся, дребезжащий дом.
Элса и Роуз бегали из комнаты в комнату, от окна к окну, закрывая стекла и подоконники газетами и тряпками. Пыль сыпалась с потолка, просачивалась в крошечные трещинки в оконных рамах и стенах. Свечи на самодельном алтаре потухли. Из всех щелей выползли сороконожки, сотни сороконожек, они ползли по полу в поисках укрытия.
Дом сотряс такой сильный порыв ветра, что, казалось, сейчас сорвет крышу.
И этот гул.
Как будто на них на полном ходу несся грохочущий локомотив. Дом дрожал, словно тяжело больной, за стенами завывал безумный ветер-банши.
Дверь отворилась, муж и свекор Элсы, пошатываясь, ввалились внутрь. Тони захлопнул дверь и задвинул засов.
Элса привалилась к подрагивающей стене.
Она слышала, как хрипло, тяжело дыша, молится ее свекровь.
Взяла ее за руку.
Раф подошел к ним. Она понимала, что они оба думают об одном и том же: что, если дети играли на школьном дворе? Буря налетела быстро. Этот ветер не только вырывал из земли чахлые растения, он мог запросто унести целую ферму.
– Все с ними будет в порядке, – сказал Раф, кашляя от пыли.
– Откуда ты знаешь? – прокричала Элса, пытаясь перекрыть грохот.
В глазах мужа она увидела отчаяние – единственный ответ.
Лореда сидела на полу сотрясаемой ветром школы, брат притиснулся к ней, у обоих банданы закрывали рты и носы – совсем как у бандитов. Энт пытался храбриться, но вздрагивал всем телом при каждом особенно яростном порыве ветра, от которого в окнах звенели стекла.
С потолка сыпалась пыль, покрывала все вокруг. Лореда чувствовала, как песок собирается в волосах, засыпает одежду. Ветер накидывался на деревянные стены, выл высоким, почти человеческим голосом. Птицы в панике бились в окна.
Когда началась буря, миссис Баслик позвала их всех в класс, велела сесть на пол в самом дальнем от окон углу. Она пыталась читать им вслух, но никто не мог сосредоточиться, а вскоре и голоса ее уже не было слышно, так что учительница сдалась и закрыла книгу.
Таких пыльных бурь за последний год было не меньше десяти. Однажды весной неистовый ветер носил пыль двенадцать часов подряд, так что пришлось и готовить, и есть, и делать все домашние дела, задыхаясь от песчаной пыли.
Бабушка и мама говорили, что надо молиться.
Молиться.
Как будто все это закончится, если они запалят свечи и опустятся на колени. Очевидно же, что если Бог знает про людей, живущих на Великих равнинах, то хочет, чтобы они либо уехали, либо погибли.
Когда буря наконец отступила и в школе воцарилась тишина, покрытые пылью дети так и продолжали сидеть с расширенными от страха глазами.
Миссис Баслик медленно поднялась, и пыль потоком хлынула с ее колен. В песке, покрывавшем пол, остались очертания ее тела. Учительница открыла дверь, а снаружи сияло чудесное чистое небо.
Миссис Баслик облегченно вздохнула. И тут же закашлялась.
– Дети, – сказала она хриплым голосом, – буря закончилась.
Энт посмотрел на сестру. Веснушчатое лицо мальчика побурело от пыли там, где его не закрывала бандана. Он потер глаза и стал похож на енота. На ресницах грязными каплями висели слезы. Лореда стянула свою бандану.
– Пойдем, Энт, – сказала она тонким, скрипучим голосом.
Лореда, Стелла и Энт взяли свои сумки с учебниками и пустые ведерки для ланча и пошли домой. Маленькая София плелась позади.
Выйдя из школы, Лореда крепко взяла Энта за руку.
В городе стояла оглушительная тишина. Горели карбидные фонари, которыми городок так гордился четыре года назад, когда их установили, – их зажгли, потому что людям, и машинам, и животным нужен был свет, чтобы в бурю добраться до укрытия.
Дети шли по Главной улице. В дощатой мостовой застряли колючие растения, принесенные ветром, окна зданий были заколочены – из-за Великой депрессии и пыльных бурь.
Когда они подходили к вокзалу, Стелла сказала тихонько, будто боялась, что ее услышат в родительском доме:
– Дела идут все хуже и хуже, Лоло.
Лореде нечего было на это ответить. В доме Мартинелли уже долгое время дела шли все хуже и хуже. Она смотрела, как Стелла уходит, сгорбившись, словно пытаясь спрятаться от грядущих несчастий; вот подруга взобралась на дюну, что ветер насыпал поперек улицы, и повернула за угол к дому. София шла за сестрой.
Лореда и Энт продолжали путь. Казалось, во всем мире нет никого, кроме них двоих.
Они шли мимо заборов, на которых кое-где уцелели таблички «Продается». Ничего, кроме заборов, почти исчезнувших под песчаными насыпями, – ни домов, ни ветряных мельниц. Только бесконечные холмы мельчайшего золотисто-коричневого песка. Кое-где из холмов торчали телефонные столбы. Один столб накренился.
Лореда первой услышала медленное, глухое цоканье копыт.
– Мама! – закричал Энт.
Лореда подняла голову.
Мама вела фургон в их сторону; она сидела, подавшись вперед, будто подгоняла Мило, но бедный старый мерин был так же обессилен и обезвожен, как и все вокруг.
Энт вырвал руку и кинулся к фургону.
Мать остановила лошадь, спрыгнула на землю и побежала навстречу детям. Ее лицо и светлые волосы потемнели от пыли и грязи, подол платья болтался лохмотьями, передник развевался.
Она подхватила Энта и закружила его, крепко прижав к себе и осыпая грязное лицо мальчика поцелуями с такой горячностью, будто уже и не надеялась его увидеть.
Лореда помнила эти поцелуи – в хорошие годы мама пахла лавандовым мылом и тальком.
Но эти годы ушли. Лореда не смогла вспомнить, когда в последний раз позволила маме себя поцеловать. Лореде не нужна была любовь, загоняющая в ловушку. Она хотела, чтобы ей говорили: ты можешь взлететь высоко, стать кем хочешь, поехать куда хочешь. Она хотела того же, что и отец. Когда-нибудь она будет курить сигареты и ходить в джаз-клубы, будет работать. Будет современной женщиной.
Мамино представление о месте женщины в мире слишком жалкое.
Мать помогла Энту взобраться на козлы, шагнула к Лореде.
– Ты в порядке? – спросила она, поправила дочери волосы и не сразу отняла ладонь.
– Да. Все отлично, – ответила Лореда, сама понимая, как резко звучит ее голос.
Она знала, что сердиться на маму глупо – не она же управляет погодой, – но не могла сдержаться. Она злилась на весь мир, и почему-то это означало, что больше всего она злилась на маму.
– Энт, похоже, плакал.
– Он испугался.
– Я рада, что он был вместе со старшей сестрой.
Как только мама может улыбаться в такой момент? Это раздражало.
– Ты знаешь, что у тебя зубы все коричневые от грязи? – спросила Лореда.
Улыбка исчезла. Лореда обидела маму. Опять.
Лореде вдруг захотелось плакать. Чтобы мама этого не увидела, девочка забралась в фургон.
– Ты можешь сесть спереди вместе с нами, места хватит, – сказала мама.
– Глядеть на то, куда мы едем, не более лучше, чем глядеть на то, откуда уезжаем. Везде одно и то же. Ничего не меняется.
– Не намного лучше, – машинально поправила мама.
– Точно, – сказала Лореда. – Главное – это образование.
По дороге домой Лореда смотрела на плоскую, плоскую землю. Все деревья вокруг умирали. Из-за последних засушливых лет они болели уже давно, стволы сделались серые, листья стали ломкие – почерневшие конфетти, которые уносил ветер. Уцелело лишь три дерева. Вдоль дороги громоздились песочные насыпи. Ничего не росло на бесплодных полях. Ни одной зеленой травинки. Никаких растений, кроме колючих перекати-поле и юкки. Чье-то тельце – наверное, зайца – гнило в куче песка, рядом скакали вороны.
Мама остановила фургон во дворе. Мило принялся рыть твердую землю копытом.
– Лореда, отведи Мило в конюшню. Я достану консервированные лимоны и сделаю лимонад, – сказала мама.
– Хорошо, – мрачно буркнула Лореда.
Она вылезла из фургона, взяла вожжи и повела коня к амбару.
Бедняга Мило шел так медленно, что Лореда не могла не пожалеть этого гнедого мерина, который когда-то был ее лучшим другом на всем свете.
– Что поделаешь, Мило. Нам всем плохо.
Она потрепала его по бархатной морде, вспоминая день, когда папа научил ее ездить верхом. На небе не было ни облачка, со всех сторон их окружали золотые пшеничные поля. Ей было страшно. Очень страшно забираться на взрослое седло.
Папа помог ей сесть, шепнул «Не бойся» и встал рядом с мамой, которая, похоже, нервничала не меньше Лореды.
Лореда ни разу не упала. Папа сказал, что она прирожденная наездница, а за ужином повторил, что никогда не видел, чтобы девочки так умело обращались с лошадьми.
Лореда впитала его похвалу и решила, что будет такой, какой ее описал отец. После этого они с Мило много лет были неразлучны. Лореда даже уроки при малейшей возможности делала в конюшне, и они на пару хрустели морковкой, которую она надергала в огороде.
– Я скучала по тебе, мальчик, – сказала Лореда, поглаживая морду мерина.
Тот фыркнул, обрызгав голую руку девочки. «Фу», – сказала она и открыла двойные двери амбара, которыми так гордился дедушка.
В широком центральном проходе стояли трактор и грузовик, с обеих сторон располагались по два стойла, выходивших в загоны. Два для лошадей и два для коров. Сеновал, когда-то до краев забитый сеном, быстро пустел. Все знали, что здесь любил прятаться папа – сидел наверху, курил, пил самогон и мечтал. Он проводил здесь все больше и больше времени.
Лореда распрягла мерина. Запах разогретых резиновых шин с металлическим привкусом мотора мешался с успокаивающими запахами сладкого сена и навоза. В смежном стойле другой мерин, Бруно, тихонько фыркнул и ткнулся носом в калитку.
– Сейчас я принесу вам водички, – сказала Лореда, вынимая липкие удила изо рта Мило, и завела его в стойло, откуда можно было выйти в загон.
Запирая загон, она услышала какой-то звук.
Что это?
Она вышла из амбара наружу и огляделась по сторонам.
Вот опять. Низкий рокот. Не гром. На небе не было ни облачка.
Земля дрожала под ее ногами, издавая громкий треск, будто что-то разламывалось.
В земле открылась трещина, гигантский зигзаг, извивающийся, как змея.
Бум.
Пыль гейзером взвилась в воздух, грязь посыпалась в возникшую расщелину. В дыру упала часть забора из колючей проволоки. От основной трещины расползались новые, словно ветки от ствола дерева.
Во дворе зигзагом вился разлом глубиною футов в пять. Мертвые корни, словно руки скелета, тянулись к Лореде с осыпающихся склонов.
Лореда с ужасом смотрела на расщелину. Она слышала истории о земле, трескающейся от засухи, но думала, что это легенды…
Значит, не только животные и люди иссыхали. Сама земля умирала.
Лореда сидела с отцом в своем любимом месте, на площадке под гигантскими лопастями ветряной мельницы. В последние мгновения перед закатом небо стало красным, Лореда видела известный ей мир до самых его границ и представляла, что там, за ними.
– Я хочу увидеть океан, – сказала она.
Они играли в эту игру, воображая другие жизни, которыми они когда-нибудь будут жить. Лореда не помнила, когда началась эта игра, знала лишь, что сейчас она стала очень важной, потому что никогда прежде папа не был таким печальным. По крайней мере, так ей казалось. Иногда она спрашивала себя: может, он всегда был печальным, только сейчас она выросла и наконец заметила это?
– Ты увидишь его, Лоло.
Обычно он отвечал: «Мы увидим».
Отец сидел, склонившись вперед, опершись руками на бедра. Густые черные волосы непокорными волнами падали на широкий лоб, на висках они были коротко подстрижены, но мама торопилась, и края получились неровными.
– Ты хочешь увидеть Бруклинский мост, помнишь? – сказала Лореда. Ее пугала отцовская печаль. Они теперь проводили вместе совсем мало времени, а она любила папу больше всех на свете, благодаря ему она чувствовала себя необыкновенной девочкой с большим будущим.
Отец научил ее мечтать. Он противоположность мамы – угрюмой рабочей лошадки, которая медленно плетется по дороге, вечно занятая делами, не знающая, что такое веселье. Лореда даже внешне вся в отца. Все так говорят. Те же густые черные волосы, тонкие черты лица, полные губы. Единственное, что Лореде досталось от мамы, – это голубые глаза, но даже глазами мамы Лореда смотрела на мир так, как смотрел на него папа.
– Конечно, Лоло. Как такое забудешь? Мы с тобой когда-нибудь увидим мир. Постоим на вершине Эмпайр-стейт-билдинг, сходим на премьеру фильма на Голливудском бульваре. Черт, может быть, мы даже…
– Раф!
Мама стояла у ветряной мельницы, задрав голову. В коричневом платке, платье из мешковины и чулках, спускающихся гармошкой, она выглядела почти такой же старой, как бабушка. И, как всегда, держалась прямо, будто кол проглотила. Она довела до совершенства эту непреклонную позу: плечи назад, спина прямая, подбородок вперед. Из-под платка выбивались прядки светлых и тонких, как кукурузные рыльца, волос.
– Привет, Элса. Ты нас нашла, – сказал папа, заговорщицки улыбнувшись Лореде.
– Отец хочет, чтоб ты помог ему с поливом, пока не жарко. И я знаю одну девочку, которая еще не закончила свои дела.
Папа легонько толкнул Лореду плечом и начал спускаться. Деревянные ступеньки скрипели и прогибались под его ногами. Последние несколько футов он преодолел прыжком.
Лореда сползла вслед за ним, но не особо торопясь. Когда она спустилась, отец уже шел к амбару.
– Почему ты никому не позволяешь хоть немного отдохнуть и повеселиться? – спросила она мать.
– Я хочу, чтобы ты с папой отдыхала и веселилась, но я сегодня очень рано встала и мне нужна твоя помощь, чтобы разобрать белье.
– Ты такая злая, – сказала Лореда.
– Я не злая, Лореда, – ответила мама.
Лореда слышала обиду в ее голосе, но ей было все равно. Неконтролируемый гнев всплыл на поверхность.
– Тебе все равно, что папа несчастен?
– Жизнь тяжела, Лореда. Тебе нужно стать тверже, или она вывернет тебя наизнанку, как твоего отца.
– Папа несчастный не из-за жизни.
– Да что ты! Скажи мне, раз у тебя такой богатый опыт, из-за чего твой отец несчастлив?
– Из-за тебя, – ответила Лореда.
Глава восьмая
Сто четыре градуса[15] в тени, и колодец почти пересох. Воду в цистерне берегли и носили в дом ведрами. Вечером они давали животным столько воды, сколько могли.
Овощи, за которыми Элса и Роуз так старательно ухаживали, погибли. Вчерашний ураган с корнем вырвал многие растения, остальные иссушило беспощадное солнце.
Она услышала шаги Роуз у себя за спиной.
– Поливать бесполезно, – сказала Элса.
– Да, – ответила свекровь с такой болью, что Элсе захотелось ее утешить.
– Сегодня ты молчаливая, – сказала Роуз.
– Обычно-то я болтаю без умолку, – заметила Элса, переводя разговор на другую тему.
Роуз легонько толкнула ее плечом:
– Скажи мне, что не так. Помимо очевидного, конечно.
– Лореда на меня злится. Все время. Клянусь, я еще рта не успеваю открыть, а она уже взрывается.
– Трудный возраст.
– Думаю, дело не только в этом.
Роуз уставилась на выжженные поля.
– Мой сын stupido[16]. Забивает ей голову мечтами.
– Он несчастлив.
Роуз насмешливо фыркнула:
– А кто счастлив-то? Посмотри, что происходит.
– Мои родители, моя семья, – тихонько сказала Элса.
Она редко говорила о них, боль была слишком глубока для слов, к тому же слова ничего не изменили бы. В последнее время отношение к ней Лореды вернуло Элсу к страданиям молодости. Элса помнила тот день, когда отнесла Лореду в розовом платьице к дому родителей, надеясь, что теперь, когда она замужем, они снова примут ее. Элса несколько недель шила это хорошенькое розовое платьице с кружавчиками и связала шапочку в тон. И как-то раз она одна поехала в Далхарт и припарковала грузовик у черного входа. Элса четко помнила каждое мгновение. Она идет по дорожке, пахнет розами. Все в цвету. Безоблачное голубое небо. Пчелы вьются вокруг розовых кустов.
Она и нервничала, и гордилась. Она вышла замуж и родила такую чудесную малютку, что даже незнакомые люди называли ее красавицей.
Стук в дверь. Стук каблуков по половицам. Дверь открыла мать, одетая для церкви, в жемчугах. Отец в коричневом костюме.
Глаза Элсы наполнились непрошеными слезами.
– Вот, – сказала она с робкой улыбкой. – Моя дочь, Лореда.
Мама, вытянув шею, посмотрела на чудесное личико малышки.
– Погляди, Юджин, какая она черная. Убери свое позорище, Элсинор.
Дверь захлопнулась.
Элса пообещала себе, что больше никогда не встретится с родителями, не заговорит с ними, но их отсутствие все равно причиняло ей непреходящую боль.
Видимо, некоторых людей нельзя перестать любить, перестать нуждаться в их любви, даже если ты все о них понимаешь.
– Да? – Роуз взглянула на нее.
– Они меня не любили. Я так и не поняла почему. Но теперь, когда Лореда постоянно сердита на меня, я все думаю: может, и она меня видит такой же, как они? Им тоже казалось, что я все делаю неправильно.
– Помнишь, что я тебе сказала в тот день, когда родилась Лореда?
Элса чуть не улыбнулась.
– Что она полюбит меня так, как никто никогда не любил, и сведет меня с ума, и всю душу мне вымотает?
– Si[17]. И видишь, как я была права?
– Думаю, лишь отчасти. Она определенно разбивает мне сердце.
– Да. Я тоже была настоящим испытанием для моей бедной мамы. Любовь приходит в начале ее жизни и в конце твоей. В этом жестокость Бога. Разве твое сердце так разбито, что уже не может любить?
– Конечно, нет.
Роуз пожала плечами, как будто хотела сказать: «Вот она, материнская доля».
– Ну и люби. Что нам еще остается?
– Просто мне… больно.
Роуз помолчала.
– Да, – наконец сказала она.
На дальнем поле Тони и Раф трудились в поте лица, засевая озимой пшеницей твердую землю, будто припорошенную мукой. Уже три года они сеяли пшеницу и молились о дожде, но осадков было слишком мало, и пшеница не вырастала.
– Этот сезон будет лучше, – сказала Роуз.
– У нас все еще есть молоко и яйца на продажу. И мыло.
Эти маленькие блага имели значение. Элса и Роуз объединили свой индивидуальный оптимизм в общую надежду, более сильную и долговечную в этом союзе. Роуз обняла Элсу за талию, и Элса оперлась о маленькую женщину. С рождения Лореды и все последующие годы Роуз была для Элсы матерью во всех важных смыслах. Пусть они не говорили о своей любви и не делились чувствами в долгих эмоциональных беседах, они были вместе. В одной упряжке. Они сшили свои жизни молча, как женщины, непривычные к разговорам. День за днем они работали вместе, молились вместе, удерживали вместе свою растущую семью, несмотря на все тяготы фермерской жизни. Когда Элса потеряла своего третьего ребенка – сына, который так и не задышал, – именно Роуз обняла Элсу, и дала ей выплакаться, и сказала: «Некоторые жизни нам не удержать, Бог делает свой выбор без нашего участия». И впервые рассказала о собственных потерянных детях, показала, что горе можно перенести – день за днем, дело за делом.
– Пойду дам воды животным, – сказала Элса.
– А я выкопаю все, что найду, – кивнула Роуз.
Элса взяла на веранде ведро и вытерла его изнутри от пыли. У водокачки она надела перчатки, чтобы не обжечься о раскаленный металл, и набрала воды.
Она несла ведро к дому осторожно, чтобы не потерять ни одной драгоценной капли, и у амбара услышала звук, как будто кто-то пилил металл.
Она замедлила шаги, прислушалась – звук повторился.
Она опустила ведро и, обойдя амбар, увидела Рафа: он стоял у трещины в земле, опершись на грабли и низко надвинув шляпу на лицо.
Он плакал.
Элса подошла к мужу и молча встала рядом. Ей всегда было трудно подобрать слова, когда она с ним разговаривала. Она боялась сказать не то, оттолкнуть его, когда хотела, напротив, стать к нему ближе. Характером он походил на Лореду: взрывной, переменчивый. Эти эмоциональные вспышки Элса не могла ни укротить, ни понять. Поэтому она обычно молчала.
– Я не знаю, сколько еще смогу выносить это, – произнес Раф.
– Скоро пойдет дождь. Вот увидишь.
– Как ты до сих пор не сломалась? – спросил он, вытирая глаза тыльной стороной ладони.
Элса не знала, как на это ответить. У них дети. Им нужно быть сильными ради детей. Или он что-то другое имел в виду?
– У нас же дети.
Он вздохнул, и Элса поняла, что сказала что-то не то.
В том сентябре жара не щадила Великие равнины: день за днем, неделя за неделей она сжигала все, что сумело пережить лето.
Элса плохо спала, а точнее, совсем не спала. Ее мучили кошмары, ей виделись истощенные дети и умирающие растения. Скотина – две лошади и две коровы, кожа да кости, – как-то выживала, питаясь дикими колючками. То небольшое количество сена, которое удалось запасти, почти закончилось. Животные часами стояли неподвижно, словно боялись, что каждый шаг может их прикончить. В самое жаркое время, когда температура поднималась выше ста пятнадцати градусов[18], глаза у них стекленели. Семья Мартинелли старалась как-то поддержать животных, но воды не хватало. Каждую каплю из колодца приходилось беречь. Куры будто впали в летаргию и почти не двигались – лежали в пыли бесформенными кучками перьев и даже не кудахтали, когда их тревожили. Они все еще неслись, и каждое яйцо казалось Элсе золотым, хотя она и боялась всякий раз, что это – последнее.
Сегодня, как и обычно, она открыла глаза прежде, чем закукарекал петух.
Она лежала, стараясь не думать о мертвом огороде, о высохшей земле и приближающейся зиме. Когда солнечный свет проник в окно, Элса села и позволила себе прочитать главу из «Джейн Эйр»: знакомые слова успокаивали. Потом отложила роман и встала – тихонько, чтобы не разбудить Рафа. Одевшись, она задержала взгляд на спящем муже. Вчера он допоздна сидел в амбаре, а когда появился в спальне, его пошатывало, от него пахло виски.
Элса тоже не могла уснуть, но они не попытались найти утешение друг в друге. Наверное, не знали как, потому что за эти годы так и не научились утешать друг друга. А может, если жизнь так ужасна, ничто уже не утешит.
Однако Элса знала, что ее и без того слабая власть над мужем тает. В последние несколько недель она не раз замечала, как он от нее отворачивается. После того как пыльные бури погубили их поля, а работы стало в три раза больше? Или после того как они с отцом сеяли озимую пшеницу?
Раф поздно ложился, вечерами увлеченно читал газеты, будто то были приключенческие романы, подолгу смотрел в окно, изучал карты. Когда же все-таки ложился в постель, то отворачивался от нее и погружался в такой глубокий сон, что иногда Элса боялась, не умер ли он.
Прошлой ночью, когда Раф добрался до постели, Элса лежала в темноте и до боли желала, чтобы он повернулся к ней, коснулся ее, но даже если бы это случилось, оба все равно остались бы неудовлетворенными. Во время интимной близости Раф молчал, не давал понять, чего хочет, и так торопился, точно жалел, что вообще начал это дело. И после соития Элса чувствовала себя даже более одинокой, чем до него. Раф говорил, что не прикасается к ней, потому что она легко беременеет, но Элса знала, что правда куда мрачнее. И связана, разумеется, с ее непривлекательностью. Конечно, разве такую захочешь. И она явно нехороша в постели, иначе он так не торопился бы, занимаясь любовью.
В прежние годы Элса мечтала, как дерзко потянется к нему, как сами их прикосновения изменятся, как она будет исследовать его тело руками и ртом, а проснувшись, она чувствовала разочарование и вся горела от желания, которое не могла выразить, которым не могла поделиться. Она ждала, что он увидит ее, увидит ее и двинется ей навстречу.
Но уже несколько лет, как эти мечты ушли. Или, может быть, она слишком устала и вымоталась и попросту не верила в них.
Элса вышла в коридор и, остановившись у детских комнат, проверила, как дети. Те так мирно спали, что у нее сжалось сердце. В подобные мгновения она вспоминала Лореду маленькой, счастливой, всегда готовой рассмеяться, пообниматься. Тогда она и вправду любила Элсу больше всех на свете.
На кухне пахло кофе и свежеиспеченным хлебом. Свекр и свекровь тоже поднялись ни свет ни заря. Как и Элса, они держались за надежду, у которой не было никакой основы, – за веру, что спасутся, если работать еще больше.
Элса налила себе черный кофе, быстро выпила, помыла чашку, надела коричневые башмаки – каблуки почти стерлись, – прихватила обтрепанную шляпу и вышла на яркое солнце.
На улице она прищурилась, прикрыла глаза рукой в перчатке.
Тони, воспользовавшись относительной прохладой утра, вовсю работал – перекладывал сено, то, что от него осталось. Оба мерина с каждым днем двигались все медленнее. Иногда Элса плакала от их жалобного голодного ржания.
Элса помахала свекру, он помахал ей в ответ. Завязав тесемки шляпы, она ненадолго задержалась в туалете, а потом натаскала воду в кухню для стирки. Поливать сад и огород смысла больше не было. Когда Элса закончила таскать воду, руки ныли, все тело взмокло. Она направилась к своему личному садику. Элса расчистила квадратик земли прямо под окном кухни – узкую полоску в тени дома. Грядка была слишком маленькой, чтобы выращивать овощи, и Элса посадила там цветы. Она просто хотела видеть хотя бы клочок зелени – может, даже с цветными пятнами.
Элса опустилась на колени в сухую пыль, поправила камни, обозначавшие границы клумбы, последняя буря сдвинула их с места. В центре клумбы уцелела ее драгоценная астра – с длинным коричневым стеблем и зелеными, несмотря ни на что, листьями.
– Только переживи эту жару, скоро станет прохладнее. Я знаю, ты хочешь зацвести, – прошептала Элса, проливая на землю тоненькую струйку воды. Земля сразу потемнела.
– Снова разговариваешь со своей подружкой?
Элса села на пятки и подняла голову. На мгновение яркое солнце ослепило ее.
Раф стоял в ореоле желтого света. В эти дни он редко утруждал себя бритьем, и щеки покрывала густая темная щетина.
Он встал на одно колено рядом с Элсой, положил руку ей на плечо.
Она чувствовала, что ладонь у мужа слегка влажная, а рука дрожит после вчерашней попойки.
Элса невольно привалилась к нему, и прикосновение Рафа будто обрело властность.
– Извини, если я разбудил тебя вчера.
Она повернулась к нему. Поля ее соломенной шляпы соприкоснулись с его шляпой.
– Ничего страшного.
– Не знаю, как ты все это выдерживаешь.
– Все это?
– Нашу жизнь. Пытаешься выкопать хоть что-то съедобное. Голодаешь. Наши дети такие худенькие.
– У других людей сейчас и того нет.
– Тебе так мало надо, Элса.
– Ты так говоришь, будто это плохо.
– Ты хорошая женщина.
Но эти слова прозвучали так, будто это действительно было плохо. Элса не знала, что ответить, и молча, устало поднялась.
Она стояла перед ним, вскинув голову. Она знала, что он видит высокую непривлекательную женщину с шелушащимся от солнечных ожогов лицом, слишком большим ртом и глазами, которые, казалось, выпили все краски, которые Бог ей выделил.
– Пора и мне приниматься за работу, – сказал Раф. – Уже так жарко, что я дышать не могу.
Элса смотрела ему вслед, думая: «Оглянись на меня, улыбнись», но он не оглянулся.
Дни пионеров впервые отмечали в 1905 году, когда на месте Тополиного простиралась равнина, заросшая голубовато-зеленой буйволовой травой, а на ранчо XIT работали тысячи ковбоев. Поселенцев привлекли сюда брошюры, где рассказывалось, что здесь можно выращивать капусту размером с детскую коляску и пшеницу. И все это без полива. Это называлось «сухое земледелие».
И правда сухое.
Лореда не сомневалась, что на самом деле этот праздник придумали мужчины, чтобы хвалиться друг перед другом.
– Ты такая красивая, – сказала мать.
Она зашла в спальню дочери, даже не постучав. Это вызвало раздражение у Лореды, но она сдержалась и ничего не сказала. Мать встала позади нее, на мгновение их лица вместе отразились в зеркале над умывальником. Рядом с загорелой кожей и черными, стриженными до плеч волосами Лореды мамина бледность особенно бросалась в глаза. Почему у мамы кожа никогда не загорает, только краснеет и шелушится? Она даже не постаралась что-нибудь сделать с волосами, только уложила косу вокруг головы. Вот у Стеллы мать всегда красится и завивает волосы, даже в эти трудные времена.
А мама даже не пытается хорошо выглядеть. Платье из мешковины с цветочным узором, причем по меньшей мере на размер больше нужного и только подчеркивает, какая мама высокая и худая, пуговицы застегнуты до самого горла.
– Прости, что я не смогла сшить тебе новое платье или хотя бы купить носки. В следующем году. Когда пойдет дождь.
Как только мама еще способна выговорить эти слова? Лореда отстранилась, пригладила волны, которые ей удалось создать в волосах, ложившихся на плечи, взбила челку.
– А папа где?
– Лошадь в фургон запрягает.
– Можно Стелле у нас переночевать? – спросила Лореда, обернувшись.
– Конечно. Но утром тебя, как всегда, ждет работа.
Лореда так обрадовалась, что даже обняла маму, только та тут же все испортила: прижимала ее к себе слишком долго и слишком крепко.
Лореда высвободилась.
Мама грустно сказала:
– Иди вниз. Помоги бабушке собрать еду.
Лореда поспешила на кухню, где бабушка уже упаковывала кастрюлю с минестроне. На столе ждала тарелка канноли со сладкой рикоттой. Оба блюда на празднике станут есть только итальянцы.
Лореда накрыла поднос с десертами полотенцем и отнесла в фургон, потом забралась на заднее сиденье и села рядом с отцом, он обнял ее и прижал к себе. Бабушка и дедушка заняли места спереди. Мама последней села в кузов.
Энт пристроился рядом с мамой, прижался к ней. Он без умолку болтал, и чем ближе они подъезжали к городу, тем возбужденней звенел его голос. Лореда заметила, что отец непривычно молчалив.
На горизонте показалось Тополиное. Жалкий городишко прикорнул на плоской равнине посреди нигде. Только водонапорная башня возвышалась на фоне безоблачного голубого неба.
Еще не так давно в городке царили патриотические настроения. Лореда помнила, как старики говорили о Великой войне на каждом собрании. Кто воевал, кто погиб, а кто выращивал пшеницу, чтобы накормить солдат. Тогда во время Дней пионеров фермеры желали показать всем, как они гордятся собой и своим трудом. Американцы! Процветающие! Они украшали магазины на Главной улице красно-бело-синими флагами, вставляли флажки в цветочные горшки и рисовали в витринах патриотические лозунги. Мужчины собирались группами выпить и покурить и поздравить друг друга с победой в войне, с тем, что пастбища превратились в пашни. Они пили самогон и играли на скрипках и гитарах, а женщины без устали трудились.
Во всяком случае, Лореда видела это так. Неделю перед праздником мама и бабушка Роуз стряпали с утра до вечера, делали горы домашних макарон, стирали праздничную одежду, штопали и чинили ее. Сколь бы трудными ни были времена, как бы плохо ни обстояло с деньгами, мама хотела, чтобы ее дети выглядели прилично.
Сегодня никто не украсил магазины (Лореда подумала, что, наверное, слишком жарко, чтобы развешивать флажки, или женщины наконец решили, что стараться незачем), никаких цветов в горшках, никаких патриотических лозунгов. Вместо этого – бродяги в лохмотьях, собравшиеся возле железнодорожной станции. У всех вывернуты задние карманы штанов, это называлось «флаг Гувера». Дырявый башмак называли «башмаком Гувера». Все знали, кто виноват в Великой депрессии, но никто не знал, как исправить положение.
Цок-цок, постукивали копыта по Главной улице. У обочины стояли только два автомобиля, оба принадлежали банкирам. Теперь их называли «банкстерами», потому что они грабили простых работяг, лишая их земли, а потом банкротились и закрывали двери банка, а деньги, которые, как думали люди, лежат в безопасности, присваивали себе.
Папа направил фургон к зданию школы и остановился.
Через открытые двери доносились музыка и топот. Лореда выпрыгнула из фургона и побежала к школе.
Праздник уже начался. В углу играл самодеятельный оркестр, несколько пар танцевало.
Справа от входа стояли столы с едой. Еды было немного, но Лореда знала, что после нескольких лет засухи это настоящий пир и женщины расстарались, чтобы устроить его.
– Лореда!
Стелла уже спешила к Лореде. Как обычно, из всех девочек в зале только Стелла и ее младшая сестра София были в новых платьях.
Лореду кольнула зависть, но она постаралась отбросить дурные мысли. Стелла – ее лучшая подруга. Да и кому какое дело до платьев?
Лореда и Стелла, как обычно при встрече, взялись за руки и склонили головы друг к другу.
– Как дела, ранняя пташка? – спросила Лореда таким тоном, точно она и так все знает.
– Я же тут хлопотала, ты не знала? – ответила Стелла.
Родители Стеллы остановились рядом с девочками, чтобы поговорить с Мартинелли.
Мистер Деверо сказал:
– Шурин прислал еще одну открытку. В Орегоне есть работа на железной дороге. Тони. Раф. Подумайте об этом.
Как будто для женщин вариантов нет.
Дедушка ответил:
– Я не виню тех, кто уезжает, но это не для нас. Эта земля…
Только не это снова. Земля.
Лореда увлекла Стеллу подальше от взрослых.
Мимо пронесся Энт в противогазе, в котором он походил на насекомое. Он едва не врезался в Лореду, захохотал и помчался дальше, раскинув руки, будто в полете.
– Красный Крест подарил банку большую коробку противогазов, чтобы дети надевали их во время пыльных бурь. Сегодня моя мама их раздает.
– Противогазы, – Лореда покачала головой, – жуть какая.
– Папа говорит, что бури все страшнее и страшнее.
– Мы не будем говорить о противогазах. Господи, сегодня же праздник, – заявила Лореда. – Мама сказала, что ты можешь переночевать у нас. Я взяла журналы в библиотеке. Там такая фотография Кларка Гейбла, что закачаешься.
Стелла отвернулась.
– Что-то не так?
– Банк закрывается, – ответила Стелла.
– Ох.
– Дядя Джимми, ну, тот, который живет в Портленде, в Орегоне, прислал папе открытку. Он пишет, что на железной дороге есть работа, а пыльных бурь там нет.
Лореда отстранилась от подруги. Она уже знала, что скажет Стелла, и не хотела этого слышать.
– Мы уезжаем.
Глава девятая
Высунувшись из окна, Лореда закричала от бессилия:
– Улетайте, идиотские птицы! Вы что, не видите, что мы здесь умираем?
На дворе в ответ закудахтали куры.
Стелла уезжает.
Лучшая – и единственная – ее подруга в Тополином уезжает.
Лореде казалось, что стены комнаты давят на нее, сжимаются, не дают дышать. Она спустилась на первый этаж. В доме было тихо, ветер не задувал в трещины, не скрипели деревянные стены.
Она легко двигалась в темноте. В прошлом месяце они отключили телефон – не было денег платить за него – и теперь остались совсем одни. Она на ощупь нашла дверь и вышла на двор. Яркая луна серебрила крышу.
Лореда чувствовала запах запекшейся на солнце грязи, куриного помета и… сигаретного дыма. Она двинулась на запах вокруг дома.
Под ветряной мельницей красный огонек сигареты поднимался, и опускался, и снова поднимался. Папа. Значит, он тоже не может спать.
Подойдя поближе, Лореда увидела, что щеки у отца влажно поблескивают. Он сидел в темноте, спрятавшись от всех, курил и плакал.
– Папа?
– Да, куколка. Ты меня поймала.
Отец старался говорить как обычно, но явно притворялся, и от этого ей стало еще хуже. Если кто и может сказать ей правду, так это папа. Но сейчас все так плохо, что он плачет.
– Ты слышал, что Деверо уезжают?
– Мне очень жаль, Лоло.
– Мне эти сожаления надоели, – сказала Лореда. – Мы тоже можем уехать. Как Деверо, и Маунгеры, и Маллы. Просто уехать.
– Вчера на празднике все говорили об отъезде. Но большинство настроены, как твои бабушка с дедушкой. Они скорее умрут, чем уедут.
– А они понимают, что мы и правда можем здесь умереть?
– О, они понимают, поверь мне. Сегодня вечером твой дедушка сказал: «Похороните меня здесь, ребята. Я никуда не поеду». – Раф выдохнул дым и продолжал: – Они говорят, что делают это ради нашего будущего. Как будто этот участок грязи – предел наших мечтаний.
– Может, у нас получится убедить их уехать.
Папа рассмеялся.
– А может, у Мило вырастут крылья и он улетит?
– А нельзя уехать без них? Куча народу уезжает. Ты всегда говоришь: «Это Америка, здесь все возможно». Мы можем поехать в Калифорнию. Или ты можешь устроиться на железную дорогу в Орегоне.
Лореда услышала шаги. Мгновения спустя появилась мама в своем жалком старом платье и грубых башмаках. Тонкие бесцветные волосы растрепались.
– Раф, – с облегчением сказала мама, словно вообразила, что он мог сбежать. Просто позор, до чего пристально мама следит за папой. За ними всеми. Полицейский, а не мать, и всюду, где она появляется, веселью конец. – Я проснулась, а тебя нет. Я подумала…
– Я здесь, – ответил папа.
Мама улыбнулась жалкой, как и все ее существо, улыбкой.
– Идите в дом. Ночь на дворе.
– Сейчас, Элс, – сказал папа.
Лореде очень не понравилось, каким безнадежным голосом ответил ее отец, в присутствии мамы весь его запал исчезал. Своими грустными, страдальческими взглядами мама из всех высасывала жизнь.
– Это все ты виновата.
– В чем я теперь виновата, Лореда? – спросила мама. – В засухе? В Великой депрессии?
Папа похлопал Лореду по руке, покачал головой, как бы говоря: «Не надо».
Мама подождала, не скажет ли Лореда чего-нибудь еще, повернулась и пошла к дому. Отец побрел за ней.
– Мы можем уехать, – сказала Лореда отцу вслед. – Все возможно.
На следующее утро Элса проснулась засветло. Рафа в постели не было. Значит, опять спал в амбаре. В последнее время он предпочитал спать там, а не с ней. Вздохнув, она оделась и вышла из комнаты.
В темной кухне Роуз стояла у раковины, погрузив руки в воду, которую натаскала из колодца. Большая потрескавшаяся миска для замешивания теста сохла на полотенцах рядом с ней. Полотенца Элса расшивала по ночам, при свете свечей, любимыми цветами Рафа. Она думала, что если их дом будет идеальным, то и брак будет счастливым. Белоснежные простыни с запахом лаванды, наволочки с мережками, вязаные шарфы. Она проводила часы за рукоделием, вкладывала в работу душу, с помощью ниток пытаясь выразить то, чего не могла сказать словами.
Кофейник пофыркивал на дровяной печи, наполняя кухню успокаивающим ароматом. На столе – противень с панелле, квадратными лепешками из нутовой муки, на чугунной сковороде разогревалось оливковое масло. В кастрюле булькала овсяная каша.
– Доброе утро, – сказала Элса.
Она достала из ящика лопатку и опустила две лепешки в горячее масло. Они съедят их на обед, как сэндвичи, приправив драгоценными консервированными лимонами.
– У тебя усталый вид, – сказала Роуз не без сочувствия.
– Раф плохо спит.
– Спал бы лучше, если бы прекратил пить по ночам в амбаре.
Элса налила себе чашку кофе и прислонилась к стене, оклеенной обоями в розах. Она заметила, что в углу линолеум отошел. Выпив кофе, принялась переворачивать подрумянившиеся панелле.
Роуз мягко отодвинула ее и забрала из рук лопатку.
Тогда Элса занялась маслобойкой. Ее части нужно было помыть, обдать кипятком, а потом аккуратно собрать и отложить для следующего использования. Прекрасная работа, если хочешь занять мозг.
Из укрытия выползла сороконожка и плюхнулась на столешницу. Резким движением Элса смахнула насекомое на пол. Они уже привыкли делить дом с сороконожками, и пауками, и прочими тварями. Все обитатели Великих равнин искали хоть какого-то укрытия.
Женщины работали молча, но дружно, пока не встало солнце и не проснулись дети.
– Я их покормлю, – сказала Роуз. – Можешь отнести Рафу кофе?
Элса была благодарна свекрови. Она улыбнулась, сказала ей спасибо, налила в чашку кофе и вышла.
Солнце ярко-желтым пятном висело в безоблачном васильково-синем небе. Элса, не обращая внимания на последние разрушения – сломанный забор, поврежденную ветряную мельницу, растущие кучи пыли, – сосредоточилась на хорошем. Если она поторопится, то сможет сегодня постирать и отбелить белье. Вид чистых простыней на веревке всегда поднимал ей настроение. Возможно, просто потому, что это означало: она немного улучшила жизнь семьи, пусть никто этого не заметил.
Тони ремонтировал лопасть мельницы. Стук молотка разносился по бесконечной бурой равнине.
Раф оказался там, где Элса меньше всего ожидала его увидеть, – на семейном кладбище, клочке коричневой земли, огороженном покосившимся частоколом. Когда-то здесь был красивый садик: розовые вьюнки обвивали белый забор, буйволовая трава покрывала землю голубовато-зеленым ковром. Раньше Элса проводила тут целый час каждое воскресенье, в дождь, жару или снег, но в последнее время заглядывала не так часто. Как всегда, надгробия напомнили ей об умершем сыне, о мечтах во время беременности и о боли, которая со временем смягчилась, но не исчезла.
Она открыла калитку, косо повисшую на сломанной петле. На земле лежали десятки белых штакетин; некоторые сломались, другие вырвал свирепый ветер.
Из пыли торчали четыре серых камня. Три могилы детей Роуз и Тони – трех девочек – и Лоренцо…
Раф стоял на коленях перед надгробием сына.
Лоренцо Уолтер Мартинелли (1931–1931).
Элса опустилась на колени рядом с ним, положила руку мужу на плечо.
Раф повернулся к ней. Она никогда не видела в его глазах такой боли, даже когда они хоронили своего новорожденного сына. Рафу было всего двадцать восемь лет, он плакал, держа на руках крохотного бездыханного ребенка. Насколько Элса знала, он никогда не приходил сюда, никогда не преклонял колени на могиле сына.
– Я тоже тоскую по нему, – сказала Элса.
– На этой неделе старик Орлофф зарезал своего последнего бычка. Бедняга, в брюхе у него было полно песка.
– Да.
Элса нахмурилась: он как-то странно сменил тему.
– Энт спросил меня, почему у него все время болит живот. Я же не могу ему сказать, что это земля убивает его? – Раф встал и потянул Элсу за руку. – Давай уедем.
– Уедем?
– На Запад. В Калифорнию. Люди каждый день уезжают. Говорят, на железной дороге работа есть. А может, я попаду в эту программу Рузвельта. Гражданский корпус[19].
– У нас нет денег на бензин.
– Пойдем пешком. Поедем зайцами. Кто-нибудь нас подвезет. Мы доберемся. Дети крепкие.
Элса вырвалась и шагнула назад.
– Крепкие? У них даже обуви по размеру нет. У нас нет денег. Нет еды. Ты же видел фотографии гувервиллей, знаешь, как там. Энтони всего семь. По-твоему, как далеко он уйдет? Хочешь, чтобы он запрыгивал в поезд на ходу?
– В Калифорнии все по-другому, – упрямо стоял на своем Раф. – Там есть работа.
– Твои родители не уедут. Ты это знаешь.
– Мы можем уехать без них?
Эта фраза прозвучала как вопрос, а не утверждение, и Элса видела, что Рафу стыдно.
Он медленно провел рукой по волосам, посмотрел на мертвые пшеничные поля вокруг, на могилы, уже выкопанные на этой земле.
– Этот проклятый ветер и засуха убьют их. И нас. Я больше не могу этого выносить. Я не могу.
– Раф… что ты такое говоришь.
Эта земля – его наследие, их будущее, будущее их детей. Дети вырастут на этой земле, зная свою историю, зная, кто они и откуда родом. Они научатся гордиться, отдыхая вечерами после трудового дня. У них будет свое место в этом мире. Раф не знает, каково это – не иметь своего места в мире, но Элса знает, и она не желает своим детям испытать такую боль. Это дом. Раф должен понимать, что тяжелые времена рано или поздно заканчиваются. А земля остается. Семья остается. Как он может думать, что они могут бросить Тони и Роуз? Невообразимо, немыслимо.
– Когда пойдет дождь…
– Господи, я ненавижу эту фразу, – с невыносимой горечью произнес Раф.
Элса видела в его глазах муку, разочарование, гнев.
Как же ей хотелось прикоснуться к нему, но она не осмеливалась. Слова «Я люблю тебя» горели у нее в пересохшем горле.
– Просто я думаю…
– Я знаю, что ты думаешь.
Он пошел прочь, не оглянувшись.
Уйти. Просто бросить эту землю и уйти.
На самом деле уйти. Элса все еще думала об этом много часов спустя, когда уже давно сгустились сумерки.
Она не могла представить себе, что присоединится к толпе безработных, бездомных бродяг и мигрантов, направляющихся на Запад. Она слышала, как опасно запрыгивать на эти поезда: гигантские металлические колеса отрезали ноги, перерубали тело пополам. А кроме того, преступники, дурные люди, оставившие не только свои семьи, но и забывшие про совесть. Элса не была смелой женщиной.
И все же.
Она любила своего мужа. Она поклялась любить, почитать и слушаться его. И конечно же, следовать за ним.
Наверное, нужно было сказать ему, что они поедут в Калифорнию? По крайней мере, поговорить об этом? Может быть, весной, если пойдет дождь и они соберут урожай, у них появятся деньги на бензин.
И видит Бог, Раф здесь несчастлив. Как и Лореда.
Может, они могут уехать – все вместе – и вернуться, когда засуха закончится.
Почему бы и нет?
Земля их дождется.
Ей надо было хотя бы толком обсудить это с ним, чтобы он видел, что они одна команда, она его жена, и если он так этого хочет, то она согласна. Она покинет эту землю, которую полюбила, единственный свой дом.
Ради него.
Элса накинула шаль на поношенную батистовую сорочку, надела резиновые сапоги, стоявшие у двери, и вышла на крыльцо.
Где же он? Один на мельнице пережевывает свое расстройство? Или запряг лошадь в фургон и поехал в Сило, где можно посидеть в баре, выпить виски?
Почти девять вечера, на ферме все стихло.
Свет горел только в окошке Лореды наверху. Дочь любила читать в постели, как и она сама в ее возрасте. Элса спустилась во двор. Курицы очнулись от летаргии, когда она проходила мимо них, и снова затихли. Она слышала музыку из спальни родителей мужа, свекр играл на скрипке. Элса знала, что с помощью музыки Тони разговаривал с Роуз в эти тяжелые времена, так он напоминал о прошлом и говорил о будущем, так он говорил: «Я люблю тебя».
Рафа она увидела у загона – черный штрих на фоне черных реек, подсвеченный серебром растущей луны. Яркий оранжевый кончик сигареты.
Он, видимо, услышал ее шаги.
Раф отошел от загона, затушил сигарету и положил окурок в карман рубахи. В тишине плыла любовная песня Тони.
Элса остановилась перед Рафом. Одно короткое движение – и ее рука ляжет на его плечо. Она знала, что после долгого жаркого дня выцветшая голубая полотняная рубаха будет теплой. Она подшивала, и стирала, и обметывала, и складывала всю его одежду и знала, какая она на ощупь.
Элса стояла так близко к мужу, что чувствовала исходящее от него тепло, запах виски и сигарет, и все же ей казалось, будто между ними плещется целый океан. Как такое возможно?
К удивлению Элсы, он взял ее за руку и притянул к себе.
– Помнишь нашу первую ночь на грузовике перед амбаром Стюардов?
Элса неуверенно кивнула. Они не разговаривали на такие темы.
– Ты сказала, что хочешь быть смелой. А я только хотел… оказаться где-то в другом месте.
Элса видела его боль, и ей тоже стало больно.
– О, Раф…
Он поцеловал ее в губы, долго, и медленно, и глубоко, прикоснувшись языком к ее языку.
– С тобой я впервые поцеловался, – прошептал он, чуть отстранившись, чтобы посмотреть на ее лицо. – Помнишь, каким я был тогда?
Ничего более романтического он Элсе никогда не говорил, и ее сердце наполнилось надеждой.
– Все эти годы, – прошептала она.
Тони перестал играть, и музыку сменила тяжелая тишина. Насекомые пели свои звеняще-пронзительные песни. Мерины вяло топтались в загоне, тыкались носами в ограждение, напоминая, что животы у них пусты.
Элсу и Рафа окружала черная ночь, в огромном небе светились звезды. Может быть, это другие миры.
Так красиво и романтично, как будто они вдвоем остались на планете, где слышны только звуки ночи.
– Ты думаешь о Калифорнии, – начала она, пытаясь найти правильные слова для правильного разговора.
– Да. Энт, бредущий тысячу миль в дырявых башмаках. Мы стоим неведомо где в очереди за хлебом. Ты права. Нельзя нам уезжать.
– Может, весной…
Раф поцелуем заставил ее замолчать.
– Иди в постель, – пробормотал он. – Я скоро приду.
Элса почувствовала, как он отстраняется, отпускает ее.
– Раф, я думаю, нам нужно поговорить о…
– Не переживай, Элс, – сказал он. – Я скоро приду. Тогда поговорим. Вот только скотину напою.
Элса хотела задержать его, заставить выслушать, но не была способна на такую дерзость. В глубине души она всегда боялась, что его привязанность к ней слишком непрочная. Она не могла испытывать ее.
Но сегодня она потянется к нему, прикоснется с той интимностью, о которой мечтала. Она преодолеет то, что с ней не так, и наконец доставит ему удовольствие.
Да. И когда они закончат заниматься любовью, она поговорит с ним об отъезде, серьезно поговорит. И, что важнее, она выслушает его.
Элса шагала взад-вперед по комнате. Подошла к окну и отодрала покрытые пылью тряпки и газеты с подоконника и оконной рамы.
Она видела мельницу: перекрещенные черные линии, словно силуэт цветка на фоне неба, усыпанного драгоценными камнями-звездами.