Колдовской апрель бесплатное чтение
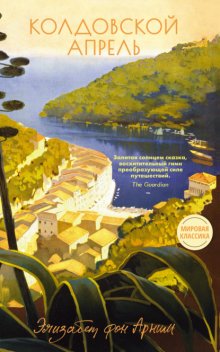
Elizabeth von Arnim
The Enchanted April
В оформлении использована иллюстрация La Riviera italienne, Portofino prиs de S.Margherita et Rapallo. Travel poster by Mario Borgoni shows the Italian Riviera at Portofino from a terrace above the coastline. Richter & Cia., Napoli, for ENIT (Ente Nazionale Italiano per il Turismo), ca. 1920.
© Наталия Рудницкая, перевод на русский язык, 2021
© Livebook Publishing Ltd, оформление, 2021
Глава 1
Все началось в дамском клубе в Лондоне в середине февральского дня – в клубе невзрачном и в день унылый. Отобедав, приехавшая за покупками из Хампстеда миссис Уилкинс взяла со столика в курительной комнате номер «Таймс» и, краем глаза проглядывая колонку личных объявлений, вдруг увидела вот это:
«Тем, кто ценит и любит глицинии и солнечный свет! Небольшой средневековый итальянский замок на берегу Средиземного моря сдается на весь апрель. Полностью меблирован. Прислуга наличествует. Z., почтовый ящик 1000, „Таймс“».
Вот в чем крылся весь замысел, хотя, как нередко случается, тот, кто эту историю затеял, еще ни о чем не подозревал.
Миссис Уилкинс также еще не ведала, что с этого момента ее апрель уж предрешен, а потому отбросила газету жестом как досадливым, так и утомленным, и отвернулась к окну, тоскливо глядя на мокрую улицу.
Ах, не для нее эти средневековые замки, пусть и небольшие. Не для нее апрель на Средиземном море, не для нее глицинии и солнечный свет. Такие прелести – только для богатых. И все же объявление было адресовано их ценителям и любителям – а значит, и ей тоже, потому что она уж точно все это ценила – больше, чем можно было бы вообразить; больше, чем она о том когда-либо говорила. Но она была бедна. Все ее богатства в этом мире равнялись девяноста фунтам, которые она копила годами, по фунту отрывая от того, что выделялось на платья. Накопления она делала по совету мужа, который заявил, что у нее должны быть какие-то средства в качестве страховки на черный день. Деньги на платья миссис Уилкинс выделял отец, 100 фунтов в год, так что ее наряды были из той категории, которые супруг миссис Уилкинс, всячески призывавший к экономии, называл «скромными» и «приличными» и в которых она, как говорили друг другу ее приятельницы – а это случалось нечасто, ибо она была не из тех, о ком говорят, – выглядела настоящим пугалом.
Мистер Уилкинс, адвокат, приветствовал бережливость во всем, кроме того, что относилось к его питанию. Бережливость, проявленную в приготовлении предназначенных для него блюд, он называл плохим ведением хозяйства. Зато восхвалял ту бережливость, которая, словно моль, подтачивала наряды миссис Уилкинс и безнадежно ее уродовала. «Никогда ведь не знаешь, – говорил он – когда этот черный день наступит, ты только обрадуешься сбережениям. Да что там, мы оба обрадуемся».
Стоя у окна, выходящего на Шафтсбери-авеню – клуб был недорогой, но до него удобно было добираться из Хампстеда, где она жила, а из него – до «Шулбредс», где совершала покупки, – миссис Уилкинс равнодушно смотрела на противный холодный дождь, неустанно поливающий снующие туда-сюда зонтики, на омнибусы, из-под колес которых вырывались фонтаны воды, а внутренним взором видела апрель на Средиземноморье, и глицинии, и все восхитительные возможности, которые жизнь дарит богатым, и вдруг подумала: не это ли тот самый черный день, к которому Меллерш – мистера Уилкинса звали Меллершем – так часто призывал ее готовиться, и, может, само провидение предназначило пустить ее скромные сбережения на то, чтобы сбежать из этого климата в небольшой средневековый замок? Не все сбережения, конечно, малую их часть. Замок, если он средневековый, наверняка обветшал, а все полуразрушенное стоит недорого. Она ничего не имела против некоторой разрухи, ведь за то, что уже разрушено, не надо платить – напротив, разруха снижает цену и такой экономией будто сама воздает тебе. Но нет, об этом глупо даже помышлять!
Она отвернулась от окна с тем же досадливым и безнадежным видом, с каким до этого отбросила «Таймс», и направилась было к двери с намерением облачиться в макинтош, забрать зонтик и, с боем захватив один из переполненных омнибусов, ехать в «Шулбредс» за камбалой Меллершу на ужин – Меллерш рыбу не любил и с удовольствием ел исключительно камбалу да лосося – но тут она заметила миссис Арбатнот: представлены они друг другу не были, но миссис Арбатнот тоже жила в Хампстеде и тоже была членом этого клуба. Она сидела за столиком в середине комнаты, где держали газеты и журналы, и в свою очередь увлеченно изучала первую страницу «Таймс».
Миссис Уилкинс еще ни разу не разговаривала с миссис Арбатнот, которая принадлежала к одной из многочисленных церковных общин и изучала, классифицировала, подразделяла и регистрировала бедняков, в то время как они с Меллершем, если куда и выходили, то на вечеринки художников-импрессионистов, коих в Хампстеде водилось достаточно. Сестра Меллерша была замужем за одним таким и жила в Хите, и из-за этого родства миссис Уилкинс попала в круги, для нее совершенно неестественные, а вскоре стала бояться картин. О них приходилось что-то говорить, а она не знала, что сказать. Обычно она просто бормотала «изумительно», но чувствовала, что этого недостаточно. Однако никто не возражал. Никто и не слушал. На миссис Уилкинс никто не обращал внимания. Она была из тех, кого на вечеринках не замечают. Одежда, инфицированная бережливостью, делала ее практически невидимой, лицо ее также не приковывало взоры, разговаривала она неохотно и робела. И если твоя одежда, лицо и разговоры вообще не стоят внимания, думала миссис Уилкинс, которая признавала свои недостатки, то кому ты нужна на вечеринках?
К тому же ее всегда сопровождал мистер Уилкинс, этот гладко выбритый привлекательный мужчина, который одним своим появлением на вечеринке придавал ей солидности. Уилкинс был весьма респектабелен. Все знали, что старшие партнеры были о нем высокого мнения. Кружок его сестры им восхищался. Он высказывал пристойные глубокомысленные суждения об искусстве и художниках. Он был человеком содержательным и сдержанным, никогда не говорил ни словом больше, но и ни словом меньше, чем требовалось. Казалось, будто он сохраняет копии всего им сказанного: он был столь очевидно надежным, что зачастую те, кто встречали его на вечеринках, испытывали разочарование в собственных поверенных и после некоторых метаний выпутывались из отношений с прежними и переходили к Уилкинсу.
Естественно, что миссис Уилкинс во внимание не принималась. «Ей вообще следует сидеть дома», – говорила сестра мистера Уилкинса с видом судьи, который рассмотрел дело и принял окончательное решение. Но Уилкинс не мог оставлять жену дома. Он был семейным поверенным, а всем им полагалось иметь жен и демонстрировать их. Со своей супругой он на неделе появлялся на вечеринках, а по воскресеньям – в церкви. Будучи еще достаточно молодым – ему исполнилось тридцать девять – и стремясь пополнить клиентуру за счет старых леди (а он считал, что их пока в списке его клиенток недостаточно), Уилкинс не мог позволить себе не посещать церковь, и именно в церкви миссис Уилкинс узнала о существовании миссис Арбатнот, хотя до сей поры не перемолвилась с ней ни словом.
Она видела, как та сопровождала детей бедняков к церковным скамьям. Она появлялась во главе процессии учеников воскресной школы ровно за пять минут до выхода хора, аккуратно рассаживала мальчиков и девочек по предназначенным местам, ставила их на коленочки для вступительной молитвы, а затем снова поднимала на ноги, когда под нарастающие звуки органа открывались двери ризницы и перед паствой являлись хор и духовенство, нагруженные литаниями и заповедями. Лицо ее всегда выглядело грустным, хотя она явно была женщиной деловитой. Это сочетание удивляло миссис Уилкинс, поскольку Меллерш – в те дни, когда ей удавалось раздобыть для него камбалу, – любил приговаривать, что людям, занятым делом, некогда грустить, и что если некто хорошо делает свою работу, то автоматически начинает лучиться живостью и весельем.
В миссис Арбатнот не наблюдалось ни живости, ни веселья, хотя, если судить по тому, сколько ей приходилось трудиться в воскресной школе, данные качества должны были бы проявляться сами собой, но когда миссис Уилкинс, отвернувшись от окна, увидела миссис Арбатнот в клубе, в той вовсе не было заметно ничего веселого: она, ровно держа перед собой газету, уставилась на что-то на первой полосе. Она просто на это что-то смотрела, и ее лицо, как обычно, было похоже на лик терпеливой и разочарованной Мадонны.
Миссис Уилкинс, набираясь храбрости, с минуту за ней наблюдала. Ей хотелось спросить, видела ли та объявление. Она не знала, почему ей хотелось спросить – но хотелось очень. До чего же глупо не решаться заговорить! Она выглядела такой доброй. Она выглядела такой несчастливой. Почему бы двум несчастливым людям не подбодрить друг друга легкой болтовней, которая скрасила бы их путь по пыльным жизненным закоулкам – обыкновенным, простым разговором о том, что они чувствуют, о том, что могло бы им понравиться, и о том, на что они все еще стараются надеяться?.. Она не могла не думать, что миссис Арбатнот тоже все перечитывает и перечитывает то самое объявление. Взгляд ее был устремлен именно на этот фрагмент страницы. Представляла ли она то же, что и миссис Уилкинс, – цвет, запахи, свет, мягкий плеск волн о разогретые солнцем небольшие скалы? Цвет, ароматы, свет, море – вместо Шафтсбери-авеню, мокрых омнибусов, рыбного отдела в «Шулбредс», возвращения на метро в Хампстед, ужина, и того же самого завтра, и послезавтра, того же самого, того же самого…
Неожиданно для себя миссис Уилкинс склонилась над столом.
– Вы читаете о средневековом замке и глициниях? – услышала она собственный голос.
Естественно, миссис Арбатнот была удивлена, но и вполовину не так сильно, как удивилась самой себе миссис Уилкинс.
Миссис Арбатнот прежде не замечала этой худенькой, немного нескладной особы в потрепанной одежде, которая сейчас уселась перед ней, с личиком в веснушках и огромными серыми глазами, почти спрятавшимися под несуразной мокрой шляпой, поэтому какое-то время просто молча на нее смотрела. Она действительно читала и о средневековом замке, и о глициниях, точнее, прочла десять минут назад, и все эти десять минут грезила – о свете, цвете, аромате, мягком плеске волн среди нагретых солнцем скал…
– Почему вы спрашиваете? – произнесла она печально-торжественным голосом, поскольку научилась разговаривать с бедняками (у них самих) голосом печально-торжественным и терпеливым.
Миссис Уилкинс залилась краской и казалась ужасно смущенной и перепуганной.
– О только потому, что я тоже видела это объявление и подумала, что, может быть… Подумала, что как-нибудь… – она запнулась.
Миссис Арбатнот, имевшая обыкновение распределять людей по спискам и категориям, по привычке размышляла, в какую категорию и под каким заголовком поместить миссис Уилкинс.
– Я вас знаю, – продолжала миссис Уилкинс, которая, как все стеснительные люди, начав говорить, остановиться уже не могла и при этом все больше и больше запугивала себя звуками собственного голоса, отдававшимися в ушах. – Каждое воскресенье… Я вижу вас каждое воскресенье в церкви…
– В церкви? – эхом откликнулась миссис Арбатнот.
– И оно выглядит так чудесно – это объявление о глициниях, – и…
Миссис Уилкинс, которой было как минимум лет тридцать, умолкла и принялась ерзать на стуле, как растерявшаяся неуклюжая школьница.
– Все это выглядит так чудесно, – выпалила она, – особенно в такой ненастный день…
И она уставилась на миссис Арбатнот глазами несчастной собаки.
«Бедняжка, – подумала миссис Арбатнот, чья жизнь была посвящена тому, чтобы помогать и ободрять, – ей нужен хороший совет».
И терпеливо приготовилась его дать.
– Если вы видели меня в церкви, – произнесла она ласково и участливо, – то, полагаю, вы тоже живете в Хампстеде?
– О да, – сказала миссис Уилкинс. И, слегка поникнув головой на длинной стройной шее, как будто упоминание о Хампстеде пригибало ее к земле, повторила: – О да.
– И где же? – осведомилась миссис Арбатнот, которая, вознамерившись дать совет, естественно, сперва хотела собрать как можно больше данных.
Но миссис Уилкинс, с нежностью положив руку на ту часть «Таймс», где было помещено объявление, как будто напечатанные слова были драгоценными, сказала только:
– Наверное, вот почему это выглядит так чудесно.
– Ну, я думаю, это чудесно в любом случае, – сказала, забыв о сборе данных и еле слышно вздохнув, миссис Арбатнот.
– Значит, вы его прочитали?
– Да, – ответила миссис Арбатнот, и ее глаза снова приняли мечтательное выражение.
– Разве это не было бы замечательно? – пробормотала миссис Уилкинс.
– Замечательно, – согласилась миссис Арбатнот. На ее лицо, мгновение назад такое вдохновенное, снова легло терпеливое выражение. – Но как бы замечательно и прекрасно это ни было, нет никакого смысла тратить время на размышления о подобных вещах.
– О, это не так, – горячо возразила миссис Уилкинс, что было удивительно, потому что ответ никак не гармонировал с ее обликом – заурядными пальто и юбкой, скукоженной шляпой, выбивавшимися из-под нее волосами. – Даже помечтать о таком приятно – ведь это так отличается от Хампстеда, и иногда я верю, правда верю, что когда о чем-то много думаешь, все получается.
Миссис Арбатнот терпеливо ее разглядывала. К какой же категории ее отнести, если вообще стоит относить куда-то?
– Может быть, – сказала она, слегка наклонившись вперед, – вы бы представились? Если уж мы станем друзьями, – и она улыбнулась своей печальной улыбкой, – а я на это надеюсь, то лучше начать с самого начала.
– О да, вы так добры. Меня зовут миссис Уилкинс, – сказала миссис Уилкинс и, поскольку миссис Арбатнот ничего на это не ответила, добавила, покраснев: – Не думаю, что это вам о чем-нибудь говорит. Порой… Порой это и мне ни о чем не говорит. Тем не менее, – и она оглянулась, словно прося о помощи, – я миссис Уилкинс.
Ей не нравилось собственное имя. Это было ничтожное, невыразительное имя, да еще с каким-то дурацким вывертом на конце, как хвостик у мопса. Но уж таким оно было, это имя. И ничего с этим было не поделать. Уилкинс она была и Уилкинс останется, и, хотя мужу нравилось, когда она называла себя миссис Меллерш Уилкинс, делала она это, только когда супруг был поблизости, потому что считала, что от «Меллерш» звучание «Уилкинс» становилось только хуже, подобно тому, как надпись «Чатсуорт» [1] на воротах подчеркивает статус виллы, но только в обратном смысле.
Когда он впервые объявил, что ей следовало бы добавлять «Меллерш», она возразила, приведя в качестве аргумента сравнение с виллой, и после паузы – Меллерш был до такой степени благоразумен, что перед каждой своей репликой делал паузу, во время которой, казалось, снимал и откладывал в папочку точную мысленную копию того, что собирался сказать, – он с явным неудовольствием произнес: «Но я ведь не вилла» и посмотрел на нее с видом человека, который, возможно, уже в сотый раз понадеялся, что женился все-таки не на последней дурочке.
Конечно же, он не вилла, поспешила заверить его миссис Уилкинс, она никогда и не думала, что он вилла, ей и в голову такое прийти не могло… Она просто подумала…
Чем сумбурнее становились ее объяснения, тем серьезнее задумывался Меллерш – а мысли эти были слишком хорошо ему знакомы, поскольку к этому моменту он пробыл мужем уже два года – что он все-таки мог жениться на дурочке, хотя вряд ли… В результате они поссорились, и надолго, если можно назвать ссорой полное достоинства молчание одной стороны и искренние извинения другой: нет, нет, миссис Уилкинс не имела намерения сказать, что мистер Уилкинс – вилла.
«Полагаю, – подумала она, когда прошло довольно много времени и ссора наконец завершилась, – что повод для ссоры найдется всегда, если люди ни на день не расстаются целых два года. Что требуется нам обоим, так это отпуск».
– Мой муж, – продолжала она просвещать миссис Арбатнот, – адвокат. Он… – миссис Уилкинс старалась подобрать слова, разъясняющие личность Меллерша, и наконец нашлась: – Он очень привлекателен.
– Что ж, – со всей добротой произнесла миссис Арбатнот, – это, наверное, очень приятно.
– Почему? – спросила миссис Уилкинс.
– Потому что… – начала слегка опешившая миссис Арбатнот, которая за время постоянного общения с бедняками привыкла к тому, что к ее высказываниям вопросов не возникает. – Потому что красота – привлекательность – такой же дар, как и все прочие, и, если им пользуются разумно…
И умолкла. На нее смотрели большие серые глаза миссис Уилкинс, и миссис Арбатнот вдруг показалось, что, наверное, у нее выработалась привычка к растолковыванию, причем к растолковыванию в манере нянюшки, слушатели которой не могут с ней не соглашаться, а даже если бы пожелали, побаиваются ее прерывать и при этом не сознают, что фактически находятся в ее власти.
Но миссис Уилкинс не слушала, потому что в ее сознании возникла – какой бы абсурдной ни казалась— отчетливая картина: вот две фигуры сидят рядышком под огромной разросшейся глицинией, свисающей с ветвей неизвестного ей дерева, и эти фигуры – миссис Арбатнот и она сама… Да, она прямо так и видела их, видела. А за ними, сияющие в солнечном свету, старые серые стены средневекового замка. Она их видела… Они были там …
Вот почему она уставилась на миссис Арбатнот, но не слышала ни единого ее слова. Миссис Арбатнот тоже уставилась на миссис Уилкинс, зачарованная выражением ее лица, преображенного представшей перед мысленным взором картиной, лица как бы освещенного изнутри и трепетного, словно вода на солнечном свету, чуть подернутая рябью легкого ветерка. Если б на вечеринках у миссис Уилкинс было такое лицо, как в этот миг, на нее точно обращали бы внимание.
Так они и смотрели друг на друга: миссис Арбатнот – с интересом, а миссис Уилкинс – с видом человека, которому явилось откровение. Ну конечно. Так это и можно сделать. Она сама, в одиночку, этого позволить себе не сможет, да если бы и могла, у нее не получится поехать самой, но вместе с миссис Арбатнот…
И она наклонилась через стол.
– Почему бы нам не попробовать и не заполучить его? – прошептала она.
Миссис Арбатнот удивилась еще больше.
– Заполучить? – переспросила она.
– Да, – тихонечко произнесла миссис Уилкинс, словно боясь, что ее могут подслушать. – Не просто сидеть и приговаривать «как чудесно», а потом, не шевельнув и пальцем, как всегда, отправиться домой в Хампстед разбираться с ужином и рыбой точно так же, как делали это годами и будем делать годами. На самом деле, – тут миссис Уилкинс покраснела до корней волос, потому что произносимое ею, то, что изливалось из нее, пугало, но остановиться она не могла, – я конца этому не вижу. Этому и нет конца. Так что должен быть перерыв, должны быть перемены – это важно для всех. Да, это совсем не эгоистично – уехать и побыть счастливыми хоть немножко, потому что мы вернемся гораздо более приятными. Понимаете, время от времени всем нужен отдых.
– Но что вы имеете в виду, что значит – заполучить его? – спросила миссис Арбатнот.
– Взять, – сказала миссис Уилкинс.
– Взять?
– Нанять. Снять. Арендовать.
– Но… Вы имеете в виду, вы и я?
– Да. На двоих. Совместно. Тогда это обойдется каждой только в полцены… А вы выглядите так… Вы выглядите так, будто хотели бы этого так же, как и я, как если бы вам тоже требовалось отдохнуть, чтобы что-то хорошее случилось и с вами.
– О, но ведь мы совсем друг друга не знаем!
– Но только подумайте, как замечательно было бы, если бы мы с вами уехали на месяц! У меня есть сбережения на черный день, подумайте…
«Она не в себе», – подумала миссис Арбатнот, при этом чувствуя странное волнение.
– Только представьте, уехать на целый месяц, от всего, в рай…
«Не следовало бы ей говорить такие вещи, – думала миссис Арбатнот. – Викарий бы…» И все же что-то в ней всколыхнулось. Правда, как чудесно было бы отдохнуть, сделать перерыв.
Привычка, однако, ее отрезвила, а годы общения с бедняками подсказали слова, которые она произнесла с сочувственным превосходством человека, который умеет объяснять все, что нуждается в объяснении:
– Но, видите ли, рай – это не где-то там, где нас нет. Он здесь и сейчас. Так нас учат.
Она посерьезнела, совсем как в минуты терпеливой и старательной помощи бедным и наставления их на путь истинный, и произнесла тихо и мягко:
– Рай внутри нас. О том нам говорят высшие авторитеты. Вы же знаете эти строчки про родственную связь, не так ли?
– Да знаю, конечно, – нетерпеливо прервала ее миссис Уилкинс.
Но миссис Арбатнот привыкла завершать свои высказывания.
– «Небес и Дома родственная связь» [2]. Рай – в наших домах.
– Вовсе нет, – вновь удивила собеседницу миссис Уилкинс.
Миссис Арбатнот даже опешила. А потом со всей добросердечностью произнесла:
– О, это именно так. Рай здесь, с нами, если мы этого хотим, если мы превращаем свой дом в рай.
– Я этого хочу, и все для этого делаю, и все равно это не рай, – упрямилась миссис Уилкинс.
И тут миссис Арбатнот умолкла, потому что и у нее иногда возникали сомнения по поводу домашнего рая. Она сидела и беспокойно смотрела на миссис Уилкинс, чувствуя все более и более настоятельную потребность ее классифицировать. Если б только она могла поместить миссис Уилкинс в соответствующую рубрику, она сама наверняка снова обрела бы равновесие, которое в последние минуты странным образом колебалось. Потому что у нее тоже годами не было ни дня отдыха, и объявление тоже заставило ее размечтаться, и волнение миссис Уилкинс оказалось заразительным, и, пока она слушала эту сбивчивую, странную речь и смотрела в это сияющее лицо, ей самой показалось, что она вдруг очнулась ото сна.
Совершенно очевидно, что миссис Уилкинс была особой неуравновешенной, но миссис Арбатнот и раньше встречала неуравновешенных – по правде говоря, она постоянно с ними сталкивалась, – но никто из них никоим образом не влиял на ее стабильность; так почему же именно эта неуравновешенная особа заставила пошатнуться ее саму, ту, чей компас всегда указывал на Бога, Мужа, Дом и Долг – ведь она понимала, что миссис Уилкинс не намерена брать в поездку мистера Уилкинса, – и помыслить о том, как хорошо, как славно было бы хоть ненадолго почувствовать себя счастливой, побыть одновременно добродетельной и желанной. Нет, так думать неправильно, определенно неправильно. У нее тоже были сбережения на черный день – она понемногу откладывала на счет в почтовом сберегательном банке – но как она может забыть о долге до такой степени, чтобы взять и потратить их на себя! Совершеннейший абсурд! Конечно, это невозможно, она же никогда такого не сделает, да? Разве может она забыть о находящихся на ее попечении бедняках, об их горестях и болезнях? Безусловно, поездка в Италию была бы восхитительной, но на свете есть множество восхитительных вещей, и на что человеку даны силы, как не на то, чтобы от них отказываться?
Господь, Супруг, Дом и Долг были столь же несокрушимыми ориентирами для миссис Арбатнот, как четыре стороны света на компасе обыкновенном. Много лет назад, после периода, полного отчаяния, она нашла в них успокоение, она преклонила на них голову, словно на перину, и впала в сладостный сон, больше всего боясь, что ее разбудят, что ей придется очнуться и выйти из этого незатейливого и нехлопотного состояния. Вот почему она так упорно искала нишу, в которую следовало бы поместить миссис Уилкинс, – потому что только так она могла очистить и успокоить собственный разум. И, в растерянности глядя на миссис Уилкинс, чувствуя, как все больше и больше теряет равновесие и заражается чуждыми идеями, она решила protem [3] – это выражение она слышала от викария – занести миссис Уилкинс в рубрику «Нервы». Вполне возможно, ее следовало сразу же отправить в категорию «Истерия», которая часто оказывалась лишь преддверием к «Безумию», но миссис Арбатнот научилась не торопиться закреплять людей в соответствующих категориях, поскольку не раз к ужасу своему обнаруживала, что ошиблась. Человека же так трудно потом выковырнуть из его категории, а ей самой приходилось при этом испытывать страшные муки!
Да. «Нервы». Наверняка у нее нет никаких регулярных обязательств по отношению к другим, думала миссис Арбатнот, нет никакой работы, которая отвлекала бы ее от себя самой. Совершенно очевидно, она плыла без руля и ветрил, подгоняемая порывами и импульсами. Почти определенно она соответствовала категории «Нервы», или, если никто ей не поможет, скоро в нее попадет. Бедняжка, подумала миссис Арбатнот, к которой вместе с равновесием вернулось и сочувствие, и которая из-за стола не могла разглядеть, какой длины у миссис Уилкинс ноги, а следовательно, определить, какого она роста. Ей были видны только ее маленькое, оживленное, но робкое личико, узкие плечи, застывшая в глазах детская мольба о счастье. Но нет, такие вещи, такие мимолетности не делают людей счастливыми. За свою долгую жизнь с Фредериком – Фредерик был ее мужем, миссис Арбатнот вышла замуж в двадцать лет, а сейчас ей было почти тридцать три, – она узнала, где именно обретаются истинные радости. Истинная радость, знала она теперь, – в повседневном, ежечасном служении другим, а обрести ее можно лишь у стоп Господа нашего – разве она сама снова и снова не приходила к нему со своими разочарованиями и не уходила успокоенной и умиротворенной?
Фредерик был из тех мужей, чьи жены довольно рано припадали к стопам Господа. От него к ним путь был коротким, но мучительным. Сейчас, в ретроспективе, путь казался ей недолгим, но на самом деле он длился весь первый год их брака, и каждый дюйм этого пути был выстрадан, каждый дюйм был орошен, как ей порой казалось, кровью ее сердца. Но теперь все позади. Она давно обрела мир. И Фредерик из ее горячо любимого жениха, из обожаемого молодого супруга превратился лишь во второй по значимости – после Господа – пункт в списке обязательств и долготерпений. Там он и пребывал – второй по значимости, ее молитвами превратившийся в бесплотный дух. Годами она была счастлива тем, что забыла о счастье. И хотела, чтобы все оставалось как есть. Она хотела отгородиться от всего, что напоминало бы о прекрасном, о том, что снова заставило бы ее желать…
– Мне бы очень хотелось с вами подружиться, – сказала она серьезно. – Может быть, вы посетите меня или позволите мне время от времени наносить вам визиты? Заходите, как только захотите побеседовать. Я сейчас дам вам свой адрес, – она принялась рыться в сумочке, – чтобы он был у вас под рукой.
И она достала и протянула визитную карточку.
Миссис Уилкинс не обратила на карточку никакого внимания.
– Так странно, – сказала миссис Уилкинс, будто не расслышав, – но я вижу нас обеих – вас и меня – в апреле. В этом средневековом замке.
Миссис Арбатнот почувствовала себя очень неловко.
– Неужели? – сказала она, пытаясь сохранять спокойствие под взглядом этих мечтательных, сияющих серых глаз. – Неужели?
– Разве вам никогда не доводилось предвидеть то, что затем случалось? – спросила миссис Уилкинс.
– Никогда, – сказала миссис Арбатнот.
Она попыталась улыбнуться сочувствующей, мудрой и терпеливой улыбкой, которую держала для бедняков, выслушивая их, как всегда, путаные и противоречивые суждения. Но ей не удалось, улыбка дрогнула.
– Конечно, – произнесла она тихо, словно опасаясь, что ее могут услышать викарий и сберегательный банк, – это было бы прекрасно… Прекрасно…
– Даже если это и неправильно, – сказала миссис Уилкинс, – то ведь только на месяц.
– Это… – начала миссис Арбатнот, намереваясь высказаться по поводу неприемлемости подобного образа мыслей, но миссис Уилкинс не дала ей продолжить:
– Как бы там ни было, я уверена, что это неправильно, оставаться правильной, пока не станешь совсем жалкой и несчастной. А я вижу, что вы многие годы были правильной, вот почему выглядите такой несчастливой, – миссис Арбатнот открыла было рот, чтобы возразить, но миссис Уилкинс остановила ее. – А я… С той поры, как я была юной девушкой, я только и знаю, что такое долг, обязательства по отношению к другим, но уверена, что от этого никто не стал любить меня хоть чуточку… хоть чуточку больше… А я хочу… О, я жажду чего-то иного… Иного…
Неужели она собирается заплакать? Миссис Арбатнот почувствовала сострадание и жуткую неловкость. Только бы она не разрыдалась. Не здесь. Не в этой неуютной комнате, через которую все время ходили какие-то люди.
Но миссис Уилкинс, взволнованно порывшись в карманах в поисках носового платка, наконец его обнаружила, высморкалась, пару раз моргнула, посмотрела на миссис Арбатнот смиренно, испуганно и будто извиняясь – и улыбнулась.
– Поверите ли, – прошептала она, пытаясь справиться с дрожащими губами и совершенно очевидно стыдясь себя, – я никогда в своей жизни ни с кем так не говорила. Не понимаю, не знаю, что на меня нашло.
– Это все из-за объявления, – горестно кивнув, сказала миссис Арбатнот.
– Да, – согласилась миссис Уилкинс, украдкой промокая платочком глаза. – И еще потому, что мы обе, – она снова тихо высморкалась, – несчастны.
Глава 2
Конечно же, миссис Арбатнот несчастной не бы-ла – разве это возможно, спросила она себя, если сам Господь взял на себя заботу о ней? – но на время она подвесила этот вопрос в воздухе, поскольку непосредственно перед ней сидело создание, однозначно нуждавшееся в помощи, и на сей раз не в виде башмаков, одеял и приемлемых санитарных условий, но в помощи более деликатной – в понимании и правильном, точном выборе слов.
Однако на точно подобранные слова, как она вскорости поняла, попробовав разнообразные – о жизни для других, о молитвах, о мире, который мы обретаем, безусловно вверив себя Господу – на все эти слова у миссис Уилкинс находились слова другие, пусть и не совсем правильные, но на них в данный момент, наверняка из-за нехватки времени, миссис Арбатнот убедительного ответа не находила. Кроме определенно правильных слов: если они просто ответят на объявление, в том большого вреда не будет. Это же ни к чему не обязывает. Просто уточнить. И больше всего миссис Арбатнот тревожило то, что она сделала это предложение не только для того, чтобы успокоить миссис Уилкинс: оно вырвалось у нее потому, что она сама, как ни странно, затосковала по средневековому замку.
Это ее всерьез обеспокоило. Как так получилось, что она, привыкшая направлять, вести за собой, советовать, поддерживать – всех, кроме Фредерика, которого она давно уже перепоручила Господу, – стала ведомой, попала под влияние, была сбита с толку – и чем? Каким-то объявлением, этой бессвязно лепечущей незнакомкой? Такое не могло не встревожить. Она не понимала своей внезапно вспыхнувшей острой тоски по тому, что в конечном счете было баловством, в то время как подобные желания не посещали ее уже много лет.
– Ничего же плохого не случится, если мы просто спросим, – сказала она тихо, как если бы вокруг них, слушая и осуждая, столпились викарий, и служащие сберегательного банка, и все жаждущие и зависящие от нее бедняки.
– Это же нас ни к чему не обязывает, – столь же тихо, дрожащим голосом, ответила миссис Уилкинс.
Они одновременно поднялись – миссис Арбатнот удивило, что миссис Уилкинс оказалась такой высокой, – и отправились к письменному столу, где миссис Арбатнот написала послание к Z., почтовый ящик 1000, «Таймс». Она перечислила все подробности, о которых желала получить разъяснения, кроме одной, которая на самом деле интересовала их больше всего, – стоимость аренды. Они обе почувствовали, что написать письмо и взять на себя всю деловую сторону следует миссис Арбатнот. Она не только привыкла все организовывать и быть практичной, она также была старше и определенно сдержанней, и уж точно сама не сомневалась в том, что была мудрее. Не сомневалась в этом и миссис Уилкинс: четкий пробор в волосах миссис Арбатнот указывал на сдержанность и спокойствие, которые могли быть продиктованы только мудростью.
И хотя миссис Арбатнот была мудрее, старше и сдержанней, движущей силой всего предприятия все же была ее новая подруга. Силой неуправляемой, но мощной. Она, конечно, нуждалась в помощи, еще и потому, что имела, судя по всему, беспокойный характер. И, как ни странно, заражала своим беспокойством. Звала за собой. А то, каким образом ее нестабильный разум приходил к заключениям – безусловно ложным, взять хоть соображение о несчастливости миссис Арбатнот – попросту обескураживало.
И все же, какой бы беспокойной ни была миссис Уилкинс, миссис Арбатнот, к своему удивлению, разделяла ее волнение и стремление, и когда письмо упало в почтовый ящик в холле и обратного пути уже не было, обе испытали одно и то же чувство вины.
– Это только доказывает, – прошептала миссис Уилкинс, когда они отошли от почтового ящика, – какими безупречно правильными, добродетельными мы были всю нашу жизнь. Впервые сделав что-то втайне от мужей, мы сразу же почувствовали себя виноватыми.
– Боюсь, я не могу утверждать, что всегда была безупречно правильной, – слабо запротестовала миссис Арбатнот, почувствовав себя странно из-за того, что ее новая знакомая каким-то непостижимым образом снова пришла к верному выводу, хотя она ни словом не обмолвилась о собственном чувстве вины.
– О, я уверена, что были. Это же видно… Вот почему вы несчастны.
«Ну зачем она такое говорит? – подумала миссис Арбатнот. – Надо постараться убедить ее не говорить так».
Вслух же она со всей рассудительностью произнесла:
– Не понимаю, почему вы так настаиваете на том, что я несчастлива. Когда вы узнаете меня лучше, вы убедитесь, что я вполне счастлива. И я уверена, что вы на самом деле не думаете, будто добродетель, коль скоро ее удалось достигнуть, делает людей несчастными.
– Нет, именно так я и думаю, – сказала миссис Уилкинс. – Вот такая добродетель, как у нас, делает несчастными. Как только мы обрели ее, так сразу и стали несчастными. Добродетель бывает несчастная и счастливая – например, та, которую мы обретем в средневековом замке, – счастливая добродетель.
– Это в том случае, если мы туда поедем, – сдержанно ответила миссис Арбатнот. Она чувствовала, что миссис Уилкинс нуждается в сдерживании. – Ведь мы же только спросили. Любой может это сделать. Вполне вероятно, что мы найдем условия неприемлемыми, но даже если это не так, завтра мы все равно можем передумать.
– Я вижу нас там, – только и ответила миссис Уилкинс.
Все это было крайне странно и тревожно. Миссис Арбатнот, шлепая по мокрым улицам на собрание, где должна была держать речь, пребывала в непривычно смятенном состоянии духа. Она надеялась, что предстала перед миссис Уилкинс особой крайне спокойной, практичной и трезвой и умело скрыла взволнованность. На самом деле она была взволнована чрезвычайно, и чувствовала себя счастливой, и чувствовала себя виноватой, и испытывала страх, словно женщина, возвращающаяся с тайной встречи с любовником – хотя у нее и не было никакого опыта подобных чувств. На самом деле так она и выглядела, когда с легким опозданием появилась за кафедрой. Всегда открытая и бесхитростная, она почувствовала себя чуть ли не обманщицей, глядя в суровые застывшие физиономии собравшихся, которые ждали, когда она начнет убеждать их внести свой вклад в удовлетворение неотложных нужд хампстедских бедняков – при этом все присутствующие полагали, что они сами нуждаются во вкладах. Она выглядела так, будто скрывала что-то постыдное, но восхитительное. Определенно ее привычное выражение ничем не замутненной беспристрастности сменилось выражением подавляемого и боязливого удовлетворения, которое, если бы ее слушатели были людьми более светскими и опытными, натолкнуло бы их на мысль о недавних и, вероятно, страстных любовных утехах.
Красота, красота, красота… Слова звенели у нее в ушах, когда она стояла на кафедре и вещала немногочисленной публике о некрасивом. Она никогда не бывала в Италии. Неужели именно на это ей предстоит потратить свои сбережения? И хотя она не могла одобрить то, каким образом миссис Уилкинс говорила о предопределенности ближайшего будущего, как будто у нее не было выбора, как будто сопротивляться и даже размышлять было бесполезно, все равно ее слова оказали на миссис Арбатнот свое влияние. Взгляд миссис Уилкинс был провидческим. Миссис Арбатнот знала, что некоторые обладают таким взглядом, и если миссис Уилкинс действительно видела ее подле средневекового замка, то, возможно, бороться и смысла нет. И все же потратить сбережения на баловство… Происхождение этих сбережений было не совсем праведным, но по крайней мере она считала, что предназначение их внушает уважение. Так неужели она должна изменить предназначению, каковое само по себе оправдывало существование сбережений, и потратить их на собственное удовольствие?
Миссис Арбатнот все говорила и говорила, она уже до такой степени поднаторела в подобных речах, что могла бы произносить их во сне, и в конце собрания, поскольку взгляд ее был замутнен тайными видениями, вряд ли даже заметила, что никто не был тронут ее речью, по крайней мере, не был тронут до такой степени, чтобы внести пожертвование.
А вот викарий заметил. Викарий был разочарован. Обычно его добрый друг и помощница миссис Арбатнот добивалась лучших результатов. И, что еще более необычно, ее это нисколько не взволновало, так ему показалось.
– Не представляю, – раздраженный как публикой, так и ею самой, сказал он, прощаясь, – что этим людям еще нужно. Их, кажется, вообще ничего не трогает.
– Возможно, им нужен отдых, – предположила миссис Арбатнот.
«Странный какой ответ, – подумал викарий. – Не по делу».
– В феврале? – саркастически бросил ей вслед викарий.
– О нет… не раньше апреля, – ответила через плечо миссис Арбатнот.
«Очень странно, – подумал викарий. – Очень-очень странно».
И отправился домой, где вел себя с женой не совсем по-христиански.
В вечерней молитве миссис Арбатнот испрашивала руководства. Она чувствовала, что ей следует прямо и недвусмысленно попросить, чтобы средневековый замок уже кто-то снял, и таким образом проблема бы решилась сама собой, но смелость ее оставила. А что, если ее молитва будет услышана? Нет, она не может об этом просить, не может рисковать. К тому же – она почти указала на это Господу – если она сейчас потратит сбережения на отдых, то вскоре скопит новые. Фредерик буквально впихивал ей деньги, создание новых накоплений будет означать лишь то, что она какое-то время будет меньше жертвовать на нужды прихода. И это снова будут накопления, неправедность происхождения которых будет очищена пользой, которую они в результате принесут.
Все объяснялось тем, что миссис Арбатнот, не имевшая собственных средств, была вынуждена жить на доходы от деятельности Фредерика, и получалось, что ее накопления были плодами древнего греха. То, чем зарабатывал Фредерик, было для нее постоянным источником печали. Он регулярно, из года в год, писал и издавал невероятно популярные романы о королевских любовницах. А поскольку королям, у которых имелись любовницы, несть числа, а еще больше история знала любовниц, имевших королей, он выпускал по роману каждый год супружеской жизни. И все равно целая толпа этих дамочек еще ждала своей очереди. Против этого миссис Арбатнот была бессильна. Нравилось ей это или нет, она была вынуждена жить на эти деньги. Однажды, после успеха романа о госпоже Дюбарри [4], он подарил ей чудовищную софу с пышными подушками и мягким, манящим изножьем, и она терзалась от того, что в ее собственном доме словно поселился дух давно покойной французской грешницы.
Незатейливо добродетельная, убежденная, что высокая мораль и есть основа всякого счастья, она мучилась скрытой печалью от того, что ее с Фредериком благосостояние было плодом грехов, хоть и отмытых прошедшими столетиями. Чем больше героини романов забывали о приличиях, тем охотнее раскупались книги о них, и тем щедрее Фредерик был к своей супруге, и чем больше он ей давал, тем больше она тратила на помощь бедным – за вычетом накоплений на черный день, ибо надеялась и верила, что когда-нибудь люди перестанут черпать удовольствие в греховном чтиве, и тогда Фредерику потребуется ее поддержка. Приход процветал за счет дурного поведения дам вроде Дюбарри, Монтеспан, Помпадур, Нинон де Ланкло, не говоря уж о высокоученой Ментенон. А бедняки были тем фильтром, пройдя сквозь который, как надеялась миссис Арбатнот, деньги как бы очищались. Большего она сделать не могла. Она целыми днями обдумывала ситуацию, пытаясь найти верный путь, пытаясь наставить на него Фредерика, но поняла, что вряд ли с этим справится, и передала и путь, и Фредерика в руки Божьи. Ни гроша из этих денег она не тратила ни на обустройство дома, ни на наряды, и обстановка, за исключением грандиозной мягкой софы, оставалась более чем суровой. Если кто извлекал из ситуации выгоду, так это неимущие. Даже их ботинки – и те были оплачены грехами. Но как же трудно ей приходилось! Миссис Арбатнот, взыскуя руководства, молилась до изнеможения. Следовало ли ей вообще прекратить прикасаться к этим деньгам, бежать их, как бежала она грехов, бывших их источником? Но как тогда быть с ботинками для паствы? Она спрашивала викария, и после многих оговорок, деликатных умолчаний и намеков стало в конце концов понятно, что он за ботинки.
В начале чудовищно успешной карьеры – а он начал ее уже после женитьбы, до брака Фредерик был невинным работником библиотеки Британского музея – ей хотя бы удалось убедить Фредерика публиковать романы под псевдонимом, так что ее имя не было публично опозорено. Хампстед с восторгом читал книги, не подозревая, что автор живет в самой его гуще. Фредерика в Хампстеде почти никто не знал, даже внешне. Он никогда не приходил ни на одно из сборищ. Чем бы он ни занимался развлечения ради, занимался он этим в Лондоне, и никогда не рассказывал, что делал и с кем встречался – если судить по тому, насколько часто он упоминал жене о своих друзьях, Фредерик вполне мог вообще не иметь друзей. Один лишь викарий знал об источнике средств для паствы, и, как сообщил миссис Арбатнот, считал делом чести о том не упоминать.
По крайней мере ее маленький домик был свободен от призраков недостойных дам, поскольку Фредерик работал вне дома. Он снимал две комнаты близ Британского музея, где и вершил свои эксгумации, туда он отправлялся ранним утром и возвращался домой, когда миссис Арбатнот уже спала. Иногда вообще не возвращался. Иногда она не видела его по несколько дней. Затем он внезапно появлялся к завтраку, накануне открыв дверь своим ключом, веселый, добродушный и щедрый, радующийся, если она позволяла что-нибудь ей преподнести – упитанный мужчина, живущий в согласии с миром, полнокровный, всегда в хорошем расположении духа, довольный жизнью. А она была мягкой и все беспокоилась, чтобы кофе оказался именно таким, как он любит.
Он казался счастливым. Жизнь, часто думала она, как ее в таблицу ни своди, все равно полна тайн. Всегда найдутся люди, которых невозможно поместить ни в одну рубрику. Таким был и Фредерик. Казалось, у теперешнего Фредерика не было ничего общего с Фредериком изначальным. Его, похоже, совершенно не интересовали вещи, о которых он раньше говорил как о важных и прекрасных: любовь, дом, полное единение мыслей, полное погружение в интересы друг друга. После ранних болезненных попыток удержать его на той точке, с которой они так великолепно, рука об руку, стартовали, попыток, так страшно ее ранивших, поскольку Фредерик, за которого она когда-то вышла замуж, был теперь испорчен до неузнаваемости, она словно бы поместила его возле собственного изголовья в качестве главного предмета молитв и оставила его – за вычетом молитв – на попечение Господа. Она слишком любила Фредерика, чтобы за него не молиться. А он и не подозревал, что еще ни разу не вышел из дома без ее молчаливого благословения, реявшего вокруг этой некогда обожаемой головы как отголосок прежней любви. Она не смела думать о нем так, как думала когда-то, в те прекрасные первые дни их соитий, их брака. Ребенок, которого она родила, умер, и у нее не было никого и ничего, к кому она могла бы обратить свою любовь. Ее детьми стали неимущие, любовь она обратила к Богу. «Что может быть счастливее такой жизни?» – порой спрашивала она себя, но ее лицо, и в особенности взгляд, оставались печальными.
«Может, когда мы состаримся… Когда оба станем совсем старыми…» – со страстной тоской думала она.
Глава 3
Владельцем средневекового замка оказался англичанин, некий мистер Бриггс, который в настоящее время пребывал в Лондоне и написал, что спальных мест в замке хватит для восьмерых, слуги не в счет, также имеются три гостиных, стены с бойницами, подземелье и электричество. Рента составляет 60 фунтов в месяц, обслуга оплачивается отдельно, и ему требуются рекомендации – он хотел бы быть уверенным, что вторая половина ренты будет выплачена, поскольку первую половину он просит авансом. Итак, ему нужны заверения в респектабельности нанимателей от адвоката, врача или священника. Он был весьма вежлив и пояснял, что его желание получить рекомендации было делом обычным, и рассматривать его следует как простую формальность.
Миссис Арбатнот и миссис Уилкинс и не предполагали, что от них потребуются рекомендации, не думали они и о том, что рента окажется такой высокой. В их умах плавали суммы вроде трех гиней [5] в неделю или даже меньше, учитывая, что замок был маленьким и старым.
Шестьдесят фунтов за один лишь месяц!
Это потрясло их.
Перед мысленным взором миссис Арбатнот возникли ботинки – бесконечные ряды ботинок, крепких ботинок, которые можно приобрести за шестьдесят фунтов, – а помимо ренты еще была оплата слуг, и деньги на еду, и на железнодорожные билеты туда и обратно. Что же до рекомендаций, то это вообще казалось непреодолимым препятствием: разве можно их получить, не раскрыв их план более, чем они намеревались?
Обе они – даже миссис Арбатнот, впервые собиравшаяся отступить от предельной честности, поскольку понимала, сколько проблем и критики вызовет небезупречное объяснение, – так вот, обе они считали удачным планом рассказать в своих окружениях, благо, те никак не пересекались, что собираются погостить у своей подруги, у которой имелся в Италии дом. И отчасти это было правдой: миссис Уилкинс уверяла, что это правда вовсе не отчасти, но миссис Арбатнот считала, что это все-таки не совсем правда – к тому же это был единственный способ, сказала миссис Уилкинс, хотя бы чуть-чуть угомонить Меллерша. Он зайдется от негодования уже из-за того, что она потратит хоть сколько-то из своих денег, чтобы доехать до Италии, а о том, что он станет говорить, если узнает, что она собралась снимать часть средневекового замка, миссис Уилкинс предпочитала не думать. Он начнет талдычить об этом дни напролет, притом что речь о ее собственных деньгах, он не вкладывал в ее сбережения ни пенни.
– Предполагаю, – сказала она, – что и ваш муж такой же. Наверное, все мужья в конечном счете одинаковы.
Миссис Арбатнот ничего на это не ответила, поскольку причина ее нежелания рассказывать правду Фредерику заключалась как раз в обратном: Фредерик будет только рад, если она уедет, и последнее, что станет делать – так это возражать; он похвалит ее за такое проявление самопотакания и светскости с изумлением, которое ее обидит; он примется уговаривать ее развлекаться и не спешить домой – с сокрушительной отчужденностью. Уж лучше, думала она, чтобы по ней скучали, как Меллерш, чем прогоняли, как Фредерик. Каким бы ни был повод для тоски, для потребности в тебе, думала она, это все равно лучше, чем полное одиночество в осознании, что по тебе не скучают и в тебе не нуждаются.
Так что она ничего не ответила и позволила миссис Уилкинс сделать собственные выводы. Но как бы там ни было, обе они весь день думали о том, что им придется отказаться от средневекового замка, и только придя к этому горестному решению, они обе поняли, до какой степени им всего этого хотелось.
А потом миссис Арбатнот, чей ум был натренирован на поиски выходов из трудных положений, придумала, как разрешить проблему с рекомендациями; одновременно миссис Уилкинс осенило, как сократить плату за проживание.
План миссис Арбатнот был прост и потому успешен. Она лично доставила все причитающиеся средства владельцу замка, изъяв их из сберегательного банка – при этом она выглядела виноватой, прятала глаза, как будто клерк мог знать, что сумма эта потребовалась ей на баловство, – и, положив шесть десятифунтовых банкнот в сумочку, отправилась с ними по указанному владельцем адресу – тот жил неподалеку от Бромптонской католической церкви, – и, продемонстрировав ему всю сумму, отказалась от права заплатить только половинный аванс. Он же, увидев ее, эти разделенные прямым пробором волосы, мягкие темные глаза, строгое платье, услышав ее серьезный голос, тут же заявил, что беспокоиться о рекомендациях не стоит.
– Я уверен, все будет в порядке, – заявил он, выписывая квитанцию на аренду. – Хотите присесть? Ужасная погода, не так ли? А старый замок, вот увидите, полон солнца. Вы едете с супругом?
Не привыкшая ко лжи миссис Арбатнот не нашлась с ответом и принялась что-то мямлить, из-за чего хозяин замка пришел к выводу, что она вдова – военная, конечно, ибо другие вдовы старше, а он, глупец, не сообразил сразу.
– О, простите, – сказал он, покраснев до корней светлых волос. – Я не имел в виду… гм… гм…
Он пробежал взглядом выписанную квитанцию.
– Да, я уверен, все в порядке, – заявил он, поднимаясь и вручая ей бумагу. – И теперь, – добавил он, принимая протянутые ему шесть банкнот и улыбаясь, поскольку смотреть на миссис Арбатнот ему было приятно, – я стал богаче, а вы счастливее. Я получил деньги, а вы – Сан-Сальваторе. Даже не знаю, кому повезло больше.
– Уверена, что знаете, – сказала миссис Арбатнот с милой улыбкой.
Он рассмеялся и открыл перед ней дверь. Какая жалость, что на этом разговор окончен. Он хотел бы пригласить ее на обед. Рядом с ней он вспоминал и мать, и няню, вспоминал обо всем, что было добрым и успокаивающим, к тому же в ней привлекало то, что она не была ни его матерью, ни нянюшкой.
– Надеюсь, вам понравится это старое место, – сказал он, в дверях на минутку взяв ее за руку. Чувствовать ее руку, пусть и сквозь перчатку – это так успокаивало; за такую руку, подумал он, детишки хотели бы держаться в темноте. – Вы знаете, в апреле там все цветет. И море! Вам следует одеваться в белое, и тогда вы просто сольетесь с этим местом. В замке есть несколько ваших портретов.
– Моих портретов?
– Портретов Мадонны. Один, на лестнице – просто ваша копия.
Миссис Арбатнот улыбнулась и, попрощавшись, поблагодарила его. Ни минуты не колеблясь, она поместила его в соответствующую категорию: художник бурного темперамента.
Она ушла, и ему стало грустно. Наверное, ему следовало все-таки спросить рекомендации – только потому, что она, должно быть, решила, что он совсем не деловой человек, но просить рекомендаций у этой серьезной милой дамы – все равно что просить их у святой в нимбе.
Роуз Арбатнот.
На столе все еще лежало ее письмо, в котором она назначала встречу.
Чудесное имя.
Итак, эта проблема была решена. Но оставалась вторая, грозящая уничтожить результат, достигнутый миссис Арбатнот, и касалась эта проблема сбережений, в особенности сбережений миссис Уилкинс, которые выглядели как корзиночка с яйцами малютки-ржанки в сравнении с корзиной утиных яиц миссис Арбатнот. Однако и эта проблема была решена откровением, посетившим миссис Уилкинс. Раз уж они получили в свое распоряжение Сан-Сальваторе – это прекрасное, истинно христианское название их просто зачаровало, – тогда они в свою очередь могут опубликовать в «Таймс» объявление, приглашающее еще двух дам со схожими устремлениями присоединиться к ним и разделить расходы.
Таким образом урон, нанесенный сбережениям, сократится с половины суммы до четверти. Миссис Уилкинс была готова спустить на приключение все принадлежащие ей девяносто фунтов, но понимала, что, если ей придется попросить у Меллерша еще хотя бы полшиллинга, последствия будут ужасными. Только представить, как она приходит к Меллершу и говорит: «Я задолжала»… Если бы обстоятельства заставили ее однажды объявить ему: «У меня нет никаких сбережений», это уже само по себе обернулось бы полным кошмаром, но в таком случае ее хотя бы поддержала бы мысль о том, что сбережения были ее собственными. Поэтому, хотя она была готова спустить на эту авантюру все до последнего пенни, но притом ни фартинга, который не принадлежал бы исключительно ей самой, и, если ее доля в оплате аренды сократится до пятнадцати фунтов, ей хватит на другие расходы. А еще они могут сэкономить на еде – например, есть оливки, самостоятельно собранные с деревьев, или, может, ловить рыбу…
А вообще, как они друг друга заверили, они могут еще значительнее сократить плату за жилье, пригласив не двух, как они намеревались, а шестерых дам, ведь в замке, как было сказано, восемь спальных мест. Но что, если эти восемь мест распределены попарно по четырем спальням? Нет, они были совершенно не готовы делить спальни с абсолютно незнакомыми людьми. И вообще, когда в одном месте собирается столько народа, вряд ли обстановка окажется такой уж спокойной и мирной. Если уж на то пошло, они едут в Сан-Сальваторе ради покоя, отдыха и хорошего настроения, а еще шесть дам, особенно набившихся в одну спальню, вряд ли поспособствуют этому.
К тому же в Англии в тот момент нашлись лишь две дамы, которые выразили желание к ним присоединиться, поскольку поступило лишь два отклика на объявление.
– Что ж, а нам только две и нужны, – сказала миссис Уилкинс, быстро оправившаяся от разочарования: ей представлялся больший ажиотаж.
– Думаю, было б лучше, если бы у нас имелся выбор, – ответила миссис Арбатнот.
– Вы считаете, что тогда мы могли бы обойтись без леди Каролины Дестер?
– Этого я не говорила, – слабо запротестовала миссис Арбатнот.
– Мы могли бы обойтись и без нее, – заметила миссис Уилкинс. – Чтобы сократить плату за жилье, нам достаточно и одного человека, совершенно необязательно приглашать двух.
– А почему бы нам все-таки ее не взять? Вполне возможно, она как раз та, кто нам нужен.
– Да… Если судить по письму, – с сомнением произнесла миссис Уилкинс.
Она полагала, что будет ужасно стесняться леди Каролины. В это трудно поверить, но, хоть миссис Уилкинс и бывала на вечеринках художников, она никогда не пересекалась ни с кем из аристократов.
Они переговорили с леди Каролиной, а затем со второй претенденткой, некоей миссис Фишер.
Леди Каролина посетила клуб на Шафтсберри-авеню. Оказывается, она тоже терзалась сильнейшим стремлением – стремлением сбежать ото всех, кого когда-либо знала. Когда она увидела клуб, и миссис Арбатнот, и миссис Уилкинс, то сразу же поняла: это именно то, что ей нужно. Она отправится в Италию – в край, который обожала; жить будет не в отеле – отели она терпеть не могла; не будет гостить у друзей – людей, которых не любила; она будет пребывать в компании незнакомок, которые в разговорах не станут упоминать ни одного человека из тех, кого она знала, – по той простой причине, что они их не встречали, не могли встречать и никогда не встретят. Она задала несколько вопросов о четвертой женщине и осталась полностью удовлетворена ответами. Миссис Фишер, проживает на Принс-оф-Уэйлс-террас. Вдова. Следовательно, она тоже не могла знать никого из ее окружения. Леди Каролина не знала даже, где эта Принс-оф-Уэйлс-террас находится.
– Это в Лондоне, – пояснила миссис Арбатнот.
– Неужели? – сказала леди Каролина.
Все это весьма успокаивало.
Миссис Фишер прийти в клуб не могла: в письме она объяснила, что с трудом передвигается с тростью, так что миссис Арбатнот и миссис Уилкинс отправились к ней сами.
– Но если она не может прийти в клуб, то как она поедет в Италию? – размышляла вслух миссис Уилкинс.
– Мы услышим об этом из ее собственных уст, – сказала миссис Арбатнот.
Из собственных уст миссис Фишер они в ответ на деликатные расспросы услышали, что сидеть в поезде – совсем не то же, что ходить пешком; им обеим это и так было хорошо известно. За исключением трости миссис Фишер показалась самой подходящей четвертой компаньонкой: спокойная, образованная, немолодая. Намного старше, чем они сами и леди Каролина – последняя сообщила, что ей двадцать восемь лет, – но не настолько старая, чтобы утратить живость ума. Она была весьма респектабельна и несмотря на то, что овдовела, по ее словам, одиннадцать лет назад, по-прежнему носила исключительно черное. Дом ее был полон подписанных фотографий известных деятелей викторианской эпохи, которых, как она сообщила, она знала еще девочкой. Ее отец был прославленным критиком, и в его доме она видела практически всех, кто что-либо значил в литературе и искусстве. Ей строил сердитые мины Карлайл, Мэтью Арнольд сажал ее на колени, а Теннисон звучно хохотал над ее косичками. Она с удовольствием рассказывала о них, указывая тростью на развешанные по стенам фотографии, при этом ни словом не обмолвившись о покойном муже, но и не расспрашивала о мужьях посетительниц, что было для них большим облегчением. Вероятно, она полагала, что они тоже вдовы, потому что, когда она поинтересовалась, кто будет четвертой их компаньонкой, и получила ответ о леди Каролине Дестер, то спросила: «Она тоже вдова?» А в ответ на их объяснение, что она не вдова, потому что еще не была замужем, как-то отстраненно, но любезно заметила: «Всему свое время».
Сама эта отстраненность миссис Фишер – казалось, ее интересуют в основном те замечательные люди, которых она когда-то знавала, и их фотографии, и большую часть визита заняли интересные истории о Карлайле, Мередите, Мэтью Арнольде, Теннисоне и многих других, – так вот, ее отстраненность была ей лучшей рекомендацией. Она сказала, что для нее лучше всего было бы, если б ей позволили тихонечко сидеть на солнышке и предаваться воспоминаниям. Большего от своих компаньонок миссис Арбатнот и миссис Уилкинс и пожелать не могли. Это же замечательнейший вариант компаньонки по отдыху: сидит себе тихонечко на солнышке, погруженная в воспоминания, и оживает только в субботу вечером, когда приходит час внести свою долю платы за проживание. А еще миссис Фишер, по ее словам, очень любила цветы, и однажды, когда они с отцом проводили уикенд в Бокс-хилле…
– А кто жил в Бокс-хилле? – прервала ее миссис Уилкинс, которая жадно впитывала все, что говорила миссис Фишер, невероятно взволнованная встречей с той, кто на самом деле была знакома со всеми по-настоящему и несомненно великими – на самом деле видела их, слушала их, касалась их.
Миссис Фишер в некотором удивлении глянула на нее поверх очков. Миссис Уилкинс, до глубины души восхищенная воспоминаниями миссис Фишер и боявшаяся, что миссис Арбатнот вот-вот начнет прощаться, уже не раз прерывала миссис Фишер вопросами, что казалось той признаком невежества.
– Мередит, конечно же, – довольно резко ответила миссис Фишер и продолжала: – Я особенно запомнила один уикенд. Отец часто брал меня с собой, но этот уикенд я помню особенно отчетливо…
– А Китса вы знали? – снова прервала ее полная энтузиазма миссис Уилкинс.
Миссис Фишер помолчала, а потом, стараясь, чтобы в голосе все-таки не прозвучали язвительные нотки, ответила, что не была знакома ни с Китсом, ни с Шекспиром.
– Ну да, Боже, как глупо с моей стороны! – вскричала ставшая совершенно пунцовой миссис Уилкинс. – Это потому… Потому что бессмертные кажутся все еще живыми, да? Как будто они все еще здесь, вот прямо сейчас зайдут в комнату… И поэтому забываешь, что они уже умерли. На самом деле они и не умерли – точно так же не умерли, как вот мы с вами сейчас… – заверила она миссис Фишер, которая молча наблюдала за ней поверх очков.
– Мне кажется, я на днях видела Китса, – побуждаемая этим взглядом, торопливо продолжила миссис Уилкинс. – В Хампстеде, он переходил дорогу возле дома… Ну знаете, возле дома, где он жил…
Тут миссис Арбатнот сказала, что им пора.
Миссис Фишер никак этому не воспротивилась.
– Мне кажется, я действительно его видела, – запротестовала миссис Уилкинс, поворачиваясь для убедительности то к одной, то к другой, пока ее лицо то краснело, то бледнело. Из-за этого взгляда миссис Фишер поверх очков она была не в силах остановиться. – Ну да, я уверена… Он был одет в…
Теперь на нее смотрела и миссис Арбатнот. Исполненным доброты голосом она сказала, что им пора, не то они опоздают на ланч.
Именно в этот момент миссис Фишер подумала о рекомендациях. Она не собиралась целых четыре недели проторчать рядом с той, у кого бывают видения. Конечно, в Сан-Сальваторе три гостиных, не считая сада и стен с бойницами, так что возможность избежать общения с миссис Уилкинс имеется, но миссис Фишер, все равно было бы неприятно, если бы миссис Уилкинс внезапно заявила, к примеру, что ей привиделся мистер Фишер. Мистер Фишер отошел в мир иной, пусть там и остается. Ей совершенно не хотелось услышать, что он прогуливается в саду. Она достаточно стара, уже давно и прочно заняла свое место в этом мире, чтобы вдруг заводить какие-то сомнительные знакомства, поэтому единственная рекомендация, в которой она была заинтересована, касалась состояния здоровья миссис Уилкинс. В норме ли оно? Действительно ли она обыкновенная разумная женщина? Миссис Фишер считала, что, если бы ей назвали хотя бы одно имя, она бы нашла способ выяснить все, что требуется. Так что она осведомилась о рекомендациях, и ее посетительницы были до такой степени поражены – а миссис Уилкинс мгновенно отрезвела – что миссис Фишер добавила:
– Обычная формальность.
Миссис Уилкинс первой вновь обрела дар речи:
– Но разве это не нам следует спросить вас о рекомендациях?
Такой подход показался справедливым и миссис Арбатнот. Ведь это они предлагали миссис Фишер к ним присоединиться, а не миссис Фишер предлагала им присоединиться к ней, разве не так?
В ответ на это миссис Фишер, опираясь на трость, подошла к письменному столу, твердой рукой написала три имени и передала лист миссис Уилкинс – имена были такими респектабельными, более того, такими влиятельными и даже досточтимыми, что даже прочитать их было достаточно. Президент Королевской академии, архиепископ Кентерберийский и управляющий Банка Англии – ну кто осмелится побеспокоить подобных джентльменов, прервать их раздумья, чтобы уточнить, правда ли их знакомая является той, кем является?
– Они знают меня с детства, – сказала миссис Фишер; похоже, любой знал миссис Фишер либо ребенком, либо с самого детства.
– На мой взгляд, просьба о рекомендациях представляется излишней в нашем обществе – обществе обыкновенных порядочных женщин, – выпалила миссис Уилкинс, которая, почувствовав, что ее загнали в угол, вдруг обрела смелость: она прекрасно знала, что единственная рекомендация, которую она могла, не накликав на свою голову неприятностей, предоставить, была бы из магазина «Шулбредс», да и то ее вряд ли можно считать исчерпывающей, поскольку основывалась бы она на количестве и качестве приобретаемой для Меллерша рыбы. – Мы не из деловых кругов. Нам нет нужды не доверять друг другу…
А миссис Арбатнот, с достоинством, притом ласково, добавила:
– Боюсь, рекомендации вносят в атмосферу наших планов на отдых нечто не вполне желательное, и я не думаю, что мы обратимся за рекомендациями на ваш счет или предоставим вам наши. Полагаю, вы не пожелаете к нам присоединиться.
И она протянула на прощание руку.
Миссис Фишер, глядя на миссис Арбатнот, которая вызывала доверие и симпатию даже у контролеров метро, поняла, что будет крайне глупо с ее стороны потерять возможность съездить в Италию на предложенных условиях, и что они вместе с этой дамой с безмятежным челом смогут обуздать ту, вторую, если на нее найдет. Так что, принимая предложенную миссис Арбатнот руку, она сказала:
– Очень хорошо. Я воздержусь от требования рекомендаций.
Она воздержится!
Идя к станции «Хай-стрит Кенсингтон», обе думали об одном: с ними обошлись весьма высокомерно. Даже миссис Арбатнот, привыкшая находить извинения всяческим оговоркам и неудачным фразам, думала, что миссис Фишер могла бы подобрать другие слова, а миссис Уилкинс, к тому моменту, как они добрались до станции, уже весьма разгоряченная ходьбой и лавированием между чужими зонтиками на запруженных тротуарах, предложила воздержаться от миссис Фишер.
– Если кому-то и следует воздержаться, так это нам, – горячо произнесла она.
Но миссис Арбатнот, как обычно, успокоила миссис Уилкинс, и та, поостыв в поезде, заявила, что в Сан-Сальваторе миссис Фишер займет место ей подобающее. «Я вижу, что она обретет там свое место», – сказала миссис Уилкинс, и глаза ее заблестели.
А миссис Арбатнот, сидевшая рядом со скромно сложенными на коленях руками, всю дорогу думала о том, каким образом помочь миссис Уилкинс видеть поменьше или по крайней мере помалкивать об увиденном.
Глава 4
Миссис Арбатнот и миссис Уилкинс, путешествующие вместе, должны были прибыть в Сан-Сальваторе вечером 31 марта – владелец, объясняя им, как добраться, благосклонно отнесся к их намерению оказаться в замке до 1 апреля – а леди Каролина и миссис Фишер, все еще не представленные друг другу и потому совершенно не обязанные надоедать друг другу в пути, разве что в самом конце, когда отсеются другие попутчики и они поймут, кто есть кто, должны были появиться утром 2 апреля. Таким образом миссис Арбатнот и миссис Уилкинс успеют подготовиться к встрече двух дам, которые, несмотря на равные доли в оплате аренды, все же почему-то воспринимались как гостьи.
До конца марта произошло несколько неприятных инцидентов. Миссис Уилкинс, с отчаянно бьющимся сердцем и лицом, на котором читались вина, ужас и решимость, сообщила мужу, что ее пригласили в Италию, во что он отказался поверить. Само собой, отказался. Раньше ведь никто не приглашал его жену в Италию. Беспрецедентно! Он потребовал доказательств. Единственным доказательством была миссис Арбатнот, каковую миссис Уилкинс и предъявила – после долгих уговоров и страстной мольбы. Миссис Арбатнот и не представляла, что ей придется встречаться с мистером Уилкинсом и говорить нечто не совсем похожее на правду. После чего она окончательно призналась себе в том, о чем подозревала уже некоторое время – что она все дальше и дальше отклоняется от Господа.
И вообще весь март был полон тревожных и неприятных моментов. Непростой оказался месяц. Совесть миссис Арбатнот, ставшая сверхчувствительной из-за многолетнего заботливого ухода, не могла смириться с тем, что миссис Арбатнот творила с ее, совести, высокими стандартами благочестивости. Совесть не давала миссис Арбатнот ни минуты покоя. Совесть терзала ее во время молитв. Совесть вмешивалась в ее просьбы о божественном указании пути с неуместными вопросами типа «Разве ты не лицемерка? Неужели ты действительно имеешь это в виду? И, если уж совсем честно, то не будешь ли ты разочарована, если эта мольба будет услышана?»
Затянувшаяся сырая, промозглая погода тоже приняла сторону совести, ибо бедняки болели больше обычного. То у них бронхит, то лихорадка, и конца-края этим неприятностям было не видать. А она при этом намеревается уехать, потратив драгоценные средства, и потратив исключительно на то, чтобы почувствовать себя счастливой! Одна женщина. Одна женщина со своим счастьем, а тут огромное множество этих несчастных…
Она не могла смотреть викарию в глаза. Он не знал – да и никто не знал, – что она собиралась сделать, и она с самого начала не смела смотреть в глаза вообще никому. Она отказывалась выступать с речами, призывавшими к финансовым пожертвованиям. Как могла она просить у людей денежной помощи, если сама тратила так много на собственное эгоистичное удовольствие? Нисколько не помог ей и никак не успокоил тот факт, что, когда она в конце концов попросила Фредерика – в возмещение нанесенных эгоизмом убытков – ссудить ей некоторую сумму, он мгновенно выдал ей чек на сто фунтов. Без единого вопроса. Она мучительно покраснела. Он глянул на нее, а потом отвел глаза. Фредерик был рад, что она взяла деньги. А она сразу же передала их своей благотворительной организации, после чего сомнения набросились на нее с большей силой, чем прежде.
У миссис Уилкинс, напротив, сомнений не было никаких. Она была совершенно уверена в том, что отправиться на отдых – это хорошо и правильно, так же как хорошо и правильно будет потратить свои с таким трудом собранные средства на то, чтобы побыть счастливой.
– Вы только подумайте, насколько лучше мы станем по возвращении, – говорила она миссис Арбатнот, стремясь подбодрить эту вечно печальную особу.
Сомнений у миссис Уилкинс не было, но были у нее страхи, и они терзали ее весь март, пока в тишине и покое неведения мистер Уилкинс наслаждался за ужином своей рыбой.
И все пошло наперекосяк. Просто поразительно, до какой степени нелепо все сложилось. Миссис Уилкинс весь месяц подавала Меллешу только ту еду, которую он любил, она закупала и готовила ее со рвением необычайным, и преуспела: Меллерш был удовлетворен, определенно удовлетворен, до такой степени удовлетворен, что даже начал было подумывать: может быть, он все-таки женился правильно – вопреки уже привычному подозрению, что женился неправильно. Результатом стало то, что в третье воскресенье месяца – а миссис Уилкинс решила, что в четвертое воскресенье, поскольку в этом марте воскресений было пять, и как раз на пятое и был намечен их с миссис Арбатнот отъезд, поэтому в четвертое воскресенье она скажет Меллершу о полученном приглашении, – так вот, в третье воскресенье, после особенно хорошо приготовленного ужина (йоркширский пудинг так и таял во рту, а абрикосовый тарт был настолько изумителен, что он съел его целиком), Меллерш, покуривая у ярко пылающего камина сигару, в то время как в окно хлестал дождь с градом, произнес:
– Я вот подумываю о том, чтобы на Пасху свозить тебя в Италию.
И умолк в ожидании ее изумления и непомерного восторга.
Но ничего подобного не последовало. В комнате царила полная тишина, за исключением стука града в окно и веселого рева огня в камине. Миссис Уилкинс молчала. Она утратила дар речи. Она намеревалась сообщить ему свою новость в следующее воскресенье и пока не подготовила соответствующих слов.
После войны мистер Уилкинс еще ни разу не бывал за границей, и, отмечая с растущим негодованием, что недели дождя и ветра сменялись неделями дождя и ветра, то есть погода демонстрировала поразительно отвратительное постоянство, постепенно приходил к мысли, что неплохо было бы на Пасху уехать из Англии. Дела у него шли очень хорошо. Он мог позволить себе путешествие. Швейцария в апреле никому не нужна. А вот Пасха в Италии звучала привлекательно. В Италию он и отправится, но, если он не возьмет с собой жену, это вызовет нежелательные пересуды, значит, ему придется ее взять – кроме того, она может оказаться полезной; второй человек всегда полезен в стране, языка которой не знаешь, – вещи подержать, дождаться багажа.
Он ждал взрыва благодарности и волнения. Отсутствие оных было невероятным. Он пришел к выводу, что она, должно быть, не расслышала. Наверное, погрузилась в свои дурацкие мечтания. Какая досада, что она оставалась такой незрелой!
Он повернулся – оба их кресла стояли перед камином – и посмотрел на нее. Она, не отрываясь, смотрела в огонь, и наверняка это из-за жара лицо ее так раскраснелось.
– Я намереваюсь, – возвысив свой четкий, благовоспитанный голос, повторил он с некоей язвительностью, поскольку невнимательность в такой момент была непростительна, – отвезти тебя на Пасху в Италию. Ты меня не слышала?
Она его слышала, просто она размышляла над невероятным совпадением… Действительно невероятным… Она как раз собиралась сказать ему, что… Что одна подруга пригласила ее на Пасху… Тоже на Пасху, Пасха ведь в апреле, да? Подруга пригласила ее… У нее там дом…
Миссис Уилкинс, движимая ужасом, виной и удивлением, выражалась еще более сбивчиво, чем обычно.
Вечер был кошмарным. Меллерш, кипя от негодования, что задуманное им благодеяние бумерангом вернулось к нему же, спрашивал и переспрашивал ее с максимальным пристрастием. Он требовал, чтобы она отказалась от приглашения. Он настаивал на том, чтобы она, так необдуманно приняв предложение, даже не посоветовавшись с ним, немедленно написала и отклонила приглашение. Натолкнувшись на ее неожиданное, шокирующее упрямство, он отказался верить, что ее пригласили в Италию вообще. Он отказался верить в существование какой-то миссис Арбатнот, о которой он до этого момента вообще ничего не слышал, и только когда это милейшее создание было ему предъявлено – с колоссальными трудностями, ибо миссис Арбатнот скорее бросила бы всю затею, чем солгала мистеру Уилкинсу, – и миссис Арбатнот сама подтвердила слова его жены, он согласился поверить. Не мог он не поверить миссис Арбатнот. Она произвела на него в точности то же впечатление, что и на контролеров в метро. Так что ей не нужно было говорить почти ничего. Но сей факт никоим образом не успокоил ее совесть, которая не позволяла ей забыть: всей правды она не сказала. «И ты считаешь, что между неполной правдой и полной ложью есть какая-то разница? – вопрошала совесть. – А Господь такой разницы не видит».
Оставшиеся от марта дни прошли словно в дурном сне. И миссис Арбатнот, и миссис Уилкинс пребывали в полном смятении. Как только они пытались от этого смятения отрешиться, на них наваливалось колоссальное чувство вины, и когда утром 30 марта они наконец тронулись в путь, они не испытывали никакого радостного возбуждения, никакого предвкушения отпуска.
– Мы всегда были правильными, слишком правильными, – бормотала миссис Уилкинс, вышагивая по платформе вокзала Виктория: они прибыли за час до отправления поезда. – Вот почему нам кажется, что мы поступаем неправильно. Мы же запуганы, мы вообще больше на людей не похожи. Настоящие человеческие существа и вполовину не такие правильные, как мы с вами. О! – и она заломила худые руки. – Только подумайте, мы же должны быть сейчас счастливы, здесь, на станции, отправляясь в путь, а мы несчастны, этот момент испорчен для нас, потому что мы сами его испортили! Что такого мы сделали, что мы такого сделали, хотела б я знать! – с негодованием осведомилась она у миссис Арбатнот. – Только и всего, что однажды захотели уехать и хоть немного отдохнуть от них!
Миссис Арбатнот, терпеливо шагавшая рядом, не спросила, кого ее подруга имела в виду под «ними», потому что знала и так. Миссис Уилкинс имела в виду их мужей, устойчивая в своем убеждении, что Фредерик, подобно Меллершу, также негодовал по поводу отъезда жены, в то время как Фредерик даже и не знал, что его жена уехала.
Миссис Арбатнот, никогда не рассказывавшая о муже, ничего не сказала миссис Уилкинс и на этот раз. Фредерик слишком глубоко проник в ее сердце, чтобы о нем можно было говорить. Он практически не бывал дома в последние несколько недель, потому что как раз заканчивал очередную из своих ужасных книг, отсутствовал он и в день ее отъезда. И какой смысл был заранее ставить его в известность? Она с горечью говорила себе, что ему совершенно все равно, чем она занимается, поэтому она просто написала ему записку и оставила на столике в передней – прочтет, если и когда вернется домой. Она писала, что отправляется на отдых на месяц, что она давно не отдыхала и это ей совершенно необходимо, и что она отдала Глэдис, их надежной горничной, распоряжение позаботиться о его удобствах. Она не написала, куда именно едет – а зачем? Ему ведь это совершенно не интересно, ему все равно.
День был отвратительный, ветреный и сырой, на переезде было мерзко, и они чувствовали себя очень плохо. Но когда они прибыли в Кале, и дурнота отступила, на них впервые нахлынуло ощущение великолепия, роскоши того, что они задумали, и это ощущение согрело их души. Первой поддалась ему миссис Уилкинс, а затем оно окрасило розовым пламенем и бледные щеки ее компаньонки. Здесь, в Кале, Меллерш – а они восстановили силы камбалой, потому что на том настояла миссис Уилкинс: разок отведать камбалы, которая не достанется Меллершу, – здесь, в Кале, Меллерш как бы истончился и стал казаться менее внушительным. Никто из французских носильщиков их не знал, ни одному из таможенников в Кале Меллерш не был интересен ни капельки. В Париже у нее не было времени о нем думать, потому что их поезд опоздал, и они едва успели добраться до Лионского вокзала, с которого отходил поезд до Турина, и к вечеру следующего дня они уже были в Италии. Англия, Фредерик, Меллерш, викарий, бедняки, Хампстед, клуб, «Шулбредс» – все и все, вся опостылевшая обыденность растаяла в мечтательном тумане.
Глава 5
В Италии, как ни странно, было облачно. Они-то ожидали яркого солнышка. Но тем не менее это была Италия, и сами облака выглядели как пух. Ни та, ни другая здесь раньше не бывали. Обе глазели из окон с восторженными лицами. Часы таяли вместе с дневным светом, они были взволнованы: вот уже ближе, вот уже совсем близко, вот они здесь! В Генуе начало накрапывать – Генуя! В это невозможно поверить: они в Генуе, вот и надпись на здании вокзала, совсем как на каком-нибудь обычном вокзале, обычное название станции… В Нерви уже шел сильный дождь, а в Медзаго, куда они прибыли к полуночи, потому что и этот поезд опаздывал, лило как из ведра. Но это была Италия. Ничего плохого здесь не могло случиться. Даже дождь был другой – прямой, честный, падающий точно на зонтик, а не этот злобный английский дождь с ветром, пробирающийся повсюду. И он заканчивался, и тогда земля расцветала розами.
Мистер Биггс, владелец Сан-Сальваторе, сказал: «Поездом до Медзаго, а потом в экипаже». Но забыл – хотя и сам с этим сталкивался – что поезда в Италии иногда опаздывают. Он-то предполагал, что его постоялицы прибудут по расписанию, в восемь вечера, и возле станции еще будет полно пролеток.
Поезд опоздал на четыре часа, и когда миссис Арбатнот и миссис Уилкинс по крутым выдвижным ступеням спустились из своего вагона в черную слякоть, подолы у них тут же промокли из-за того, что руки были заняты чемоданами, и, если бы не бдительность Доменико, садовника из Сан-Сальваторе, довезти их было бы некому. Обычные наемные пролетки давно разъехались. Доменико же, предвидя это, выслал за ними пролетку своей тетушки, правил которой ее сын, то есть его кузен, а тетушка с пролеткой обретались в Кастаньето, деревне у подножия Сан-Сальваторе, и потому, во сколько бы поезд ни прибыл, пролетка не посмела бы вернуться домой без тех, за кем ее отправили.
Кузена Доменико звали Беппо, и он возник пред ними из темноты как раз тогда, когда растерянные миссис Арбатнот и миссис Уилкинс размышляли над тем, что им делать дальше, потому что поезд ушел, носильщиков не наблюдалось, и им казалось, что они очутились не на вокзальной платформе, а посередине бескрайнего небытия.
Беппо, который как раз их искал, вынырнул из тьмы, бурно лопоча что-то по-итальянски. Беппо был очень приличным молодым человеком, хотя на вид таковым не казался, особенно в темноте и особенно в шляпе, поля которой закрывали ему один глаз. Им не понравилось, как он схватил их чемоданы. Едва ли это был носильщик. Однако, уловив в потоке слов «Сан-Сальваторе», и после того, как они с расстановкой и не раз повторили и «Сан», и «Сальваторе», поскольку это были единственные известные им итальянские слова, они поспешили за ним, не сводя глаз со своих чемоданов, спотыкаясь о рельсы, наступая в лужи, пока не вышли к дороге, где их ждала небольшая высокая пролетка.
Верх у пролетки был поднят, конь пребывал в задумчивости. Они залезли внутрь, и в ту же секунду – вообще-то миссис Уилкинс едва успела вскарабкаться – конь стремительно стартовал и понесся домой, без Беппо и без чемоданов.
Беппо помчался за пролеткой, оглашая ночь воплями, и успел схватить болтавшиеся поводья как раз вовремя. Он гордо объявил, что его конь всегда так себя ведет, поскольку является животным полнокровным и откормленным отборным зерном, а Беппо ухаживает за ним, как за своим сынком, но дамы, наверное, испугались – вон как прижались друг к другу. Однако сколько бы громко и много он ни говорил, они только ошарашенно на него смотрели.
Он все говорил и говорил, пристраивая рядом с ними чемоданы, уверенный, что рано или поздно они его поймут, особенно если он будет говорить погромче и сопровождать сказанное простейшими жестами, но они все так же молча на него таращились. У обеих, как он с сочувствием заметил, были бледные утомленные лица и большие усталые глаза. Красивые дамы, подумал он, и глаза, глядевшие на него поверх чемоданов – сундуков у них не было, одни только чемоданы – были все равно что глаза Божьей Матери. Единственное, что вновь и вновь произносили дамы в попытках привлечь его внимание, даже когда он уже вскарабкался на козлы и поехал, был вопрос: «Сан-Сальваторе?»
И каждый раз он убедительно отвечал: «Si, si, Сан-Сальваторе!»
– Откуда нам знать, что он везет нас именно туда? – тихо спросила миссис Арбатнот. Они ехали, как им казалось, уже довольно долго, прогрохотали по выложенным булыжником улицам спящего городка и выехали на серпантин, по левой стороне которого, как они могли различить во тьме, был низкий парапет, а за ним – бескрайняя черная пустота и шум моря. Справа вплотную к дороге подступало что-то темное и высокое – скалы, как они прошептали друг другу, огромные скалы.
Им было очень не по себе. Было так поздно. И так темно.
И дорога была такой пустынной. А вдруг колесо отлетит? Или им встретятся фашисты или те, кто против фашистов… Они горько жалели, что не заночевали в Генуе и не тронулись в путь утром, по свету.
– Но тогда это уже было бы первое апреля, – вполголоса произнесла миссис Уилкинс.
– И так уже первое апреля, – шепотом ответила миссис Арбатнот.
– Да, верно, – пробормотала миссис Уилкинс.
И они умолкли.
Беппо повернулся на козлах – они уже заметили эту его внушающую беспокойство привычку, поскольку за конем следовало присматривать внимательно, – и снова обратился к ним с речью, казавшуюся ему образцом ясности: он же даже местных словечек не употреблял и все сопровождал выразительной жестикуляцией.
Как жаль, что матери не заставили их в детстве изучать итальянский! Если б они только могли сказать: «Будьте добры, сядьте прямо и следите за лошадью!» Они даже не знали, как будет «лошадь» по-итальянски. Позорно быть такими невежественными!
Дорога вилась вдоль огромных скал, слева, между ними и морем, не было ничего, кроме невысокой ограды, и они, боясь, как бы чего не случилось, тоже принялись махать руками на Беппо, указывая вперед. Они всего-то хотели, чтобы он снова повернулся лицом к лошади, а он решил, что они просят его ехать быстрее, и последующие – чудовищные – десять минут он с удовольствием выполнял их указание. Он гордился своим конем, весьма прытким. Он привстал на козлах, взмахнул кнутом, конь рванул вперед. Мимо летели скалы, маленькую пролетку швыряло из стороны в сторону, чемоданы завалились, миссис Арбатнот и миссис Уилкинс вцепились друг в друга. Этот шум, грохот, раскачивание, подпрыгивание и тесные объятия продолжались до того места у въезда в Кастаньето, где дорога начала подниматься в гору, и, достигнув которого, конь, знавший каждый дюйм этого пути, вдруг остановился, из-за чего все в пролетке полетело вперед, а затем перешел на самый медленный ход.
Беппо, хохоча от гордости за своего коня, снова повернулся, чтобы насладиться их восторгом.
Но не дождался от прекрасных дам ответного смеха. Уставившиеся на него глаза казались даже больше прежнего, а лица в ночном мраке были молочно-белыми.
Но здесь, на склоне, по крайней мере, были дома. Не скалы, а дома, не парапет, а дома, и море куда-то исчезло, и звук его смолк, и дорога уже не была пустынной. Нигде, конечно, не было ни огонька, и никто не видел, как они едут, и все же Беппо, когда начались дома, крикнул дамам через плечо: «Кастаньето!», привстал, щелкнул кнутом и снова послал своего коня вперед.
«Мы скоро приедем», – подумала, взяв себя в руки, миссис Арбатнот.
«Мы скоро остановимся», – подумала, взяв себя в руки, миссис Уилкинс. Друг другу они не сказали ничего, потому что вряд ли что-либо можно было расслышать в свисте кнута, грохоте колес и воплях Беппо, подгонявшего коня.
Тщетно они напрягали взоры в надежде увидеть Сан-Сальваторе.
Они предполагали, что, когда деревня закончится, перед ними возникнут средневековые врата, через которые они въедут в сад. Перед ними гостеприимно распахнутся двери, из них хлынет поток света, в котором будут стоять – в соответствии с объявлением – слуги.
Пролетка вдруг остановилась.
Они смогли разглядеть только деревенскую улицу с маленькими темными домиками по обе стороны. Беппо бросил вожжи с видом человека, который точно никуда дальше не поедет, и слез с козел. В тот же миг словно из ниоткуда возник мужчина в сопровождении нескольких мальчишек, они окружили пролетку и принялись вытаскивать чемоданы.
– Нет, нет, Сан-Сальваторе, Сан-Сальваторе! – вскричала миссис Уилкинс, пытаясь удержать хоть один чемодан.
– Si, si, Сан-Сальваторе! – вопили они все разом и тянули чемодан на себя.
– Это не может быть Сан-Сальваторе, – сказала миссис Уилкинс, повернувшись к миссис Арбатнот, которая сидела, совершенно спокойно наблюдая, как исчезают ее чемоданы, с тем терпением на лице, которое она приберегала для меньших из зол. Она понимала, что, если эти испорченные люди решили присвоить ее чемоданы, ничего с этим она поделать не сможет.
– Полагаю, что нет, – признала она и не смогла удержаться от мысли о промыслах Божьих. Если уж они с бедной миссис Уилкинс все-таки добрались сюда, после всех проблем, трудов и забот, через дьявольские тропы экивоков и уловок, только чтобы…
Она заставила себя не думать об этом и мягко сказала миссис Уилкинс – пока тем временем юные оборванцы исчезли в ночи с их чемоданами, а человек с фонарем помогал Беппо откинуть полог – что обе они в руцех Божьих, и миссис Уилкинс, хоть и не впервые слышавшая эти слова, впервые их испугалась.
Им ничего не оставалось, кроме как выйти из пролетки. Никакого смысл сидеть в ней и твердить «Сан-Сальваторе» не было. Тем более что с каждым повторением голоса их слабели, а отзывавшиеся эхом голоса Беппо и второго мужчины оставались все такими же звучными. Ну что им стоило в детстве выучить итальянский! Тогда б они могли сказать: «Нам бы хотелось, чтобы вы подвезли нас к самим дверям». Но они даже не знали, как по-итальянски «двери». Такое невежество было не только постыдным – теперь они понимали, что оно еще и опасно. Однако из-за этого переживать сейчас бесполезно. Бесполезно просто оставаться в пролетке и пытаться отсрочить то, чему суждено случиться, что бы там ни было. Поэтому они вышли.
Беппо и второй раскрыли свои зонтики и вручили им. Это их слегка взбодрило, потому что вряд ли злодеи побеспокоились бы о зонтиках. Человек с фонарем, что-то быстро и громко говоря, знаками показал следовать за ним, а Беппо, как они заметили, остался на месте. Должны ли они ему заплатить? Вряд ли, если их намерены ограбить и, возможно, убить. Совершенно определенно, в таких случаях платить не следует. К тому же он привез их вовсе не в Сан-Сальваторе. Очевидно, что он привез их в какое-то другое место. К тому же он не проявлял никаких намерений получить плату – отправил их во тьму без единого протеста. А это, не могли они не думать, плохой знак. Он не попросил платы за проезд, потому что рассчитывает получить куда больше.
Они подошли к какой-то лестнице. Дорога обрывалась возле церкви и ведущих вниз ступеней. Человек держал фонарь низко, чтобы осветить им путь.
– Сан-Сальваторе? – перед тем, как решиться ступить на лестницу, снова еле слышно спросила миссис Уилкинс. Это, конечно, было бесполезно, но она не могла спускаться в полной тишине. Она была уверена, что средневековые замки никогда не строились у подножия лестниц.
И снова раздался бодрый вопль:
– Si, si, Сан-Сальваторе!
Они спускались осторожно, поддерживая юбки, как если бы они им еще пригодились. Вполне вероятно, что для них с юбками вообще все кончено.
Лестница заканчивалась дорожкой, круто спускавшейся вниз и выложенной плоскими плитами. Они не раз поскальзывались на мокрых камнях, и человек с фонарем, быстро и громко что-то говоря, их подхватывал. Подхватывал вежливо.
– Возможно, – тихо сказала миссис Уилкинс, – все будет в порядке.
– Мы в руцех Божьих, – снова произнесла миссис Арбатнот, и миссис Уилкинс снова испугалась.
Они достигли конца тропы, и свет фонаря выхватил открытое пространство, с трех сторон окруженное домами. С четвертой стороны было море, лениво набегавшее на гальку.
– Сан-Сальваторе, – сказал человек, указывая фонарем на темную массу, словно обнимавшую воду.
Они напрягли зрение, но разглядели только эту темную массу и огонек где-то наверху.
– Сан-Сальваторе? – недоверчиво переспросили они, потому что не понимали, ни где их чемоданы, ни почему их заставили выйти из пролетки.
– Si, si, Сан-Сальваторе.
Они продолжили путь по тому, что показалось им причалом, прямо по кромке воды. Здесь не было даже низкого ограждения – ничего, что помешало бы человеку с фонарем, пожелай он, столкнуть их в воду. Однако он этого не сделал. Миссис Уилкинс снова предположила, что все в порядке, а миссис Арбатнот на этот раз и сама подумала, что, может, так оно и есть, и ничего о руцех Божьих не сказала.
Отблески фонаря плясали на мокрых плитах. Где-то слева, наверное, в конце пристани, светился красный огонек. Они подошли к арке с тяжелыми чугунными воротами. Человек с фонарем толкнул их, ворота открылись. В этот раз ступени вели не вниз, а наверх, и в конце лестницы начиналась дорожка, с обеих сторон подступали цветы. Самих цветов они не видели, но было понятно, что здесь их великое множество.
И теперь до миссис Уилкинс дошло, что, вероятно, пролетка не доставила их прямо ко входу, потому что здесь не было дороги, только пешая тропа. Этим объяснялось и исчезновение чемоданов. Она ощутила уверенность: как только они доберутся до верха, чемоданы уже будут их ждать. Сан-Сальваторе, похоже, все-таки располагался на вершине, как и положено средневековому замку. Тропа свернула, и они увидели над собой тот самый свет, который заметили еще на пристани, только теперь он был гораздо ближе и ярче. Она сообщила миссис Арбатнот о нахлынувшей на нее уверенности, и миссис Арбатнот согласилась: видимо, они и впрямь на месте.
И снова, но теперь голосом, полным надежды, миссис Уилкинс, указывая на темные очертания на фоне чуть менее темного неба, спросила:
– Сан-Сальваторе?
И на этот раз успокаивающе, ободряюще раздался ответ, ставший уже привычным:
– Si, si, Сан-Сальваторе.
Они прошли по мостику над тем, что, очевидно, было рвом, и ступили на ровную площадку, заросшую высокой травой и тоже явно всю в цветах. Мокрая трава хлестала по чулкам, невидимые цветы были повсюду. И снова они поднимались вверх, дорожка вилась между деревьями, воздух был полон цветочных ароматов, которые под теплым дождем стали еще слаще. Все выше и выше поднимались они в этой сладостной тьме, и красный огонек на пристани все отдалялся.
Тропа сделала поворот вдоль того, что показалось им мысом, пристань и красный огонек скрылись из вида, где-то слева, вдалеке, за черной пустотой, виднелись огоньки.
– Медзаго, – указал на них человек с фонарем.
– Si, si, – ответили они, поскольку к этому моменту выучили «si, si». На что человек с фонарем разразился потоком вежливых поздравлений с прекрасным знанием итальянского, из которых они не поняли ни слова. Это был тот самый Доменико, недремлющий и преданный садовник Сан-Сальваторе, опора и поддержка всего дома, всемогущий, талантливый, красноречивый, любезнейший и умнейший Доменико. Но тогда они еще этого не знали, а он в темноте – да иногда и на свету – со своим смуглым угловатым лицом, с мягкими движениями пантеры, очень даже смахивал на злодея.
Дорожка снова выровнялась, пока они проходили вдоль возвышавшейся над ними справа какой-то темной массы, похожей на высокую стену, затем опять стала взбираться вверх, между источавшими дивные ароматы цветочными шпалерами, ронявшими на них капли, и свет фонаря скользнул по лилиям, и снова ступеньки, источенные временем, и еще одни чугунные ворота, и вот они уже внутри, хотя и все еще взбираются вверх по винтовой каменной лестнице, стиснутой стенами, похожими на башенные, а где-то выше виднеется купол крыши.
А в конце лестницы оказалась кованая дверь, сквозь которую сочится электрический свет.
– Ecco [6], – объявил Доменико, легко взлетев по нескольким последним ступеням и широко распахнув перед ними дверь.
И они действительно пришли – вот он, Сан-Сальваторе, и вот их чемоданы, и никто их не убил.
Они смотрели друг на друга, лица у них были бледные, в глазах светилось торжество.
Это был великий миг. Они здесь, в своем средневековом замке! А под ногами у них – его древние камни.
Миссис Уилкинс обвила рукой шею миссис Арбатнот и поцеловала ее.
– Первое, что должен увидеть этот дом, – сказала она тихо и торжественно, – это поцелуй.
– Дорогая Лотти, – сказала миссис Арбатнот.
– Дорогая Роуз, – ответила миссис Уилкинс, ее глаза сияли.
Доменико был в восторге. Ему нравилось смотреть на поцелуи прекрасных дам. Он произнес растроганную приветственную речь, а они стояли, взявшись за руки и поддерживая друг друга, потому что смертельно устали, смотрели на него с улыбками – и не понимали ни слова.
Глава 6
Проснувшись утром, миссис Уилкинс еще немного полежала, перед тем как встать и отдернуть шторы. Что увидит она из окна? Мир сияющий или мир дождливый? Он будет прекрасен – каким бы он ни был, этот мир, он будет прекрасным.
Она лежала в маленькой спальне с голыми белыми стенами и каменным полом, скупо обставленной старинной мебелью. Кованые кровати – их было две – покрыты черной эмалью и расписаны веселыми букетиками. Она лежала, оттягивая великий момент, когда подойдет к окну, подобно тому, как откладывают распечатывание драгоценного письма, взирая на него с вожделением. Она понятия не имела, который сейчас час – в последний раз она заводила часы, когда столетия назад ложилась спать еще в Хампстеде. Но, судя по тишине в доме, было еще рано, хотя ей казалось, будто она проспала очень долго – такой выспавшейся, в таком мире с собой она себя чувствовала. Она лежала, заложив руки за голову, и думала о том, какая она счастливая, на губах играла восторженная улыбка. Одна в постели, просто восхитительно. С первого дня замужества – а прошло уже пять лет – она не бывала в постели одна, без Меллерша, и как же прохладно, как просторно ей было, как свободно можно было двигаться, как прекрасно это чувство безрассудной смелости, и одеяло можно тянуть на себя, сколько хочется, и подушки пристроить, как удобно! Перед нею словно открылся мир новых радостей.
Миссис Уилкинс хотелось встать и открыть ставни, но ее «сейчас» было таким восхитительным! Она удовлетворенно вздохнула и продолжала лежать, оглядывая свою комнату, впитывая ее в себя, небольшую комнату, в которой она может все устроить по своему вкусу, ведь на этот блаженный месяц это ее собственная комната, купленная на ее собственные сбережения, результат ее бережливых отказов, и дверь в эту комнату она, если пожелает, может запирать, и никто без разрешения не войдет. Комната была такая необычная, непохожая на все, что она до сих пор видела, и такая приятная. Как монастырская келья. Кроме двух кроватей, все в ней было очень по-монашески. «Название комнаты было Мир» [7], – вспомнила она и улыбнулась.
Да, это было чудесно – вот так лежать и думать о том, как она счастлива, но там, за ставнями, наверняка было еще чудеснее. Она вскочила, надела комнатные туфельки, потому что каменный пол прикрывал лишь маленький коврик, подбежала к окну и рывком распахнула ставни.
– О! – воскликнула миссис Уилкинс.
Перед ней во всем своем блеске простирался итальянский апрель. Сверху на нее лилось солнце. В солнечных лучах дремало едва трепещущее море. На другой стороне бухты нежились на свету очаровательные разноцветные горы, а под ее окном, на краю усыпанного цветами травянистого склона, из которого вздымалась ввысь крепостная стена, рос гигантский кипарис. Он, словно огромная черная сабля, рассекал деликатнейшие голубые, лиловые и розовые мазки, которыми были выписаны море и горы.
Она глядела и глядела. Какая красота – и она видит ее! Какая красота – и она живая, она ее чувствует. Лицо ее омывал свет. Божественные ароматы проникали в окно и ласкали ее. Легкий ветерок нежно взъерошивал волосы. На дальнем конце бухты, на безмятежной поверхности моря, словно стая белых птиц, скопились рыбацкие лодки. Как красиво, как красиво! Увидеть это еще до того, как умерла и попала в рай… Смотреть, вдыхать, чувствовать… Счастье? Какое невыразительное, банальное, затертое слово. Но что можно сказать, как описать это? Ей казалось, что она словно отделяется от своего тела, она казалась себе слишком маленькой для такой огромной радости, этот свет будто омыл ее целиком. Как удивительно это чувство чистого блаженства, быть здесь, когда никто ничего от тебя не требует и не ждет, когда не надо делать ничего из того, чего не хочется. Все, кого она до сей поры знала, наверняка посчитали бы, что ей надлежит по крайней мере терзаться совестью. А она не чувствовала даже малюсенького угрызеньица. Что-то где-то было не так. Странно, что дома, где она была такой хорошей, такой чудовищно правильной, они ее терзали постоянно. Угрызения всех сортов: сердечные боли, обиды, разочарования, полный и неуклонный отказ от себялюбия. А сейчас, сбросив с себя всю благочестивость и оставив ее валяться, словно кучку промокшей под дождем одежды, она испытывала одну только радость. Лишившись своей хорошести, она наслаждалась наготой. Обнаженная и ликующая. А где-то там, в сыром тумане Хампстеда, оставался сердитый Меллерш.
Она попыталась представить себе Меллерша, как он сидит, завтракает и с горечью думает о ней, и – вот чудеса! – Меллерш вдруг засиял, стал розоватым, стал светло-лиловым, стал голубым, а потом бесформенным, а потом начал переливаться всеми цветами радуги. Наконец Меллерш, дрожа, и вовсе растворился в этом свете.
«Ну что ж», – подумала миссис Уилкинс, провожая его взглядом. Странно, что она не смогла вызвать образ Меллерша, ведь она наизусть знала каждую его черту, каждое выражение. Она просто уже не видела его таким, как он есть. Она только видела, как он растворился в красоте, слился в гармонии со всем окружающим. Совершенно естественно в ее голове возникли знакомые слова молитвы, и она возблагодарила Господа за то, что создал ее, за то, что хранит ее, за все благости этой жизни, но превыше всего за его бесконечную любовь – она в порыве признательности произносила эти слова вслух. А Меллерш в этот момент раздраженно натягивал ботинки, прежде чем выйти на мокрую улицу, и на самом деле думал о ней с горечью.
Она начала одеваться, выбрав чистое белое платье в честь летнего дня, распаковала чемоданы, привела в порядок свою очаровательную комнатку. Ее высокая тонкая фигура двигалась быстро и целенаправленно, она держалась прямо, лицо с мелкими чертами, такое хмурое дома от напряжения и страха, разгладилось. Все, чем она была, все, что она делала до этого утра, все, что она чувствовала и о чем беспокоилась, ушло. Ее заботы повели себя, как образ Меллерша – растворились в цвете и свету. И она стала замечать то, чего не замечала годами – причесываясь перед зеркалом, она подумала: «А у меня красивые волосы». Она ведь уже забыла, что у нее вообще есть волосы, она заплетала их в косу по вечерам и расплетала по утрам с такими же торопливостью и равнодушием, как шнуровала и расшнуровывала ботинки. А теперь она вдруг их заметила и, сидя перед зеркалом, накручивала на пальцы, и радовалась тому, что они у нее красивые. Меллерш тоже их не замечал, потому что ни разу еще не сказал ей о них ни слова. Что ж, вернувшись домой, она обратит его внимание на свои волосы. «Меллерш, – скажет она, – посмотри на мои волосы. Разве тебе не приятно, что у твоей жены волосы медового цвета и вьются?»
Она засмеялась. Она еще никогда не говорила Меллершу ничего подобного, и сама мысль об этом ее позабавила. Но почему не говорила? О да, потому что она привыкла его бояться. Смешно бояться кого бы то ни было, в особенности собственного мужа, которого она видела в самые приземленные моменты, например, спящим – а во сне он храпел.
Завершив туалет, она вышла посмотреть, встала ли уже Роуз – накануне сонная горничная разместила ее в комнате напротив. Она пожелает ей доброго утра, а потом сбежит по склону и постоит под кипарисом – до самого завтрака, а после завтрака еще полюбуется в окно, пока не настанет время помогать Роуз готовить все к приезду леди Каролины и миссис Фишер. Сегодня им предстоит много дел – надо все обустроить, привести в порядок комнаты – и не годится, чтобы Роуз занималась всем этим в одиночку. Они сделают все просто чудесно к прибытию этих двоих – она так и представляла эти приветливые комнатки, уже полные цветов. Она припомнила, как не хотела, чтобы к ним присоединялась леди Каролина: до чего ж глупая мысль – не пускать кого-то в рай, потому что стесняешься! Как будто это что-то значит, как будто она настолько застенчива, чтобы чуть что стесняться! Ну что за причина. Кстати, причина не считать себя такой уж хорошей! Она вспомнила, что не хотела приезда и миссис Фишер, потому что та показалась ей высокомерной. Какая нелепость! Какая нелепость – волноваться по таким мелочам, придавать им столько значения.
Спальни и две из гостиных находились на верхнем этаже и выходили в просторный холл с широким окном на северной стороне. Сан-Сальваторе полнился небольшими садами на самых разных уровнях. Сад, на который выходило это окно, был устроен на самой высокой части окружавшей замок стены, и пройти в него можно было только через такой же просторный холл этажом ниже. Когда миссис Уилкинс выходила из своей комнаты, окно в их холле было распахнуто настежь, под ним высилось залитое солнцем иудино дерево в полном цвету. Кругом не было никого, не было слышно ни голосов, ни шагов. На каменном полу стояли высокие вазы с каллами, на столе пламенел огромный букет крупных настурций. Этот просторный, полный цветов тихий холл с широким выходящим в сад окном, это купающееся в солнечном свету невероятно красивое иудино дерево показались миссис Уилкинс слишком прекрасными, чтобы быть настоящими, и она замерла на полдороге. Неужели она действительно будет жить здесь целый месяц? До сих пор красота доставалась ей по кусочкам, украдкой, мимоходом: полоска маргариток в погожий день на Хампстедском лугу, вспышка заката между двумя трубами на крыше. Она никогда не бывала в по-настоящему, полностью, совершенно прекрасных местах. Она никогда не бывала и в домах, принадлежащих достопочтенным хозяевам, а уж такая роскошь, как цветы в спальне, и вовсе была ей недоступна. Иногда по весне она, не в силах сопротивляться, покупала в «Шулбредс» полдюжины тюльпанов, прекрасно сознавая, что Меллерш, проведав, сколько они стоят, сочтет это непростительным транжирством, но они быстро увядали, и потом опять ничего не оставалось. Что же до цветущего иудиного дерева, то она и понятия не имела, что это такое, и взирала сквозь него на небо с видом узревшего рай.
Вышедшая из своей комнаты миссис Арбатнот застала ее неподвижно стоявшей посреди холла.
«И какое же видение посетило ее на этот раз?» – подумала миссис Арбатнот.
– Мы в руцех Божьих, – убежденно произнесла, повернувшись к ней, миссис Уилкинс.
– Ох! – воскликнула миссис Арбатнот. Лицо ее, только что улыбавшееся, сникло. – В чем дело, что случилось?
Потому что миссис Арбатнот, которая проснулась с таким блаженным ощущением безопасности, легкости, вовсе не хотела возвращаться к мысли, что совершила что-то неправильное. Ей даже не снился Фредерик! Впервые за много лет ей не снилось, что он подле нее, что они снова близки, и впервые она не проснулась с горькой мыслью, что это только сон. Нет, она спала как ребенок и проснулась уверенной в себе, она даже обнаружила, что ей нечего пожелать в утренней молитве, кроме как сказать «Благодарю». И потому ее неприятно поразило заявление о руцех Божьих.
– Надеюсь, все в порядке? – обеспокоенно переспросила она.
Миссис Уилкинс посмотрела на нее, помолчала, а потом рассмеялась.
– Как забавно, – сказала она, целуя миссис Арбатнот.
– Что забавно? – спросила миссис Арбатнот. Лицо ее прояснилось, потому что миссис Уилкинс смеялась.
– Что мы здесь. И все это. Так чудесно. Так забавно и так восхитительно, что мы здесь оказались. Осмелюсь сказать, что, когда мы попадем в рай – тот, о котором говорят, – он вряд ли будет таким же прекрасным.
Миссис Арбатнот расслабилась.
– Разве это не божественно? – с улыбкой спросила она.
– Была ли ты когда-нибудь в своей жизни так счастлива? – спросила миссис Уилкинс, ловя ее руку.
– Нет, – ответила миссис Арбатнот.
Никогда не была, даже в первые дни ее любви с Фредериком. Потому что счастью всегда сопутствовала боль, терзавшая ее сомнениями, терзавшая ее самим переживанием любви, а это счастье было простым, счастьем полной гармонии с окружающим, счастьем, которое ни о чем не просит, а просто принимает, просто дышит, просто есть.
– Пойдем посмотрим поближе на это дерево, – сказала миссис Уилкинс. – Даже не верится, что это просто дерево.
Рука об руку они прошли по холлу – их мужья никогда не видели их лица такими юными, такими радостными, – и встали у распахнутого окна, и когда их взгляд, напитавшись восхитительными розовыми цветами иудиного дерева, пустился рассматривать остальные красоты сада, они увидели, что на парапете с восточной стороны сидит, опустив стопы в лилии и глядя на залив, леди Каролина.
Они были поражены. До такой степени, что просто молча глядели на нее, стоя рука об руку.
Она тоже была в белом платье, без шляпы. Во время их встречи в Лондоне, когда шляпа у нее была надвинута почти на нос, а меха подняты до ушей, они и не разглядели, что она так хороша. Тогда они просто думали, что она отличается от других женщин в клубе, потому что все эти женщины, и все официантки, пока они сидели и беседовали в уголке, постоянно на нее поглядывали, проходя мимо; но они и подумать не могли, что леди Каролина так красива. Чрезмерно красива. В ней все было слишком. Светлые волосы были очень светлыми, прелестные серые глаза были крайне прелестными и серыми, темные ресницы – очень темными, белая кожа – белоснежной, алый рот – очень алым. Она была экстравагантно стройна – просто как струна, однако не без изгибов под легким платьем в тех местах, где им полагалось находиться. Она смотрела на залив, и ее силуэт четко вырисовывался на фоне небесной голубизны. Вся залитая солнцем, она болтала ногами среди листьев и цветов лилии, немало не заботясь о том, что может их помять или поломать.
– Если она будет вот так сидеть на солнце, – наконец прошептала миссис Арбатнот, – у нее голова разболится.
– Ей следовало надеть шляпу, – также шепотом ответила миссис Уилкинс.
– Она помнет лилии.
– Но они настолько же ее, как и наши.
– Только на четверть.
Леди Каролина обернулась. Она разглядывала их, удивленная тем, что они настолько моложе, чем показались ей тогда в клубе, и настолько же менее непривлекательны. На самом деле, они могли бы быть довольно привлекательными, если кто-либо вообще способен быть привлекательным в таких неподходящих нарядах. Она скользнула по ним взглядом, за полсекунды разглядев все, что требовалось, потом улыбнулась, помахала им рукой и крикнула: «Доброе утро!» Она сразу же поняла, что, судя по одежде, ничего интересного в них нет. Это была не сознательная мысль, поскольку ее жутко злили красивые наряды, ведь они превращают тебя в свою рабыню: опыт подсказывал, что стоит обзавестись шикарным платьем, как оно тут же в тебя вцепляется, и покоя не видать, пока в нем не покажешься всюду и все тебя в нем не увидят. На вечеринки в платьях не ходят – это платья берут тебя с собой на вечеринки. Ошибочно думать, будто женщина, по-настоящему хорошо одетая женщина, носит одежду – это одежда носит женщину, тащит ее куда-то в любой час дня и ночи. Ничего удивительного, что мужчины дольше сохраняют молодость. Что им новые брюки? Ничего особенного. И предположить невозможно, чтобы даже совсем новые брюки вели себя подобным образом – таскали обладателя в зубах, словно добычу. Образы, возникавшие у нее, были странными, но она думала так, как предпочитала думать, и образы выбирала такие, какие ей были по вкусу. Пока она слезала со стены и шла к окну, она решила, что это как-то успокаивает – целый месяц провести в обществе людей, одетых по моде, как ей слабо помнилось, пятилетней давности.