Корни и кроны. Откуда есть пошла русская культура бесплатное чтение
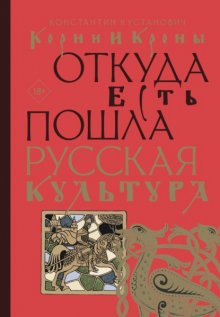
От автора[1]. О чем эта книга
Эта книга о русской культуре, но… И вот тут сразу же возникают многочисленные «но», которые необходимо оговорить, прежде чем читатель перейдет к тексту.
Эта книга о культуре в антропологическом смысле этого слова (об этом во введении). Схожие понятия известны как «русский национальный характер», «русский менталитет», «русская матрица», «русский культурный геном» и даже «иванизм».
Эта книга ограничивается лишь некоторыми – чрезвычайно важными! – аспектами русской культуры, не претендуя на всеохватывающее описание, что было бы задачей для многолетнего труда коллектива авторов.
Эта книга о русской, а не о российской культуре, так как, несмотря на полиэтнический и поликонфессиональный характер российского государства, в основе его национальной культуры лежит многовековая русская православная культура. Этнические и религиозные меньшинства, проживающие или проживавшие в разные времена на территории России в действительно значимых количествах (татары, немцы, евреи, грузины, армяне и прочие[2]) не оказали существенного влияния на характер русской национальной культуры, хотя обратная культурализация происходит: русская культура в большей или меньшей степени модифицирует культуры меньшинств.
Эта книга о национальной культуре русского народа, то есть подавляющего большинства русского населения России, а не о ее политическом устройстве и не о стремлениях и чаяниях интеллигенции[3]. Политические системы меняются, интеллигенция живет своей жизнью, а русская культура, так же как и любая другая многовековая национальная культура, остается в своей сути неизменной на столетия. Именно из этих соображений я не рассматриваю влияние Византии и ордынского ига на формирование русской культуры. И Византия, и Орда были в непосредственном постоянном контакте лишь с князьями, боярами и иерархами Церкви (с последними – в основном Византия); большинство же русских людей жили в пространстве своих традиционных ценностей, верований и забот. Иными словами, Византия и Орда могли влиять и влияли на формирование методов правления и подавления, на взаимоотношения Церкви и государства, но лишь незначительно и опосредованно – на традиционные социальные аспекты жизни русских людей.
При этом нельзя, конечно, упускать из виду, что и правительства, и церковная верхушка, и интеллигенция в России вышли все-таки из народа и, естественно, сохраняют в своем мышлении и поведении все главные черты русской культуры, хотя и модифицированные происхождением, образованием, социальным статусом – иначе говоря, личной биографией и историей страны.
Эта книга не претендует на оригинальность представленной в ней фактологической информации. В мою задачу входило не описание русской культуры – это было сделано и делается многочисленными предшественниками и современниками, – а использование имеющихся материалов с тем, чтобы определить исторические корни исследуемых особенностей этой культуры и продемонстрировать ее многовековую стабильность. Задача эта выполняется путем анализа и обобщения исторических и современных фактов, событий и явлений с применением научного аппарата таких дисциплин, как история России, история Русской православной церкви, культурология, антропология, право, семиотика, филология, социальная психология, психология детского развития, генетическая психология и эпигенетика. Пожалуй, в какой-то степени оригинальным можно считать метод приложения современной психологии для обоснования национальных характеристик и описания механизма передачи свойств культуры от поколения к поколению. Оригинальным в том смысле, что, не будучи широко распространенным, этот метод настойчиво используется в данном исследовании. Оригинальными являются также литературоведческие вкрапления в текст этой книги, используемые для иллюстрации основных положений и выводов.
В процессе работы над книгой огромное удовольствие мне доставили встречи со схожими мыслями по поводу русской культуры у уважаемых мною авторов – уже ушедших в мир иной или ныне здравствующих. Особо хочу выделить книгу Дмитрия Петровича Кончаловского[4] «Пути России». В ней он осмысливает революцию 1917 года, большевизм и его истоки, но по большому счету это книга о русской культуре, ее уникальности, неизменяемости и несовместимости с культурой европейской.
Введение
Россия – великая страна. Великая по своим размерам и достижениям. Пожалуй, и самая богатая (по ее природным ресурсам) страна в мире. Кроме того, Россия может похвастаться развитой промышленностью, образованным населением, вполне адекватной наукой и системой среднего и высшего образования. За последние два столетия, практически начав с нуля, Россия догнала, а во многом и перегнала Европу и Америку в области литературы, классической музыки, живописи и других видов искусства. И, наконец, политическое устройство, принципы экономики и правовая система в современной России в целом такие же, как в преуспевающих странах Запада.
Но преуспевать не получается. Общее состояние экономики оставляет желать лучшего. Уровень жизни населения по сравнению с развитыми странами Запада значительно ниже. Конечно, есть исключения. Немногочисленная элита, 1 % населения, владеет большей частью национального богатства. Какая-то часть населения живет честным трудом и зарабатывает достаточно для удовлетворения всех своих потребностей, включая жилье, хорошее питание, отпуска, поездки и прочее. Но они явно в меньшинстве. Остальным приходится или работать на нескольких ставках, или подрабатывать помимо основной работы, или подкармливаться натуральным хозяйством, если они живут на земле или хотя бы владеют сакраментальными шестью сотками. Около двадцати миллионов россиян живут за чертой бедности. Так называемые бюджетники – государственные служащие, медицинские работники, учителя, университетские преподаватели – получают зарплаты, которых хватает только на самое необходимое. Исключение составляют чиновники высших рангов, но это – власть имущие, та самая элита, о которой речь шла выше. Дистанция между доходами бедных и богатых чуть ли не самая высокая в мире.
Россия утверждает, что Запад только и мечтает о том, чтобы поставить страну на колени – приходится напрягаться и тратить огромные средства на оборону. В то же самое время Запад видит Россию далеко не в лестном свете. С точки зрения Запада Россия ведет себя агрессивно по отношению к своим соседям, так что приходится расширять НАТО, чтобы сдерживать агрессию. Коррупция процветает, и закон работает с оглядкой на влиятельных и богатых. Церковь, отделенная от государства, больше занимается политикой и идеологией, чем развитием духовности паствы. В политике нынешние демократические структуры так и не смогли стряхнуть с себя ярмо авторитаризма.
Попытки перехода к демократии были и раньше. Ведь и в 1917 году реформаторы имели самые благие намерения – избавиться от гнета ненавистного царского режима и зажить по справедливости. Но власть захватили большевики, а все остальное, как говорится, история. А если бы не захватили? Если бы состоялось Учредительное собрание и победили эсеры, а большевиков удалось бы каким-то фантастическим способом заставить подчиниться? Тогда, скорее всего, случилась бы перестройка по типу той, которую Россия (тогда еще в составе СССР) пережила в конце 1980-х – начале 1990-х: безудержная борьба партий и мнений, приведшая к анархии, тотальному обнищанию населения, экономическому и социальному кризису и небывалому росту преступности. Можно заключить, что попытки перенести западные модели на российскую почву постоянно терпят крах.
Однако при этом многие западные ценности с легкостью и даже с энтузиазмом усваиваются россиянами: популярная музыка, литература (в основном детективная), кино, одежда, косметика, автомобили и всякого рода бытовые и технические устройства являются объектами массового потребления (в зависимости, конечно, от покупательной способности отдельного взятого потребителя). Предоставь россиянину гипотетический выбор места отдыха, и он предпочтет Ниццу Крыму и Сочи, Куршевель – Домбаю, а Вену или Барселону – Москве. Правда, и здесь выбор обусловливается толщиной кошелька. И все же большинство россиян (около 60 %) к Западу относятся отрицательно, а среди малоинтеллигентного населения понятия «гейропа» и «пиндостан» прочно вошли в обиход.
Еще один загадочный феномен – Президент Российской Федерации. Можно говорить об административном ресурсе, вбросах и прочих нарушениях, но не приходится сомневаться, что в марте 2018 года большинство россиян (может, не 77 %, но все равно большинство) выбрали Путина еще на шесть (а скорее всего – на двенадцать) лет правления. После «обнуления» срок его правления может увеличиться до 2036 года. И это несмотря на заметный экономический спад и снижение уровня жизни населения после 2014 года. Означает ли это, что достойного конкурента не нашлось, или что на Руси нет умных, энергичных, непьющих и честных людей, или таковые убираются с дистанции задолго до выборов, а население такое положение вещей совершенно не волнует? А может, президент по совокупности своих действий и качеств вполне устраивает большую часть российского электората? Объяснить все эти противоречия и загадки можно только заглянув в глубины уникальной истории социального и политического развития российского государства, иными словами, в нюансы развития русской культуры.
Концепция «культуры»
Употребляя слово «культура», мы сталкиваемся с лингвистической проблемой: семантическое поле этого слова столь обширно, а употребление столь размыто, что при любой попытке обсуждения культуры необходимо точно оговорить смысловые границы в конкретном контексте.
Оставляя в стороне философские дефиниции термина «культура», выделим основные его употребления в современной речи.
1) Знание и соблюдение правил поведения и этикета, умение вежливо и тактично вести себя в обществе (вежливый, культурный человек). Назовем такую культуру «культура этикета».
2) Произведения живописи, музыки, литературы, кино и других видов классического или популярного искусства – «художественная культура».
3) Современная мода, гастрономия и ресторанная индустрия – «культура вкуса».
4) Система ценностей, мифов, обычаев и социальных норм национального сообщества; сюда также следует включить фольклор, народные ремесла и старинные уникальные кулинарные рецепты (например, квас или щи – в русской культуре).
Необходимым условием выделения социальной группы в национальное сообщество является единство родного языка и территории проживания всех его членов. Чрезвычайно важным, но не обязательным условием принадлежности к национальному сообществу является исповедание его членами одной и той же религии[5]. В дальнейшем мы будем называть такой вид культуры просто «культура», подразумевая по умолчанию «национальная культура».
Предметом настоящего исследования является именно последняя концепция культуры – национальная культура. Как же отделить ее от остальных трех? Первые три вида культуры не являются уникальными в жизни нации и жестко не привязаны к ней. Они легко пересекают государственные границы и распространяются посредством культурной диффузии. Чайковский, Кандинский и даже Пушкин не являются специфически русскими художниками, хотя взросли они на русской почве. Точно так же Хемингуэй – американец, но вполне можно провести аналогию между ним и Чеховым с Буниным; сходство между Мондрианом и Малевичем тоже не вызывает сомнения. Если взять ранний кинематограф начала ХХ века на Западе, то русский авангард, представленный фильмами Эйзенштейна, Вертова, Кулешова, Пудовкина и Довженко, ничуть не отставал от американского и западноевропейского кинематографа, в котором так же, как и в фильмах советских авангардистов, огромное внимание уделялось новаторской кинематографической технике.
Стили и жанры классической музыки, литературы, живописи и балета пришли в Россию из Европы, но тут же с триумфом возвратились обратно: нет в мире таких концертных залов, где не звучали бы произведения Чайковского, Рахманинова, Шостаковича, Прокофьева и десятка других выдающихся русских композиторов; около ста пятидесяти лет Толстой и Достоевский издаются, переиздаются и изучаются в школах и университетах Европы и Америки; пьесы Чехова не сходят с подмостков мировых театров; кто не знает Шагала и Кандинского, а «в области балета мы впереди ‹…› планеты всей».
Посредством диффузии приходят в Россию и многочисленные виды популярного искусства, причем иногда самого низкого пошиба. В конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века российская публика не могла оторваться от американских телевизионных сериалов, дешевых любовных романов, второсортных голливудских фильмов, книг по эзотерике и оккультизму, но очень быстро российский рынок наводнила такая же массовая продукция, но только уже отечественного производства. Концерты российской современной музыки, стили и жанры которой пришли в Россию из-за рубежа, собирают многотысячные аудитории.
Касательно кулинарии. Конечно, в давние времена меню малоимущего населения России ограничивалось отечественными хлебом, кашей, щами, квасом и монополькой, однако аристократия отнюдь не испытывала культурного отторжения, поглощая спаржу, артишоки, устрицы и ананасы и запивая их французскими и немецкими винами. Кто в России слышал о суши сорок лет назад? Но в конце XX – начале XXI века в городах страны появляются китайские, итальянские, японские рестораны, и россияне, ловко орудуя палочками, с аппетитом едят сырую рыбу, сдабривая ее слабой и теплой рисовой водкой.
Американские джинсы завоевали весь мир.
Можно провести аналогию с языком, тем более что культура с точки зрения семиотики и является своеобразным языком, оперирующим системой правил и знаков. В то время как иностранная лексика с легкостью принимается языком и занимает в нем свое место, иногда без особой необходимости вытесняя более раннюю, родную или заимствованную лексику, синтаксис остается неизменным или меняется очень медленно. Точно так же художественная культура, мода и кулинария не встречают сопротивления при пересечении национальных границ и легко находят любителей и апологетов на чужой почве. Но вот национальная культура, включающая традиции взаимоотношений между людьми, оценку окружающего мира, реакцию на явления и события, меру ответственности и безответственности человека за происходящее вокруг него, трудовую этику, правовую этику, политическое сознание – все это остается неизменным, и не в течение последних 20–30 лет, а в течение веков, если заглянуть поглубже и пренебречь внешними различиями.
Существует хорошее русское слово «обычай» – то, что делается обычно. Не всеми, но подавляющим большинством. Все, что лежит за пределами обычая, отторгается этим большинством. И даже если все русские вдруг решили бы трудиться, как китайцы, или жить упорядоченно, как немцы, ничего бы не получилось. Поэтому нельзя обустроить Россию ни по-китайски, ни по-немецки, ни по-американски, а только по-русски.
Характеристики национальной культуры уникальны, они реализуются на бессознательном уровне и определяются культурными кодами, заложенными в психике каждого индивидуума. Если мозг человека работает нормально, эти коды нестираемы и неизменяемы. Что же касается культуры этикета, художественной культуры и культуры вкуса – назовем их культурными явлениями, – то они оперируют на поверхности сознания, их можно сравнительно легко и быстро освоить и усвоить, можно изменить и можно вообще забыть.
Помимо путаницы в употреблении слова «культура», существует еще одно препятствие на пути изучения этого аспекта нашей жизни, по крайней мере на Западе. Глубокое и откровенное обсуждение национальных культур в современном западном мире, который очень чувствителен к нынешним политическим и идеологическим установкам, стало проблематичным. Идеология подвигает людей быть справедливыми и относиться ко всем одинаково, особенно когда речь идет о культуре меньшинств, что заставляет остановиться и подумать, прежде чем решиться на какие-либо кросс-культурные сравнения, а подумав, скорее всего, отбросить эту пагубную затею. В 1940-х и 1950-х годах антропологи и ученые в других областях активно изучали национальные культуры, но в 1960-х интерес к этой области знаний угас. В течение нескольких десятилетий постмодернизма, мультикультурализма, глобализма и «конца истории» на Западе господствовало представление о том, что настало время распрощаться с любыми бинарными оппозициями, в частности между культурами, и построить глобальное царство либеральной демократии, свободной от уродливых предрассудков и дискриминации в политических, экономических и социальных сферах человеческого существования. По всему миру возникли движения, чтобы воплотить эту мечту в действительность. Однако эти попытки потерпели неудачу. Напротив, мы наблюдаем, как культуры страстно, а зачастую и яростно сопротивляются любым изменениям вековых традиций. Ирак, Афганистан, «арабская весна» служат хорошими примерами провала внедрения демократии там, где ее никогда не было. Другие культуры возвращаются к своим традиционным парадигмам – также страстно и яростно – после периода принудительного сожительства с чуждыми культурами в рамках общей социально-политической структуры. В этом отношении приходят на ум Советский Союз и Югославия. Еще до того, как болезненные явления проявились в бурных событиях последних десятилетий, имеющие глаза видели, что до рая на земле еще далеко.
Начало 1980-х годов ознаменовалось возрождением интереса к различиям среди культур. В 1985 году Лоуренс Харрисон опубликовал статью, в которой утверждал, что экономическая отсталость Латинской Америки обусловлена специфической культурой этого региона. Статья была подвергнута суровой критике и протестам со стороны ученых во многих областях. Основополагающая статья Сэмюэля Хантингтона о столкновении цивилизаций (1993) и одноименная книга (1996 г.) подчеркивают роль культур и религий в международных отношениях. Его работы также вызвали многочисленные критические отзывы. Однако не следует забывать древнюю мудрость Горация: «Вилами гони природу, она все равно возвратится». Обсуждение различий между культурами в политике, экономике, международных отношениях – практически во всех сферах человеческого бытования – хоть и медленно, но возвращается.
В 2000 году Харрисон и Хантингтон выпустили сборник статей по материалам симпозиума «Культурные ценности и прогресс человечества» (Cultural Values and Human Progress), который состоялся в апреле 1999 года в Американской академии искусств и наук в Кембридже, штат Массачусетс[6]. Участники симпозиума исследовали влияние культуры на политику, экономику и общественные отношения. Выводы таковы: культура может или содействовать прогрессу, или сдерживать его. Национальная культура, то есть доминирующие ценности и социальные нормы, определяет уровень коррупции, эффективность деятельности институций, отношения между полами, соблюдение прав человека и соблюдение закона. Авторы также подчеркивают роль религии в формировании культуры и в ее влиянии на население. Было высказано мнение, что протестантизм, конфуцианство и иудаизм способствуют успеху их приверженцев по сравнению с другими конфессиями. Харрисон позже развил этот тезис в книге «Евреи, конфуцианцы и протестанты. Культурный капитал и конец мультикультурализма»[7]. Часть авторов сборника не только постулируют разницу между национальными или региональными культурами, но и выступают против культурного релятивизма, утверждая, что некоторые культуры объективно лучше, чем другие. «Плохие» культуры в их статьях – это те, которые допускают массовое насилие и страдания среди населения. Ряд ученых классифицирует «качество» культур по тому, насколько они способствуют прогрессу или сдерживают его.
Известный культуролог Уильям А. Генри III в своей книге «В защиту элитарности»[8], сам либерал и демократ, оценивает культуры по их достижениям в обеспечении свободы, образования, научно-технического развития и общего уровня жизни населения. Несмотря на присущий ему либерализм, он не стесняется утверждать совершенно неполиткорректную, неприемлемую для западных либералов истину, что, исходя из этих критериев, можно различать высшие и низшие культуры. Он убежденный противник аффирмативных действий (дискриминация белых в пользу меньшинств) и защитник меритократии. Другой автор, британский экономист Стивен Д. Кинг, в своей книге «Опасный новый мир»[9] обсуждает полный провал глобализации в проекте преодоления «эгоистичного» поведения национальных государств и создания всеобщего процветания.
Формирование и увековечивание культурных моделей
Сборник «Культурные ценности и прогресс человечества» содержит также статьи противников трактовки культуры как определяющего фактора в развитии экономики, государственных институций и общественных отношений. По их мнению, ситуацию можно улучшить, внеся необходимые изменения в государственные структуры и повысив уровень образования среди населения[10]. Действительно, можно разработать новые методики детского воспитания, можно подсказать родителям, как прививать детям нужные культурные ценности и привычки, однако вовлечь в осуществление такой программы все население страны, заставить взрослых людей (родителей) использовать эти методики последовательно и в полном объеме – вряд ли такая задача выполнима. Допустим, сверху спущена директива – добиться успеха в новых подходах воспитания детей. Во исполнение этой директивы все взрослые, которые имеют или планируют иметь детей, должны будут пройти «школу молодого родителя» в массовом порядке; причем учиться нужно с энтузиазмом, все хорошо усвоить, а потом с тем же энтузиазмом выполнять рекомендации новых методик применительно к собственным детям. Но даже если родители будут добросовестно следовать всем инструкциям, полученным во время обучения, дети не станут послушно маршировать в заданном направлении. Они все равно будут наблюдать и перенимать миллионы мельчайших аспектов бессознательного поведения взрослых, обусловленного традиционными (устоявшимися) культурными нормами (или схемами в нейронных сетях, что одно и то же). Причем примером для них будут не только родители, не только другие члены семьи, но и «зеркало» социальной среды. Так что для успешного выполнения «геркулесова труда» по формированию новой – «правильной» – культуры придется каким-то образом изолировать, устранить «пагубное влияние» культурной среды, окружающей ребенка. Для этого взрослых следует отделить от детей и отправить в пустыню на сорок лет, пока не вымрут, а детей будут воспитывать и обучать специально отобранные сверхквалифицированные педагоги, иначе ничего не получится. Это, конечно, шутка.
Почему культурные коды так цепко оседают в сознании человека, что изменить их – задача практически невыполнимая? Происходит ли формирование культурных кодов на генетическом уровне, или они формируются уже после рождения человека? Более подробно я рассмотрю этот вопрос в последней части книги. Пока же примем как аксиому, что в основном культурные коды, или схемы, формируются в процессе социализации человека в раннем детстве, то есть в течение первых шести-восьми лет жизни. Новые схемы, заключающие в себе культурные явления, – то, с чем человек сталкивается на более поздней стадии развития (художественные или гастрономические предпочтения, отношение к моде, этикет и прочее), – формируются, когда первичный процесс социализации уже завершен. Эти новые схемы уже не столь долговечны и не так глубоко интернализированы, как те, что возникли в раннем детстве. Например, увлечение новыми модными тенденциями у взрослого человека может возникнуть очень быстро и так же быстро исчезнуть. Освоить и полюбить суши – в этом нет особой трудности для россиянина. И не только гастрономия, не только мода, но и классическое и популярное искусство специфичными для национальной культуры не являются.
Структура книги
Данная работа преследует двойную цель.
Во-первых, обосновать тезис о том, что многовековое противостояние между Россией и Западом коренится в уникальной истории России и колоссальном, хотя иногда и опосредованном, влиянии Русской православной церкви на формирование русской культуры.
Во-вторых, продемонстрировать и объяснить преемственность основных аспектов русской культуры, от возникновения централизованного Московского государства в XV веке (и даже раньше – от Киевской Руси) до имперской, петербургской России XVIII–XIX веков, Советского Союза и, наконец, постсоветской России.
Первая часть книги посвящается истории религии в России. Религия во всех культурах является наиболее мощным формативным фактором, и Россия здесь не стала исключением. В 988 году Русь приняла византийское православие и, как следствие этого выбора, сделала первый, судьбоносный шаг на пути разделения русской и западной культур. Приняв православие, Россия унаследовала от Византии враждебное отношение к Римской католической церкви и всему тому, что шло от «ненавистных латинян». Различия между русской и западной культурами порождались не только и не столько догматическими расхождениями, сколько сопутствующими факторами, в частности полным запретом на латынь в России до начала XVIII века и отсутствием системы общего образования вплоть до начала XIX века. Этот «железный (деревянный) занавес» существенно тормозил развитие науки и промышленности.
Здесь же будут рассмотрены специфический характер религии и роль Церкви в постсоветской России, а также наследие русского православия в отечественной культуре.
Во второй части исследуются корни русского коллективизма и становление трудовой этики в России. Русская коллективистская культура формировалась прежде всего укладом крестьянской общины, которая в России существовала на пять столетий дольше, чем на Западе. Полное подчинение отдельно взятого человека интересам хозяина или коллектива, будь то семья (дети слушаются родителей, жена – мужа), помещик, царь, община или государство, способствовало формированию авторитарного общества сверху донизу. Привычная общинная жизнь и неразвитая правовая система устанавливали приоритет коллективных нравственных норм над формальным законом. Общинная «уравниловка» во всем, с одной стороны, защищала крестьян от эксплуатации своими же сообщинниками, но с другой – лишала мотивированных крестьян возможности разбогатеть и инвестировать накопления в дальнейшее развитие своего хозяйства.
Также во второй части рассматривается влияние политических, социальных и географических факторов на формирование трудовых привычек. Последняя глава второй части представляет собой характеристику трудовой этики в России на основе анализа произведений русской литературы XIX и XX веков.
Третья часть посвящена теме правового нигилизма – неуважения к формальному закону, которое опять же объясняется многовековыми отношениями в крестьянской общине при крепостном праве. Начинается третья часть с исследования катастрофы самолета с российскими детьми в 2002 году и преступления, которое совершил Виталий Калоев, потерявший в этой катастрофе жену и детей. Анализ реакции российской общественности на эти события демонстрирует, что большинство россиян в общественных отношениях руководствуются не формальным законом, а внутренним чувством справедливости – не правом, а «правдой».
Как показывает изучение разных периодов истории России, правовой нигилизм глубоко укоренен в сознании русского народа. В силу устойчивости культурного кода все попытки превратить Россию в правовое государство не дали желаемых результатов, и вряд ли следует ожидать существенных изменений в ближайшем будущем.
В четвертой части анализируется традиционное восприятие Америки россиянами. То, как человек видит окружающую действительность, характеризует его индивидуальное сознание и влияет на его поведение. Для успешного ведения диалога между людьми, говорящими на разных языках, конечно же, необходимо знание соответствующих языков, но очень часто одним знанием языка тут не обойтись. Гораздо более важным, определяющим фактором налаживания взаимоотношений между культурами может оказаться знание и понимание чужой культуры.
В последней главе четвертой части обсуждается асимметрия между восприятием Америки россиянами и восприятием России американцами. Россияне, которые имеют склонность к мифотворчеству, видят Америку в свете либо про-, либо антиамериканского мифа. Отношение россиян к Америке не рационально, а эмоционально (аффективно). И напротив, американцы – индивидуалисты с рациональным сознанием, – как правило, не создают мифов о России, а основывают свои суждения о ней, исходя из текущей политической ситуации.
Пятая часть книги посвящена психологии культуры. В ней я более подробно обсуждаю процессы социализации, а также кратко обращаюсь к вопросам генетики и эпигенетики, пытаясь определить их роль в передаче культуры от поколения к поколению. Социализация иллюстрируется двумя конкретными примерами: сравнительный анализ поведения композиторов Игоря Стравинского и Николаса Набокова[11] во время их поездок в СССР в 1960-е годы, а также социализация Никиты Михалкова в свете его соперничества со старшим братом Андреем Кончаловским. Последняя глава этой части представляет собой психологический анализ причин популярности американских республиканцев и, в частности, Дональда Трампа, среди эмигрантов из России.
Хочу подчеркнуть, что я по необходимости прибегал к обобщениям. Как и всегда, к любому из этих обобщений можно отыскать случай совершенно противоположный – без исключений не было бы и правил.
Часть I
Религия
Булат Окуджава (1964)
- А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему
- и мы иногда все холопами числим себя.
Малознакомые по своей необразованности и неразвитости с возвышенными догматами своей православной веры, русские знали ее преимущественно в ее обрядах и во всем том, что составляет ее внешнюю, видимую сторону.
Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский (1883)
Глава 1
Духовность и образование в Древней Руси
Религиозное и светское образование на Западе в X–XVI веках
Религия играла определяющую роль в формировании ценностей и моделей поведения населения земного шара. Знание и понимание религии не достигаются каким-то мистическим образом, исключительно путем внутреннего духовного прозрения. Для постижения религиозных догм необходимо образование. В западном христианстве верующие получали религиозные знания из двух источников: проповеди и школы. Проповеди всегда были частью церковной службы в западной церкви, но, чтобы повысить религиозное – да и светское – сознание верующих, нужно было школьное образование, хотя бы элементарное. Даже в период так называемого темного Средневековья существовали монастырские школы, которые служили для подготовки священников и монахов. В IX и X веках монастырские школы начали делиться на внутренние и внешние. Внутренние обучали мальчиков для клерикальных профессий, во внешние принимались дети из окрестных селений, часто без учета их классовой принадлежности. В монастырях хранились и переписывались священные христианские тексты, но не только: там же хранились и рукописи античных произведений, которые оказались востребованными во времена Ренессанса.
К концу первого тысячелетия н. э. в крупных городах Европы появляются соборные школы, где преподавали как религиозные, так и светские предметы: латынь, арифметику, риторику, физику и музыку. Знание латыни было обязательным для священников и монахов, а также для части населения, профессионально связанного с наукой, техникой, ремеслами и торговлей. Латынь открывала доступ к античному наследию, сохранившемуся в древних рукописях: литературе, философии, науке, медицине и – что немаловажно – римскому праву, которое позже легло в основу законодательств всех западноевропейских стран, кроме Англии. В XI–XII веках список дисциплин в соборных школах расширяется, добавляются астрономия, геометрия, грамматика. Открываются также первые университеты: в Болонье (1088), в Париже (1150) и Оксфорде (1167).
В Лондоне в XV веке образование было уже настолько необходимо, что многие гильдии не принимали подмастерьев, не умеющих читать и писать[12]. «Наверное, 40 % неклерикального мужского населения Лондона могли читать тексты на латыни, и 50 %, а скорее всего больше, умели читать по-английски и по-французски»[13]. В этой связи небезынтересно ознакомиться с еще одним свидетельством значительной продвинутости образования в старой Европе. В своих «Заметках к переводам из Шекспира» Борис Пастернак задается вопросом: как простые лондонцы, для которых театр являлся всего лишь развлечением, а отнюдь не высоким жанром, требующим интеллектуального напряжения, могли понимать все намеки, аллюзии и классицизмы в театральных постановках шекспировских пьес? Пастернак не был профессиональным историком, но он, очевидно, посвятил значительное количество времени изучению той эпохи – конца XVI – начала XVII века. Вот как он отвечает на свой вопрос:
Латынь, которая теперь кажется признаком высшего образования, тогда была общим порогом низшего ‹…› В начальных, так называемых «грамматических», школах того времени ‹…› латынь была разговорным языком школьников, и, по сообщению историка Тревелиана, им запрещалось пользоваться английским даже в дворовых играх. Для лондонских подмастерьев и приказчиков, умевших читать и писать, Фортуны, Гераклы и Ниобеи были такой же азбукой, как зажигание в автомобиле или начатки электричества для современного городского подростка[14].
Ко времени Реформации (XVI в.) начальное образование, особенно в больших городах, уже не было исключением. Целью Реформации было возвращение христианства к «апостольским временам», и распространение образования способствовало ее достижению. Каждый верующий мог читать Библию и другие Священные тексты в переводах на родной язык. Лютер сделал полный перевод Библии на немецкий; кроме того, тысячи религиозных брошюр печатались в переводе на разговорные языки и распространялись по всей Европе.
Религиозное и светское образование (или отсутствие такового) в России допетровского времени
Можно было бы предположить, что и в России религия играла такую же роль в развитии образования, что и на Западе. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не так. Известная легенда рассказывает нам о крещении Руси великим князем Владимиром в конце Х века. Посланники от мусульман, иудеев, римских и византийских христиан приезжали в Киев к князю Владимиру, и каждый из них описывал достоинства своей веры, но великий князь остановился на византийском христианстве. А чтобы не ошибиться, отправил в Константинополь людей «испытать» византийскую веру. По словам этих послов, наблюдая литургию в соборе Святой Софии, они не знали, где находятся – на земле или на небесах. То есть вера была выбрана за божественную красоту как церковной службы, так и самого собора. Неважно, насколько правдиво это описание отражает истинные причины обращения Руси в греческую веру – пусть красота будет лишь метафорой, но такой подход – упор на красоту, на внешнюю форму – сохранился в русской культуре до сих пор.
Как же русское православие формировало русскую культуру в процессе тысячелетнего развития русской нации? В своем труде «История Русской церкви» Е. Е. Голубинский, ординарный академик Императорской академии наук по отделению русского языка и словесности, посвящает главу вопросам веры, нравственности и религиозности русского народа. Он задается вопросом о том, какую же роль Церковь играла в нравственном и религиозном воспитании простого люда. И приходит к крайне скептическому заключению: влияние Церкви на нравственное, интеллектуальное и духовное развитие низших социальных слоев, то есть подавляющего большинства населения, было пренебрежимо малым. Ниже мы увидим, что вплоть до XVIII века русская элита мало чем отличалась в своем невежестве от простонародья.
Голубинский утверждает, что для эффективного процесса распространения Церковью религиозной догмы и ее нравственной составляющей должны соблюдаться два условия: учителя, то есть священство, должны быть заинтересованы в обучении своей паствы, а паства должна быть мотивирована в получении знаний. Но поскольку люди слабы и грешны, то и священство, и массы пренебрегали нравственным и духовным образованием. Однако, пожалуй, более важным обстоятельством, чем недостаток рвения у тех и других, была элементарная неспособность учителей донести священную мудрость до сознания верующих. У самих церковнослужителей не было достаточных знаний в области богословия за исключением самых необходимых – тех, что требовались для отправления богослужений. А между тем без образования не может быть истиной веры, заключает Голубинский. «Чтобы веровать, нужно знать то, во что веровать, иначе – знать учение веры или ее догматы. Знание предполагает средства познавания, ибо, по апостолу, – како уверуют, его же не услышаша (Рим. 10:14)?»[15]. Однако этих «средств» – образованного и мотивированного духовенства – не существовало.
В самом начале своей книги о русском богословии протоиерей Георгий Флоровский с чисто гоголевской интонацией вопрошает:
Что означает это вековое, слишком долгое молчание? ‹…› Как объяснить это позднее и запоздалое пробуждение русской мысли? ‹…› С изумлением переходит историк из возбужденной и часто многоглаголивой Византии на Русь, тихую и молчаливую. И недоумевает, что это. Молчит ли она и безмолвствует в некоем раздумьи, в потаенном богомыслии, или в косности и лени духовной, в мечтаниях и полусне?[16]
И так же, как Гоголь в своем знаменитом отступлении о тройке, Флоровский не дает прямого ответа на свой вопрос. Он не согласен с мнением Голубинского о том, что Русь до самого Петра не имела ни образованности, ни книжности, разве что грамотность. Он оспаривает Ключевского, который утверждал, что русская мысль [в допетровский период] никогда не выходила за пределы «церковно-нравственной казуистики». Но сам находит сложность, изящество и глубину русского духовного опыта только в иконописи и в конце концов вынужден признать, что «все же древнерусская культура оставалась безгласной и точно немой. Русский дух не сказался в словесном и мысленном творчестве»[17].
Другие российские историки комментируют духовное молчание Руси после ее крещения более прямолинейно. Голубинский пишет:
Став народом христианским, мы вовсе не стали народом просвещенным. Просвещение было вводимо и введено к нам, но оно у нас не принялось и не привилось, и почти тотчас же после введения совершенно бесследным образом исчезло. После сего просвещением нашим в период домонгольский было то же самое, что и во все последующее время старой Руси до Петра Великого, а именно: при совершенном отсутствии всякого действительного просвещения или научного образования одна простая грамотность, одно простое умение читать, представляющее из себя лишь средство для некоторого самопросвещения посредством чтения книг или книжной начитанности[18].
Князь Владимир пытался насадить просвещение на Руси и пригласил учителей-греков для обучения боярских детей. Была возможность передачи огромного культурного, богословского и философского наследия, хранящегося в Византии, но желающих не нашлось. Образование в новых школах было не обязательным, и родители, жалея отроков, подвергавшихся пыткам обучения, не настаивали на строгой школьной дисциплине[19]. В результате дети усваивали грамоту, но не получали полноценного образования. А грамота заключалась в изучении церковнославянского языка для прочтения религиозных текстов, переведенных в Болгарии с греческого на язык в то время понятный при чтении всем славянам, включая русских. Но даже такая грамотность была доступна лишь узкому кругу князей, бояр и духовенства.
Русский философ и историк Церкви Г. П. Федотов не менее категоричен в своем описании интеллектуальной ограниченности Древней Руси:
Бедность интеллектуальной культуры в древней Руси поразительна. В течение семи веков, т. е. до XVII в., мы не знаем ни одного научного произведения в русской литературе, даже ни одного догматического сочинения. Вся литературная продукция имела практический, нравственный или религиозный характер за исключением летописей, чьи огромные художественные достоинства лишь подчеркивают контраст с полным отсутствием научной культуры. Современные российские историки нового националистического направления в СССР преувеличивают уровень культуры Киевской Руси, которая, по их мнению, была не беднее, а часто богаче культуры Запада. Полное отсутствие каких-либо доказательств подобных заявлений само по себе составляет еще одно доказательство нищеты, по крайней мере интеллектуальной нищеты этой культуры[20].
На пике процветания Киевской Руси в XI и в XII веках, когда в Европе открывались первые университеты, лишь небольшое количество русской знати и монахов могли похвастаться только умением читать и писать. Несомненно, в Древней Руси были отдельные образованные люди; например, в XI веке можно назвать Киевского митрополита Илариона или князя Ярослава Мудрого, сына великого князя Владимира. Они, очевидно мотивированные собственными духовными запросами, воспользовались доступными средствами индивидуального образования – возможно, теми самыми греческими учителями, которых пригласил в Киев великий князь Владимир.
Несмотря на отсутствие какой-либо системы образования, миф о высоком уровне культуры Киевской Руси был и остается довольно популярным в России, однако он появился задолго до оприходования его советской историографией. Голубинский приводит убедительные доказательства того, что миф этот был «запущен» в XVIII веке государственным деятелем и историком В. Н. Татищевым и позже подхвачен другими историками патриотического направления, в частности Н. М. Карамзиным. В своей книге Голубинский цитирует места из опубликованных Татищевым летописей, куда Татищев добавлял собственные слова и фразы, пытаясь создать впечатление, что русские князья энергично насаждали образование среди своих подданных[21]. Также Голубинский отвергает и другой аргумент в пользу широкой религиозной грамотности русского населения, который утверждает, что тогда как на Западе церковные службы велись на латыни, то есть на иностранном языке, в России языком церкви был церковнославянский, якобы понятный всем верующим[22]. На самом деле разговорный русский значительно отличался от церковнославянского даже в Древней Руси, хотя и не так сильно, как сейчас. Возможно, грамотный человек мог бы понять письменный текст в процессе его прочтения, но понимание на слух довольно сложных текстов церковной службы во время их чтения или пения с амвона было выше возможностей неграмотных верующих. Необразованные русские люди (еще раз – подавляющее большинство населения) не поняли бы церковную службу и на русском языке, утверждает Голубинский, потому что «даже и свой русский язык для простого народа вполне понятен только говорной, но не книжный»[23]. По мнению Голубинского, назначение церковной службы – не обучать религии необразованных людей, а направлять образованных, обладающих определенным уровнем подготовки для ее понимания. Однако среди русских верующих уровень подготовки был близок к нулю.
Еще одна причина, которая упоминается в связи с бедностью богословского образования в Древней Руси, связана с отсутствием необходимых текстов в переводе на церковнославянский. Как замечает Федотов, болгары, которые переводили религиозную литературу с греческого, не имели особых амбиций в приобретении богословских знаний; и переводили они только тексты, которые находились в библиотеках заурядных греческих монастырей. «Русь не имела выбора, но в течение веков была вынуждена мириться с последствиями»[24]. Выбор переводимых текстов и их назначение были крайне ограничены. В основном они сводились лишь к практическим функциям богослужения и поддержания религиозной жизни. Какие-либо философские или научные тексты, и даже серьезные тексты, содержащие христианские догматы, отсутствовали на русском языке. Такая ситуация сохранялась в течение многих веков. Однако возникает вопрос: даже если научные, философские и богословские тексты на русском языке существовали бы, нашли бы они жаждущих читателей? В новообращенной Руси не было никакой традиции школьного образования и не было нужды в распространении знаний, не имеющих практического применения. Откуда же было взяться стимулу, влекущему людей к изучению таких текстов?
Низкий интеллектуальный уровень текстов, доступных и используемых в России, сохранялся в течение столетий после завершения периода Киевской Руси. Голубинский подчеркивает полное отсутствие научных текстов вплоть до XVIII века: «Не имея наук, невозможно писать и сочинений научного свойства. А из этого само собой следует, что как не было писано у нас подобных сочинений в период Киевский, так не могло быть писано их и в период Московский»[25].
Многие российские историки обращают внимание на огромную дистанцию между уровнем образования в Древней Руси и на Западе. Выдающийся ученый В.О. Ключевский объясняет эту разницу, противопоставляя германских варваров и славян. Первые осели на руинах Древнего Рима и без всякого усилия со своей стороны попали под влияние завоеванной культуры. Последние прибыли в лесную глушь, населенную племенами, еще менее обремененными какими-либо знаниями, чем сами славяне. Естественно, славяне ничего не могли заимствовать у местных жителей[26]. Традиция просвещения никогда не прерывалась на Западе. В Средние века она угасла, но не полностью. Чтобы возродить ее, достаточно было раздуть тлевшее пламя античной культуры, в то время как славяне должны были бы с нуля сооружать костер знания – непосильная задача для раннего русского христианства[27].
Федотов создает схожий образ варваров, которые без каких-либо сознательных усилий приобщаются к античной культуре, изучая латынь.
Западные варвары, еще до того, как они научились самостоятельно мыслить и облекать свои мысли в слова (около начала XII в.), в течение пяти или шести веков сидели на школьной скамье, сражаясь с иностранной латынью, заучивая наизусть латинскую Библию и изучая латинскую грамматику, пользуясь Вергилием в качестве учебного пособия. У людей, живших во времена темного Средневековья, не было интереса к культуре как к таковой. Они интересовались только спасением души. Но ключом к этому спасению была латынь. Как язык церкви латынь была священным языком, и все написанное на ней обретало нимб святости[28].
Такое же противопоставление, выраженное в схожих образах – западноевропейские варвары, сидящие на школьной скамье или на соломе и изучающие тонкости христианского богословия и античной философии, – находим в книге российского фольклориста и историка Церкви Е. В. Аничкова:
Не возвышенное, высоко вознесенное богословской мудростью христианство восприяла только что крещеная Русь. Новая ее вера была, конечно, простой верой малых сих. Пока основываются там, на Западе, университеты и, сидя на соломе у ног своих учителей, разноплеменные слушатели богословов-схоластиков узнавали и об Платоне, и об Аристотеле, и об Аверроэсе, умели разобраться в заблуждениях павликиан и манихеев, обсуждали тайну Предопределения и первородного греха, на соборах священников византийские и свои собственные христолюбцы и книжники преподавали самые основы христианской морали и христианского богослужения[29].
Русская знать и священнослужители по крайней мере могли обучиться грамоте или дома, или в монастырях, но простой люд был лишен какого-либо доступа к образованию как религиозному, так и светскому. Истово, горячо веруя, люди тем не менее были абсолютно невежественны в отношении своей религии. Даже в XIX веке на вопрос, знает ли он, что такое Троица, один крестьянин ответил: «Конечно, это Спаситель, Богородица и Николай Чудотворец»[30]. Немецкий исследователь XIX века Август фон Гакстгаузен, профессионально занимавшийся изучением русской общины, непосредственно наблюдая жизнь крестьян в России, писал: «Несмотря на свою глубочайшую веру, преданность и абсолютное подчинение церковным установлениям, большинство русских владеет только крайне поверхностными знаниями догмы. Поскольку они лишь незначительно знакомы с церковной доктриной, их вера в этом отношении так же наивна, как вера ребенка»[31].
Действительно, каким образом русские люди могли получить религиозные знания? В отличие от Запада в России вплоть до XIX века не было школ для крестьян (еще раз – около 90 % населения), а также, как правило, не читались проповеди в приходских церквях[32]. Если приходской священник хотел прочитать проповедь, он должен был представить ее церковному иерарху для получения разрешения, так как Церковь «боялась возможного распространения неортодоксальных учений и идей»[33]. Только высшие церковные чины: епископы, митрополиты и патриархи – могли читать проповеди по своей воле. Но поскольку даже епископы были невежественны, утверждает Голубинский, их пассивность шла только на пользу верующим[34]. Личная инициатива не приветствовалась; религиозные власти должны были быть уверены, что батюшка не распространяет вредные мысли. Еще один историк Русской православной церкви А. В. Карташев приводит любопытный пример, касающийся религиозного рвения провинциального священника. «На вольных просторах Строгановских соляных варниц Пермского края, в частности в г. Орлове (Вятской губ.) загорелся желанием живой проповеди один священник». В 1684 году он, желая нести «живое слово» своей пастве, напечатал «сборник своих, очень простых, невитиеватых поучений».
Такие новые голоса в московской церкви не были, однако, голосами большинства. Последнее оставалось враждебным «живому слову», обзывало церковную проповедь «ересью» и гнало пермского оратора. Противники всякой новизны одновременно и в житейском быте, и в церковном укладе не терпели школы как некоторого опасного множителя сознательности народных масс. Не надо школ как аппарата размножения ненужных умников. Достаточно «мастеров», обучающих кучки добровольцев[35].
Ключевский также подробно останавливается на отношении Церкви к образованию в XVII веке, когда уже и правительство осознавало необходимость расширения ассортимента изучаемых дисциплин. Но Церковь продолжала с подозрением относиться к участию разума в вопросах веры.
Смутно помня, что корни мирской науки кроются в языческой греко-римской стране, у нас брезгливо помышляли, что эта наука все еще питается нечистыми соками этой дурной почвы. ‹…› В одном древнерусском поучении читаем: «Богомерзостен перед Богом всякий, кто любит геометрию; а се душевные грехи – учиться астрономии и еллинским книгам». ‹…› В школьных прописях помещалось наставление: «Братия, не высокоумствуйте! Если спросят тебя, знаешь ли ты философию, отвечай: еллинских борзостей не текох [эллинской наглости не следовал], риторских астрономов не читах, с мудрыми философами не бывах, философию ниже очима видех [философию даже в глаза не видел]; учуся книгам благодатного закона, как бы можно было мою грешную душу очистить от грехов»[36].
Однако изучение «книг благодатного закона» не предполагало размышления над смыслом прочитанного, толкования, составления собственного мнения. Когда Нил Сорский в своей полемике с Иосифом Волоцким призывает к критическому прочтению писанных текстов («Писания многа, но не вся божественна суть»), для Иосифа Волоцкого такой подход не приемлем. Он втолковывал своим ученикам: «Всем страстям мати – мнение. Мнение – второе падение»[37]. Как мы видим, Русская церковь не поощряла образования, которое с церковной точки зрения только плодит ереси.
Глава 2
Религиозная культура Московского государства XV–XVII веков
Церковь и государство
За двумя с половиной веками Киевской Руси последовал период ордынского ига, когда Русская земля лежала в запустении и застое. Князья платили дань ханам Золотой Орды, а также враждовали и воевали между собой, в то время как обнищавшее население просто пыталось не умереть с голоду. В XV веке Русь смогла одолеть ослабленную внутренними распрями Орду, и Московское княжество постепенно захватывает и (или) подчиняет другие русские княжества. После смерти Василия II Темного в 1462 году великим князем Московским становится его старший сын Иван. Значительно снизив участие боярской думы и Церкви в принятии политических решений, к концу своего правления Иван III Васильевич (ум. в 1505 г.) был уже полным и единовластным хозяином русских земель. При нем образуется новое русское государство с центром в Москве, и именно тогда были заложены культурные парадигмы, определяющие сегодняшнюю российскую жизнь.
В самом начале XVI столетия один эпизод в истории Русской церкви мог бы изменить ход политического и общественного развития России. Речь идет о конфликте между стяжателями (иосифлянами), последователями Иосифа Волоцкого, и нестяжателями, чьим духовным вождем был Нил Сорский[38]. Нил пытался убедить Ивана III и церковный Собор изменить статус монастырей, которые владели обширными землями вместе с деревнями и крестьянами. Он призывал монахов отказаться от земных богатств, в том числе от драгоценной церковной утвари, и вести аскетическую жизнь, обеспечивая себе пропитание трудом рук своих. Духовное развитие для нестяжателей заключалось в молитвах и изучении Священных Писаний. Однако к церковной литературе нестяжатели относились критически, считая, что она изобилует ошибками, и к тому же в тексты часто вносятся поправки из политических соображений. Иосиф, настоятель Волоцкого Успенского монастыря близ Москвы, был против такого «радикального»[39] подхода: творческий подход к текстам вел к формированию независимого мнения, а «мнение – второе (грехо)падение». Но главным возражением Иосифа против аскетического образа жизни было утверждение, что монастырская зажиточность необходима для подготовки высших иерархов церкви, а также для помощи бедным и больным.
Ивана III раздирали противоречия. Сначала он склонялся в пользу нестяжателей: идея перевода монастырских сокровищ была соблазнительна. Однако Нил и его сторонники настаивали на полной независимости своих мнений и учений, к тому же они критиковали власть за царившие на Руси беззаконие и несправедливость. В конце концов нестяжатели проиграли: церковный Собор 1503 года поддержал иосифлян. Монастыри сохранили и преумножили свои владения, в то время как бескорыстная духовность и аскетизм, предлагаемые нестяжателями, не смогли пустить корни в русской действительности. Если бы исход конфликта был другим, кто знает, может, в России была бы своя собственная Реформация, но в контексте русской культуры того времени трудно представить себе такую ситуацию. Нестяжатели были диссидентами, которые в России всегда проигрывали. С сохранением статус-кво союз автократического правления и могущественной Церкви означал двойное бремя, ложившееся на русских людей. К концу XV века Церковь уже не имела значительного политического влияния в государственных делах; ее влияние направлялось не наверх, к монарху, а вниз, на народ, и заключалось оно в безоговорочном поддержании власти и в формировании национальной культуры.
В 1547 году внук Ивана III Иван IV (Грозный) был коронован как первый русский царь[40] в семнадцатилетнем возрасте. За годы его тридцатисемилетнего правления политическое влияние боярской думы и Церкви окончательно сошло на нет. В атмосфере ужасающих зверств, которыми прославился царь-садист и его «гвардия» – опричники, никто не осмеливался выразить даже минимального несогласия; одного лишь подозрения на нелояльность было достаточно, чтобы подвергнуть жертву и членов его семьи жесточайшим пыткам, издевательствам и смерти. Нашелся лишь один человек, который дерзнул открыто и принародно высказывать царю упреки в жестокости и злодеяниях по отношению к его подданным: настоятель Соловецкого монастыря Филипп (в миру Федор Колычев) был вызван в Москву и стал по настоянию Ивана Грозного Московским митрополитом. Однако после двух лет служения в этом качестве и нескольких публичных столкновений с царем он был низложен церковным Собором – «позорнейшим из всех, какие только были на протяжении всей русской церковной истории»[41] – и сослан в монастырь. Годом позже его там собственноручно задушил главный опричник царя – Малюта Скуратов[42].
Полемика по поводу латыни и греческого
В XVII веке по окончании Смутного времени, когда на царство был избран Михаил Романов, положивший начало новой династии, в кремлевских палатах стали поговаривать о том, что в России необходимо развивать образование, переводить и печатать книги, а также налаживать более тесные связи с западными соседями. Не чужд этим разговорам был и сын Михаила Федоровича – Алексей Михайлович, второй русский царь из династии Романовых. Чтобы производить современное оружие, нужно было освоить добычу и переработку руд и развивать фабричное производство[43]. Однако для достижения этих целей в стране не было ни образованных людей, ни квалифицированных учителей, которые могли бы вырастить новое поколение специалистов. Геологов, инженеров и советников, могущих не только организовать производство, но и обучить русских мастеров работать самостоятельно, нужно было приглашать из Западной Европы.
Важным элементом образования все еще оставалась латынь как язык многих научных и технических трактатов. Но все, что было связано с латынью, все, что шло от проклятых «латинян», а таковыми были все западные христиане, Церковь считала ересью и потому запрещала. Сношения с «латинянами» допускались только в дипломатии и торговле, ну и, конечно, когда велись войны. Однако просто закупать необходимое оборудование и вооружение было уже не под силу.
Решение вопроса, казалось, могло прийти с юго-запада, из Киева. К середине XIII века Киевское княжество было полностью разрушено и опустошено в результате внутренних распрей и ордынского нашествия. Позже к этому добавились завоевательные действия литовцев и крымских татар. В конце концов юго-западные территории Древней Руси были поглощены Великим княжеством Литовским, а в середине XVI века – Речью Посполитой. Смена культурно-лингвистической среды оказала огромное влияние на население территорий, которые позже станут Украиной и Белоруссией, и привела к образованию этнических групп, отличных от русских по языку и культуре, но в то же время имеющих много точек соприкосновения. Несмотря на постоянное и настойчивое стремление католической Польши обратить православное население в свою веру, православию частично удалось выжить. Появились православные братства и братские православные школы, которые противодействовали католическому и протестантскому влиянию, но для успешной борьбы с этим влиянием была очевидна необходимость западного образования.
Программы братских школ в дополнение к богословским предметам включали арифметику, геометрию, астрономию, музыку, а также и латынь. Пожалуй, самой продвинутой из них была школа в Киеве, учрежденная митрополитом Петром Могилой. После 1615 года эта школа была переименована в Киево-Могилянскую академию, что демонстрировало ее повышенный статус. В Академию принимались православные украинские студенты из всех социальных слоев населения. Преподавание велось по образцам западных школ, и до 1784 года языком преподавания была латынь. Изучались также польский, русский, французский, греческий и арамейский языки.
К середине XVII века Киев стал центром православного книгопечатания, и Москва интенсивно импортировала оттуда книги и тексты. Таким образом, Юго-Западная Русь намного опередила Московское государство в области просвещения, и для внедрения западного образования именно оттуда начали приглашать учителей и переводчиков. Как пишет В.О. Ключевский, «западно-русский православный монах, выученный в школе латинской или в русской, устроенной по ее образцу, и был первым проводником западной науки, призванным в Москву»[44].
В 1649 году молодой царь Алексей Михайлович призвал в Москву учителей из Киево-Могилянской академии и монахов из Киево-Печерской лавры для перевода Библии и других религиозных текстов, а также книг по различным предметам: анатомии, педагогике, географии, политике и другим наукам[45]. В это же время советник и товарищ царя боярин Ртищев открыл школу и пригласил тридцать монахов из Киева преподавать, кроме греческого и латыни, грамматику, риторику и философию[46]. После 1654 года, когда левобережная Украина была присоединена к России по просьбе казаков Богдана Хмельницкого, воевавших с поляками, поток ученых людей с юго-запада в Москву резко возрос. Заговорили об открытии в Москве академии с широкой программой преподавания как религиозных, так и светских дисциплин. В 1678 году известным духовным писателем Симеоном Полоцким была составлена так называемая Привилегия на Академию (после его смерти она была дополнена справщиком Московского печатного двора Сильвестром Медведевым). В этом документе подробно описывалась структура первого высшего учебного заведения России. В 1682 году Привилегия на Академию была передана царю Феодору Алексеевичу, тот одобрил ее, и в 1687 году, когда при регентстве Софьи Алексеевны правили малолетние Иван V Алексеевич и Петр I, была открыта Славяно-греко-латинская академия, просуществовавшая до 1814 года.
Однако в Москве по-прежнему существовала сильная оппозиция любому сближению с Западом, и образование тут не было исключением. «Потребность в новой науке, шедшей с Запада, встретилась в московском обществе с укоренившейся ‹…› веками неодолимой антипатией и подозрительностью ко всему, что шло с католического и протестантского Запада»[47]. По сути, в обществе схлестнулись два подхода к образованию: одни настаивали на обязательном включении латыни в программу обучения, чтобы на ее основе расширить круг научных и общекультурных дисциплин; другие требовали исключить латынь и изучать только греческий. «Прогрессисты» (первые) склонялись к более тесным контактам с Западом, особенно в области науки и техники; консерваторы настаивали на том, что изучать нужно лишь божественные тексты, а для этого достаточно одного только греческого языка. Латынь для них была языком ненавистных западных религий, языком ереси. Только в 1701 году при единоличном правлении Петра I латынь стала основным иностранным языком в программе Славяно-греко-латинской академии.
Реформы Петра Великого открыли Россию западному образованию, науке и технике, а также светскому искусству, но враждебность по отношению к западным культурным традициям все равно сохранялась. Это наследие и поныне остается определяющим фактором в формировании негативного отношения к Западу, порождая недоверие и даже паранойю, что, естественно, отражается на международной политике.
Кажется совершенно необъяснимым, почему иерархи русской Церкви не могли отделить свое неприятие западного христианства от внедрения общего образования, включая латынь, которое было необходимо для успешного развития страны, ее благосостояния и безопасности. Каким образом различия в истолковании нескольких христианских догматов могли так сильно влиять на все аспекты русской жизни вплоть до XVIII века, да в общем-то и вплоть до нашего времени? Возможно, раскол, случившийся одновременно с пиком противостояния между греческим и латинским языками в середине XVII века, может прояснить ситуацию.
Раскол: битва знаков
Когда патриарх Никон решил отредактировать Священные Писания и литургию для того, чтобы привести их в соответствие с современными греческими религиозными текстами и обрядами, он столкнулся с жесточайшим сопротивлением со стороны значительной части духовенства и простых верующих. У Никона не было никаких намерений вносить существенные изменения в православную доктрину. Редактированию подвергались всего лишь несколько формальных элементов богослужения и религиозных текстов. Эти изменения включали смену двоеперстия на троеперстие при совершении крестного знамения; пение хвалы Господу «аллилуйя» не два, а три раза; исправление правописания имени Христа с «Исус» на «Иисус»; изменение количества просфор во время причастия с семи на пять, а также изменение направления крестного хода с посолонь (по солнцу) на противосолонь (против движения солнца). Были также внесены незначительные грамматические поправки в тексты, но, повторим еще раз, никаких изменений в содержании или смысле доктрины не предлагалось. Однако для многих верующих даже минимальные исправления считались ересью и заслуживали анафемы, потому что они верили, что первоначальные формы были даны Богом, а значит, ни единая буква не может быть изменена. Борис Успенский цитирует протопопа Аввакума: «Это маленькая буква, но она содержит великую ересь»[48].
Схожую фанатичность демонстрирует и дьякон Федор, один из соратников Аввакума:
Дьякон Федор, один из лидеров старообрядческого движения, заявил: «Всем нам, православным христианам, надлежит умереть за аз единственный, который этот проклятый враг [патриарх Никон] выбросил из Символа веры». Речь здесь идет об исключении союза а из текста Символа веры. В первоначальном тексте было рожденна, а не сотворенна, в новом же написании стало рожденна, не сотворенна. А Федор действительно погиб за свою веру, приняв мученическую смерть на костре[49].
Ключевский спрашивает, почему только в России незначительные формальные изменения вызвали такое мощное противодействие и раскол невиданного масштаба, хотя обряды и тексты были, конечно, важны во всем христианском мире, но все-таки не до такой степени[50]. Объяснение, которое он предлагает, заключается в отношениях Русской православной церкви с Византией. Традиционно Русская церковь подчинялась византийскому патриархату, но греческие иерархи никогда не пользовались особым уважением среди русских, считавших греков мошенниками. «Древняя Русь высоко ставила церковный авторитет и святыни греческого Востока, но грек и плут всегда считались у нас синонимами!»[51] По сообщению Н.И. Костомарова, хорватский лингвист и миссионер XVII века Юрий Крижанич, который провел в России около двадцати лет и был одержим идеей объединения всех славян под правлением русского царя, выражал крайне враждебные чувства по отношению к грекам «в особенности за их невежество, высокомерие и лживость»[52].
Два события, произошедшие в XV веке, усугубили прохладное, мягко говоря, отношение Москвы к грекам. На Вселенском соборе во Флоренции в 1439 году Византия подписала унию с Римской католической церковью на условиях католиков. Среди прочих изменений в православных догматах принималось главенство папы римского во Вселенской церкви, признавалось филиокве (утверждение, что источником святого духа является не только Бог Отец, но и Бог Сын) и предполагалось совершение таинства причастия по католическим правилам. Московская церковь отвергла унию, что вызвало значительную, хотя и недолговечную, напряженность в отношениях между Москвой и Константинополем. А через несколько лет после подписания унии, в 1453 году, Византия была завоевана турками, и, хотя константинопольский патриархат удержал все свои функции, центр православия переместился в Москву как единственное независимое православное государство. Теперь греческие иерархи приезжали в Москву не как обладатели власти и влияния, а за финансовой поддержкой, что, естественно, вызывало у русских чувство превосходства – и в то же самое время протеста против формального верховенства константинопольского патриархата.
В 1524 году псковский старец Филофей в послании к великому князю Московскому Василию III в довольно-таки поэтической манере отразил действительную ситуацию в отношениях между двумя центрами православия: «Внимай тому, благочестивый царь! Два Рима пали, третий – Москва стоит, а четвертому не бывать»[53]. Наконец, в 1589 году Россия получила свой собственный патриархат. Греческий патриарх Иеремия II, «приехавший в Москву за милостыней, посвятил московского митрополита Иова в сан всероссийского патриарха, чем окончательно закрепил давно свершившееся обособление Русской церкви от константинопольского патриархата»[54]. Это событие еще больше усилило веру в исключительную роль Русской православной церкви в мировом христианстве.
Органический порок древнерусского церковного общества состоял в том, что оно считало себя единственным истинно правоверным в мире, свое понимание божества – единственно правильным, Творца Вселенной представляло своим собственным русским Богом, никому более не принадлежащим и неведомым, свою поместную церковь ставило на место Вселенской. Самодовольно успокоившись на этом мнении, оно и свою местную церковную обрядность признало неприкосновенной святыней, а свое религиозное понимание нормой и коррективом боговедения[55].
Ключевский считает, что представление Москвы о себе как о центре мирового православия породило у российских «боговедов» чувство безграничной гордости, которое и мешало им принять любые изменения в текстах и обрядах, унаследованных от предков. Ведь все эти изменения шли от греков, которые в их глазах утеряли былую славу и лидерство, во-первых, поддавшись «проклятым латинам» и подписав унию в 1439 году, а потом сдав «второй Рим» «поганым туркам» в 1453 году. Так что, когда в середине XVII века патриарх Никон начал редактировать древние книги и обряды в соответствии с современной греческой традицией, значительная часть российского духовенства и верующих взбунтовалась, считая этот процесс кощунственным посягательством на новообретенную национальную гордость, Москву – Третий Рим. Положение усугублялось тем, что редактирование в основном было поручено юго-западным «грамотеям» и грекам – налицо было иностранное вмешательство. Кроме того, монахи из Киева, получившие образование по западным образцам, обвинялись в латинских тенденциях, что еще более усиливало неприятие нововведений[56].
Такое объяснение причин раскола вполне может быть применимо к тем священникам и иерархам Русской православной церкви, которые обладали хотя бы минимальными знаниями религиозной жизни и межцерковных отношений. Что же касается обыкновенных приходских священников, Карташев предлагает следующую причину неприятия многими из них никоновских реформ: священники были настолько безграмотны, что освоение нововведений в текстах и обрядах представляло для них неодолимое препятствие[57]. Но как эти объяснения приложимы к тысячам безграмотных верующих, которые понятия не имели об отношениях с Константинополем, о Москве – Третьем Риме, и которым не было нужды напрягать свои мозги для обретения новых знаний? Почему самые обыкновенные люди с такой самоотверженностью сопротивлялись реформам и готовы были умереть под пытками из-за каких-то букв или знаков? Не потому ли, как предлагает Н.М. Никольский, элементы, которые подвергались ревизии, имели свое собственное, магическое значение для русских – как знати, так и простонародья?
Центр тяжести христианского византийского культа лежит в отправлении общественного богослужения, сконцентрированного вокруг евхаристии, основной службы, связанной с догматом искупления. Но идея эта совершенно не была понятна тогдашнему высшему обществу. В богослужении главное значение придавалось точному, без всяких пропусков, чтению и пению всего положенного по чину; формулам и обрядам [курсив Никольского] богослужения придавалось магическое [курсив мой. – К.К.] значение, независимо от того, в каком порядке они следовали. Формула пения аллилуйи считалась великой сокровенной тайной; Стоглавый собор установил догмат двоения аллилуйи. Порядок хождения крестным ходом также считался «великим премудрым догматом»: тот же собор установил, что магическое действие крестный ход имеет только тогда, когда он идет по солнцу, а не против солнца. Двоеперстие (крестное знамение двумя перстами) также считалось великой тайной, обладающей магической силой; всякое иное сложение пальцев при крестном знамении и при благословении считалось грехом, и грехом смертным[58].
Таким образом, поскольку, в силу отсутствия должного образования, богословское содержание христианства было недоступно верующим в России, включая священнослужителей, то самым значимым элементом религиозных текстов и обрядов была их форма, обладающая магическими свойствами, схожими с характеристиками древних языческих верований. «Анимистические представления слишком глубоко вкоренились даже в умы тогдашнего духовенства, и оно донесло их вплоть до XIX века»[59]. Такого же мнения придерживается и митрополит Макарий (Булгаков): «И суеверие, самое грубое суеверие во всех возможных видах, господствовало в массах русского духовенства и народа и потемняло, подавляло в сознании как пастырей, так и пасомых те немногие истинные и здравые понятия, какие могли они иметь о догматах своей православной веры»[60]. Простые верующие продолжали активно пользоваться магическими формулами и ритуалами, унаследованными от дохристианского язычества. Но с принятием христианства произошло слияние древнего язычества и новой религии, сформировавшее своеобразную веру, которая была христианской по форме и языческой, магической по функции.
Иногда даже христианские праздники принимали языческую форму. Так, в Русской православной церкви день памяти святых Константина и Елены празднуется в честь признания христианства в Римской империи при императоре Константине и его матери Елене. Однако русские крестьяне радикально изменили значение этого праздника, приспособив его к своим потребностям. История Древнего Рима была далека, непонятна и, скорее всего, неведома; гораздо ближе были насущные крестьянские нужды. Народная форма имени Елена была Олена. День памяти этих святых приходится на 21 мая – время, когда сеют лен. В результате праздник, отмечающий принятие христианства, превратился в магический ритуал, который должен был обеспечить хороший урожай льна. Вплоть до XIX века крестьянка, сеющая лен, выходила в поле совершенно нагая – в надежде, что лен сжалится над ней и вырастет высоким и здоровым, чтобы ее приодеть[61].
Культ икон и святых у русских православных в своих функциях мало чем отличался от культа языческих идолов в дохристианской Руси. К иконам относились как к живым существам: они могут слышать и понимать. Чтобы установить прямой контакт с ними, верующие молились только перед иконами – и только перед своими иконами – и даже приносили свои иконы в церковь. Хотя в 1667 году Московский церковный собор осудил такую практику, она продолжалась и в XVIII веке. Иконы «обряжали» в ризы, часто серебряные, а иногда и золотые, ризы украшали жемчугом и драгоценными камнями, если владелец мог себе это позволить. К иконам прикрепляли деньги в надежде на особое отношение. Но если икона не исполняла то, о чем ее молили, она могла быть наказана. Случаи наказания икон отмечают как иностранные путешественники, так и российские ученые[62]. Никольский описывает, как в 1611 году, когда во время завоевания Новгорода шведами в городе бушевали пожары, один новгородец молился иконе Николая Угодника, прося охранить дом от пламени. Когда же дом все-таки загорелся, новгородец бросил икону в огонь, сказав: «Ты не хотела помочь мне, теперь помоги самой себе»[63]. Даже в XIX веке традиция наказания икон все еще была жива в крестьянской среде. Т. А. Кузминская (Берс) заметила однажды, что в комнате старой горничной Толстых образ Николая Угодника был повернут лицом к стене. Оказалось, икона была наказана за то, что молитва горничной не дала желаемого результата[64]. Во время полового акта крестьяне покрывали иконы полотенцем[65]. Идолизация икон и другие пережитки язычества в русском православии были широко распространены, а некоторые живы и поныне. Крестьяне, лишенные какого-либо религиозного образования, передавали из поколения в поколение лишь древние языческие традиции. В деревнях священники должны были конкурировать с ведунами и колдунами, часто приспосабливая их магические волхвования и заклинания к христианской службе[66].
Именно в силу глубоко коренившихся пережитков язычества в сознании верующих магические составляющие верований, которые заключались в формальных элементах текстов и обрядов, были неимоверно важны для русских, и их изменение воспринималось как кощунство и смертный грех.
Такой исключительный акцент на форме объясняет, почему все, написанное на латыни, включая Евангелия и другие канонические тексты, отвергалось Русской церковью, почему этот язык был запрещен в школах и почему духовенство, знающее его, не могло им пользоваться даже в разговорах с западными визитерами. «Латынь воспринималась как парадигматически еретический язык, который по своей природе искажал содержание христианского учения. Предполагалось, что невозможно говорить на латыни и оставаться православным»[67]. Когда газский митрополит Паисий пытался спорить с Никоном на латыни, тот воскликнул: «О хитрый раб, я сужу по губам твоим, что ты не православный, потому что ты осквернил нас латынью»[68]. Латынь была языком «свободных учений», «свободы взыскания», «свободы исследования» – языком, отвечающим не только высшим духовным, но и житейским нуждам. Греческий же был языком служебным, предназначенным исключительно для изучения божественных текстов. Церковь призывала «не учася хитростям, в простоте Богу угождати»[69]. По этой причине каждое слово, каждая мысль, шедшие с Запада, какими бы полезными и выгодными они ни были, отвергались, поскольку источником их была нечестивая вера (католицизм или протестантизм) и вместе с «хитростями» они несли в себе ересь. Отсюда – сопротивление любому образованию в западной манере. В этой борьбе между двумя идеологиями латынь проиграла. Русское духовенство сделало свой выбор: для того, чтобы «угождать Богу», просвещение не только не обязательно, но и вредно.
Русская культура: ориентация на выражение
То, что русская религия была практически лишена глубокого богословского содержания, а все внимание сосредоточивалось лишь на внешних элементах обрядов и текстов, привело к созданию культуры, в которой внешняя форма, или выражение, принимала функции содержания. Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский различают два типа культур: «культура, преимущественно направленная на выражение, и культура, преимущественно направленная на содержание»[70]. В первой связь между выражением и содержанием строго детерминирована и не может быть изменена; в последней эта связь относительно произвольна. В первой, например, написание имени Бога отождествляется с самим Богом: нельзя заменить Исус на Иисус – это будет считаться кощунственной подменой настоящего Бога на лжебога: для староверов Иисус было именем не Христа, а антихриста.
Чтобы проиллюстрировать разницу между двумя культурами, Лотман и Успенский противопоставляют ритуал и символ. «В известном смысле символ и ритуал могут рассматриваться как антиподы: если символ предполагает обычно внешнее – и относительно произвольное – выражение некоторого содержания, то за ритуалом признается, напротив, способность формировать содержание, оказывать на него влияние»[71]. Таким образом, в культуре, направленной на выражение, каждое явление (содержание) жестко связано со своим именем или названием: если изменить имя (название), то изменится и содержание. Для культуры, направленной на выражение, все культуры, в которых соответствие между названием и содержанием отличается от принятого в данной культуре, воспринимаются не просто как другие культуры, а как «плохие» культуры – антикультуры. Во втором типе культуры (культура, направленная на содержание) название явления может быть легко изменено по уговору, никак не влияя на сущность явления.
Описанная выше русская религиозная культура, без сомнения, принадлежит к категории культуры, направленной на выражение[72]; она сформировала и общую национальную культуру такого же типа, то есть культуру, в которой внешняя форма в буквальном смысле создает содержание в сознании людей. Поэтому культурные коды, определяющие поведение, не заставляют людей улучшать содержание; вместо этого все усилия направляются на улучшение формы.
Когда константинопольский патриарх Иеремия II приехал «за милостыней» в Москву в 1588 году, его принимал Борис Годунов, фактический правитель государства при царе Федоре Ивановиче. В намерения Годунова входило основание своего собственного российского патриархата, но для этого было необходимо формальное благословение византийского патриарха. Поэтому греческую делегацию обхаживали дорогими подарками, деньгами и обильными трапезами в Московском Кремле. Гостей поразили парчовые ризы, украшенные жемчугом и драгоценными камнями, серебряные и золотые оклады икон, огромные серебряные столовые сосуды в виде животных, птиц и деревьев, а также сверкающая золотом настенная мозаика[73]. Вся эта роскошь призвана была символизировать богатство и могущество государства. Однако на самом же деле, как пишет Крижанич, «на Руси нигде не видно и не слышно ни о каком богатстве (кроме царской казны) и повсюду – бедность и пустая нищета»[74]. Приведем наглядный пример из середины XIX века. Русские приходские священники, получая ничтожную финансовую поддержку от государства или консистории, жили в крайней бедности. Чтобы помочь нуждающимся, был устроен сбор средств для облегчения их положения. Было собрано 2,5 миллиона рублей, но из этих денег «два миллиона были потрачены на содержание и украшение церквей, и только 174 000 рублей пошли непосредственно на нужды священников»[75].
Лотман и Успенский определяют культуру как «ненаследственную память коллектива, выражающуюся в определенной системе запретов и предписаний»[76], и заявляют, что культура может быть одновременно статичной и динамичной. Иными словами, культура может стремиться к изменению и в то же время пытается оставаться прежней. Для различных культур соотношение динамики и статики будет разным. «Для многих культур типично стремление увековечить каждое современное (синхронное) состояние»[77]. Похоже, что русская культура вполне подпадает под это определение, будучи инертной и стремясь все время к сохранению статус-кво.
Глава 3
Санкт-Петербург: появление и развитие светской культуры
Реформы Петра I: окно в Европу?
В начале XVIII века молодой и энергичный царь, первый русский император Петр Алексеевич – Петр I, Петр Великий – обрушил на страну невиданные доселе реформы. Попытки европеизации России предпринимались и ранее отцом Петра I и его братом Федором Алексеевичем, но они не принесли сколько-нибудь существенных изменений в русскую жизнь. А Петр в ходе своего волевого правления в корне поменял суть государства, открыв Запад России и Россию Западу. Реформы принесли в Россию европейское просвещение, науку, технику и все виды светского искусства. Конечно, эти перемены мало что изменили в жизни подавляющего большинства населения, крестьян: европейские новшества были доступны лишь относительно небольшому кругу богатых и облеченных властью людей, но лицо государства изменилось до неузнаваемости – даже в буквальном смысле. Для культуры, направленной на выражение, европеизация прежде всего означала принятие европейского облика. Поэтому приближенные государя под страхом строжайшего наказания должны были сбрить бороды и сменить традиционные кафтаны на европейские сюртуки: изменение содержания было жестко связано с изменением формы.
В 1703 году Петр основал новый город – Санкт-Петербург – и перенес в него столицу государства. Создание города-порта имело вполне прагматичные цели: Россия получала выход в Балтийское море, а следовательно, открывала «окно в Европу». Но, возможно, решение о переносе столицы отчасти преследовало те же ритуальные цели, что и бритье бороды. Безупречный европейский облик Санкт-Петербурга должен был облегчить формирование европейской сути государства. В Москве с ее «сорока сороками», Кремлем, боярством и купечеством – всем культурным наследием прошлого – петровские реформы увязли бы, как в болоте, а вот в новом городе, реально построенном на болоте, Петр преуспел во внедрении европейских наук и искусств в жизнь высшего социального слоя, и примерно через сто лет плоды его реформ постепенно стали доступными наиболее талантливым и мотивированным представителям низших слоев. Однако старые обычаи, традиции и ценности Московии упрямо сопротивлялись любым попыткам реформирования, настолько прочно они укоренились в сознании не только необразованных крестьян, но и новых «европейцев».
Выбор правильного пути: славянофилы и западники
В XIX веке многие образованные русские сознавали богословскую безграмотность населения и часто сравнивали религиозную жизнь народа с язычеством. В то же время другая часть образованного класса настаивала на уникальном религиозном таланте русского народа – инстинктивной способности любить Христа, не требующей никакого специального образования. К середине XIX столетия в среде русской интеллигенции[78] зародились два противоборствующих идеологических движения – славянофилы и западники. Первые были убеждены в том, что Петровские реформы исказили истинный и уникальный путь исторического развития России, что русский народ никаких выгод от европеизации не получил и ничего хорошего заимствовать у европейской культуры не мог. Испокон веков, утверждали славянофилы, русские имели огромное духовное преимущество перед Европой, заключавшееся в православии. К славянофилам примыкали почвенники, которые также идеализировали древнюю русскую (московскую) историю, русский народ и православие, верили в духовное превосходство русских над европейцами, отвергали культурную и нравственную европеизацию России и призывали к возвращению на исконные русские пути развития государства. Существенным отличием почвенников от славянофилов было признание почвенниками необходимости заимствования и внедрения европейской науки, техники и образования в российскую жизнь. А западники стояли на том, что Россия должна избавиться от наследия древней московской культуры и влиться в семью европейских народов, приняв общие европейские культурные ценности и двигаясь по западному пути развития.
Одним из самых заметных представителей почвенничества был Ф.М. Достоевский, чьи нравственные и политические взгляды отражены в «Дневнике писателя», ежемесячном журнале, выходившем в 1876–1877 и 1880–1881 годах. В 1873 году под тем же названием Достоевский вел рубрику в еженедельнике «Гражданин».
В 1876 году Достоевский полемизировал на страницах журнала с писателем и критиком В.Г. Авсеенко, который саркастически отзывался об идеализации русского народа интеллигенцией. Перед началом пространной атаки на своего оппонента Федор Михайлович создает контекст, цитируя два больших абзаца из статьи Авсеенко, утверждающего, что только живущие в полной изоляции от народа могут создать идеализированное представление о нем.
Народные идеалы, – отзывается Авсеенко на призыв славянофилов и почвенников сближаться с народом, – только потому и были ясны, что народная жизнь текла бесконечно далеко от жизни образованного круга, что условия и содержание этих двух жизней были совершенно различны. Вспомним, что люди малообразованные, жившие очень близко к народу, давно уже практически и материально удовлетворившие этому запросу на сближение, совсем не замечали прекрасных народных идеалов и твердо верили, что мужик – собака и каналья[79].
В ответе Достоевского можно усмотреть некоторую «ловкость пера». Авсеенко, нелестно высказываясь о русском народе, ни разу не упоминает православие, но Федор Михайлович, настаивая на органической связи между народом и православием, обвиняет его в нападках на православную веру, а не только на народ: «Тут, в этом хитреньком подборе слов, всего важнее вывод, что народные начала (и православие вместе с ними, потому что, в сущности, все народные начала у нас сплошь вышли из православия) не имеют никакой культурной силы, ни малейшего воспитательного значения, так что за всем этим нам необходимо было отправляться в Европу»[80]. Изречение в скобках: «Все народные начала у нас сплошь вышли из православия» – стало, пожалуй, одной из самых цитируемых фраз Достоевского, отражающей убеждение писателя и всего лагеря славянофилов и почвенников в полном тождестве между русским народом и православной верой.
В соответствии с этим убеждением русский народ является единственным истинным носителем христианства, в то время как европейцы утратили свою духовность. Католики превратились в клерикальное государство, а протестанты стремительно сближаются с атеизмом[81]. Православие же, считает Достоевский, «это вовсе не одна только церковность и обрядность, это живое чувство, обратившееся у народа нашего в одну из тех основных сил, без которых не живут нации. В русском христианстве, по-настоящему, даже и мистицизма нет вовсе, в нем одно человеколюбие, один Христов образ»[82]. Русский народ сохранил это «живое чувство», «не забыл в течение двухвекового рабства, мрачного невежества, а в последнее время – гнусного разврата, матерьялизма, жидовства и сивухи»[83].
Возникает вопрос, откуда исходит эта глубинная духовность русских крестьян и каким образом возникла их уникальная любовь к Христу? Ответ на первый вопрос заложен в самом слове «почва», которое постоянно фигурировало в риторике почвенников. Достоевский утверждает, что «порвавший с народом „интеллигентный“ русский ‹…› не поймет никогда, что учитель мужика „в деле веры его“ – это сама почва, это вся земля русская, что верования эти как бы рождаются вместе с ним и укрепляются в сердце его вместе с жизнию»[84].
Я полагаю, что семантика слова «почва» у почвенников очень близка, если не идентична, значению понятия «национальная культура» в данном исследовании. Имея это в виду, можно представить взгляды Достоевского и других почвенников следующим образом. Допетровская Россия развивалась органично, двигаясь своим собственным путем в колее своей русской культуры; она «была деятельна и крепка, хотя и медленно слагалась политически». Но самое главное, она несла в себе «драгоценность» истинной христианской веры, которой не было нигде больше. Достоевский признает здесь, что Московская Русь была не права, полностью изолировав себя от Европы и тем самым перекрыв не только пагубное влияние утративших истинную веру католиков и протестантов, но и доступ к западным техническим достижениям. А кроме того, такая изолированность исключала и обратное влияние – распространение православия на Запад[85]. Петр, открыв Россию наплыву европейской культуры, разбил нацию на две части: народ, хранящий «драгоценность» истинного христианства, и образованный класс, полностью оторвавшийся от национальной культуры, «почвы», народа. Лишь ничтожная часть интеллигенции – славянофилы и почвенники – понимают ценность духовного сокровища, хранимого в народе, и призывает к единению с ним. И лишь они обладают исключительным знанием русского народа.
Я видел народ наш и знаю его, жил с ним довольно лет, ел с ним, спал с ним и сам к «злодеям причтен был», работал с ним настоящей мозольной работой, в то время когда другие, «умывавшие руки в крови», либеральничая и подхихикивая над народом, решали на лекциях и в отделении журнальных фельетонов, что народ наш «образа звериного и печати его»[86].
Достоевский ссылается здесь на свое единение с народом на каторге в Сибири, где он провел шесть лет. Но ведь другие славянофилы и почвенники, убежденные в духовном таланте русского народа, не имели привилегии «работать с ним настоящей мозольной работой». Откуда же у них это исключительное знание мужика – знание, которого лишены были западники? Тургенев или Герцен (западники) имели такую же возможность наблюдать русский народ в своих поместьях, что и братья Аксаковы или Киреевские (славянофилы).
Но как же конкретно русская культура (почва) наделила народ этой беспрецедентной слиянностью с Христом? Вначале Достоевский предлагает довольно-таки неубедительное объяснение: народ научился христианству «в храмах, где веками слышал молитвы и гимны, которые лучше проповедей»[87]. Как это понимать? Ведь каждый отдельный представитель народа слышал эти молитвы лишь в течение своей жизни, а не «веками» – ведь знание не передается по наследству. Или все-таки передается, и Достоевский был ламаркистом, признающим возможность наследственной передачи приобретенных характеристик последующим поколениям? Вряд ли. Ю. Карякин заметил (по другому поводу): «Скорее всего Достоевский Ламарка не читал»[88], поэтому «веками» – это романтическое понимание народа как цельного и вечного организма, обладающего единой вневременной памятью. «Наша нищая неурядная земля, кроме высшего слоя своего, вся сплошь как один человек. Все восемьдесят миллионов ее населения представляют собою такое духовное единение, какого, конечно, в Европе нет нигде и не может быть»[89]. Такое представление о духовной цельности всего русского народа и накапливающейся веками народной памяти позволяет Достоевскому отметать аргументы оппонентов, утверждающих, что необразованный крестьянин не понимает церковнославянского языка религиозных служб и что он «и веры не знает ‹…› он и молитвы не умеет прочесть, он поклоняется доске и лепечет какой-то вздор про святую пятницу и про Флора и Лавра»[90]. Но далее Достоевский предлагает гораздо более рациональное объяснение инстинктивного христианства русского народа: «Знает же народ наш Христа Бога своего, может быть, еще лучше нашего, хоть и не учился в школе. Знает, – потому что во много веков перенес много страданий и в горе своем всегда, с начала и до наших дней, слыхивал об этом Боге-Христе своем»[91]. И в другом месте: «Вот потому-то, что народ русский сам был угнетен и перенес многовековую крестную ношу, – потому-то он и не забыл своего „Православного дела“ и страдающих братьев своих, и поднялся духом и сердцем, с совершенной готовностью помочь всячески угнетенным»[92]. Достоевский, таким образом, выводит русский талант сострадания из тяжелой жизни русского крестьянина, на себе постигавшего угнетение и испытания, выпавшие на долю человека, попавшего в беду. Забегая вперед, скажем, что это чувство сострадания и готовность помочь, облегчить участь страдающим становятся тем более понятными, если принять во внимание своеобразие жизни в русской крестьянской общине; чтобы выжить, крестьяне могли рассчитывать только на самих себя и на членов своей общины – никакой надежды на закон или на справедливое отношение со стороны хозяев жизни не было. Без традиции выручки и поддержки между членами общины исчезла бы последняя соломинка, последняя надежда на спасение. Христианский же аспект такой взаимной помощи является как бы «надстройкой» над общечеловеческим, добавляя надежду на высшую и вечную награду, если помощь оказывается «Христа ради».
Русский человек действительно может быть добрым, щедрым и бескорыстным. В то же самое время Достоевский признает, что «наш народ грешен и груб, ‹…› зверин еще его образ ‹…› Народ грешит и пакостится ежедневно»[93]. Но как же уникальный, можно сказать, врожденный талант к христианской любви и вообще беспримерная духовность, на которых настаивает Федор Михайлович, могут сочетаться у русских людей со «звериным образом» и ежедневной греховностью? В дополнение к своей мистической вере в духовный талант русского народа Достоевский опять предлагает вполне резонное практическое объяснение: «Но будьте же и справедливы хоть раз, либеральные люди: вспомните, что народ вытерпел во столько веков!»[94] Так что проявления как доброты, так и жестокости в русском народе можно объяснить многовековой историей угнетения, страданий и безысходности, которым каждое поколение было подвержено с раннего детства.
В то время как славянофилы полностью отвергали петровскую европеизацию России, почвенники, как уже сказано, понимали и принимали необходимость технического прогресса, пришедшего вместе с реформами, настаивая при этом на возвращении к древней московской культуре. Достоевский не находит никаких проблем в перенимании европейских наук и ремесел, но призывает к сохранению древних народных ценностей и традиций во всей их первозданной чистоте. Кладезем же этих ценностей и традиций он видит русскую духовность, прочно коренящуюся в православии.
Науки и ремесла действительно не должны нас миновать, и уходить нам от них действительно некуда, да и незачем. Согласен тоже вполне, что неоткуда и получить их, кроме как из западноевропейских источников, за что хвала Европе и благодарность наша ей вечная. Но ‹…› свет духовный, озаряющий душу, просвещающий сердце, направляющий ум и указывающий ему дорогу жизни ‹…› – такое просвещение нам нечего черпать из западноевропейских источников за полнейшим присутствием (а не отсутствием) источников русских[95].
Конечно, такое разделение просвещения на техническое (европейское) и духовное (русское, православное) является полнейшей утопией. Европейские науки, промышленность и светское образование, а также многочисленные их носители-иностранцы не могли прибыть в Россию и жить там в вакууме – они несли в Россию не только полезную технику, но и «заразу» европейского мировоззрения. Чтобы предотвратить проникновение хотя бы минимального набора европейских идей, нужно было бы идти славянофильским путем, то есть вернуться к полной изоляции от Европы, как в старые добрые времена Московской Руси. С этим Достоевский был не согласен, так как тогда пришлось бы забыть о науках и ремеслах и оставаться отсталой и неконкурентоспособной страной. В общем, куда ни кинь…
Тем не менее славянофилы и почвенники оказались лучшими «социальными психологами», чем западники. Они понимали, что прямая пересадка иностранной культуры на русскую почву непродуктивна, нежелательна и в принципе невозможна. В своем ответе профессору Санкт-Петербургского университета западнику А.Д. Градовскому, критикующему почвеннические позиции Достоевского и убежденному в необходимости установления общественных учреждений в России в европейском духе, Федор Михайлович был категоричен:
‹…› общественных гражданских идеалов, как таких, как не связанных органически с идеалами нравственными, а существующих сами по себе, в виде отдельной половинки, откромсанной от целого вашим ученым ножом; как таких, наконец, которые могут быть взяты извне и пересажены на какое угодно новое место с успехом, в виде отдельного «учреждения», таких идеалов, говорю я, – нет вовсе, не существовало никогда, да и не может существовать![96]
‹…› гражданские идеалы всегда прямо и органически связаны с идеалами нравственными, а главное то, что несомненно из них только одних и выходят[97].
Он обвиняет западников в том, что они «ищут спасения в вещах и явлениях внешних» и верят, что «стоит пересадить к нам из Европы какое-нибудь „учреждение“ и все спасено»[98]. Эти европейские формы, утверждает Достоевский, отторгаются русским народом. По утверждению Евгения Павловича Радомского, одного из героев романа «Идиот», европейский либерализм, например, чужд русской национальной культуре. Он распространен только среди «помещиков и семинаристов», но «нация ничего не признаeт из того, что сделано помещиками и семинаристами, ни теперь, ни после…»[99]. Даже те «помещики и семинаристы», которые считают себя либералами, таковыми не являются. «Никогда наш либерал не в состоянии позволить кому-нибудь свое особое мнение и не ответить тотчас же своему оппоненту ругательством или даже чем-нибудь хуже…»[100]. С Евгением Павловичем согласен и идеальный герой Достоевского, князь Мышкин, «русский Христос».
Иллюстрацией правоты славянофилов и почвенников, осознающих бесплодность имитации европейской культуры на русской почве, являются неудачные попытки построить в России свободное демократическое общество – сначала социалистического толка, а потом – капиталистического. Стоит также вспомнить многочисленные примеры недавних войн и революций, когда сверхзадачей их движущих сил было стремление свергнуть реакционные и коррупционные режимы, обрести свободу и справедливость и, как следствие, экономическое процветание, как на Западе. Но после победы революций и в результате насильственных свержений диктаторов западными коалициями свобода выразилась в некоем подобии выборов, в результате которых на смену одним режимам пришли другие, не менее реакционные и коррупционные; на смену же диктаторам пришли хаос и гражданские войны, и все «вернулось на круги своя», или, пользуясь более свежей цитатой, «хотели как лучше, а получилось как всегда».
В одном, однако, славянофилы и западники были согласны: и те и другие с готовностью признавали, что образованный класс живет в полной изоляции от народа. В поисках путей преодоления этой пропасти два главных идеологических движения того времени вели непрекращающиеся баталии. Славянофилы предрекали, что утеря интеллигенцией истинной народной православной веры поведет Россию по гибельному пути атеизма, социализма и революции. Достоевский озвучил эти опасения в своем романе «Бесы». В каком-то смысле эти пророчества оправдались последствиями революции 1917 года, хотя не отрыв интеллигенции от народа привел к этой катастрофе и даже не «жиды», а другие причины – политические, экономические и социальные, в основном три года изнуряющей войны и бездарное правление последнего царского режима. Западники же – если не все, то многие – отнюдь не идеализировали народ, а, напротив, признавали за ним существенные нравственные недостатки: пьянство, вороватость, лживость. Они видели выход в насаждении массового просвещении и в создании в России социальных и политических институтов («учреждений») европейского типа. Но оказалось, что и этот путь вел в тупик. Чаяния западников воплотились в жизнь в XX веке: проект просвещения во всенародном масштабе с успехом был реализован советской властью, а западные институции внедрены после перестройки, но Россия сейчас еще дальше от Европы, чем была в XIX веке. В течение двух столетий в России мусолили идеалы европейского либерализма, но русская национальная культура без всяких усилий вытеснила их на задворки политических дискуссий, где они и поныне влачат жалкое существование. Евгений Павлович был прав: нет в России настоящих либералов. Даже среди оппозиции авторитаризму. Поэтому напрасно их окрестили «либерастами». Настоящих либералов среди русской интеллигенции примерно столько же, сколько настоящих педерастов, а то и меньше. А вот консерваторы, вопреки мнению Федора Михайловича, в России были, есть и будут. Тоже, конечно, не европейского типа – свои, национальные. Любая культура пытается себя законсервировать, и русская в этом смысле не исключение.
И все же разрыв между образованными классами и народом был не так абсолютен, как казалось представителям обоих движений. Европейское просвещение, которое стало доступно вследствие Петровских реформ, не искоренило национальные характеристики, рожденные и развитые в Древней Руси. Тенденции авторитаризма, строгой иерархичности, уважения «сильной руки», приоритета дисциплины перед свободным развитием, ориентированности культуры на выражение, а не на содержание, правовой нигилизм никуда не исчезли ни в народе, ни в интеллигенции. Живы они и поныне. Причины этого будут рассмотрены во второй и третьей частях данного исследования.
Глава 4
Религия в постсоветской России
Церковь и государство
В течение семидесяти лет после революции 1917 года россияне жили в стране официального атеизма. Формально религия не была запрещена, но государство подвергало граждан активной антирелигиозной пропаганде, запрещало любые виды религиозного образования, а уж если кто-то упрямо решал верить и исполнять церковные обряды, такому человеку был отрезан путь в комсомол и в партию, без членства в которых доступ наверх был заказан. Да и просто сделать карьеру средней руки открыто верующему человеку было невозможно. Для большинства, однако, особой трагедии в этом не было. Ко времени коллапса советского режима только бабушки и ходили в церковь, чтобы молиться, ставить свечи и святить куличи. Для остальных советских людей религия была любопытным феноменом или предметом историко-культурного изучения. Это в лучшем случае, ну а в худшем – она просто оставалась за пределами их интересов. В 1960-1980-х годах наблюдался некоторый рост интереса молодежи к религии, выражавшегося в посещении церквей и синагог во время главных религиозных праздников под зорким оком дружинников, милиции и гэбэшников в штатском. Несомненно, среди молодых были истинно верующие, но – единицы, чаще всего из семей, где вера передавалась из поколения в поколение. А для основной массы главной мотивацией обращения к религии было все-таки выражение протеста против обрыдлого режима – протеста, сходного по духу и часто по составу участников с диссидентским движением, зародившимся в середине 1960-х. В качестве примера можно привести возросшую религиозную активность среди молодых евреев, которая стала реакцией на проявления государственного антисемитизма после разрыва дипломатических отношений с Израилем (с 1967 по 1991 год) и всплеск активной «антисионистской» (антисемитской) пропаганды после Шестидневной войны 1967 года и войны Судного дня 1973 года.
С началом перестройки в конце 1980-х официальные барьеры, препятствующие распространению религии, были сняты. Теперь население могло исповедовать любую веру или же оставаться равнодушным к вопросам веры, что было типично для большинства граждан позднего СССР. И вдруг, в мгновение ока, стали возрождаться церкви и соборы, приспособленные в советские времена под овощехранилища и другие хозяйственные нужды, строиться новые храмы, и количество граждан, считающих себя православными, стало расти по экспоненте, причем без всякого религиозного просвещения. Даже те, кто совсем недавно был убежденным коммунистом и атеистом, включая функционеров бывшего советского правительства, а также функционеров действующих (иногда это были одни и те же лица), по главным церковным праздникам стали появляться на службах, особенно если службы транслировались по телевидению.
Православная церковь обрела огромное влияние и превратилась в консервативную – чтобы не сказать реакционную – организацию, слившись с правительством во взаимовыгодном симбиозе. Церковь безоговорочно поддерживает все решения и действия правительства, но и правительство не остается в долгу, возвращая Церкви дорогостоящую недвижимость, конфискованную после революции, и выделяя участки для строительства новых церквей. Кроме того, правительство никак не ограничивает активное вмешательство Церкви в искусство и другие сферы общественной жизни, несмотря на то что в России, так же как и на Западе, Церковь отделена от государства.
По мнению многих обозревателей в России и за рубежом, Русская православная церковь не слишком заботится о духовных нуждах паствы, зато энергично пытается направлять общество в русло «правильной» идеологии. «В своей борьбе за влияние в российском государстве, за доминирование в идеологии, в своих внешнеполитических играх Церковь забыла о самом человеке»[101]. Некоторые авторы даже убеждены, что православной церкви в России скорее подходит статус политической партии, или корпорации, или правительственного учреждения[102]. По мнению М. Эпштейна, сегодня «духовные ценности легко размениваются на житейские и обратно»[103]. В качестве иллюстрации приведем обширную цитату из его эссе, в котором он рассуждает о Церкви и духовенстве в современной России.
‹…› тот самый владыка и пастырь, который готовит твою душу к предстоянию на Страшном суде, расхаживает по вагонам рекламно-коммерческого поезда и, размахивая кадилом, освящает скамейки, на которых вскоре плотно воссядут заправилы московского бизнеса. Или сам беспрерывно заседает на презентациях новых товарных бирж, акционерных обществ, политических ассоциаций, литературных журналов и кинофестивалей. Без священника не обходится съезд воинов-интернационалистов и собрание садово-дачного кооператива, учреждение фонда милосердия и слет казаков-разбойников, заседание Верховного совета и родительского школьного комитета[104].
Эпштейн, сам человек верующий, считает, что такая деятельность еще хуже, чем атеизм. Эпоха Антихриста, размышляет он, наступила не после революции 1917 года, потому что Антихрист не будет прямо воинствовать с Христом, как это делали советские вожди, а будет говорить от имени Христа, что мы наблюдаем как раз в наше время.
«В храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фес. 2:4). Тогда не отрекаться будут от религии и бороться с ней, а именно насаждать ее, в обязательном и повсеместном порядке, как теперь священников непременно сажают на советы праведных и нечестивых, демократов и черносотенцев, промышленников и спекулянтов. Так что без Бога нельзя будет ни присесть, ни вздохнуть, ни обжулить, ни ограбить, ни убить[105].
Церковь постепенно, ненавязчиво, но непреклонно пытается ввести преподавание православия в школе. Сейчас в 4-м классе преподается предмет «Основы православной культуры» (ОПК) как один из шести модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики». Теоретически школьники или их родители могут выбрать какой-либо другой модуль, например иудаизм или ислам. Но практически непонятно, как можно осуществить преподавание шести разных предметов для детей с разными запросами в одно и то же время. Ведь если найдется один мусульманин, который захочет изучать ислам, вряд ли для него выделят отдельного преподавателя. Очевидно, все-таки православию так или иначе будет отдаваться предпочтение. Выступая на Рождественских чтениях в присутствии министра образования Ольги Васильевой, которая пришла поприветствовать участников (еще один пример симбиоза), патриарх Кирилл настаивал на расширении преподавания православия на всех уровнях средней школы:
Православная культура должна быть адекватно представлена в сетке учебных часов и преподаваться на всех ступенях общего среднего образования. Мы многократно говорили об этом, встречая понимание и поддержку как во властных структурах, так и в самых широких слоях нашего общества[106].
Но действительно ли Церковь заботится о духовном просвещении населения, а не о расширении сферы своего влияния? (Какая почва может быть благодатнее для последней цели, чем детская аудитория?) Нынешние богословы, так же как в Московском государстве XVII века, дебатируют вопрос, необходимо ли богословское образование для крепкой веры и праведной жизни или же достаточно жить «в простоте Христовой» и «духом пламенеть»[107]. Протодиакон Андрей Кураев приводит такой поразительный пример серьезного (в смысле «кроме шуток») образовательного проекта, который подается как эффективная методика несения слова Божьего в школы. Московская духовная академия организовала недельные курсы для подготовки преподавателей православной культуры не только в школах, но и в вузах – «курс „молодого бойца“», как называет эти курсы иеромонах Киприан (Ященко)[108], с гордостью делясь подробностями взращивания подвижников духовного просвещения юных умов. Насколько понятно из интервью с отцом Киприаном, на эти курсы принимаются любые энтузиасты с любым высшим образованием (или, возможно, даже без оного), желающие преподавать ОПК. Не требуются даже элементарные богословские знания; не обязательно быть воцерковленным, можно просто «стремиться к этому». Отец Киприан рассказывает о слушателях, которых он исповедовал: «Некоторые исповедуются и причащаются впервые в своей жизни именно здесь»[109]. Не обязательно иметь педагогический опыт: на курсы приходят люди «далекие от образования, но имеющие желание попробовать себя на стезе православной педагогики»[110]. К преподаванию на курсах привлекаются не только богословы, но и «преподаватели московских вузов, светские ученые, политики (из Госдумы, Администрации Президента, Совета Федерации), представители деловых кругов»[111] – и такой мощный охват всего за одну неделю?! По окончании курсов и сдаче экзамена слушатели получают сертификат, дающий право преподавать ОПК в школах и вузах.
Приведем еще несколько примеров о внедрении Церкви в государственные функции. Спуск на воду новых кораблей и подводных лодок сопровождается нынче не только традиционным разбитием бутылки шампанского, но и освящается по обряду. Даже космические корабли и баллистические ракеты благословляются молитвой перед стартом[112]. В 2016 году частица мощей св. Серафима Саровского была доставлена на МКС и, по мнению космонавта Сергея Рыжикова, освятила не только саму станцию, но и всю планету. Двенадцатого апреля, в День космонавтики, побывавшая в космосе частица была помещена в храме Преображения Господня в Звездном городке[113].
Нельзя представить себе подобную деятельность без полной поддержки властей. Ранее, в 2007 году, десять членов Российской академии наук, включая Жореса Алферова, лауреата Нобелевской премии по физике, опубликовали открытое письмо президенту Путину, высказывая озабоченность интенсивными действиями Русской православной церкви по распространению православия в сферы общественной жизни, образования и науки[114]. Однако с тех пор вмешательство Церкви в светские дела только усилилось.
Церковь и население
Ситуация с религией среди обычного российского населения представляется неординарной. С начала перестройки опросы общественного мнения показывают постоянный рост количества россиян, считающих себя православными. Если в 1989 году лишь 17 % респондентов объявили себя верующими и исповедующими православие, в то время как 75 % ответили, что не считают себя верующими, то в 2013 году эти цифры были уже совсем другими – 68 % и 19 % соответственно[115]. За какую-то четверть века народ, на протяжении нескольких поколений обходившийся без религии, не получивший и не получающий никакого религиозного образования, вдруг обрел веру. Однако вера эта проявляет себя странным образом. Православные с энтузиазмом участвуют в массовых квази- или даже псевдорелигиозных событиях, отмечая религиозные праздники. Например, популярным стало крещенское купание в иордани – проруби, вырубленной во льду в форме креста[116]. До революции главным назначением шествия к иордани было освящение воды с тем, чтобы потом святую воду принести домой и использовать ее для окропления дома, лечения болезней и т. д. Обычно в проруби не купались. Сейчас же, по мнению многих священников, эта новая традиция превратила религиозную церемонию, имеющую глубокое духовное значение, в спортивную развлекуху. Подавляющее большинство крещенских «моржей» так и не доходит до церкви, чтобы приобщиться к одному из главных религиозных событий своим участием в праздничной службе. Вот как описывает журналист этот модный ритуал:
Сегодня купание в проруби стало скорее одним из зимних развлечений, разрешенным ритуалом с модным патриотическим уклоном – дескать, знай наших, куда там мерзлявым европейцам и прочим слабакам. А священники хоть и жалуются, что «все чаще люди приезжают на купели не по религиозным соображениям, а с целью получить адреналин, испытать чувство экстрима, после возлияния спиртными напитками показать, что им не слабо занырнуть в холодную воду, тем более в Крещение», но и отговаривать купающихся не спешат[117].
К квазирелигиозным событиям можно отнести и массовые сборища сотен тысяч людей для поклонения привезенным в Россию святым предметам и мощам. В 2011 году в Россию привезли часть Пояса Богородицы, хранящуюся в Ватопедском монастыре в Греции. В течение тридцати девяти дней Пояс путешествовал по России и был выставлен в главных соборах четырнадцати российских городов. Люди часами стояли в стотысячных очередях, чтобы поклониться святыне. В Москве для доступа к реликвии требовалось до двадцати шести часов стояния в очереди, но представители бизнес-элиты и ВИП-чиновники, включая президента и премьер-министра, проходили без очереди. Российские СМИ сообщали о чудесных исцелениях верующих, поклонившихся Поясу. Исцелился мужчина, больной раком в последней стадии[118]. У одной женщины значительно улучшилось зрение[119], а другая, которая до этого не могла зачать, родила тройню[120]. Однако были и менее радостные сообщения. Многим стоящим в очереди становилось плохо; в Москве медицинская помощь потребовалась более чем семистам человек, в стационар доставлены 52 человека[121]; в Казани и Калининграде две паломницы скончались[122]. Надо заметить, что в Ватопедском монастыре хранится только часть Пояса; еще в Х веке Пояс был разделен на несколько частей, которые потом попали в разные места, включая Россию. Православный сайт «Азбука паломника» сообщает, что частички Пояса имеются в Троице-Сергиевой лавре и в храме Ильи Пророка в Москве[123]. Частица Пояса была подарена Казанскому собору в Санкт-Петербурге к 200-летию собора. Все эти реликвии находятся в свободном доступе и, по заявлению Церкви, обладают такими же целительными свойствами, что и ватопедская святыня. При возникновении духовной потребности верующие могут приложиться к ним в любое время без участия в подобных коллективных «мероприятиях», сопровождаемых нешуточными испытаниями.
Реакция на это событие была неоднозначной. Тогдашний глава РЖД Владимир Якунин заявил, «что Пояс помогает повысить рождаемость, что очень важно при нынешней демографической ситуации в России»[124]. Дмитрий Зимин, основатель компании «Вымпелком» и один из учредителей премии «Просветитель», выразил сожаление по поводу происходящего: «Реакция у меня на это самая печальная. Когда я вижу такие многокилометровые очереди, уместные больше для Средневековья, мне становится горько и страшно за судьбы страны. Имеются безусловные признаки одичания, а то, что в этом одичании участвует власть, – это вдвойне печально»[125]. А Сергей Капица, ученый-физик и популяризатор науки, видел в ажиотаже вокруг Пояса Богородицы «страшный приговор современной культуре»[126].
Шестью годами позже ситуация повторилась с мощами святителя Николая Чудотворца, привезенными из итальянского города Бари в Россию. Опять многочасовое стояние в километровых очередях. Правда, на этот раз дело было летом, так что люди по крайней мере не мерзли, часами находясь без движения. Кроме того, устроители обещали, что никакого особого доступа для элиты не будет. (Если это условие действительно было соблюдено, интересно, сколько ВИПов отстояло полную очередь, чтобы поклониться мощам?) И так же, как Поясу Богородицы, верующие могут поклониться мощам Николая Чудотворца в любое время без всякой очереди: в России достаточно храмов, где имеются святые частицы. Только в Петербурге и в Ленинградской области насчитывается пять таких храмов[127]. А в Москве – двадцать пять[128]. Что же касается относительной ценности в зависимости от величины, то ведь и из Бари привезли всего лишь одну косточку – ребро длиной сантиметров двадцать. Правда, это было левое ребро, то, которое ближе к сердцу, поэтому его магическая сила считается особенно могущественной.
Сравнение с поклонением «мощам» Ленина в Советском Союзе напрашивается само собой – такое же стояние в длиннющей очереди, чтобы попасть в Мавзолей и пройти, не останавливаясь, мимо постамента с телом. И ВИПов тоже могли пропустить без очереди. Однако есть и разница. Советское правительство не обещало незамедлительных чудес от близости к священному трупу; давались лишь обещания построения коммунизма в недалеком будущем, которым, увы, не суждено было сбыться. Сегодня же всероссийское поклонение мощам является частью официальной пропаганды. Государственный Первый канал с гордостью сообщал, что даже спустя месяц после прибытия реликвии в Москву народный энтузиазм не ослабевал. Верующие прибывали не только со всех концов России, но и из Украины и Беларуси. Более миллиона человек поклонились святыне в храме Христа Спасителя в Москве. Российское ТВ не преминуло отметить и участие президента в поклонении мощам.
В то же самое время некоторые образованные россияне видят в этих массовых религиозных событиях бесстыдное промывание мозгов со стороны властей и языческое идолопоклонство со стороны верующих. В одном из комментариев к посту Дмитрия Гудкова в известной социальной сети Олег Татарников пишет:
«Очередь по объявлению» за «чудодейственными мощами» просто наглядно демонстрирует, что никакого православия (да и вообще христианства) в России нет, а есть только неприкрытое язычество, свойственное полуразумным дикарям глубокой древности, и активная поддержка таких дикарей со стороны правительства и правительственных СМИ, как наиболее пластичной страты, которую можно использовать в любых интересах[129].
Подобные массовые (квази)религиозные ритуалы сочетают в себе радостное и успокоительное ощущения единства с тысячами соучастников и магические функции, которые всегда были чрезвычайно важной составляющей русского православия. Однако те же самые миллионы верующих энтузиастов не молятся дома и не ходят в церковь, чтобы поддерживать постоянные отношения с Богом, что и является главной целью любой религии. В то время как число людей, считающих себя православными, продолжает расти, посещения церкви и регулярные молитвы дома сокращаются. Социолог Наталия Зоркая опубликовала интересную статистику, отражающую странный характер российского православия. В 2009 году только 42 % тех, кто считает себя православными, дали утвердительный ответ на заявление: «Я знаю, что Бог существует, и не испытываю в этом никаких сомнений»; 25 % «знают, что Бог существует, хотя иногда испытывают сомнения»; 13 % «иногда верят в существование Бога, а иногда не верят»; 8 % «не верят в Бога, но верят в некую высшую силу»; и 6 % «не знают, существует ли Бог, и сомневаются, что можно убедиться в его существовании»[130]. 43 % респондентов, идентифицирующих себя с православием, не имеют дома никаких книг религиозного содержания, и только 26 % имеют Новый Завет[131]. В опросе 1998 года только 21 % православных верующих ответили, что они молятся каждый день; 29 % никогда не молятся; 19 % – от нескольких раз в год до менее одного раза в год. 71 % православных никогда не исповедовались, и только 2 % исповедуются приблизительно раз в месяц. Подобная статистика существует и для причастия. В 2009 году лишь 3 % российских православных причащались по крайней мере раз в месяц, и только 10 % по крайней мере один или два раза в году (скорее всего на главные праздники); 19 % – реже, чем раз в год, и 62 % никогда не причащались. Зоркая заключает: «Если следовать принятому представлению о „признаках“ воцерковленности православного, когда причащавшийся реже, чем раз в год, считался „отпавшим от церкви“, то сегодня 81 % называющих себя православными существуют вне церкви»[132]. В то время как в США 57 % верующих ходят в церковь хотя бы раз в месяц, в России эта цифра составляет 20 %.
О русской бездуховности пишет и Юрий Нагибин[133]. Русские люди, замечает он, любят справлять праздники – всякие праздники: как советские, так и религиозные, «хотя лишены даже тени религиозного чувства. Алла Сергеевна подтвердила мое глубокое убеждение в полной нерелигиозности русского народа. ‹…› Духовная жизнь равна почти нулю»[134].
Нерелигиозная религия
Таким образом, мы сталкиваемся с парадоксом: в то время как большинство русских считают себя православными, «ни церковь, ни религия как таковая не играют в повседневной жизни подавляющего большинства людей значительной роли»[135]. Социолог Борис Дубин пишет о молодых людях, которые составляют основную долю прироста православных верующих в России после перестройки:
Более активными в приобщении к религиозной вере за 1990-е годы были более молодые, образованные, урбанизированные россияне. При этом декларированная принадлежность к православию не влечет за собой для подавляющего их большинства ни регулярного соблюдения основных обрядов (молитвы, причастия, исповеди), ни более или менее частого посещения церковных служб, ни практического участия в жизни храмовой общины, ни вообще какой бы то ни было реальной деятельности по воплощению христианских идеалов в повседневную жизнь[136].
Этот парадоксальный феномен может объясняться только так: современная православная религия в России имеет нерелигиозную функцию: для большинства «верующих» православие служит для создания и укрепления новой идентичности. После распада Советского Союза бывшие советские граждане утратили прежнюю идентичность, которая, с одной стороны, сплачивала население искусственным барьером «железного занавеса», отгораживающего их от внешнего мира, а с другой – предоставляла им реальный материал для национальной гордости. СССР был одной из двух сверхдержав, в смысле военной мощи, пионером в космической области и де-факто – «хозяином» социалистического лагеря. Кроме того, государственная пропаганда постоянно подчеркивала наличие бесплатной медицины, образования, отсутствие безработицы и прочие достижения социалистического строя. Сравнивать было не с чем («железный занавес»), поэтому вопросов у большинства населения не возникало. В ходе перестройки и после нее все эти составляющие советской идентификации, подпитывающие ощущение нормальности жизни, исчезли. Получившие возможность разъезжать по миру люди увидели, что на Западе уровень жизни гораздо выше. Народ, подсевший на успокоительный наркотик национальной гордости, растерялся – гордиться было нечем. Вот тут-то православие и пришло на выручку: можно гордиться просто своей принадлежностью к уникальной идеологической системе, а точнее говоря – своей русскостью, и для этого совсем не обязательно напрягаться в молитве, причастии, исповеди и вообще воцерковленности. Можно предаваться духовной праздности, не осознавая или игнорируя то, что она является одним из смертных грехов. Православие становится объединяющим фактором, лишенным духовной сердцевины, но сохраняющим магические функции. Так же, как в старой России, сохраняются магические аспекты икон, мощей и других религиозных атрибутов, но в отличие от необразованного населения дореволюционной России новые православные пренебрегают исполнением церковных обрядов, и многие знают о своей религии меньше, чем неграмотные крестьяне XIX века.
Православие и национализм становятся синонимами. Развивая эту мысль, Дубин пишет: «Самообозначение „православный“ ‹…› все больше принимает семантику „русского“, соединяясь, во-первых, с комплексом идей и символов российской исключительности („русским мифом“), а во-вторых, с ксенофобическими установками в отношении этнических чужаков, Запада, Америки, которые разделяются сегодня относительным большинством общества»[137].
Рассматривая особенности православной идентификации, Зоркая также указывает на «повышенную чувствительность к вопросам российской национальной идентичности, которая выражается в росте националистических (в случае молодежи) и ксенофобских настроений, включая и рост негативизма по отношению к Западу, к бывшим республикам СССР, особенно к тем, что стремятся к сближению с Европой»[138]. Таким образом, современное православие в России унаследовало древнюю склонность к суеверию и магии, которые пережили советский атеизм просто потому, что существовали в народной культуре и не требовали никакой формальной организации, поэтому запретить их было нельзя. Вместе с тем, массовая воцерковленность, характерная для дореволюционной России, была практически полностью утеряна именно потому, что государство всячески ограничивало контакты населения с церковью как физическим местом общения с Богом.
Но «свято место пусто не бывает», и «православие» в сегодняшней России приобрело новую функцию: для многих, особенно для молодежи, оно стало знаменем национализма и ксенофобии. «Православие ‹…› оказывается лишь наиболее боеспособной формой патриотизма, искони защищавшей святую Русь от иудейской, католической, масонской и всякой другой иноземной нечисти»[139].
Глава 5
Культура, ориентированная на выражение: наследие русского православия
Красота или догма
Преобладание обрядности над духовностью в русском православии привело к зарождению и развитию в русской культуре предпочтения «лепоты» содержанию, функциональности. В самом начале христианизации Руси именно любовь к красоте, а не догма, превалировала в восприятии византийской религии. Отсюда такое внимание к великолепию литургии, икон, церквей. В своем грандиозном труде «Икона и топор», посвященном русской культуре, американский ученый Джеймс Биллингтон отмечает этот дисбаланс между красотой и догмой в русской религии:
‹…› сложные философские традиции и литературные нормы Византии (не говоря уже о классических и эллинистических корнях византийской культуры) русским православием никогда не были должным образом усвоены ‹…›
В те времена на Руси конкретная красота более, чем абстрактная идея, выражала суть христианства ‹…› Человек не должен был размышлять над тем, что уже твердо установлено, или толковать таинства, но с любовью и смирением блюсти и украшать унаследованные формы молитвы и богослужения ‹…› Во всех старорусских описаниях христианских правителей «обязательно упоминалось об их физической красоте. Наравне с милосердием и благотворительностью это непременная черта идеального князя» (цитата из Федотова, 1960).
В те времена русских привлекала в христианстве эстетическая притягательность литургии, а не рациональная (умственная) модель богословия[140].
Стремление к красоте стало одним из важнейших аспектов русской культуры и вылилось в стремление русских людей украсить себя и свой быт. Крестьяне украшали свою одежду, часто не зная меры. Крижанич с отвращением описывает русских крестьян, мужчин и женщин, но особенно женщин, которые готовы отдать «чуть ли не зеницу ока» за неудобные яркие одежды, расшитые золотом и жемчугом. Для контраста он приводит немцев, обычно одетых в серое, но комфортное платье. В Венеции, пишет он, существовали законы, устанавливающие суммы, которые люди высшего сословия могли тратить на свою одежду, а людям низшего сословия вообще запрещалось носить шелк, жемчуг, золото и тому подобное. А в Спарте, утверждает Крижанич, одним только блудницам разрешалось носить цветное платье и золотые украшения. Русские же могли потратить целое состояние, чтобы покрасоваться в дорогой одежде[141].
Украшался по возможности и быт. Широкое распространение получили расписные и резные прялки, узорная резьба по дереву внутри и снаружи крестьянских изб, декоративные детали на оружии и предметах обихода, художественное исполнение детских игрушек, изделия из серебра с применением черни и эмали. Русское серебро вообще является непревзойденным по разнообразию форм и технике декора, включая ручную чеканку, гравировку, чернь, разнообразные методы эмалирования, художественные литье и штамповку. Причем здесь речь идет не о знаменитых фирмах Фаберже, Хлебникова, Овчинникова, Сазикова и им подобных, которые в основном работали на наиболее состоятельный слой российского населения; мастеров высокого класса, производивших уникальные, высокохудожественные и крайне дорогие вещи из драгоценных металлов, хватало и на Западе, но и там декоративный потенциал чернения, например, полностью игнорировался, а по эмалям только норвежцы могли состязаться с русскими мастерами и даже превосходили их в применении таких методов эмалирования, как plique-à-jour (витражная эмаль) и guilloché (эмаль по гильоширу). Последняя техника широко применялась в России фирмой Фаберже. Кроме вышеперечисленных фирм, в ХVIII и особенно в XIX – начале XX века тысячи российских мастеров[142] производили разнообразные декоративные стопки, рюмки, солонки, ложки, чашки, табакерки, портсигары и другие предметы обихода из серебра, которые были по карману потребителям среднего класса.
Возможно, традиционной тягой русского человека к красоте можно объяснить феномен небывалых темпов развития всех искусств в XIX веке практически с нуля до западноевропейского уровня. Конечно, все виды высокого искусства культивировались преимущественно в дворянской среде, подверженной западному влиянию и имеющей доступ к западному образованию, но национальный характер как простого народа, так и аристократии происходил из одного корня и взращивался на одной почве (об этом ниже), так что стремление к прекрасному было общим.
С другой стороны, ориентация на выражение, зарожденная в русском православии из-за акцента на обрядность в ущерб духовности, привела к игнорированию содержания во всех аспектах российской жизни. Как в далеком прошлом, так и в сегодняшней России состоятельные люди тратят огромные деньги на «понты». Иностранные путешественники в XV–XVI веках пишут о русских «красавицах», размалеванных белилами и свекольным соком. Традиция продолжается и в наши дни. Пресловутая красота русских женщин во многих случаях достигается искусной и многочасовой работой с макияжем и тщательным подбором нарядов и украшений. При этом россиянка не стесняется предстать перед оценивающим взглядом в качестве сексуального объекта, наоборот – к этому она и стремится, по крайней мере в создании внешнего облика. Справедливости ради следует отметить, что с начала перестройки, когда советское общество сбрасывало всевозможные оковы, включая детали женской одежды, прикрывающие соблазнительные места, вкусы и стили несколько изменились. Если в начале девяностых многие иностранцы путали вполне добропорядочных женщин с «блудницами» (вспомним Крижанича), основываясь исключительно на «боевой» раскраске и вызывающей смелости нарядов, то некоторые нынешние женщины, поездив по эмансипированному Западу, могут даже облачиться в джинсы и показать себя без косметики. Но это все-таки прогрессивное меньшинство. Остальные продолжают придерживаться принципа «по одежке встречают», и «одежка» включает в себя весь ансамбль облачения женщины, тщательно продуманный, чтобы подчеркнуть наиболее сексапильные части лица и тела и замаскировать не столь привлекательные.
Такое представление о женской внешности замечательно иллюстрируется впечатлениями, которыми одна россиянка поделилась в сетевой «Газете. ru» о своей жизни в Дании, и последующими комментариями читателей этой газеты. Женщина провела в Дании пять лет в связи с работой мужа, и из контекста понятно, что на момент написания своих заметок она продолжает там жить. Ее описание Дании, полное отрицательных стереотипов о жизни в этой стране, представляет собой типичное проектирование ценностей собственной культуры на культуру чужую. В частности, автора ужасно раздражает внешний вид датчан, и особенно датчанок.
Бросилась в глаза тотальная нечистоплотность. Люди повсюду ходят в грязной, мятой, рваной одежде. Женщины совершенно не следят за собой. Типичная датчанка выглядит примерно так: нечесаные волосы, собранные в небрежный пучок, черный балахон, поверх него не то шарф, не то платок, черные колготы и цветные кроссовки[143].
Не заботятся датчане и о своих детях, позволяя им бегать по улице с сопливыми носами, вместо того чтобы отвести к врачу; одевают они их слишком легко для прохладной погоды и иногда даже выпускают на улицу босиком. Последнее, по ее мнению, может привести не только к жестокой простуде, но и подвергнуть детей массированной атаке миллиардами вредных микробов и бактерий.
Заметки эти были опубликованы 16 октября 2016 года. В течение четырех дней после публикации в газете появились 703 комментария – необычно высокое количество вообще и в частности за такой короткий срок, да еще по такому, на первый взгляд, незначительному поводу. Большинство комментариев было написано людьми, жившими или бывавшими в Дании или в других европейских странах. Среди комментаторов встречались, конечно, трезвые голоса, которые справедливо замечали, что для европейцев в первую очередь важна удобная одежда, во всяком случае в рутинных бытовых ситуациях, и что темные цвета отнюдь не означают неряшливости – скорее всего, одежда неброская, но чистая. И несмотря на такое «безответственное» отношение к детям, детская смертность в Дании гораздо ниже, чем в России, а средняя ожидаемая продолжительность жизни намного выше[144]. Один читатель из Финляндии, чья «жизнь была связана с Россией в течение шестнадцати лет», наиболее полно и без излишних эмоций отразил подобные мнения в своем пространном комментарии, выдержки из которого приводятся ниже (языковые особенности оригинала сохранены):
Мне не все понравилось [в России], но как гость, мне в голову не приходило публично критиковать страну, в которой я временно бывал. Все-таки жить там был мой собственный выбор. ‹…› В Скандинавии практичность важнее. Например, удобно ходить в магазин в удобной обуви чем в 15-см шпильках, и дамы считают, что из-за короткого визита в магазин не стоит полчаса заниматься макиажом. ‹…› Что так плохо в том, что дети ходят босыком или сидят на траве? ‹…› Простудиться не так легко, как принята думать в России. Доказано, что слишком строгая гигиена приводит к тому, что дети легче заболевают инфекционными заболеваниями. [Цитирует из оригинальной публикации]: «Детям дозволено все – можно пить из лужи, можно валяться в грязи, лить ее себе на голову, бегать в носках или босиком, снимать одежду, даже если на дворе зима, или вообще бегать голышом» – все равно они в среднем живут до 80 лет без проблем, и никаких опасных заболевании они от этого не получают.
Как гость – можно страну всегда покинуть. Почему так мучаться? Жаль, что автор принудительно вынуждена жить в Дании[145].
Однако многие комментаторы соглашаются с автором. По одному лишь внешнему виду автор статьи и поддерживающие ее читатели делают далеко идущие выводы, не основанные ни на каких фактах: Европа приходит в упадок; европейцы не только не заботятся о внешнем виде, им даже лень чистить зубы, принимать душ и менять одежду. Автор видит тусклую, темную одежду и почему-то заключает, что она не только не красивая и не элегантная, но и грязная. Здесь неоспорима жесткая связь между выражением и содержанием – выражение создает содержание. Если женщина «красиво» (по российским понятиям) одета – она чистоплотна и следит за собой; если же на ней «уродливый балахон» – она грязна, ленива и махнула на себя рукой.
Не последнюю роль играет здесь и коллективистское мифотворчество, вызванное древним и непреодолимым желанием найти доказательства превосходства России над Западом. Пожалуй, никто в этом мифотворчестве не может побить поэтический талант Маяковского, который ничтоже сумняшеся демонстрирует бессмысленное и необоснованное чувство национальной (советской ли, российской ли) гордости по отношению к Америке. Описывая в стихотворении «Бродвей» (1925) технические достижения, которые он видит во время посещения Нью-Йорка, поэт заключает:
- !!!!Я в восторге
- от Нью-Йорка города.
- Но
- кепчонку
- не сдерну с виска.
- У советских
- собственная гордость:
- на буржуев
- смотрим свысока.
Конечно, нет никакой необходимости «сдергивать кепчонку», чем-то восхищаясь в чужой стране, но, с другой стороны, никак не удается изжить этот ничем не оправданный взгляд свысока и «собственную гордость» по отношению к Западу.
Выражение, которое генерирует содержание, не ограничивается внешним обликом человека или предмета, приводящим к поверхностным заключениям по поводу Европы или Америки. К сожалению, культурная ориентация на выражение, уходящая корнями в русское православие, не только порождает антизападную мифологию и приятную веру в превосходство над Западом. Не отсюда ли возникали дикие случаи, нередкие в «мрачные времена»[146] сталинской эпохи, когда уборщицу, разбившую случайно бюст вождя, обвиняли в терроризме, а редактора газеты, допустившего опечатку в имени «гения всех времен и народов», – в антисоветской пропаганде и (или) вредительстве? Вербальное выражение, особенно литература, имело в России до недавнего времени колоссальную власть над умами населения именно потому, что создаваемые ею альтернативные действительности воспринимались как реальность, как сама жизнь. Владимир Маканин приравнивал литературу к физической среде обитания человека и утверждал, что русские живут литературными сюжетами[147]. Нагибин писал «о нереальности реальной жизни и всевластии литературы, которая вовсе не воспроизводит, не отражает, а творит действительность. Иной действительности, кроме литературной, нет. Вот почему наше руководство стремится исправлять литературу, а не жизнь. Важно, чтоб в литературе все выглядело хорошо, а как будет на самом деле, никого не интересует»[148]. И опять же, великий пролетарский поэт увековечил эту могучую силу русской литературы в своих стихах:
- Я хочу,
- чтоб к штыку
- приравняли перо.
- С чугуном чтоб
- и с выделкой стали
- о работе стихов,
- от Политбюро,
- чтобы делал
- доклады Сталин.
Разве кому-нибудь на Западе могла прийти в голову мечта, которая через какой-то десяток лет станет действительностью в СССР? Власти в России всегда относились к слову очень настороженно, будь то художественная литература, публицистика или драматургия. Все подвергалось жесткой цензуре и до революции, и после. Если вспомнить судьбы Новикова, Радищева, Пушкина, Лермонтова, Чаадаева, Шевченко, Полежаева, Достоевского, Писарева, Чернышевского, то и при царях за протестное слово по головке не гладили. При Сталине поэты и писатели гибли в масштабах, несравнимых с репрессиями в других видах искусства: перо писателя приравнивали к штыку врага. Иосиф Виссарионович зорко следил за литературным процессом в СССР и лично принимал близкое участие в судьбе многих советских писателей. Всем известны его звонки Пастернаку и Булгакову. Даже в «вегетарианские» годы «оттепели» и застоя партия и правительство держали писателей на коротком поводке. Достаточно вспомнить травлю Пастернака в 1958 году; яростную атаку Хрущева на Эренбурга и молодую поросль писателей новой волны – Аксенова, Вознесенского и Евтушенко – во время встречи советских руководителей с представителями творческой интеллигенции 7 и 8 марта 1963 года; процесс Бродского в 1964 году; длительные лагерные сроки Синявскому и Даниэлю в 1966 году (7 и 5 лет соответственно) за публикацию произведений за рубежом; и, наконец, выдавливание неугодных писателей из страны в 1970-е (Бродский, Солженицын, Галич, Войнович, Аксенов и др.).
В чем же все они были повинны? Некоторые были диссидентами и открыто критиковали режим (Солженицын, Войнович), другие просто отказывались быть конформистами и публично выказывать любовь и лояльность партийной диктатуре (Аксенов[149], Бродский), но были ведь и те, кто умудрялся существовать и творить в режиме «между капельками» – Евтушенко и Вознесенский. Однако даже они попали под каток партийного гнева в 1963 году. А объединяла их одна черта: все (кроме Бродского)[150] «засветились» за границей. На встрече 1963 года Ванда Василевская «настучала» на Вознесенского и Аксенова именно в связи с их публикациями и выступлениями за границей, в которых они высказывали тревогу по поводу тенденций к возрождению сталинизма в Советском Союзе[151]. Синявского и Даниэля, издававшихся на Западе под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак, наказали так сурово исключительно за эти публикации. Никакой диссидентской деятельностью в своей стране они не занимались. Синявский был известен как серьезный, официально признанный литературовед, издавший книгу о Маяковском и написавший большую вступительную статью к сборнику стихов Пастернака в Большой серии «Библиотеки поэта» (сборник вышел буквально за пару месяцев до ареста писателя осенью 1965 года). Даниэль вообще был никому не известным учителем литературы в средней школе. Все вышеперечисленные писатели пострадали за то, что пренебрегли народной мудростью: не выносить сор из избы. В любой культуре люди пытаются спрятать от соседей какой-то нелицеприятный «мусор». В английском языке, например, существует выражение «замести [мусор] под ковер» (to sweep under the rug). Разница заключается в том, что в других культурах такая «маскировка» является продуктом чувства стыда индивидуального сознания; в Советском же Союзе демонстрация национального «мусора» за рубежом стала делом государственной безопасности. Вера в магическую силу вербального выражения, отождествление слова и дела (выражения и содержания) и подвигали правительство на суетливую борьбу с оппозиционным словом – борьбу, сходную по своей природе с борьбой раскольников в XVII веке против нововведений в православный обряд. Как в XVII веке эти нововведения ничего не меняли в самой доктрине и староверы напрасно шли на заклание, так и в хрущевско-брежневские времена диссидентская деятельность интеллигенции вряд ли могла расшатать советский режим, даже если их пустили бы в свободное плаванье[152]. Но вера в магическую природу знаков и символов была сильнее любого здравого смысла.
Не выметать сор из литературной избы
Хочу привести два примера из советской литературной жизни хрущевско-брежневского периода, которые, надеюсь, убедительно продемонстрируют, что в действиях советской цензуры не было ни логики, ни смысла, но было лишь суеверное желание не позволить вымести «сор» из литературной избы, любой ценой сохранить видимость идеологической лояльности всего населения Коммунистической партии и идеям социализма.
В 1958 году после присуждения Нобелевской премии Борису Пастернаку[153] началась всенародная травля писателя, инспирированная высокопоставленными советскими идеологами и с энтузиазмом подхваченная «шавками» из Союза писателей и «всем советским народом».
Учитывая тенденцию Нобелевского комитета принимать во внимание идеологические факторы при выборе очередного призера, можно с уверенностью утверждать, что премия Пастернаку была присуждена за «антисоветский роман» «Доктор Живаго», хотя книга эта не была ни антисоветской, ни, строго говоря, романом. «„Доктор Живаго“ – это не политический роман, а скорее лиро-философское произведение – „особый вариант книги Бытия“»[154]. Пастернак был несколько раз номинирован на Нобелевскую премию в предыдущие годы как выдающийся поэт, но премия была присуждена только по выходе «Доктора Живаго» на Западе и обретении им мгновенной мировой славы как антисоветского произведения. Пастернак завершил работу над этой книгой в 1955 году и в 1956-м представил ее для публикации в советские литературные журналы и издательства. На дворе стояла «оттепель», только что прошел ХХ съезд, закончившийся знаменитой «секретной» речью Хрущева о репрессиях и культе личности Сталина, поэтому Пастернак мог надеяться на издание своей книги. Рукопись, однако, была отклонена по идеологическим соображениям, но, несмотря на критику, никаких серьезных последствий для автора не последовало. Пастернак, который считал это произведение вершиной своего творчества и страстно желал увидеть его напечатанным, передал рукопись итальянскому издателю и члену Итальянской компартии Джанджакомо Фельтринелли. Автор не скрывал факта передачи рукописи; узнав об этом, советское руководство потребовало, чтобы он отозвал рукопись у издателя. Официально Пастернак подчинился и послал соответствующую телеграмму, но тайно дал знать Фельтринелли, что желает опубликовать книгу. В 1957 году «Доктор Живаго» вышел в издательстве Фельтринелли в переводе на итальянский и был переведен на другие языки. И опять на родине автор подвергся критике, но настоящий «шабаш» начался только после присуждения ему Нобелевской премии в октябре 1958 года. Пастернака исключили из Союза писателей, что означало «исключение» из литературы вообще; он был вынужден отказаться от премии и обратиться к правительству с унизительной просьбой не высылать его из Советского Союза. Вполне возможно, что всесоюзная кампания травли и остракизма, предательство бывших коллег и друзей-писателей, ускорили кончину Бориса Пастернака через полтора года после присуждения премии.
«Доктор Живаго» охватывает период с 1903 по 1929 год. В эпилоге мы встречаемся с некоторыми персонажами на фронте в 1943 году; а в последней главке эпилога и всей книги действие, вероятнее всего, происходит летом 1953 года, сразу же после смерти Сталина[155]. Книга заканчивается «воскресением» России, когда, наконец, «свобода души пришла», и «воскресением» Юрия Живаго, воплотившимся в тетради его писаний. Хотя книга описывает революции и войны, случившиеся в России в ХХ веке, ничего антисоветского в ней нет. «Доктор Живаго» – произведение не эпическое, а, как уже говорилось, лиро-философское, в котором жизнь вообще, жизнь (история) России и жизнь Юрия Живаго символически изображаются по образу жизни Христа: рождество, жизнь и деяния (цветение), смерть и воскресение. На материале «Доктора Живаго» нельзя сделать каких-то обобщений о деятельности большевиков во время революции и Гражданской войны. Антигерой Стрельников не представлен как типичный большевик; он единичный персонаж, имеющий сложную философскую функцию. В философской плоскости книги этот персонаж является символом смерти, антиподом Юрия Живаго – символа жизни, в котором без труда просматривается аналогия с Христом. Пастернак создает здесь антропоморфное воплощение своих философских представлений о жизни, а не эпическое произведение, описывающее события в России первой трети XX века.
Произведение сложное, требующее глубокого прочтения и интерпретации, но ни на родине писателя, ни за рубежом интерпретация никого не интересовала. Книгу выхолостили и свели к политической составляющей[156]. Начало было положено Нобелевским комитетом, западная пресса подхватила, а потом уж советское руководство, для которого западное мнение было страшнее атомной бомбы, запаниковало и обрушило на писателя все возможные кары, раздавив его исключительно из-за своего собственного убеждения, что если ТАМ думают о нас плохо, то что ж, товарищи, получается: значит, так оно и есть? Ведь им пасть не заткнешь. Ну как тут не вспомнить бессмертного Гоголя, который будто бы провидел, что случится с его собратом по перу через сто лет.
Еще падет обвинение на автора со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накопляют себе капитальцы, устраивая судьбу свою на счет других; но как только случится что-нибудь, по мнению их, оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они выбегут из всех углов, как пауки, увидевшие, что запуталась в паутину муха, и подымут вдруг крики: «Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом? Ведь это все, что ни описано здесь, это все наше – хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слушать дурное мнение о себе? Думают, разве это не больно? Думают, разве мы не патриоты?» На такие мудрые замечания, особенно насчет мнения иностранцев, признаюсь, ничего нельзя прибрать в ответ[157].
Да, заткнуть пасть «иностранцам» не получается, но можно создать альтернативную реальность, сконструировав сюжет с писателем-клеветником в главной роли. Поэтому обвинение писателя в создании антисоветского романа еще раз подтверждает, что мнения западных апологетов о книге Пастернака (выражение) воспринимались советскими критиками как реальность (содержание). Несомненно, конечно, что злобная травля писателя членами Союза писателей вызывалась также и завистью.
А двадцать лет спустя, после того как «оттепель» завершилась прохладным и очень коротким «летом» в самом начале 1960-х, после того как стало солидно подмораживать в разгар брежневского застоя и ужесточения цензуры, другой советский писатель, Юрий Трифонов, напечатал несколько повестей, в которых обращался к теме моральной ответственности советского человека – в быту, в атмосфере идеологического давления и лицемерия. В 1976-м в журнале «Дружба народов» была опубликована его повесть «Дом на набережной», описывающая атмосферу тотального страха при сталинизме, а в 1979-м издательство «Советский писатель» издало роман «Старик», рассказывающий о зверствах большевиков во время революции и Гражданской войны.
Главная мысль во всех последних произведениях Трифонова заключалась в том, что человек несет ответственность за свои действия всегда, независимо от того, в какое время и при каких обстоятельствах он живет.
В отличие от «Доктора Живаго» роман Трифонова «Старик» представляет собой эпическое полотно, изображающее злодеяния большевиков на Дону. Взятие и расстрелы заложников, репрессии вплоть до расстрелов своих же командиров, если те выражали несогласие с неслыханным насилием по отношению к населению, изъятие последних запасов хлеба у крестьян, «расказачивание», то есть конфискация оружия и лошадей у казаков, воюющих на стороне красных, – вот лишь краткий реестр «подвигов» революционеров. Бессмысленность этих изуверств проявляется в том, что часто соответствующие декреты и приказы из центра, вначале категорические и не терпящие никаких обсуждений, через какое-то время отменялись и самих их исполнителей расстреливали. Такие большевики, как Шигонцев, Бычин и Браславский сводят личные счеты за несправедливости и страдания, которые они претерпели в прошлом, и потому эти люди особенно безжалостны. Они совершают свои преступления не в борьбе с реальным врагом, а из чувства мести.
Трифонов в своем романе использует технику повествования, типичную для его московских повестей[158], то есть оно всегда ведется трусом и подлецом, пытающимся оправдать свои предательства и моральные компромиссы, перекладывая ответственность на других людей или просто на «такое было время». Но внимательный читатель без труда может воссоздать ужасающую картину злодейств, совершаемых вождями красных во имя революции.
При чтении романа Трифонова возникает впечатление намеренной переклички текста с текстом «Доктора Живаго». К такому прочтению приводит сходство некоторых сюжетных ходов и характеристик[159]. Можно заключить, что Трифонов «дописывает» книгу Пастернака. Та правда о революции, которая у Пастернака лишь намечена как символическая, философская ипостась смерти России в историческом цикле «рождение – жизнь – смерть – воскресение», у Трифонова реалистически представлена в убийственных подробностях. Тем не менее никаких критических нападок на Трифонова по поводу «Дома на набережной» и «Старика» не последовало. Объяснить это можно лишь тем, что, в отличие от Пастернака, которого на Западе подняли на щит как гениального автора антисоветского романа, Трифонов был там известен лишь узкому кругу славистов и небольшому количеству читателей, прочитавших переводы его книг и, скорее всего, не знающих контекста, не понявших повествовательной техники писателя, а значит, и полной глубины нравственных проблем в его произведениях. Во всяком случае, его произведения не вызвали такого резонанса, как книга Пастернака, поэтому выметенный Трифоновым «мусор» остался не замеченным западными «злопыхателями» и, как следствие, не существующим. Отсутствие выражения означает и отсутствие содержания, так что наказывать писателя было не за что. Что же касается внутреннего потребителя, Трифонов мастерски отвлек внимание цензоров, сбалансировав описания злодеяний большевиков симметричными описаниями таких же или еще более страшных злодеяний, совершенных их врагами. Так что попытки главного «героя» Летунова успокоить на старости лет мучающую его совесть тем, что во всем виновато «свирепое время», вполне могли усыпить бдительность блюстителей идеологической чистоты советской литературы.
Подобное сопоставление можно сделать, сравнив литературные судьбы Василия Аксенова и братьев Аркадия и Бориса Стругацких.
В 1963-м году как Аксенов, так и Стругацкие сменили жанр своих политически безобидных произведений на эзопову сатиру. Думается, что яростная атака советских руководителей на либерально настроенных писателей в марте 1963 года сыграла в этой метаморфозе не последнюю роль. Стругацкие, писавшие раньше чистую научную фантастику о покорении иных миров, начали производить литературу, описывающую тоталитарные режимы; это подавалось под соусом той же научной фантастики, но было гораздо ближе к советской действительности, чем к жизни на других планетах.
Аксенов в первых четырех повестях[160], хотя и демонстрировал некоторое фрондерство обращением к запретным темам – сексу, рок-н-роллу, абстракционизму, хотя его юные герои и отрицают прежние ценности (без особой конкретизации, но понятно, что речь шла о сталинизме), тем не менее за рамки не выходил: романтика труда и идеи социализма сомнению не подвергались. Но в 1963-м он также переключился на фантастическую сатиру, только не в жанре научной фантастики, а скорее в жанре гротеска. О причине этой своей метаморфозы он сам недвусмысленно рассказывает: «Пьеса „Порк Кабанос“ изображает некую латиноамериканскую страну, но инспирирована она событиями 1963 года в Советском Союзе, знаменитой мартовской встречей в Кремле, когда партия издевалась над молодым искусством»[161]. Так вот, все произведения Стругацких, включая «Улитку на склоне» и «Сказку о тройке», в которых явственно потарчивают уши советского тоталитаризма и бюрократического произвола, были опубликованы в Советском Союзе. Исключение составляют лишь «Гадкие лебеди», написанные в 1967 году и впервые изданные на родине писателей только во время перестройки. Аксенов же не мог найти советского издателя для пяти пьес[162], двух повестей[163], нескольких рассказов и двух больших романов[164] – произведений, написанных в период с 1963 по 1980 год, когда его выпустили в США для чтения лекций и быстренько лишили советского гражданства. За все эти годы активно пишущий писатель смог издать только сборник замечательных, но традиционных рассказов (1965), пару детских книжек и повесть про революционера Леонида Красина в серии «Пламенные революционеры» (чистая «халтура» ради денег, к которой многие «непечатные» писатели прибегали, чтобы заработать на кусок хлеба с маслом). Единственными по-настоящему «аксеновскими» произведениями были повести «Затоваренная бочкотара» («Юность», 1968), «Рандеву» («Аврора», 1971), «Круглые сутки нон-стоп» («Новый мир», 1976) и «Поиски жанра» («Новый мир», 1978), вышедшие только в журнальных вариантах, но не в книжном формате.
Причина та же. В начале 1960-х Аксенов принадлежал к когорте молодых талантов «новой волны» советской литературы и был, пожалуй, самым ярким ее представителем, во всяком случае в прозе. В качестве такового он был любимцем западных критиков; его все и всюду приглашали для чтения лекций и участия в писательских конференциях, и, самое главное, его выпускали – он был выездным. Но, естественно, власти не спускали с него глаз и пристально следили за его продукцией. Поэтому с переменой жанра и с полным разрывом с соцреализмом отношение к нему изменилось. Его знали на Западе, и его антисталинские[165]