Маленький друг бесплатное чтение
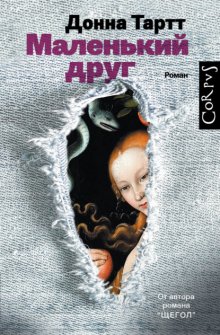
Дамы и господа, на мне надеты наручники, над которыми лучшие механики Британии работали в течение пяти лет. Я не знаю, смогу ли я освободиться в этот раз, но могу заверить вас в одном — я буду очень стараться.
Гарри Гудини. Лондонский ипподром. День святого Патрика, 1904
Пролог
До конца своих дней Шарлот Клив будет винить себя в смерти сына — ведь самая страшная в ее жизни трагедия случилась только потому, что в День матери она решила перенести прием гостей на вечер, а не праздновать, как обычно, в полдень, сразу после возвращения из церкви. Ее престарелые тетушки, конечно, слегка поворчали из-за такого неслыханного нарушения традиций — сейчас, много лет спустя, Шарлот не сомневалась, что должна была прислушаться к их недовольной воркотне, которая, как раскаты далекого грома, возвещающие о приближении грозы, предупреждала ее о надвигающемся несчастье.
Семейство Кливов всегда отличалось словоохотливостью, и главной темой их разговоров были события семейной жизни. Все, что когда-то происходило с членами семьи, столько раз излагалось, что постепенно теряло реальные черты, превращаясь в аккуратные звенья цепи семейной истории. Тетушки могли часами, смакуя подробности, пересказывать друг другу слова дальнего родственника, произнесенные им на смертном одре, или спорить о том, в каких выражениях будущий муж их троюродной бабушки предлагал ей руку и сердце. Но никто из них никогда не заикался о событиях дня, полностью перевернувшего жизнь семьи, — та давняя трагедия не обсуждалась не только во время застолий, но и когда тетушки разъезжались парами с очередного семейного сборища или встречались бессонной ночью на чьей-нибудь кухне за рюмочкой успокоительного. То, что произошло, было настолько чудовищно, непоправимо, ужасно, что стало абсолютным семейным табу.
Семейная история Кливов, благодаря привычке членов семьи бесконечно пережевывать одни и те же события до тех пор, пока все не заучивали их наизусть, напоминала уютные, покатые волны спокойного океана памяти, в котором не было места трагедии. Даже смерть маленького племянника Шарлот, случившаяся во время пожара (малыш задохнулся ядовитым дымом), обросла трогательными подробностями: например, как огромный здоровяк-пожарник, утирая скупую слезу, выносил безжизненное тело мальчика из горящего особняка. Или гибель дяди Шарлот, который сломал шею, упав на охоте с лошади: она обсуждалась много месяцев подряд, пока дамы не нашли нужную им пикантную подробность этого происшествия. Как оказалось, у погибшего была преданная ему собака, которая после смерти хозяина совершенно отказалась от еды и только выла около своей конуры, пока смерть не прибрала и ее. По легенде, собака, кстати единственная из всех, не раз видела призрак дяди и, когда тот появлялся около калитки, всегда заливалась радостным лаем.
«Ведь собаки видят то, чего не видим мы, люди», — многозначительно произносила в этих случаях тетя Тэт. Она сама придумала призрак дяди и очень этим гордилась.
Все эти истории повторялись порознь и вместе, каждая начиналась, подобно народному напеву, сольно, чтобы потом каждый из присутствующих мог добавить полюбившуюся ему деталь в общую копилку воспоминаний. Постепенно исполняемые вразнобой партии становясь более дружными, сливались в один мощный поток в финале. Кому нужна уродливая правда жизни? Творить историю, по мнению Кливов, было просто необходимо.
Но вот Робин, их нежный маленький Робин… Прошло уже больше десяти лет со дня трагедии, но они так и не смогли пережить его смерть, тот ни с чем не сравнимый первобытный ужас перед бессмысленной, необъяснимой жестокостью, совершенной по отношению к их любимому мальчику. И поскольку история его гибели не была подвергнута обычной для Кливов творческой переработке, она носила какой-то безумный, фрагментарный характер, как осколки разбитого зеркала в детском кошмаре, наполняя внезапной тоской сердце Шарлот то при взгляде на бельевую веревку, то при виде грозового неба.
Иногда в разгар очередного приступа тоски Шарлот как будто просыпалась от дурного сна — оглядывалась по сторонам, на мгновение воображая, что ничего плохого в ее жизни не случилось. И тут же понимала, что ужасная смерть Робина на самом деле была единственным по-настоящему реальным событием в ее жизни.
Мучительные воспоминания не оставляли ее ни на минуту: постепенно ей стало казаться, что все в тот день служило предзнаменованием беды — стоило только обратить внимание. На что? Ну как на что… Во-первых, по обычаю Кливы отмечали День матери в доме дедушки, а не у нее. В тот год впервые многолетняя традиция была нарушена. Потом она решила подать на ужин крокеты из цыпленка — прекрасное блюдо, конечно, признанный шедевр кулинарного искусства домработницы Иды, но ведь крокеты готовили обычно на Рождество или на именины, а никак не в День матери. Стол она украсила композицией из орхидей, а не привычным букетом из полураспустившихся розовых бутонов. В общем, в том застолье, кроме ветчины с горошком и пудинга, ничего и не осталось от традиционных семейных обедов Кливов.
Стоял теплый, предгрозовой весенний день — облака плыли низко, и золотистый рассеянный свет освещал покрытую одуванчиками поляну перед домом. Воздух был таким свежим и разреженным, что казалось, вот-вот начнут полыхать молнии. Из дома доносились голоса и смех, над общим хором вдруг возвысился голос тети Либби, взвизгнувшей: «Аделаида, ну как ты можешь так говорить? Да я в жизни ничего подобного не делала!» Сестры любили дразнить тетю Либби. Она была трепетной старушкой и панически боялась всего на свете: собак, грозы, кексов с ромом, пчел, негров и полиции. Поднялся ветер, пополоскал белье, развешанное на веревке, пригнул почти до земли сорняки на брошенном участке земли через дорогу. Где-то в доме хлопнула ставня. Робин выскочил на крыльцо и с восторгом выкрикивая считалку, которой его только что научила бабушка: «Вы-шел ме-сяц из тумана, вы-нул но-жик из кармана…», прыгал вниз по лестнице через две ступеньки.
Кто-то должен был оставаться во дворе с Харриет. Малышке тогда было чуть больше полугода; вообще в то время Харриет была серьезной крепышкой с копной черных кудрей и отличалась тем, что никогда не плакала. Ее переносной манеж установили прямо на дорожке, ведущей к дому; внутри он был оборудован мини-качелями, которые Харриет раскачивала с маниакальным упорством, стоя перед ними на коленях. Ее четырехлетняя сестра Алисон сидела на крыльце и водила ниткой перед носом кошки Винни, которая лениво поднимала лапку, не очень, впрочем, стремясь зацепить нитку. В отличие от брата с его веселым, взрывным темпераментом, Алисон была застенчивой, тихой девочкой — робкой серой мышкой. Она легко расстраивалась и могла заплакать просто так, не из-за чего, — например, когда бабушка показывала ей буквы. Понятно, что такое отсутствие индивидуальности ужасно раздражало бабушку Эдит, и она практически не обращала на девочку внимания.
Тетя Тэт все утро провела на улице, присматривая за девочками. Сама Шарлот металась между кухней и столовой и пару раз в запале даже ударилась головой о косяк — о детях она не беспокоилась, потому что Ида Рью тоже была на лужайке, развешивала белье. Но Ида в тот день была не в себе, ведь обычно по воскресеньям она уходила домой около часа дня. Ну а тут мало того что ей пришлось столько времени потратить на крокеты, так она еще и церковную мессу пропустила… И ко всему прочему ее мужу, Чарли Т., пришлось теперь самому разогревать себе обед — дело в их семье просто неслыханное. В знак протеста Ида включила на кухне радио на полную громкость и с мрачным видом расхаживала между плитой и столом, разливая по высоким бокалам остуженный морс.
Эдди, бабушка Робина, в тот момент стояла на крыльце — по крайней мере, было доподлинно известно, что она выходила на крыльцо, потому что собиралась сделать несколько снимков любимого внука в окружении семьи. Вообще, поскольку в семействе Кливов мужчин было совсем мало, вся тяжелая работа вроде подстригания кустов, мелкого ремонта или развозки старушек по магазинам выпадала на ее долю. Она выполняла эту «мужскую» работу в обычной для нее четкой, собранной манере и к тому же достаточно охотно, чем приводила в восхищение своих более боязливых и застенчивых сестер. В тот день они, конечно, были заинтригованы обещанной им фотосессией, но все равно отнеслись к фотоаппарату с опаской, особенно Либби, которая на дух не переносила никаких механических приборов. «Ох, Эдит, — часто повторяла она, — ты у нас прямо солдат в юбке, даже не знаю, есть ли в мире что-нибудь, чего ты не умеешь делать».
Но, несмотря на разнообразие талантов, Эдди не слишком хорошо умела общаться с детьми. Она была для этого чересчур нетерпелива и высокомерна и не прощала слабости никому, даже собственным отпрыскам. Шарлот, ее единственная дочь, в детстве всегда бежала за советом и утешением к тетушкам. Ну а дети Шарлот? Малышка Харриет, конечно, была еще совсем кроха и пускала слюни, совершенно не различая, в какой компании она находится, а вот Алисон боялась бабушки как огня и заливалась слезами, если приходилось остаться с ней наедине. Зато любовь Эдди к Робину была взаимной и очень сильной. Как же она обожала внука! И как он любил ее в ответ! Шарлот часто с улыбкой наблюдала довольно абсурдное зрелище — величественная дама с генеральской выправкой бегает по лужайке, а Робин, хохоча, пытается ее запятнать. Эдди учила внука стишкам, считалкам и дурацким песенкам, которые сама подхватила у солдат, когда работала медсестрой в госпитале во время войны:
- Я не знал, что ты такая дура — да!
- Как корявый пень твоя фигура — эх!
А Робин с восторгом подпевал ей своим хрипловатым, милым детским голоском.
Это он стал называть бабушку «Эдди», а ведь даже ее собственный отец и сестры никогда не рискнули бы пойти на такую фамильярность. Однажды, когда Робину было четыре, он со всей серьезностью назвал бабушку старушкой. «Бедная моя старушка», — сказал он, подойдя к ее кровати и поглаживая по руке маленькой ручонкой в цыпках и веснушках. Шарлот чуть не упала: ей даже в голову не пришло бы так разговаривать с матерью, но Робину все сходило с рук. Сама Эдди, хоть и лежала в постели с сильнейшей мигренью, пришла от такого обращения в полный восторг и с тех пор всегда подписывала ему подарки так: «Моему рыжику Робину с любовью от его бедной старушки».
Эдди-Эдди-Эдди-Эдди-Эдди-Эдди-Эдди! Ему уже было девять, но он всегда встречал и провожал ее восторженным воплем, своей любовной песней. Так было и в этот раз, когда Эдит вышла на крыльцо с фотоаппаратом в руках.
— Ну-ка иди сюда, поцелуй свою старушку, — улыбаясь, сказала она, но Робин не спешил подходить.
Обычно он любил фотографироваться, но иногда на него нападал приступ застенчивости, и тогда на снимке проявлялась только смазанная рыжая копна волос, острые локти да худые коленки, выставленные для защиты. Увидев фотоаппарат на шее Эдит, он отбежал на безопасное расстояние и запрыгал, пытаясь дотянуться до свисающих веток глицинии.
— Да иди же ко мне, сорванец! — тоже смеясь, крикнула Эдит и вдруг, резко подняв фотоаппарат, щелкнула кнопкой.
По горькой иронии судьбы, это оказался последний его снимок — размытый, невнятный. На снимке было отчетливо видно только зеленое пятно лужайки, куст гардении около крыльца, беловато-пасмурное небо да еще силуэт Робина, убегающего от камеры по траве — прямо в объятия смерти, затаившейся под темными ветвями, терпеливо ждущей его под раскидистым платаном на самом краю кадра.
Много дней спустя Шарлот лежала у себя в комнате, напичканная лекарствами, плохо понимая, что происходит вокруг, и ее грызла, мучила, истязала одна мысль — она не успела попрощаться с Робином, не сказала ему «пока, милый!», а для него ритуал прощания всегда был очень важен. Он как будто предчувствовал, что ему придется уйти раньше срока, и его прощания всегда носили длительный, даже церемонный характер. Он и говорить «пока!» стал гораздо раньше, чем «привет!», поначалу так и здоровался с людьми: «Пока, тетя!» Каждый вечер перед сном она заходила в его комнату, поправляла тапочки у кровати и бесконечное количество раз повторяла «доброй ночи, мой мальчик!», пока он не успокаивался и не засыпал. И теперь, когда Шарлот, заливаясь слезами, лежала в своей зашторенной спальне, она вспоминала, как он махал ей рукой из школьного автобуса: «До свидания, мамочка!» — пока автобус не скрывался из виду, как оставлял маленькие записочки («Целую») на кухонном столе. Шарлот особенно мучило то, что он ушел не попрощавшись; она даже не могла вспомнить последние слова, которыми они обменялись. Обезумев от горя, не в силах заснуть, она все повторяла и повторяла одно и то же: «До свидания, мой мальчик, мой мальчик», что-то лепетала, хватая за руки тетю Либби, а слезы катились по ее лицу. В те ужасные дни именно тетя Либби спасла ее — не отходила от кровати ни на шаг, держала за руки, меняла холодный компресс на голове и в результате выходила. Никто, кроме Либби, не мог ее утешить — ни муж, ни даже собственная мать. Впрочем, последняя, заходя в ее комнату, чаще всего отдергивала занавески на окнах и гаркала, как сержант на плацу: «А ну вставай, хватит валяться! Выпей кофе, оденься, причешись! Посмотри, на кого ты похожа, прошлого не воротишь, нельзя всю жизнь прятаться в постели!»
Сердобольная тетя Либби каждый раз содрогалась, видя ледяной взгляд сестры, устремленный на лежащую без движения дочь, — такой он был безжалостный, беспощадный. Горе превратило сердце Эдди в лед, а саму ее — в камень.
«Жизнь продолжается», — любила повторять Эдди, но это было ложью даже по отношению к себе. Шарлот, просыпаясь ночью, иногда на секунду забывала о случившемся, вскакивала, боясь, что Робин проспит школу, и вдруг, увидев смятые простыни, спящую в кресле тетю Либби, пузырьки и ампулы с лекарствами на столике, вновь задыхалась от плача и всхлипывала до тех пор, пока не начинали болеть ребра.
Как-то раз Робин прикрепил жестяные пластинки к спицам своего велосипеда, чтобы они дребезжали на ходу. Хоть ее это и раздражало, Шарлот невольно научилась прислушиваться к их нестройному треньканью, определяя по нему местонахождение мальчика — вот он поехал по улице прочь от дома, а вот возвращается. А теперь у кого-то из соседей появился точно такой же велосипед, и Шарлот вздрагивала, издалека заслышав знакомый дребезжащий звук. И каждый раз на секунду Робин являлся ей из-за угла, изо всех сил крутя педали, хохоча от радости и избытка жизненных сил.
Звал ли он ее в те последние, ужасные минуты? Думать о них было непереносимо, но ни о чем другом она думать не могла. Как долго это продолжалось? Как сильно он мучился? Дни напролет она смотрела на побеленные балки потолка, наблюдая за передвижением пятен солнечного света, а потом так же, не отрываясь, всю ночь — на светящиеся в темноте стрелки циферблата.
«Ты встанешь или нет, в конце-то концов? — как-то рявкнула на нее Эдди. — Ты не забыла, что у тебя еще остались две дочери? Надень платье, смотреть на тебя противно!»
Но Шарлот не слышала мать — она спала наяву. В ее снах Робин был какой-то неотчетливый, она мучительно ждала, что он скажет ей хоть слово, но он поворачивался спиной и уходил, уходил… В голове ее всплывала фраза, которую Либби шептала ей в тяжелые дни: «Робин не был создан для нас, дорогая, и мы не в силах были его задержать. Нам повезло, что наш мальчик так долго оставался рядом».
И одним душным, жарким утром Шарлот вдруг поняла: а ведь Либби-то права. Его бесконечные прощания были знаком, который ни она, и никто другой не смогли тогда разгадать, — просто он заранее прощался с ней, прощался всю свою маленькую жизнь.
Эдди была последней, кто видел Робина живым. После неудачного снимка последовательность событий в голове Шарлот нарушалась. Члены семьи расселись на диванах и креслах в гостиной, ожидая приглашения к столу, Шарлот хорошо помнила, как она стояла на четвереньках перед раскрытым кухонным комодом, пытаясь отыскать там праздничные салфетки — Ида почему-то разложила на столе клетчатые, годные разве что для пикника. Шарлот уже было выпрямилась с возгласом: «Видишь, они всегда здесь лежали! Почему самой было не догадаться?» — как вдруг ее охватила непонятная паника. У нее и раньше случались такие панические атаки, но обычно посреди ночи; тогда она вскакивала и неслась в детскую, чтобы удостовериться, что с детьми все в порядке.
Что-то не так с малышкой — это первое, что пришло ей в голову. Шарлот уронила салфетки на пол и бросилась на крыльцо. Но Харриет все так же мерно раскачивала свои качели, стоя на коленках в манеже, — она подняла на мать широко раскрытые, серьезные глаза. Алисон сидела на крыльце, засунув палец в рот, и тоже качалась вперед-назад, издавая высокий звук, похожий на зудение комара. Ее личико было бледным, и Шарлот показалось, что она плакала.
— Что случилось? — спросила ее Шарлот. — Ты поранилась?
Но Алисон отрицательно покачала головой, не вынимая пальца изо рта.
Где-то на периферии зрения Шарлот заметила быстрое движение в самом конце лужайки — Робин? Но когда она взглянула туда, там никого не было.
— Ты уверена? — спросила она Алисон. — Может быть, тебя киса поцарапала?
Девочка опять покачала головой. Шарлот быстро осмотрела дочь — нет, ни царапин, ни ссадин. Кошка исчезла.
— Детка, иди на кухню, посмотри, что там Ида делает. — Шарлот легонько подтолкнула Алисон, потом вынула малышку из манежа, посадила на бедро и отнесла ее тете Аделаиде в гостиную.
Ее муж, Диксон, сказал, чтобы к ужину его не ждали. Это было нормально, он и так все время проводил или в банке, или охотясь на бедных уток, или в доме своей матери. Шарлот пошла на кухню за абрикосовым пюре для малышки.
На кухне Ида Рью вытаскивала из духовки булочки. Радио стонало на все лады — воскресная служба евангелистов, которую Ида не могла отстоять в церкви. «Боже, — пел хор, — Боже, будь всегда с на-аамии-ии».
Шарлот никому не говорила об этом, но ей не раз приходила в голову мысль, что, если бы радио не орало так громко, в доме можно было бы услышать какие-то звуки, понять, что происходит что-то неладное… Но, с другой стороны, она ведь сама не отпустила Иду домой в ее законное время.
— По-моему, булки готовы, — сказала Ида, выпрямляясь от плиты.
— Ида, я ими займусь, пойди сними белье, вроде бы дождь собирается. Да крикни Робину, чтобы шел ужинать.
— Он не придет, — сказала Ида с мрачной уверенностью.
— То есть как это — не придет? Сию минуту позови его!
— Да я ему уже двадцать раз кричала — не идет.
— Может, он побежал на тот участок через улицу?
Ида подхватила корзинку для белья и удалилась. Где-то хлопнула ставня. «Робин! — Услышала Шарлот ее раскатистый бас. — Робин, иди сюда, я сейчас тебе ноги повыдергаю!» А потом, минуту спустя, опять: «Робин!!»
Но Робин не появился.
«Господи, ну что еще случилось?» Шарлот с раздражением вытерла руки о кухонное полотенце и вышла на крыльцо.
На крыльце она внезапно поняла, что даже не представляет, где искать сына. Велосипед стоял, прислоненный к стене дома, и Робин прекрасно знал, что перед ужином не следует уходить далеко, особенно когда у них гости.
— Робин! — крикнула она. Может, он где-то спрятался? К ним на улицу иногда забегали грязные, оборванные дети — как черные, так и белые, — и хотя Шарлот не разрешала Робину с ними играть, он все равно частенько бегал по улице в их компании. Ида всей душой ненавидела этих маленьких оборванцев и всегда с криком прогоняла их со двора, но Шарлот жалела их, украдкой давала четвертаки и поила лимонадом. Впрочем, когда они подрастали, ей становилось не по себе при виде угрюмых подростков с бегающими глазами, и она охотно предоставляла Иде право распоряжаться двором по своему усмотрению.
— Тут недавно мелкая шваль опять пробегала.
Если Ида говорила шваль, это означало, что оборванцы были белыми. Их она ненавидела с особой яростью.
— Робин был с ними? — спросила Шарлот.
— Не-а.
— А где они сейчас?
— Я их прогнала.
— Куда они побежали?
— Туда и побежали, к порту.
Старая миссис Фонтейн вышла на свое крыльцо посмотреть, что происходит у соседей. Ее пудель, такой же старый и облезлый, как и хозяйка, ковылял следом.
— У вас что, вечерника? — дружелюбно осведомилась она.
— Нет, просто семейный ужин, — отозвалась Шарлот, осматривая окрестности.
— А что случилось?
— А вы не видели Робина?
— Нет. Я разбирала вещи на чердаке. Видите, сколько мусора там накопилось? Вот, я сложила все на улице. Так что, Робин убежал? И вы не можете его найти? Может, он упал в пруд? — спросила миссис Фонтейн, озабоченно нахмурив лоб. — Всегда боялась, как бы кто-нибудь из ваших детей не свалился туда.
— Господи, да наш пруд всего полметра глубиной.
Но Шарлот устремилась на задний двор.
На крыльце появилась Эдит:
— Что случилось?
— Его нет на заднем дворе, я уже смотрела! — крикнула откуда-то Ида Рью.
Шарлот как раз проходила мимо открытого окна на кухне, оттуда лилось стройное пение:
- Нежно, так нежно зовет нас Иисус,
- Тебя зовет и меня,
- Видишь, ворота открыты в рай, он смотрит на нас и ждет…
На заднем дворе никого не было. Дверь в сарай приоткрыта — внутри пусто. Пруд весь затянуло ряской — вязкая зелень стояла нетронутой. Шарлот повернулась, чтобы пойти назад, — как раз в этот момент небо разорвало первой молнией.
Робина обнаружила миссис Фонтейн. Ее вопль заморозил кровь в жилах Шарлот, приковал ее к месту. На негнущихся ногах она сначала пошла, а потом неуклюже побежала на крик — туда, где на самом краю лужайки ее ожидало что-то ужасное, от чего у нее должно было разорваться сердце. Странно, что она помнила каждую секунду: как прохладный ветер играл в ее волосах и как первые капли дождя упали на лицо, как шумело в ушах, а земля под ногами была такой рыхлой, что в ней вязли каблуки.
Где же была Ида, когда Шарлот добежала до дерева? А где была Эдди? Она не могла этого вспомнить — видела только лицо миссис Фонтейн, ее безумные глаза за запотевшими стеклами очков, открытый в крике рот, руку с зажатым в ней носовым платочком.
Робин висел на обрывке веревки, которую перекинули через нижний сук сизо-серого платана, что рос на самом краю лужайки между их участком и садом миссис Фонтейн. Он был уже мертв. Его ноги болтались сантиметрах в двадцати над травой. Кошка Винни, распластавшись на ветке над головой Робина, скребла лапой веревку, пытаясь дотянуться коготками до его развевающихся медно-рыжих волос. Веревка легонько качалась и подергивалась. Доносящийся с кухни хор мелодично выводил:
- Вернись…
- Вернись домой, усталый путник мой…
Из кухонного окна пополз столб черного дыма — это загорелись на плите крокеты из цыпленка. Их раньше все так любили, но с того дня никто в семье Кливов их не готовил.
Глава 1
Смерть кошки
Прошло двенадцать лет со дня гибели Робина, но до сих пор никто так и не смог раскрыть причину смерти несчастного ребенка.
Конечно, в городе по сию пору шли разговоры о том, что на самом деле могло произойти в тот злосчастный день. Обычно о смерти Робина говорили как о «несчастном случае», хотя факты свидетельствовали об обратном. Ведь даже самые искушенные местные сплетники не могли объяснить, как девятилетний мальчик смог изловчиться и повесить самого себя, пусть даже он случайно соскользнул с ветки. Но поскольку про обстоятельства его смерти знали все, каждый стремился выдвинуть собственную теорию. Робина повесили на обрывке волоконного кабеля — такой встречается достаточно редко, по крайней мере в доме Кливов никогда ничего подобного не держали. Откуда он взялся, никто сказать не мог. Кабель был толстый, узлы на нем завязаны хоть и не профессионально, но достаточно крепко — приехавший из Мемфиса инспектор полиции выразил сомнение, что такой маленький мальчик, как Робин, справился бы со скользким, тугим проводом. Следы на теле Робина (по словам его педиатра, который сам тела не видел, но слышал, что говорил медицинский эксперт штата, которому, в свою очередь, это поведал делавший вскрытие патологоанатом) свидетельствовали о том, что мальчик умер от удушья, а не от перелома шейных позвонков. Некоторое время соседи с жаром обсуждали эту новую деталь — кто-то считал, что Робин умер, будучи повешенным, кто-то уверял, что его сначала задушили, а подвесили позже.
Но если горожане и рассматривали иные версии, семья Робина не сомневалась — их мальчика убили, зверски, мерзко, подло убили. Но кто? Кому могла прийти в голову такая чудовищная мысль? На этот вопрос уж точно никто ответа дать не мог. В городе очень давно не происходило загадочных убийств. Нет, конечно, время от времени ревнивый муж мог придушить или прибить неверную жену, но такие случаи происходили в негритянских кварталах, во время семейных разборок, и к белым людям никакого отношения не имели. Другое дело — убитый ребенок. Ну кто способен на такое преступление? Подобных монстров в городе вроде и быть не могло…
Вскоре коллективный разум горожан придумал наиболее возможное объяснение случившейся трагедии: наверное, во всем виноват маньяк. Никто конкретно не знал, как выглядит маньяк, но людям сразу стало страшно. Этот маньяк (его назвали Черный Душитель) был огромным мужчиной двухметрового роста. Высокий рост сомнений ни у кого не вызывал, но прочие детали его внешности сильно разнились от рассказа к рассказу. То он был черным, то белым, то просто душил детей, а то и ел их, иногда на щеке у него возникал багровый шрам, а иногда он хромал на левую ногу. Но в любом случае долгое время матери не позволяли детям играть на улице, в особенности ближе к вечеру — самое опасное время, когда Черный Душитель мог, выйдя на охоту, подкарауливать невинных крошек в припаркованном в укромном месте запыленном автомобиле.
Но если горожане без устали обсуждали подробности смерти Робина и строили всевозможные догадки, Кливы никогда даже не упоминали тот день.
Зато Кливы без конца вспоминали живого Робина. На такие воспоминания семейное табу наложено не было. Образ мальчика постепенно менялся, обрастал новыми деталями, округлялся, терял резкость, но взамен приобретал благообразие, почти ореол святости. Старые тетушки пересказывали друг другу смешные случаи из его жизни: как он коверкал слова, как никогда не мучил животных, как защищал малышей в детском саду — трогательные маленькие истории, смешные, пусть несущественные подробности взросления их маленького героя. День за днем, год за годом тетушки старательно лепили посмертный образ Робина. В такие игрушки он играл, такую одежду носил, те учителя ему нравились, а те нет, такие ему снились сны, и такие подарки он любил получать на день рождения. Конечно, далеко не все подробности жизни Робина соответствовали действительности, но уж если Кливы брались за сотворение истории, они подходили к вопросу со всей основательностью. Из милого, но довольно избалованного ребенка их обожаемый мальчик постепенно превратился в абсолютного идола, в смеющегося Будду, рассыпающего цветы на своем пути.
«Как бы это понравилось Робину!» — восторженно восклицала Либби. «Ох, как бы Робин над этим посмеялся!» — говорила Тэт. И сестры Робина, которые совершенно его не помнили, росли в убеждении, что их брат из всех цветов предпочитал красный, что его любимой книгой был «Ветер в ивах», а любимым персонажем этой книги — мистер Жаба, что он любил только шоколадное мороженое и всегда болел за бейсбольную команду «Кардинал». Сами они, как и все дети, сегодня предпочитали шоколадное мороженое, а завтра — персиковое, сегодня — красный цвет, а завтра — зеленый, поэтому постоянство Робина вызывало у них чувство завистливого восхищения. Его образ, отполированный миллионами слов, светил над ними ровным, тускловатым светом, еще больше подчеркивая слабость и переменчивость их собственных натур. Они были уверены, что причиной такого постоянства был ангельский характер их старшего брата, а вовсе не тот факт, что брат был уже двенадцать лет как мертв.
Младшие сестры Робина были абсолютно непохожи как на него, так и друг на друга.
Алисон было уже шестнадцать. Маленькая серенькая мышка, которая постоянно плакала, обгорала на солнце за пять минут и падала на ровном месте, неожиданно для всех превратилась в прехорошенькую девушку — длинные ноги, рыжевато-каштановые кудри, большие карие глаза с влажным блеском. Прелесть ее заключалась в основном в мягкости. Ее нежный голос всегда звучал тихо и нерешительно, манера общения была довольно апатичная, а черты лица несколько смазаны. Эдди, которая сама была «лед и пламя» и ценила силу характера и жизненный огонь во всех их проявлениях, сердилась на Алисон и негодовала. Да, внучка расцвела и похорошела, но ее обаянию, подобно качающимся на ветру хорошеньким головкам полевых цветов, не был отмерен долгий срок — как и им, ей предстояло быстро увянуть. Алисон жила в мире грез, она запоем читала дешевые романы, много вздыхала и при ходьбе слегка загребала носками внутрь. Однако на мужчин она производила самое благоприятное впечатление — мальчики из ее класса уже давно взяли за правило названивать ей по телефону.
Какая жалость, говорила Эдди довольно презрительным тоном, что такая милая девочка (для нее «милая» было синонимом «вялая» и «анемичная») совершенно не умеет себя подать. Алисон должна стоять прямо, распрямив плечи, она должна больше читать, и не глупости, а серьезную литературу, должна уметь задавать людям вопросы, хоть чем-то интересоваться, в конце концов. А то поговорить с ней совершенно не о чем. После очередного вердикта, вынесенного бабкой в ее обычной категоричной манере, Алисон в слезах выбегала из комнаты и пряталась у себя в спальне.
«А мне наплевать, что вы думаете, — вызывающе заявляла Эдди, оглядывая притихших сестер, явно не одобрявших ее манеру воспитания внучки, — кому-то надо поучить ее жизни. Если бы я постоянно не долбила ее как дятел, она бы и десятый класс не закончила. Уж я-то знаю!»
Вообще-то это было сущей правдой. Хотя Алисон никогда не оставалась на второй год, несколько раз она была к этому пугающе близка, особенно в младших классах. «Детка, наверное, тебе надо немножко больше заниматься», — не слишком строгим тоном бормотала Шарлот, глядя на очередные двойки в дневнике дочери. Впрочем, ни Алисон, ни ее мать не придавали большого значения школьным отметкам. Зато для Эдди оценки Алисон были делом ее собственной чести. Она устраивала настоящие конференции со школьными учителями внучки, задавала ей дополнительные задачи по математике и читала ей вслух, до сих пор проверяла все ее домашние задания. Бессмысленно было напоминать ей, что Робин тоже не всегда был примерным учеником.
«Чепуха! — заявляла она со свойственным ей апломбом. — В нем жизнь играла, била через край, очень скоро он научился бы работать как следует!» Признавая тем самым, что больше всего ее раздражало во внучке именно отсутствие огня.
После смерти Робина Эдди ожесточилась, Шарлот же впала в меланхолическую депрессию, от которой ее жизнь как будто потускнела и утратила краски. Она бесцельно слонялась по дому, перекладывая вещи с места на место, не в силах вспомнить, что хотела сделать минуту назад. Конечно, она защищала Алисон, но так же вяло и равнодушно, как и все, что делала.
Ее муж, Диксон, за эти годы еще больше отдалился от семьи. Финансово он, конечно, продолжал их поддерживать, но постепенно все реже появлялся дома.
Некоторое время после трагедии он пытался воздействовать на Шарлот, раздвигал занавески на окнах, зажигал свет, включал телевизор, говорил что-то вроде «Давай же, милая, поднимайся!» или «Мы же с тобой в одной упряжке», но Шарлот только непонимающе глядела на мужа. Когда же до него дошло, что его усилия не приносят никакого результата, Дикс не на шутку обиделся. Потерпев еще пару месяцев, он принял приглашение на работу в банк в соседнем городе. Хоть он и пытался обставить этот переезд как бескорыстную жертву во имя семьи, каждый, кто хоть немного его знал, прекрасно понимал его мотивы. Дикс не хотел жить в склепе, он жаждал веселья, новых впечатлений, желал, чтобы жизнь вокруг него бурлила, он был счастлив за карточным столом, на балу или в ночном клубе, но никак не в спальне напичканной лекарствами жены. Он хотел ездить во Флориду в отпуск, а по вечерам пить коктейли и слышать женский смех. Он хотел женщину, у которой дом всегда был бы безукоризненно чист, волосы красиво уложены, а брови подбриты, которая смотрела бы на него с обожанием и по первому его знаку подавала на стол вино и закуски.
Но его семья была полной противоположностью — жена почти совсем ушла в себя, дочери чурались незнакомых компаний, предпочитая общество своих полоумных старых теток. Кто мог обвинить Дикса в том, что ему это все ужасно надоело? По крайней мере, не он сам.
Хоть Алисон и раздражала бабушку своим видом и мечтательностью, тетушки ее просто обожали. В их глазах она олицетворяла истинную женственность и была именно такой, какой призвана быть юная девица, — не только красивой, но и милой, доброй и ласковой, одинаково терпеливой с животными, стариками и малыми детьми. По мнению тетушек, эти качества в девушке были гораздо важней, нежели все хорошие оценки вместе взятые.
Они яростно защищали ее перед Эдди. «Бедная крошка, она столько пережила, оставь ее наконец в покое!» — в сердцах воскликнула как-то тетушка Тэт. Тогда этот аргумент сработал и Эдди закрыла рот, впрочем, ненадолго. Конечно, все прекрасно помнили, что Харриет и Алисон были во дворе в тот ужасный день, и хотя Алисон было лишь четыре года, никто не сомневался, что «бедная крошка» могла увидеть нечто столь ужасное, что сломало ее неокрепшую детскую психику.
Конечно, после смерти Робина и полиция, и члены семьи бесконечно допрашивали ее: видела ли она кого-нибудь в тот день?
Может быть, кто-то заходил к ним во двор? Мальчик или взрослый дядя? Но Алисон не говорила ни слова, хоть и начала по ночам мочиться в постель и часто плакала и кричала во сне. Вообще, казалось, что этот и без того не слишком развитой ребенок внезапно потерял даже те крошечные навыки общения, что у него были. Какие бы вопросы ей ни задавали, Алисон только сосала палец, прижимая к груди плюшевую собачку, да смотрела на полицейских широко открытыми глазами, по которым даже не было видно, понимает ли она, о чем ее спрашивают. Никто, даже Либби, самая нежная из всех тетушек, не мог вывести ее из этого состояния.
Постепенно первый шок у девочки прошел, и в последующие годы Алисон часто искренне пыталась хоть что-то вспомнить о том дне. Но как бы она ни старалась выкопать из глубин памяти хоть какую-то деталь, какую-то зацепку, она каждый раз натыкалась на непреодолимую, глухую стену. Да и что она могла вспомнить? Декорации той сцены никуда от нее не делись — она все так же каждое утро сбегала по крыльцу на лужайку, все так же играла с «кисой», которая очень быстро выросла в пушистую рыжую кошку. Однако иногда ее охватывало странное чувство: в ушах начинался мерный гул, и она видела двор как будто другими глазами — на ветру полоскалось белье, около крыльца были сложены стопкой оставшиеся с обеда грязные тарелки, но никого из взрослых поблизости не было. Алисон видела внезапно обезумевшие, пустые глаза кошки Винни, как та вдруг отпрянула от нее и грациозными прыжками бросилась через лужайку к стоящему вдалеке дереву. Была ли эта картина реальной или выдуманной? Сама она, по крайней мере, не чувствовала себя настоящей — скорее ощущала себя как два незрячих глаза, следящих за происходящим, но не принимающих в нем участия.
Но если честно, то Алисон не слишком много времени размышляла над смыслом этих отрывочных воспоминаний — она вообще не уделяла прошлому большого внимания, чем приводила в изумление всех своих родственниц, которые только прошлым и жили. Во время семейных сборищ тетушки со всех сторон атаковали Алисон вопросами: «Ты помнишь, дорогая, то мое платье из зелененького муслина с узором из веточек?», «А помнишь, какая в том году была прекрасная розовая флорибунда?», «Что ты, Либби, то была чайная флорибунда, правда, Алисон?» И Алисон напряженно хмурила брови, изображая, что пытается вспомнить цвет роз на кусте, о котором шла речь, и рассеянно кивала в поддержку обеим тетушкам. «Детка, — вступала мать, — а помнишь, какое чудесное утро было на Пасху, ну, тогда, когда Харриет была еще совсем крошкой, и как вы слепили из снега зайца во дворе тети Либби?» — «Да, конечно, помню», — храбро лгала Алисон. Она и в самом деле что-то вспоминала, поскольку слушала эти истории изо дня в день и из года в год и даже, бывало, вносила собственные трогательные детали в какое-нибудь событие с ее участием. Так, она придумала, что тогда на Пасху они с Харриет собрали сбитые морозом цветы дикой яблони и украсили ими носик и глазки снежного зайчика. Ее дополнение было единогласно одобрено семейным советом и стало неотъемлемой частью истории о зайце.
Но, положа руку на сердце, Алисон со стыдом признавалась себе, что вообще мало что помнит из детства — ни детский сад, ни первые классы школы, ни домашняя жизнь не оставили в ее памяти никакого следа. Только с восьмилетнего возраста она начала более или менее уверенно себя чувствовать. Алисон никому не говорила об этом и отчаянно завидовала Харриет, которая утверждала, что прекрасно помнит все, что с ней происходило, чуть ли не с рождения.
К моменту смерти Робина Харриет было чуть больше шести месяцев, но, по ее словам, она помнила о брате практически все. И действительно, бывало, она вдруг вспоминала какую-нибудь мелкую, но очень точную деталь одежды, погоды или обеденного меню со времен, когда ей было явно меньше двух лет, так что у всех присутствующих даже рты открывались от удивления.
А вот Алисон совсем не помнила Робина, хотя прожила с ним почти пять первых лет своей жизни. Позор, да и только. Тетя Тэт, у которой девочки долгое время гостили после смерти брата, много раз пересказывала племяннице подробности полицейского расследования. Симпатичный молодой инспектор полиции так упорно пытался ее разговорить: и шоколадки ей предлагал, и показывал фотографию своей маленькой дочки, раскладывал на столе другие снимки, в основном черных мужчин с тяжелыми подбородками и набрякшими веками. Но маленькая Алисон только всхлипывала, сжимая в испачканном кулачке шоколадку, отворачивалась от фотографий и так ни слова и не сказала. Тетя Тэт любила пересказывать эту историю, сидя на своем любимом синем плюшевом диване, рядом с которым стоял неизменный обогреватель, — в эти минуты ее мутновато-карие глаза устремлялись вдаль, а голос приобретал мечтательную интонацию, словно рассказ шел о незнакомом ей человеке.
У Эдди к Алисон было совсем другое отношение: бабушка не оставляла надежды вывести внучку из состояния легкой летаргии, в котором та пребывала, и часто рассказывала ей довольно жуткие, но, по ее мнению, поучительные истории из жизни.
«Сестра моей матери, — начинала Эдди, когда они с Алисон усаживались в машину, чтобы отправиться на урок музыки, — знала одного мальчика, его звали, э-э-э-э, по-моему, Рэндел Скофилд. Представь себе, все его семейство в одночасье погибло во время торнадо. Как-то раз возвращается он из школы домой — и что же он видит? Весь дом разрушен до основания, только развалины дымятся, а негры, что разбирали завалы, вытащили из-под руин тела его родителей и трех младших братьев и положили на песок возле дома — так они и лежали, как сардины в банке. — Тут Эдди переводила дух, давая Алисон возможность самой представить страшную картину разрушения. Прямой, изящный нос Эдди с чуть заметной горбинкой еще выше взмывал в воздух. — Только представь себе, у одного из братиков отрезало руку по плечо, а у матери из головы торчит дверной порожек — прямо из виска. Ну, и как ты думаешь, что стало с бедным мальчиком? Так вот, он онемел. И молчал семь лет. Все время ходил с полосками бумаги и карандашом и писал на них все, что хотел сказать, до последнего слова. Владелец прачечной давал ему бумагу бесплатно».
Это была одна из любимых историй Эдди. Детали ее раз от раза варьировались — иногда дети слепли, или прикусывали языки, или даже сходили с ума при виде ужасных картин жизненных катастроф. Но все эти «страшилки» почему-то рассказывались с неодобрением, даже с порицанием по отношению к Алисон, а почему — девочка понять не могла.
Большую часть свободного времени Алисон проводила в одиночестве и совсем от этого не страдала — она рисовала принцесс, слоников и сказочных мышек в своем розовом альбоме, выплавляла из огарков свечей новые, разноцветные, вырезала картинки из журналов и мастерила из них коллажи. В школьной столовой она сидела за одним столом с самыми заметными девочками класса, но после уроков практически с ними не общалась. Внешне она была одной из них — хорошо одетая, с гладкой кожей и ясными глазами, и жила она в большом доме на престижной улице. Но больше ее с ними ничего не связывало.
«Господи, Алисон, да ты могла бы стать самой яркой девочкой в классе! — с досадой твердила ей Эдди. — Тебе надо только сделать маленькое усилие…»
Но Алисон не хотела делать над собой никаких усилий — ей и так было хорошо. Правда, во сне ее постоянно мучил один и тот же кошмар — желтое небо, и на нем что-то полощется и мелькает, но утром она уже про него и не вспоминала.
Алисон много времени проводила у тетушек, особенно в выходные. Тетушки, правда, обитали в разных домах, но часто собирались вместе. В такие дни Алисон была для них самой желанной гостьей. Она охотно участвовала в их повседневных делах: помогала вдеть нитку в иголку, читала им вслух любимые книги, лазала на пыльный чердак за давно забытыми вещами… К тому же Алисон всегда с удовольствием слушала их бесконечные рассказы: про давно умерших одноклассников, про симпатичного учителя пения, в которого были влюблены и Тэт и Адди, про их потерянное нынче родовое гнездо и про ее собственное детство. По субботам она пекла пирожки или готовила по старинным рецептам сласти, чтобы тетушки могли раздать их бедным на воскресном благотворительном базаре, — сливочную помадку, меренги, а то и песочный торт. В такие дни тетушки, раскрасневшиеся, румяные, весело семенили из кухни в гостиную и назад, в полном восторге оттого, что в доме происходит нечто удивительно приятное.
«Какая же ты у нас маленькая хозяюшка, — хором пели тетушки. — Какая красавица! Наш ангел пришел нас проведать, вот радость-то! Красавица наша. Деточка наша».
Харриет, малышка, не была хорошенькой. И уж деточкой ее точно никто не называл. Зато Харриет была умной.
С раннего детства Харриет развивалась не так, как, по мнению Кливов, должна развиваться девочка. Она дерзила бабушке и теткам, презирала сказки, предпочитая им исторические романы о походах Чингисхана, и доводила мать до слез своим упрямством. Сейчас ей было двенадцать с половиной. Хотя училась она блестяще, учителя часто жаловались на ее поведение. В этом случае они звонили Эдди — каждый, кто хоть раз встречался с Кливами, сразу понимал, кто истинный глава этого семейства. Никто и раньше не оспаривал власть Эдди, но после отъезда Дикса она окончательно воцарилась на семейном троне и теперь обладала поистине беспредельной властью. Но даже Эдди с ее замашками главнокомандующего не представляла, какую линию поведения ей следует проводить с младшей внучкой. Не то чтобы Харриет совсем не слушалась, но эта девочка обладала способностью выводить из себя практически любого взрослого, попавшего в диапазон ее общения.
У Харриет не было ни обаяния сестры, ни ее мечтательно-апатичного характера. Она росла крепким ребенком: круглолицая, с румяными щеками, острым носиком и решительно сжатыми тонкими губами. Говорила она отрывистыми фразами и непривычно для Миссисипи отчетливо произносила гласные. Ее часто спрашивали, откуда у нее взялся такой акцент — настоящая янки, да и только! Острый, бескомпромиссный взгляд светлых глаз был как у Эдди, но если бабушка была аристократически красива, внучка унаследовала от нее только резкую манеру поведения да быстроту реакции.
С раннего возраста Харриет приставала с вопросами не только к членам семьи, но и к слугам. Она ходила по пятам за Идой Рью, забрасывая ее вопросами на самые разнообразные темы, например: сколько Ида зарабатывает в неделю? А в месяц? А что она покупает на зарплату? А знает ли она молитву святому Иисусу? А может ли научить Харриет молиться? Ида усмехалась, но учила. Ее забавляло, что Харриет умудряется внести смуту даже в ряды миролюбивых Кливов. Например, девчушка «по секрету» поведала тете Аделаиде, что ее вышитые наволочки, которые она дарила сестрам на все праздники, никто не только не использует по назначению, но даже дома у себя не держит — их сразу же передаривают знакомым. А Либби она сообщила, что маринованные с укропом огурцы, которые тетушка наивно считала своим кулинарным шедевром, вообще оказались несъедобны — правда, в семье их используют как средство от сорняков.
«Видишь то голое место на лужайке? — заговорщически прошептала Харриет на ухо убитой этой новостью Либби. — Вон там, слева от заднего крыльца? Тэтти когда-то выкинула туда твои огурцы, так там уже шесть лет ничего не растет».
Харриет какое-то время была увлечена идеей закрутить побольше банок с огурцами и продавать их на рынке как пестициды — вот Либби разбогатела бы!
Либби от огорчения потом три дня без остановки плакала. А Аделаида вообще затаила на сестер большую обиду — две недели она не разговаривала ни с Тэтти, ни с Эдит, высокомерно оставляя на съедение местным собакам дары, которые провинившиеся сестры клали на ее крыльцо в знак примирения. Либби бегала туда-сюда, пытаясь помирить сестер, и почти уже добилась желаемого результата, но тут Харриет нанесла еще один, решающий удар, рассказав Аделаиде, что Эдди никогда даже не открывает ее подарков. Просто заклеивает поздравительную записочку Аделаиды цветной бумагой и отправляет дальше — в основном в благотворительные организации, чаще всего негритянские. От этого удара Аделаида так и не смогла оправиться и вспоминала о нем все последующие годы, демонстративно преподнося сестрам на праздники дорогущие подарки, купленные в лучших магазинах Мемфиса. Она даже ценники не всегда удосуживалась срезать.
«Я-то сама предпочитаю подарки, сделанные своими руками, — громко заявляла она партнершам по бриджу в дамском клубе или на кухне Иде Рью так, чтобы сестры, сидящие в гостиной, могли слышать каждое ее гневное слово, — потому что для меня самое главное — внимание. Но для некоторых людей, — тут она делала многозначительную паузу, — важно только знать, сколько денег на них потратили. Они считают, что если вещь не куплена в дорогущем магазине, так и дарить тогда ее незачем».
«Не расстраивайся, тетушка Аделаида, — говорила в таких случаях Харриет, — мне-то очень нравятся твои подарки!»
И ей они действительно нравились. Конечно, Харриет не пользовалась вышитыми тетушкой передниками, полотенцами и наволочками, но ее вдохновляли безвкусные аляповатые картинки: танцующие чайники, целующиеся голландские дети, толстые мексиканцы в сомбреро. Они ей настолько нравились, что Харриет даже выкрадывала предметы своего вожделения из чужих комодов. Поэтому ее безмерно раздражало отношение Эдди, которая презирала подарки сестры до такой степени, что даже не хотела делиться ими с внучкой. («Помилуйте, молодая леди, к чему вам эти ужасные тряпки?»)
«Я знаю, что тебе они нравятся, моя милочка, — тетушка Аделаида театрально закатывала глаза, брала голову внучки в свои сухие ладони и демонстративно целовала ее в лоб. За ее спиной Тэтти и Либби нетерпеливо закатывали глаза и обменивались понимающими взглядами, но возражать не рисковали. — Когда-нибудь, когда меня уже не будет в живых, ты порадуешься, что не выбрасывала их, как это делали другие».
«Ох, кому-нибудь не мешало бы вздуть эту „малышку“, — ворчал садовник Честер, встречаясь во дворе с Идой Рью. — Посмотри на нее, как глазенки-то блестят в ожидании скандала».
Эдди, у которой глазенки тоже, бывало, блестели в предвкушении хорошей ссоры, нашла в Харриет родственную душу. Несмотря на сходство взрывных характеров, а может быть, именно благодаря ему, бабушка и внучка много времени проводили вместе.
Эдди постоянно жаловалась на дерзость и несдержанность Харриет, которая частенько выводила ее из себя, но все же предпочитала ее компанию обществу ее старшей сестры. Ведь Алисон была уж до того скучная и предсказуемая, ее ничего не интересовало и она соглашалась с любым мнением, которое высказывали в ее присутствии. В результате Харриет почти каждый день после школы заходила к Эдди и проводила там несколько часов.
Тетушки, конечно, тоже любили Харриет, но у них она часто вызывала чувство недоуменного опасения. Слишком уж она была резкая, прямолинейная. Как скажет что-нибудь этакое, так и не знаешь, как реагировать. Они, как могли, пытались привить ей хорошие манеры, впрочем, практически всегда безуспешно.
— Дорогая, ну как же ты не понимаешь, — деликатно заводила разговор тетя Тэт. — Если тебе, к примеру, не нравится фруктовый кекс, незачем прямо заявлять об этом хозяйке. Ведь ты можешь ее обидеть!
— Тэтти, но ведь я терпеть не могу фруктовый кекс! — с возмущением восклицала Харриет.
— Я знаю это, дорогуша, поэтому и привела такой пример.
— Да я вообще не знаю никого, кто любил бы фруктовый кекс, — развивала свою мысль Харриет. — Потому что его есть совершенно невозможно. А если я скажу, что он мне нравится, она и впредь будет мне его совать.
— Не в этом дело, дорогая. Дело в том, что, если хозяйка что-то приготовила специально для тебя, настоящая маленькая леди съест кусочек да еще поблагодарит.
— А в Библии сказано: «Не солги».
— Это про другую ложь. Мы сейчас говорим про ложь из вежливости, про «белую» ложь.
— В Библии не сказано про черную или белую ложь. Просто про ложь.
— Поверь мне, Харриет, хоть Иисус и учил нас не лгать, это не значит, что мы должны грубить хозяйке дома.
— Иисус ничего не говорил про хозяйку дома. — Харриет, набычившись, глядела на тетушек исподлобья. — Зато он говорил, что Сатана — лжец и человекоубийца.
— Но ведь Иисус еще говорил: «Возлюби соседа своего»? — спросила тетушка Либби в приливе внезапного озарения. — Разве это не значит, что мы должны возлюбить и хозяйку дома? Чаще всего, к тому же она и живет-то от нас неподалеку.
— А я не понимаю, как это любовь к соседу может быть связана с отвратительными фруктовыми кексами. Меня от них тошнит, что же мне, молчать об этом?
И так могло продолжаться часами. Можно было до посинения втолковывать Харриет азбучные истины этикета и постоянно натыкаться на ее демагогические сентенции, которые в большинстве своем опирались на перефразированные цитаты из Священного Писания. Перед лицом божественного слова тетушки сдавались, однако на Эдди такие аргументы не действовали. Хотя Эдди сама пела в церковном хоре и участвовала в разнообразных благотворительных акциях, в глубине души она не верила, что все слова из Библии, есть истина. Впрочем, она не верила даже в собственные высказывания, например в то, что все, что ни делается, делается к лучшему или что негры внутри устроены так же, как и белые.
— Может быть, Господь действительно не видит разницы между белой ложью и скверной ложью? Может быть, любая ложь в Его глазах кажется скверной? — задумчиво сказала тетя Либби, когда Харриет, сердито топая после неудавшейся дискуссии, отправилась домой.
— Да ладно тебе, Либби.
— Нет, может быть, Господь послал нам младенца, чтобы его устами нам открылась истина?
— Ну уж нет, Либби, — заявила возмущенная Эдди (она пришла позже и пропустила начало, но быстро поняла, о чем шла речь), — я уж лучше пойду в ад, чем буду бегать по городу и рассказывать всем, что я о них думаю.
— Ах, Эдит! — воскликнули хором все три шокированные сестры.
— Эдит, что ты хочешь этим сказать?
— То, что сказала. И я также совершенно не хочу знать, что думают мои соседи обо мне.
— Вот уж не знаю, Эдит, что такого ужасного ты могла в своей жизни сделать, — елейным тоном произнесла Аделаида, — что так боишься узнать, что о тебе думают другие?
Сестры слегка повысили голоса, перекинулись парочкой ядовитых замечаний, но быстро выпустили пар и сели за чаепитие в полной гармонии с жизнью и друг с другом. Их существование было таким тихим, гладким и скучным, что они приветствовали даже то оживление, которое привносила в него малышка Харриет.
В школе, в отличие от сестры, которую, сами не зная почему, принимали все, Харриет не пользовалась особой популярностью. Друзей у нее было немного, но те, что вились вокруг (в основном это были мальчики, и чаще всего младше ее на год-два), были преданы ей абсолютно фанатично. Они готовы были проехать полгорода на велосипеде после школы, только чтобы увидеться со своим кумиром. Харриет обожала играть в исторические реконструкции: к полному восторгу мальчишек, она учила их разыгрывать сцены из Крестовых походов или из жизни Жанны д'Арк. Однако чаще всего сюжетом для инсценировок становились подвиги и страдания Иисуса. Дети закутывались в простыни и декламировали целые параграфы из Нового Завета, которые дома предварительно учили наизусть. Понятное дело, сама Харриет в этих импровизированных постановках всегда выступала только в роли Спасителя. Любимой ее сценой была Тайная вечеря. Все рассаживались по одну сторону (как на картине Леонардо) длинного стола на заднем дворе под старым кипарисом и с нетерпением ждали кульминации сцены предательства. Харриет, раздав «последние» сушки и «последние» стаканы виноградной фанты, как бы в смертельной тоске оглядывала своих «учеников», останавливая на каждом из них холодный, горький, испытующий взгляд. «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня сегодня», — произносила она с леденящим душу спокойствием, и холодок пробегал по спинам у сидящих за столом апостолов.
«Нет, учитель, нет! — с восторгом взвизгивали все, включая Хилли, который по сценарию играл Иуду Искариота. Хилли был фаворитом Харриет, поэтому у него была возможность играть сразу несколько ролей: святого Иоанна, святого Луку и святого Петра. — Никогда мы не предадим тебя!»
После трапезы все шли в Гефсиманский сад, который располагался под сизо-серым платаном, что рос на краю лужайки. Здесь Харриет (Иисуса) захватывали римские воины. Конечно, смешно было даже подумать, что Харриет сдастся римлянам без боя, и схватки обычно получались очень жаркими — бывало, доходило и до разбитых носов. Для мальчишек, однако, основная прелесть игры заключалась в том, что она происходила под «тем самым деревом», на котором был когда-то повешен брат Харриет. Хоть убийство и случилось еще до их рождения, все они много раз слышали о нем, и у каждого в голове сложилась своя ужасающая картина, составленная из тайком подслушанных разговоров родителей и ужасающих подробностей, которые им нашептывали по ночам старшие братья и сестры.
Кстати, никто не мог понять, почему дерево до сих пор не срубили. Уж не говоря о тоскливых воспоминаниях, которые оно навевало, старый платан начал гнить изнутри — верхушка его высохла, и черные ветки торчали над пожухлой кроной, придавая ему сходство с человеком, в отчаянии вскинувшим руки к небесам. Осенью на несколько дней листва платана приобретала яркий, кроваво-красный цвет, но быстро опадала, а появляющиеся весной новые листья были темно-зелеными, почти черными, и блестели как отполированные. «Это дерево слишком неустойчиво и растет слишком близко к дому, — сказал Шарлот специалист-лесоруб, которого она вызвала, чтобы проконсультироваться по поводу старого платана. — Сильный ветер может повалить его прямо на вашу веранду». («Не говоря уж о несчастном мальчугане, — пробормотал он помощнику, усаживаясь в кабину своего грузовичка, — не понимаю, как бедная женщина может каждый день, просыпаясь, глядеть в окно на этого монстра?») Даже соседка Кливов, миссис Фонтейн, проявила инициативу и предложила оплатить спилку дерева. Такое предложение было на нее настолько не похоже, что все изумились — ведь у миссис Фонтейн была репутация жуткой скряги, она даже полиэтиленовые пакеты никогда не выбрасывала, — но Шарлот лишь покачала головой.
— Нет, благодарю вас, миссис Фонтейн, — ответила она таким тихим голосом, что старая леди сначала даже не расслышала ее слов.
— Да ты послушай меня, — разгорячилась старуха, — я предлагаю заплатить за то, чтобы его спилили. Ты меня понимаешь? Заплатить! В конце концов, это ведь угроза и моему дому тоже! А вдруг налетит торнадо…
— Нет, благодарю вас, миссис Фонтейн.
Она не глядела ни на соседку, ни на злосчастное дерево, где на черном суку сиротливо притулился полусгнивший домик, который Дикс когда-то соорудил для сына. Ее невидящий взгляд был устремлен через улицу на участок, заросший сорняками и ивняком, среди которого маленькие птички вили свои гнезда и выводили птенцов.
— Послушай меня, девочка, — сказала миссис Фонтейн, ободренная ее молчанием. — Ты думаешь, я не знаю, что значит потерять сына? Будь уверена, и дня не проходит, чтобы я не вспоминала моего бедного Линей… У тебя хоть дочки остались, а он был у меня единственный, и, когда мне сообщили, что его самолет подбили и что он сгорел прямо в воздухе, я чуть разума не лишилась. Но на все божья воля, надо принимать удары судьбы со стойкостью. Помнится, тогда почтальон пришел к нам с утра, хотя всегда являлся после обеда, и я сказала моему Портеру (он еще здоров был, мой Портер): «Поди открой, как сегодня рано газету принесли…».
Ее голос сорвался, и она взглянула на Шарлот. Но Шарлот уже не было рядом, она медленно брела назад к своему дому, все так же глядя в пространство широко раскрытыми, пустыми глазами.
Это было много лет назад, и дерево стояло так же, как и раньше, и все так же гнил на ветке старый домик Робина. Зато сейчас миссис Фонтейн уже не была так доброжелательно настроена по отношению к Шарлот.
— Знаете ли, что я вам скажу, — заявила она как-то раз дамам, собравшимся у миссис Нилли на стрижку и укладку, — она не обращает на своих бедных дочек ни малейшего внимания. Вся в себе, ходит как сомнамбула в ночной рубашке целыми днями. Куда это годится, я вас спрашиваю? А дом? Весь зарос грязью, каким-то жутким барахлом. В окно поглядеть — там газеты до потолка сложены в каждой комнате.
— Да, дела, — протянула сухонькая, остроносая миссис Нилли, — интересно, а не закладывает ли она, что называется, за воротник?
— Я ничуть не удивлюсь, если так оно и есть! — отрезала миссис Фонтейн.
Поскольку миссис Фонтейн постоянно кричала на друзей Харриет и бранила их, когда та приводила их к себе играть, они с удовольствием рассказывали о ней страшилки. В их историях старая соседка Кливов похищала и жарила на вертеле маленьких детей, а косточки их потом перемалывала в муку и удобряла ею свои грядки — недаром у нее так хорошо росли розы! Потасовка в Гефсиманском саду была тем более интересна, что она проходила прямо под носом у старухи-людоедки. Но само дерево пугало мальчишек даже больше, чем людоедское соседство, — было в нем что-то мрачное, угрожающее, трагическое, от чего хотелось бежать без оглядки, но к чему их, наоборот, непреодолимо тянуло. В этом старом дереве была скрыта непостижимая тайна, сравнимая с черным бездонным дуплом, ведущим в преисподнюю.
Над Алисон в школе немилосердно потешались, постоянно напоминая ей о несчастье с Робином («Мамочка, мамочка, можно мне поиграть с братиком?» — «Ни в коем случае, ты сегодня его уже три раза выкапывала!») Она застенчиво молчала и отворачивалась, никак не реагируя на издевательские вопросы, частушки и дразнилки, пока однажды их не услышала учительница и не положила этому конец.
Харриет же избежала насмешек в школе, отчасти из-за своей резкой и задиристой натуры (мало кто ушел бы без синяков, вздумай он дразнить ее), но отчасти и потому, что все ее друзья были слишком малы, когда случилась та давняя трагедия. В их глазах погибший брат придавал Харриет ореол мрачного очарования, против которого они были не в силах устоять. Харриет часто рассказывала им о Робине, причем с таким видом, будто он до сих пор был жив. Снова и снова мальчики ловили себя на мысли, что, может быть, она и есть Робин, восставший из могилы невинно убиенный ребенок, переселившийся в ее тело, видящий то, что от них было скрыто. По крайней мере, в ее жилах текла та же кровь, что и в его, и хотя внешне они были совершенно непохожи, через нее мальчишки могли получить представление о том, каким Робин был при жизни.
Дети, конечно, не замечали горькой иронии, по которой древняя трагедия предательства и смерти, которую они с таким восторгом разыгрывали под старым платаном, отчасти напоминала трагедию реальную, случившуюся двенадцать лет назад. Хилли важничал: ему, как лучшему «актеру», выпала честь представлять Иуду, выдавшего Иисуса римлянам, и одновременно играть апостола Петра, отсекшего ухо римскому солдату. Немного нервничая, но чрезвычайно довольный обеими ролями, он отсчитал тридцать орехов арахиса, за которые ему предстояло предать своего Учителя, а потом, под свист и смешки сотоварищей, сделал еще один глоток виноградной фанты и повернулся к Харриет. Для совершения обряда предательства Хилли должен был поцеловать ее в щеку. Однажды, уступив подначкам друзей, он набрался смелости и поцеловал Харриет прямо в губы. Холодная ярость, с которой подруга стерла с губ следы его поцелуя — тыльной стороной ладони, а потом и рукавом, — восхитила его даже больше, чем сам процесс.
Завернутые в простыни, как в саваны, маленькие фигурки Харриет и ее апостолов выглядели диковато на залитой солнцем лужайке. Бывало, что, когда Ида Рью отрывалась от мытья посуды и бросала взгляд в окно, она видела эту нелепую процессию, бредущую то по направлению к платану, то к заднему двору. Она не могла рассмотреть подробностей, поэтому не понимала смысла разыгрываемых сцен, однако каждый раз при виде закутанных по глаза белых фигур ее охватывало дурное предзнаменование. Возможно, то же самое почувствовала и прачка в древней Палестине, когда, оторвав взгляд от колодца, у которого она полоскала белье, она заметила тринадцать одинаковых фигур с закрытыми капюшонами лицами, тихо бредущих мимо нее по пыльной дороге в сторону оливковой рощи на вершине холма. Кто были эти люди, куда они направлялись? Их миссия явно была важной, об этом свидетельствовала и твердость поступи, и решительность жестов, но тут воображение ей отказывало. Может быть, они шли на похороны? Или спешили к ложу умирающего? Может быть, совершали религиозный обряд? В процессии было что-то непонятное и слегка пугающее, отчего прачка на мгновение застыла, подняв руку к глазам, но потом опять вернулась к своей стирке, не подозревая, что стала свидетельницей события, которому суждено было перевернуть мировую историю.
— И что это вы всегда топчетесь около этого старого дерева? Места на дворе мало, что ли? — спросила Ида Рью, когда Харриет вернулась в дом.
— Мы играем там, потому что под платаном темно, а во дворе слишком светло, вот почему! — сурово ответила на это Харриет.
С раннего детства Харриет обожала археологию. Ее одновременно страшили и привлекали сооруженные ацтеками курганы; разрушенные, заросшие джунглями города, погребенные под вековыми слоями земли обломки древних цивилизаций. Все началось с маниакального интереса к динозаврам, который Харриет проявила года в четыре, но постепенно он перерос в нечто большее. Кстати, сами динозавры не особенно интересовали «малышку», особенно те их карикатурные версии с длинными, загнутыми кверху ресницами и голубыми глазами, что показывали по субботам в популярных мультиках. Эти глупые ручные динозавры, которые якобы катали на своих спинах детишек и ели мороженое из их рук, не привлекали Харриет совершенно. Собственно, ее воображение будоражил только тот факт, что динозавров больше не существует.
— Но как же ученые узнали, — допрашивала она Эдди, которую к тому времени тошнило от одного слова «динозавр», — скажи мне, как они могли узнать, что динозавры выглядели именно так?
— Они нашли кости, сколько можно повторять…
— Но если бы я нашла твои кости, Эдди, разве я бы узнала, как именно ты выглядишь?
Эдди была занята — она очищала персики от бархатистой розовой кожуры, — поэтому ничего на это не ответила.
— Эдди, пожалуйста, ну посмотри сюда. Вот здесь написано, что они нашли только кость ноги. — Харриет влезла на табуретку и с надеждой протянула бабушке через стол раскрытую книгу. — А на рисунке нарисован весь динозавр. Целый!
— Ты что, не знаешь эту песенку, детка? — вступила из угла кухни Либби — она вынимала из персиков косточки. Старушка подняла вверх очищенный персик и запела дрожащим голосом: — От коленки, от коленки кость идет к бедру… От бедра, от бедра кость идет…
— Подожди ты, Либби, я хочу спросить: откуда они знают, как выглядит динозавр? Почему они нарисовали его зеленым? Может быть, он был черный или серый. Ну погляди же, Эдди. Смотри же!
— Я смотрю, — пробормотала Эдди, не поднимая глаз от персика.
— Нет, ты не смотришь.
— Я уже посмотрела в этой книге все, что хотела. Сядь на стул и успокойся, в конце концов! Прости меня господи, этот ребенок выведет из себя кого угодно.
Когда Харриет было девять или десять лет, она страстно полюбила археологию. В этом новом увлечении она, неожиданно для себя, нашла себе компанию в лице тетушки Тэт. Правда, интерес Тэт был несколько ограничен, поскольку из всех загадок древности Тэт обожала только Атлантиду. Тетушка более тридцати лет проработала в местной школе, преподавая латынь, а когда ушла на пенсию, всецело посвятила себя изучению предмета своей страсти. По ее мнению, многие из загадок древних цивилизаций были так или иначе связаны с Атлантидой. Тэт объясняла, что и египетские пирамиды, и каменные изваяния на острове Пасхи построили именно жители Атлантиды, даже электрические батареи, которые недавно нашли в пирамидах, были подброшены туда ими же. Книжные полки Тэт ломились от псевдонаучных трудов на эту тему, начиная с книг, изданных в конце девятнадцатого века, которые собирал при жизни еще ее отец, и кончая дешевыми современными брошюрами. Вообще-то, ее отец, старый судья Клив, когда-то был уважаемым человеком, однако к восьмидесяти годам тронулся рассудком и последние годы жизни провел в запертой на ключ спальне, придумывая разнообразные способы побега. Свою скрупулезно собранную, достаточно богатую библиотеку он завещал дочери Теодоре, уменьшительно Тэт.
Сестры Тэт не одобряли ее увлечения — Аделаида и Либби считали, что изучение реально никогда не существовавшей страны противоречит христианскому верованию, а Эдди говорила, что все эти россказни про Атлантиду — просто полный бред.
— Но, Тэт, ведь не было такой страны, Атланты, — нерешительно произнесла Либби, нахмурив лобик и глядя на сестру ясными глазами (сестры сидели на кухне у Либби и лущили горох). — Если она существовала, почему же о ней нет упоминания в Библии?
— Потому что Атланту к тому времени еще не построили, — с жестким блеском в глазах сострила Эдди. — Атланта — столица Джорджии, Либби. Помнишь? Шерман сжег ее дотла во время Гражданской войны.
— Ох, Эдит, не надо быть такой злюкой!
— Атланты были предками древних египтян, — сказала Тэт.
— Ну вот, видишь, а древние египтяне были безбожниками, — торжествующе закончила Аделаида. — Помнится, они еще поклонялись кошкам, собакам и другой домашней твари…
— Господи, Аделаида, какая же ты глупышка! Как они могли быть христианами — Христос-то еще не родился!
— Ну и что. Зато Моисей уже родился, и водил своих евреев по пустыне, и соблюдал десять заповедей. И уж кошкам не кланялся, это точно.
Сестры рассмеялись, их руки заходили еще быстрее.
— Атланты, — сказала Тэт высокомерным тоном, — знали так много разных вещей, что современным ученым остается только ахать. Папа мне об этом рассказывал. Папа знал все про Атлантиду, а он был хорошим христианином, и образования у него было больше, чем у всех нас вместе взятых.
— Папа, — пробормотала Эдди, — каждую ночь будил меня часа в три и кричал, что кайзер Вильгельм наступает и чтобы я опустила фамильное серебро обратно в колодец.
— Эдит, перестань сейчас же!
— Эдит, ты сама знаешь, что это неправда. Папа так говорил, когда был уже серьезно болен.
— Я и не говорю, что папа был плохим человеком, Тэтти. Просто почему-то заботилась о нем в основном я.
— Папа всегда узнавал меня, — мечтательно сказала Аделаида. Она была самой младшей сестрой и всегда считалась отцовской любимицей. — До самого конца узнавал. А в день, когда он умер, он вдруг поднялся на постели, посмотрел на меня грустно-грустно и сказал: «Адди, золотко мое, что же они со мной сделали?» Не могу понять, почему он только меня всегда узнавал? Так странно…
Харриет обожала читать тетины книги; кроме многочисленных томов, посвященных Атлантиде, у Тэт были и серьезные научные труды — Гиббон, к примеру, и «Всемирная история» Ридпата. Ее полки также пестрили дешевыми изданиями исторических любовных романов в бумажных обложках с изображениями гладиаторов, обнимающих полуголых девиц.
«Это, конечно, не настоящие исторические романы, — объясняла ей тетушка Тэтти. — Просто легкие такие романчики, которые приятно читать на ночь, к тому же действие в них происходит на фоне исторических событий. Я их даже давала своим ученикам, чтобы расшевелить у них интерес к Древнему Риму. — Она провела тонким пальцем с разросшимся от артрита суставом по выстроенным на полке разноцветным корешкам. — Вот смотри, X. Монтгомери Сторм, у меня полно его книг. Кажется, он писал также романы об эпохе Возрождения, только под другим псевдонимом, а впрочем, я уже не помню».
Харриет не интересовали романы о гладиаторах. Она презирала любовные истории так же сильно, как и все, что было связано с романтическими отношениями вообще. Ее любимой книгой в библиотеке Тэт был огромный, тяжелый том под названием «Помпеи и Геркуланум — забытые города», богато иллюстрированный цветными вклейками.
Тэт с удовольствием рассматривала картинки вместе с Харриет. Вдвоем они усаживались на синий плюшевый диван Тэт и переворачивали страницу за страницей, обсуждая увиденное и строя собственные предположения и догадки относительно того, кто жил в том или ином доме и успели ли хозяева спастись от гибели. Изящные фрески на стенах разрушенных вилл, пощаженный временем прилавок уличного булочника («Ты только погляди, тетя, даже булки сохранились!»), безликие гипсовые слепки погибших римлян, скорчившихся в последних судорогах в безвоздушном пространстве пепла, заполнившего город более двух тысяч лет тому назад, будили воображение Харриет и могли занимать ее часами.
— Не понимаю, почему люди не ушли из города раньше, чем началось извержение? — рассуждала Тэт. — Полагаю, в те годы они еще не понимали, какую опасность представляет вулкан.
Думаю, там все обстояло примерно так же, как во время урагана «Камилла», который когда-то пронесся над побережьем Залива. Когда же это было? Впрочем, неважно. Харриет, ты можешь себе представить такой идиотизм? Многие местные жители отказались эвакуироваться и остались в городе, чтобы полюбоваться на ураган! Они устроились на террасе отеля «Буэна-Виста», включили музыку и заказали себе текилу, ожидая, что сейчас им будет очень весело. Так вот что я тебе скажу: когда вода спала, спасатели потом несколько недель стаскивали их тела с верхушек деревьев. От отеля не осталось ни кирпичика. Ты, конечно, не помнишь, дорогая, но когда-то это был шикарный отель. Они даже на стаканах ставили свой фирменный знак — маленькую коралловую рыбку, красненькую такую. — Тэт перевернула тяжелую страницу. — О, смотри, какой бедный маленький песик. И лапки сложил. Гляди, у него изо рта торчит кусочек печенья. Знаешь, я где-то читала историю про этого пса: будто его хозяином был маленький бродяжка и песик побежал раздобыть ему еды, потому что они собирались вместе бежать из Помпей. Как это трогательно, верно? Может, это и неправда, но почему нет? Такое вполне могло случиться, как ты думаешь?
— Может, этот песик сам хотел съесть печенье.
— А почему же он тогда его не съел? Нет, ему явно было не до еды, особенно когда с неба повалились огненные шары и раскаленные камни.
Тэт наслаждалась тихими вечерами, проведенными бок о бок с племянницей за перелистыванием страниц, но никак не могла понять, почему Харриет больше интересовали такие неромантичные, тривиальные подробности, как осколки разбитых черепков, куски ржавого металла неопределенного назначения и обрывки истлевшего холста. Ей было невдомек, что для Харриет исторические реконструкции означали нечто большее, чем простое перелистывание страниц, — девочка с такой же мучительной жадностью по крупицам восстанавливала историю собственной семьи или того, что от нее осталось.
Кливы, как и большинство старинных семей, проживавших в штате Миссисипи чуть ли не со дня освоения Новой Англии, когда-то были гораздо богаче, знатнее и влиятельнее. Как и о сгинувшем с лица земли городе Помпеи, о былом богатстве Кливов сейчас можно было только догадываться, хотя оно и служило любимой темой семейных разговоров. Кое-какие подробности, которые тетушки так обожали муссировать за вечерним чаем, несли в себе зерна истины — к примеру, во время Гражданской войны янки действительно похитили семейные реликвии и драгоценности, подчистую смели все, что хозяева не успели вовремя закопать на заднем дворе. Однако то были вовсе не огромные сундуки, доверху набитые золотыми монетами, на которые намекали сестры, многозначительно посматривая друг на друга и поднимая тонкие брови. Судья Клив тоже и вправду пострадал во время Великой депрессии, однако основной, непоправимый вред он нанес своему состоянию сам, когда, будучи уже в маразме, вложил почти все свои деньги в разработку «автомобиля будущего», оснащенного крыльями, чтобы летать, и специальными полозьями, чтобы передвигаться по воде.
После его смерти большой дом, в котором сестры родились и выросли, а до них родились и умерли и судья, и его родители, и еще три поколения предков, пришлось продать, чтобы уплатить долги. Сестры до сих пор оплакивали этот дом. Их семейное гнездо, построенное еще в 1809 году, пошло с молотка, более того, новый владелец, купивший дом на аукционе, тут же вновь перепродал его еще кому-то, кто переоборудовал старый особняк в приют для престарелых. Потом владелец приюта то ли обанкротился, то ли лишился лицензии — так или иначе, дом отошел государству и превратился в убежище для бедных негров, а через три года после смерти Робина вообще сгорел дотла.
— Эх, даже Гражданскую войну пережил наш дом, — с горечью говорила Эдди, — и все-таки черномазые с ним в конце концов расправились.
Вообще-то «расправился» с домом судья Клив собственной персоной, а вовсе не «черномазые», — это он не ремонтировал усадьбу в течение семидесяти лет, как не притрагивалась к дому и его благородная матушка. Ко времени смерти судьи деревянные полы уже давно прогнили, перекрытия были изъедены термитами, да и вся конструкция шаталась так, что готова была вот-вот обвалиться. Однако в тетушкиных рассказах все обстояло иначе — они в красках описывали мраморные камины, люстры из богемского стекла и чудесные, вручную разрисованные розово-голубые обои, которые когда-то им доставили прямо из Франции. На второй этаж вели две лестницы — для девочек и для мальчиков отдельно, а весь второй этаж был разделен глухой стеной, чтобы ретивые мальчики не лазали к девочкам по ночам после особенно веселого бала. Конечно, при этом тетушки «забывали» упомянуть, что последний бал их семья давала, по крайней мере, пятьдесят лет тому назад, что лестница для мальчиков давно уже сгнила и обрушилась, что некогда великолепная гостиная почти полностью выгорела, когда судья пытался отбиться парафиновой свечой от напавшей на него посреди ночи армии воинственных пруссаков, и что знаменитые обои свисали со стен длинными, покрытыми плесенью полосами.
Усадьба именовалась «Домом Семи Невзгод» — довольно странное название для особняка, однако прадед судьи Клива клялся, что именно столько треволнений и неприятностей досталось ему при строительстве дома как в материальном, так и физическом смысле. Сейчас от старой усадьбы не осталось ничего, кроме двух черных печных труб да заросшей травой подъездной дороги. Уцелели также ступеньки парадного крыльца — на них до сих пор виднелось слово «КЛИВ», выложенное белыми и синими изразцовыми плитками.
Для Харриет эти плитки представляли гораздо больший интерес, чем какая-то мертвая собачка с печеньем во рту. Они олицетворяли еще одну ушедшую в небытие цивилизацию — некогда существовавшее богатство собственной семьи, погребенное под пепелищем со знаковым названием «Семь Невзгод».
Харриет представляла себе, как ее брат бродил по не существующим ныне залам семейного гнезда. Дом пошел на продажу, когда ей еще не было года, но в свое время Робин часто гостил у тетушек. Он проводил там почти все выходные, съезжал по перилам парадной лестницы (по свидетельству тети Либби, однажды даже чуть не въехал в зеркальную горку, стоявшую в холле); играл в домино на персидском ковре под распростертым крылом мраморного серафима; засыпал рядом с чучелом медведя, которого когда-то застрелил его двоюродный дедушка; и даже видел стрелу, с потускневшими синими перьями сойки, которую индеец из племени команчи выпустил в его прапрапрадеда.
Но кроме изразцовых плиток, от «Дома Семи Невзгод» не осталось практически ничего. Большая часть наиболее ценных вещей — ковров, мебели, люстр, торшеров — была продана оптом скупщику антиквариата, который дал тетушкам едва ли половину ее настоящей стоимости. Изъеденное молью чучело медведя обрушилось, едва к нему прикоснулись, и пришлось выкинуть его на помойку, где его тут же обнаружили какие-то негритянские дети и с восторгом поволокли по грязи к себе домой.
И Харриет оказалась перед сложной проблемой: как ей воссоздать стертые с лица земли «Помпеи» собственной семьи? Где найти обломки, осколки, ископаемые остатки ушедшего великолепия? Харриет была на пепелище всего один раз несколько лет назад. Тогда обгоревший фундамент показался ей огромным, пригодным скорее для города, чем для одного дома. Она помнила, как Эдди, раскрасневшаяся, похожая на мальчика в своих узких брючках цвета хаки, прыгала по кирпичному основанию, возбужденно жестикулируя: «Смотри, Харриет, смотри, вот там у нас была гостиная, а здесь столовая, тут холл, а здесь библиотека. Правда, Либби? Что с тобой, Либби? Ну не надо, ну успокойся, не плачь!» Помнила горькие рыдания Либби и как она в своем хорошеньком красном пальто села прямо на грязные ступеньки несуществующего больше крыльца.
После этого визита Харриет занялась реконструкцией дома со свойственной ей основательностью. Она начала со сбора уцелевших реликвий. Их оказалось достаточно много: фамильное серебро и сервизы, полотенца с вышитыми монограммами и салфетки, китайские вазы, фарфоровые часы и старинные стулья — она находила их как в собственном доме, так и в домах тетушек. Воссоздаваемый ею макет «динозавра», которого она собирала по кусочкам — здесь кость ноги, там позвонок, тут подобие черепа, — так же далеко отстоял от оригинала, как и картинки в книгах о древнем мире, что вызывали у нее такое негодование. Все без исключения старинные вещи, обнаруженные в процессе поисков, казались Харриет намного красивее, богаче и изящнее, чем окружающие ее современные предметы быта. Однако главную прелесть для нее составляли истории, которые тетушки наперебой рассказывали племяннице, — эти великолепные, пышные свидетельства роскоши ушедших времен подвергались дальнейшей обработке в голове Харриет и в окончательном варианте представляли собой отточенные до последнего слова легенды о некоем сказочном, почти мистическом дворце невероятной красоты и богатства. Харриет в полной мере обладала свойством Кливов изменять историю по своему усмотрению — с легкостью забывать то, о чем не хотелось вспоминать, и широкими, яркими мазками разрисовывать то, что невозможно было забыть. В пылу стремления собрать воедино скелет исчезнувшего монстра, который когда-то был символом семейного благополучия, Харриет не замечала, что некоторые из найденных ею костей оказались поддельными, другие принадлежали иным существам, а наиболее крупные, на которых, собственно, держалась вся конструкция, вообще оказались не костями, а грубо слепленными гипсовыми имитациями. (Например, люстра из богемского стекла, по поводу утраты которой так скорбела Либби, не была привезена из Франции, да и вообще не была сделана из хрусталя — мать судьи Клива когда-то заказала ее в местной лавке.)
Она также не замечала, что в процессе поисков постоянно натыкалась на уродливые, старые, пыльные предметы или обломки предметов, которые, если бы она взяла на себя труд проанализировать их, в действительности были истинным ключом к воссозданию подлинного облика сгоревшего дома. Но Харриет они были ни к чему — ее целью не была историческая правда, она стремилась построить себе сказочный замок и вполне преуспела в этом.
Харриет проводила целые дни, рассматривая старый альбом с фотографиями, который она нашла в доме Эдди (этому маленькому бунгало на две спальни, построенному в 1940-х, было очень далеко до «Дома Семи Невзгод»). На старинных фотографиях было запечатлено все семейство Кливов: худенькая, бесцветная Либби даже в восемнадцать лет выглядела старой девой, в ее лице проступали черты Алисон. Рядом с ней мрачно хмурилась девятилетняя Эдди — точная копия отца, возвышающегося за ее плечом. Необычная Тэт с лунообразной физиономией полулежала в плетеном кресле, держа на коленях котенка, а малышка Аделаида, которой впоследствии суждено было пережить трех супругов, лукаво прищурившись, усмехалась в камеру. Аделаида была самой хорошенькой из четырех сестер, но даже в двухлетнем возрасте уголки ее смеющегося рта словно таили в себе капризность и раздражительность. Снимок был сделан прямо на ступенях «Дома Семи Невзгод», и под ногами позирующих Харриет с замирающим сердцем каждый раз различала заветное слово «КЛИВ». Оно одно осталось неизменным с тех далеких пор.
Но больше всего Харриет любила фотографии, на которых был изображен ее брат. После смерти Робина их все забрала к себе Эдди — матери Харриет было слишком больно смотреть на фотографии сына. Эдди спрятала их в коробку из-под шоколадных конфет и засунула ее в чулан на самую верхнюю полку. Она, конечно, не предполагала, что внучка найдет коробку, но Харриет обшаривала чулан со свойственной ей основательностью, и, когда она впервые обнаружила фотографии, ее волнение было сравнимо только с эмоциями археологов, наткнувшихся на гробницу Тутанхамона.
Конечно, Эдди и не подозревала, что Харриет нашла фотографии, — откуда бедной старушке было знать, что именно поэтому внучка проводит в ее доме столько времени. Вооружившись карманным фонариком, Харриет усаживалась в чулане, занавесившись старыми платьями Эдди, и часами перебирала снимки. Иногда она перекладывала фотографии в свой розовый кукольный чемоданчик с изображением Барби и относила в сарай, где Эдди позволяла ей играть. А один раз Харриет даже принесла фотографии домой, чтобы показать Алисон.
— Смотри, — сказала она, — вот наш брат.
На лице Алисон отразился такой неподдельный ужас, что Харриет слегка опешила.
— Да ты взгляни, не бойся, — пробормотала она, — ты там тоже есть на некоторых фотках.
— Не хочу! — выдохнула Алисон, отталкивая ее руку и забираясь под одеяло по самые брови.
Все снимки были цветными, вот только краски со временем поблекли, стали какими-то неестественными. Многие фотографии были захватаны грязными пальцами, порваны по краям и обтрепаны, как будто их не раз доставали из альбома и вставляли назад, у некоторых на обороте черным фломастером были написаны номера (видимо, эти фотографии использовались в полицейском расследовании).
Харриет могла рассматривать их часами. Их слегка размытые контуры и выцветшие краски переносили ее в магический, безвозвратно ушедший, замкнутый в себе мир, откуда не возвращаются. Вот маленький Робин спит, обеими руками прижимая к себе рыжего котенка; а вот он скачет на палке на крыльце «Дома Семи Невзгод», машет рукой, смеется; вот пускает мыльные пузыри и косит в объектив хитрым глазом. На этом снимке он важно серьезен, видимо в первый раз надел форму бойскаутов, а тут он еще совсем малыш, одет для детсадовского представления «Имбирного пряника».[1] В том спектакле он играл жадную ворону, и его костюм произвел настоящий фурор. Этот легендарный костюм сшила Либби из черного трикотажа, она сама придумала выкройку, украсила его сзади от лопаток до бедер черными бархатными ленточками и пришила два больших бархатных крыла, которые завязками прикреплялись к сгибам рук. На голове у Робина была маленькая бархатная шапочка, с которой свисал оранжевый картонный клюв. Это был прекрасный костюм — Робин надевал его на Хэллоуин два года подряд, а потом его носили и Алисон, и сама Харриет. Даже сейчас каждый год кто-нибудь из соседских мамочек приходил попросить костюмчик для своего маленького чада.
В день представления Эдди отщелкала целую пленку, запечатлев Робина в самых разных позах: здесь он бежит по длинным коридорам «Дома Семи Невзгод», а тут рвется из рук Шарлот, которая тщетно пытается пригладить его непослушные кудри. Харриет с изумлением изучала лицо матери, такое знакомое и в то же время совершенно непривычное, — на снимках Шарлот казалась беззаботной, воздушной, полной жизни и веселья, совсем не похожей на полумертвое существо с рассеянным взглядом, которое знала Харриет.
Старые снимки завораживали Харриет, зачаровывали ее: она чувствовала, что когда-то, когда дом еще стоял и ее брат был жив, мир был иным — наполненным радостью, весельем и любовью. Харриет недоверчиво разглядывала фотографии, на которых Эдди играла с Робином. Вот они вместе лежат на ковре, бросая по очереди кости, чтобы узнать, чья фишка придет к финишу первой, а вот Робин бросает бабушке мяч, и она, комично закатив глаза и забыв про свой величественный вид, прыгает вверх, чтобы поймать его. А вот снимок, сделанный во время его последнего дня рождения, — торт с девятью свечами, Эдди и Алисон наклонились, чтобы помочь Робину задуть свечи с одного раза, — три улыбающихся лица, выхваченных из темного фона. Вот рождественские снимки: подарки под светящейся огнями елкой, серванты со сверкающим внутри хрусталем, хрустальные блюда с пирожными, апельсинами, засахаренными фруктами, ангел на каминной полке украшен гирляндами из сосновых веток и остролиста, все обнялись и смеются, смеются… А на заднем плане Харриет могла рассмотреть накрытый стол, на нем красуется знаменитый рождественский сервиз — тончайший фарфор, украшенный узором из перевитых алых лент, зеленой хвои и золотых колокольчиков. После продажи дома сервиз при перевозке почти весь разбился — наверное, его плохо упаковали. Остались только два блюдечка да молочник. Но на фотографиях он был представлен во всем своем рождественском великолепии.
Харриет родилась как раз незадолго до того самого Рождества, во время снегопада, который был зафиксирован как самый обильный за всю историю Миссисипи. В конфетной коробке она обнаружила фотографию, сделанную как раз в день ее рождения. На снимке дубы стояли все белые, подъезд занесло снегом, и давно умерший терьер Аделаиды мчался к дому, взметая за собой маленькие снежные вихри. А на заднем плане виднелась полуоткрытая дверь «Дома Семи Невзгод», и на пороге стояли Робин и маленькая Алисон, жмущаяся к брату. Робин махал рукой — Харриет знала, что он махал Эдди, делающей этот снимок, Либби, Тэт и Аделаиде, которые столпились около машины, и маме, стоящей рядом со свертком в руках. В свертке лежала сама Харриет, их с мамой только что привезли из роддома. Тетушки обожали эту историю и постоянно пересказывали ее на разные лады.
— Ты стала нашим лучшим рождественским подарком, — говорили они, — а уж как Робин был счастлив, ты себе не представляешь. В ночь перед тем, как вас с мамой должны были выписать из больницы, он почти совсем не спал. И Эдди не давал спать до четырех часов утра. А уж когда он увидел тебя, так замолчал на несколько минут, потом подошел к маме, обнял ее за пояс и тихо так говорит: «Мамочка, ты выбрала самую красивую девочку из всех, что там были». Мы так и ахнули.
— Харриет была таким чудесным ребенком, — мечтательно пробормотала Шарлот, не поднимая головы. Она сидела у камина на полу, обняв колени руками. Все знали, что тяжелее всего она переносила день рождения Робина и Рождество.
— Правда я была хорошей, мамочка?
— О да, детка, просто чудесной. — И это была чистая правда, Харриет была сущим ангелом, пока не научилась разговаривать.
Любимой фотографией Харриет, которую она снова и снова во всех подробностях изучала при свете фонарика, был единственный снимок, на котором все трое детей были изображены вместе. Он был сделан в рождественскую ночь в гостиной «Дома Семи Невзгод» — маленькая Алисон в белой ночной рубашке до пят стояла рядом с Робином, который держал на руках сверток с новорожденной Харриет, — на лице его застыло смешанное с ужасом восхищение, как будто ему подарили невероятно дорогую, но хрупкую игрушку, которую легко сломать. Мягкий свет от горящих свечей и от елочной гирлянды придавал фотографии сентиментальный вид благостного спокойствия и счастья. Глядя на нее, невозможно было представить, что через месяц умрет судья Клив, еще через пару месяцев семейное гнездо будет разрушено, а в конце весны не станет и самого Робина.
После смерти Робина Первая баптистская церковь объявила о сборе пожертвований в память о бедном мальчике — сначала пастор хотел на пожертвования посадить вокруг собора несколько кустов японской айвы или сшить новые подушечки для преклонения колен во время молитвы. Однако размеры пожертвования оказались намного больше той скромной суммы, которую он ожидал собрать. Особенно отличились одноклассники Робина — они устраивали благотворительные базары, на которых продавали печенье собственного изготовления, стайками бегали по окрестным домам и собирали деньги на «памятник» другу. Один из школьных приятелей Робина, Пембертон Халл (который когда-то играл Имбирный пряник в одноименном спектакле), вообще принес двести долларов. Он сказал, что разбил копилку, в которой несколько лет копил деньги, но на самом деле маленький плут вытащил эти купюры из кошелька своей рассеянной бабушки. Пембертон, кстати, хотел пожертвовать также обручальное кольцо матери, десять серебряных ложек и булавку для галстука с масонской символикой — никто не помнил, откуда она взялась, но украшена она была настоящими бриллиантами, так что кое-чего должна была стоить. К большому сожалению Пембертона, его пожертвования были обнаружены родителями и конфискованы, но даже и без них общая сумма, собранная одноклассниками Робина, в несколько раз превзошла самые смелые ожидания пастора. Поэтому, подумавши немного и посоветовавшись с прихожанами, пастор решил отреставрировать один из церковных витражей, разбитый несколько лет назад во время очередного урагана и с тех пор так и стоявший без ремонта, заколоченный фанерой. Изначально этот витраж, один из шести, изображавших сцены из жизни Иисуса, воспроизводил его первое чудо: претворение воды в вино на свадебном пиру в Кане Галилейской. Однако пастор решил, что в новом витраже должна быть как-то отражена личность несчастного Робина, а также его маленьких друзей, столь самоотверженно трудившихся над сбором пожертвований.
Новый витраж понравился всем без исключения — изображенный на нем голубоглазый Иисус весьма благостной наружности сидел на камне под оливой и разговаривал с рыжеволосым мальчиком в бейсболке, лицом очень похожим на Робина. Ниже помещалась лента с широкой надписью:
«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне».
А еще ниже была прикреплена медная табличка с надписью:
Незабвенному Робину Кливу-Дюфрену
С любовью от школьников Александрии, штат Миссисипи «Ибо таковых есть Царство Небесное»[2]
Всю свою жизнь Харриет видела брата в ореоле разноцветных лучей — ему светила та же звезда, что и архангелу Гавриилу, святому Иоанну Крестителю, Иосифу, Марии и, конечно, самому Христу. Когда по воскресеньям Харриет заходила в церковь, солнце, подсвечивающее витраж снаружи, зажигало волосы Робина рыжим огнем, а его загадочная улыбка эльфа несла в себе тайну вечного блаженства. Его лицо было более узнаваемым, более четким, чем лица окружающих его святых, но их объединяло общее знание, недоступное смертным, безмятежная отстраненность лишенных плоти духовных существ.
Надо сказать, что Харриет с ее извечной дотошностью очень занимал вопрос потери человеком его плоти. Что на самом деле случилось тогда на Голгофе? А потом в могиле — что? Как могла плоть подняться от своей низменной сущности и дойти до воскрешения? Харриет не знала этого, но Робин знал, и это знание явно читалось на его просветленном лице.
А что случилось со Спасителем, когда он воскрес? Конечно, в Евангелиях это было описано как великая тайна, но все же почему люди никогда не пытались выяснить, что там произошло? Библия говорит, что Иисус восстал из мертвых, правильно? Ну и как же он восстал — только духом, а не плотью? Но нет, в том же Евангелии сказано про Фому Неверующего, который вложил свой перст в раны Иисуса. К тому же Иисуса видели идущим по дороге, а Мария Магдалина обнимала его вполне осязаемые ноги. И тело Спасителя исчезло из пещеры… Хорошо, ну а где это тело сейчас? Вознеслось на небо и живет там? И вообще, если Иисус так любил всех людей, почему же они до сих пор умирают, а тела их гниют в земле?
Когда Харриет было семь или восемь лет, она решила заняться черной магией и даже пошла в библиотеку поискать, что написано по этому поводу. Тогда она была до глубины души возмущена и разочарована тем, что даже самые «научные» книги по черной магии предлагали лишь дешевые трюки, вроде монетки, которую вынимаешь из уха собеседника. Она-то ожидала настоящего волшебства! В церкви, напротив витража с портретом Робина, размешался еще один витраж, изображавший воскрешение святого Лазаря. История бедного Лазаря действительно до сих пор не давала Харриет покоя. Как реально могло произойти это воскрешение? Ведь Лазарь пробыл в могиле целую неделю, и от его тела уже сильно воняло. Что же стало с этим его телом, покрытым струпьями и язвами? Они зажили или от него и дальше продолжало нести трупным запахом? Что он рассказал о той, проведенной в гробу неделе Иисусу и сестрам? Мог ли он после воскрешения жить дома, как обычный человек, или ему пришлось стать отшельником, как чудовищному творению Франкенштейна, поскольку никто не мог переносить его ужасного запаха и видеть его изуродованное трупным разложением лица? Она с раздражением думала, что, если бы она, Харриет, оказалась тогда на месте святого Луки, она бы уж описала эту поразительную историю гораздо подробней.
А может быть, все это сплошные россказни и никакого воскрешения не было вовсе? А если Иисус все-таки откатил камень и вышел из могилы живым, то почему же тогда ее брат не смог этого сделать? Почему?
Такие мысли преследовали Харриет как наваждение, но главной ее навязчивой идеей стало следующее: раз она не может вернуть брата, она должна, обязана, по крайней мере, выяснить, кто убил его.
Одним майским утром в пятницу, через двенадцать лет после смерти Робина, Харриет сидела на кухне Эдди, погруженная в чтение дневников капитана Скотта, написанных во время его последней трагической экспедиции в Антарктиду. Книга стояла на столе, прижатая с одной стороны локтем Харриет, а с другой — тарелкой с омлетом, который она рассеянно, но с аппетитом уничтожала. И она, и Алисон на неделе часто завтракали у Эдди — Ида Рью приходила к ним только в восемь утра, а их мать обычно на завтрак не употребляла ничего, кроме сигареты и бутылки пепси.
В тот день девочкам не надо было идти в школу, потому что уже начались каникулы. Эдди стояла у плиты, повязав на платье веселенький передник в белый горошек, и потряхивала на сковороде омлет для себя. Конечно, она вовсе не одобряла привычку Харриет читать за столом, но в то утро решила не связываться — иногда легче не заметить нарушения приличий, чем делать замечания каждые пять минут.
Омлет застыл, образовав красивую бледно-желтую горку, и Эдди, прихватив сковородку, пошла к серванту за тарелкой. По дороге ей пришлось переступить через лежащую на кухонном полу Алисон, издающую монотонные всхлипы.
Алисон лежала так уже почти двенадцать часов, поэтому Эдди притерпелась к ее нынешнему расположению. Поначалу она попыталась воздействовать на внучку, но когда поняла, что уговоры не подействуют, попросту перестала ее замечать. Она уже слишком стара, чтобы постоянно гасить чужие истерики, решила Эдди, к тому же она на ногах с пяти утра и, вообще, сыта этими детьми по самое горло.
Проблема заключалась в кошке Винни, любимице девочек, что лежала, тяжело дыша, в картонной коробке на полотенце рядом с головой Алисон. Неделю назад кошка перестала есть, а несколько дней назад начала жалобно мяукать, когда ее брали на руки. Тогда сестры принесли ее на осмотр Эдди.
Эдди прекрасно умела обходиться с животными, она была уверена, что, если бы в ее время девочкам разрешали заниматься медициной, из нее вышел бы талантливый ветеринар, а может быть, даже и врач. За свою жизнь она выходила бессчетное количество раненых, изголодавшихся и больных щенков и котят, выкормила десятки выпавших из гнезда птенцов, чистила раны и вправляла кости не только собственным питомцам, но всем нуждающимся в лечении животным, которых тащили к ней соседские дети, — не отказывала в помощи никому.
Безусловно, Эдди очень любила животных, но не была в отношении них сентиментальной. Не была она также и волшебницей, о чем не преминула напомнить внучкам и в этот раз. После короткого осмотра — действительно, кошка как будто себе места не находила, хотя никаких видимых повреждений у нее не было, — Эдди встала, вытерла руки о юбку и взглянула на два юных личика, смотрящих на нее с искренней надеждой.
— Сколько лет этой кошке? — спросила она их.
— Шестнадцать с половиной, — сказала Харриет.
Эдди нагнулась и погладила бедняжку — кошка с несчастным видом прислонилась к ножке стола и замерла так, не шевелясь. Эдди и сама любила эту кошку — она ведь принадлежала Робину, когда-то он нашел ее в канаве совсем маленьким котенком и притащил домой, — тогда Винни умещалась у него на ладонях. А сколько времени и сил Эдди потратила, чтобы выходить ее, — у бедняжки весь бок был выеден червяками, пришлось чистить рану в тазу с теплой водой, а потом выкармливать ее из пипетки.
— О, Эдди, она поправится? — спросила Алисон.
Она уже тогда с трудом удерживалась от слез. Кошка была ее лучшим другом. После смерти Робина кошка привязалась к Алисон и ходила за ней по пятам, спала всегда у нее на шее и каждый день ровно без четверти три начинала скрестись в кухонную дверь, чтобы пойти на угол и встретить из школы хозяйку. А благодарная Алисон в ответ изливала на кошку потоки любви. Она беспрестанно разговаривала с ней, поверяла ей все свои тайны, кормила кусочками курицы и ветчины со своей тарелки и зарывалась носом в теплый рыжий мех.
— Может, она просто съела чего-нибудь? — спросила Харриет.
— Поглядим, — сказала Эдди.
Но следующие дни не показали никакого улучшения. С кошкой, в общем-то, ничего особенного не случилось, просто она была уже очень старая и пришло ее время умирать. Для очистки совести Эдди попыталась кормить ее куриным бульоном и молоком из пипетки, но кошка только устало прикрывала глаза, а пища выходила назад из ее пасти вместе с бледно-зеленой пеной. Прошлым утром кошка вошла на кухню боком, как-то странно скорчившись, и Эдди завернула ее в полотенце и отнесла на осмотр к ветеринару.
Когда девочки зашли к ней после обеда, она сказала:
— Мне очень жаль, но похоже, с нашей кошкой уже ничего нельзя поделать. Утром ее осмотрел доктор Кларк. Он говорит, что, наверное, придется ее усыпить.
Удивительно, но Харриет, от которой можно было ожидать взрыва эмоций любой силы, восприняла эту новость достаточно спокойно.
— Бедная Винни, — сказала она, присев около коробки и погладив кошачий бок. — Бедная маленькая киса.
Она любила кошку почти так же сильно, как Алисон, хотя Винни никогда не обращала на Харриет особого внимания.
Но Алисон побледнела и взглянула на бабушку широко раскрытыми, молящими глазами.
— Что ты хочешь этим сказать — усыпить?
— То, что сказала, — отрезала Эдди.
— Нет, ты этого не сделаешь. Я тебе не позволю.
— Мы уже ничем не сможем ей помочь, — сказала Эдди. — Так врач сказал.
— Я не дам тебе убить ее!
— Ну и что ты будешь делать? Смотреть, как бедняжка мучается?
Алисон с трясущимися губами опустилась на колени рядом с коробкой, в которой лежала кошка, и разразилась истерическим плачем.
Это случилось вчера около трех часов дня. С того момента Алисон не отходила от кошки ни на минуту. Она пропустила ужин, отказалась от подушки и одеяла и пролежала целую ночь на кухонном полу, тихо всхлипывая. В течение первого часа Эдди просидела с ней на кухне, гладила по голове и пыталась объяснить доходчивыми словами, что все живое непременно когда-нибудь умирает — надо с этим смириться. Однако Алисон плакала все громче, и в конце концов Эдди это надоело, она хлопнула кухонной дверью, отправилась к себе в спальню и открыла роман Агаты Кристи.
Наконец, около полуночи, если верить настенным часам, висевшим в спальне у Эдди, плач прекратился — Алисон заснула. А утром с удвоенной энергией принялась за старое. Эдди отхлебнула чаю. Харриет не отрывалась от книги — казалось, страдания капитана Скотта и его спутников в заснеженной Антарктике полностью поглотили ее. На столе остывал завтрак Алисон.
— Алисон, — сказала Эдди.
Никакого ответа, только плечи стали вздрагивать чуть чаще.
— Алисон, сядь за стол и съешь свой завтрак. — Она повторяла это уже в третий раз.
— Не хочу, — послышался приглушенный ответ.
— Послушайте меня, мисс, — взорвалась Эдди. — Мне это все, в конце-то концов, надоело! Сию же минуту прекратите пускать слюни, встаньте с пола и съешьте свой паршивый завтрак! Что ты валяешься, как младенец, на полу, тебе самой-то не стыдно?
Ответом на это был лишь новый взрыв рыданий.
— О, боже мой, — простонала Эдди в сердцах, отворачиваясь к окну. — Да господь с тобой, делай что хочешь. Только хотела бы я взглянуть на лица твоих учителей, если бы они тебя сейчас увидели. То-то бы они изумились, право слово.
— Послушайте-ка меня, — внезапно сказала Харриет. Она начала читать отрывок из книги: — «Тит Оутс совсем плох, похоже, конец его близок. Что нам с ним делать, ума не приложу. Мы обсудили его положение за завтраком; он такой смелый, отважный парень и отлично понимает нашу ситуацию, и все же…»
— Харриет, сейчас не время вспоминать, что случилось с капитаном Скоттом, — резко прервала ее Эдди. Она и сама находилась на грани срыва.
— Я просто хочу сказать, что Скотт и его люди были отважными и не боялись смерти. Они до самого конца пытались шутить, даже когда их палатку уже засыпало снегом и они знали, что умрут. — Она продолжала читать, повысив голос: — «Мы все близки к смерти как никогда и все же остаемся веселыми…».
— Да уж конечно, что и говорить, ведь смерть — это часть жизни, — пробормотала Эдди.
— И люди Скотта очень любили и своих ездовых собак, и вьючных пони, — продолжала гнуть свою линию Харриет, — но когда стало ясно, что им нечего есть, они их всех застрелили, всех до единого. И съели, слышишь? — Она опять склонилась над книгой: — «Бедные наши животные! Они работали не хуже нас, и при таких ужасных обстоятельствах. Мне так жаль, что придется всеми ими пожертвовать..».
— Не смей! Замолчи! Эдди, пусть она замолчит! — закричала Алисон с пола.
— Заткнись, Харриет! — прошипела Эдди.
— Но…
— Никаких «но». Алисон, — сказала Эдди резко. — Давай вставай с пола. Все твои вопли кошке не помогут.
— Никто не любит Винннни-ии… — заикаясь от слез, выдавила из себя Алисон. — Никто никогда ее не любии-ил…
— Алисон, послушай меня, — сказала вдруг Эдди, дотронувшись до ее руки. — Когда-то давно твой брат принес мне маленького лягушонка — он попал под нож газонокосилки, и у него была отрезана лапка. Робин хотел, чтобы я его вылечила. Но я ничего не могла сделать, и мне пришлось убить бедняжку. Робин тогда тоже очень плакал. Он был слишком мал, чтобы понять, что иногда гуманнее прекратить страдания живого существа быстро и безболезненно. Но ему было лет шесть, а тебе уже шестнадцать!
Этот маленький монолог совершенно не подействовал на ту, которой он предназначался, но когда Эдди подняла глаза, Харриет посмотрела на нее в упор, приоткрыв рот.
— А как ты его убила, Эдди?
— Наиболее быстрым способом, — сказала Эдди уклончиво. На самом деле она отрубила лягушонку голову мотыгой и имела глупость сделать это в присутствии Робина. Ей до сих пор было неприятно вспоминать о сделанной глупости, но обсуждать ее с Харриет она не собиралась.
— Ты что, наступила на него?
— Никто не слушает меня! — выпалила Алисон в сердцах. — Я же говорю — ее отравила эта противная миссис Фонтейн. Я знаю, что это она сделала. Винни часто заходила к ней на участок и оставляла следы на капоте ее машины.
Эдди вздохнула. Они уже не раз слышали эту историю.
— Ты прекрасно знаешь, что я люблю Грейс Фонтейн не больше чем ты, — со вздохом сказала она. — Грейс противная старая гусыня и вечно суёт свой нос куда не следует, но поверь мне, она не травила твою кошку.
— Нет, травила. Я это точно знаю!
— Да нет же, Алисон, — вмешалась Харриет, — это не она, я бы знала.
— Что ты имеешь в виду — «ты бы знала»? Ты что, ясновидящая?
— Да, вроде того, — сказала Харриет, возвращаясь к книге. — Но если окажется, что это она сделала, клянусь, она сильно пожалеет.
Эдди хотела что-то сказать, но тут Алисон сотряс очередной приступ рыданий.
— Ну почему всегда так получается? — всхлипывала она. — Почему Винни должна умереть? Почему те несчастные замерзли до смерти? Почему все в жизни так ужасно?
— Да потому, что так устроен мир, — сказала Эдди. — Жизнь всегда заканчивается смертью.
— Меня тошнит от такого мира.
— Знаешь, миру на это глубоко наплевать.
— Я ненавижу этот мир. Да! И буду ненавидеть его до самой смерти!
— Скотт и его команда были действительно очень смелыми людьми, — сказала Харриет, — даже когда умирали. Вот, послушайте-ка: «Мы находимся в ужасном состоянии, ноги у всех уже обморожены…» Ладно, это пропустим. А, вот, нашла! «У нас нет топлива, и я уже не помню, когда мы в последний раз ели, но на сердце теплеет от наших разговоров, от задушевных песен…»
Эдди резко поднялась.
— Ну ладно, хватит болтать, — сказала она. — Я сейчас отвезу кошку к доктору Кларку. А вы, девочки, оставайтесь здесь. — Она начала собирать со стола тарелки, не обращая внимания на истерические взвизгивания, доносящиеся с пола.
— Ох нет, Эдди, — вскричала Харриет, со скрипом отодвигая стул и подбегая к коробке. — Ох, бедная наша Винни, — сказала она, гладя кошку по всклокоченному боку. — Кисонька, бедная. Пожалуйста, не забирай ее сейчас, Эдди.
Глаза старой кошки были наполовину прикрыты от боли. Она еле-еле постукивала хвостом о край коробки.
Алисон, задохнувшись от слез, обхватила голову кошки руками.
— Нет, Винни, — простонала она, — нет, нет, нет!
Эдди с удивительной нежностью забрала кошку у нее из рук и прижала к себе. Кошка издала слабый, почти человеческий крик. Ее поседевшая мордочка напоминала сморщенное лицо старухи — страдающее, терпеливое.
Эдди легонько почесала ее за ухом.
— Дай-ка мне то полотенце, Харриет, — приказала она.
— Нет, Эдди, — умоляюще произнесла Харриет. Она тоже начала плакать. — Ну пожалуйста, не уноси ее. Я ведь еще не попрощалась с ней.
Эдди нагнулась, подняла полотенце и прикрыла им кошку.
— Ну так попрощайся, — сказала она с привычной резкостью. — Кошка уходит со мной прямо сейчас и неизвестно, вернется ли.
Час спустя Харриет, с красными от слез глазами, сидела на заднем крыльце дома Эдди и вырезала из «Энциклопедии животных» фотографию бабуина. После того как старый синий автомобиль Эдди скрылся из виду в клубах пыли, она легла на пол рядом с сестрой и тоже вволю наплакалась. Потом, когда слезы кончились, она поднялась, пошла в спальню, выдернула булавку из подушечки в виде помидора и нацарапала «ненавижу Эдди» мелкими буковками на одной из ножек кровати. Однако от этого ей совсем не полегчало, поэтому Харриет придумала более изощренную месть. Она собиралась заклеить лицо Эдди на ее свадебной фотографии в семейном альбоме изображением бабуина. Она попыталась заинтересовать Алисон этим проектом, но сестра отказывалась отойти от уже пустой коробки, поэтому Харриет оставила ее лежать на кухонном полу.
Внезапно калитка, ведущая на задний двор, резко распахнулась, и в нее с воплем восторга проскочил Хилли Халл. Ему было одиннадцать лет, он был на год младше Харриет и прошлой зимой отпустил свои грязновато-русые волосы до плеч, подражая старшему брату Пембертону.
— Эй, Харриет, — закричал он нетерпеливо, подбегая к крыльцу, — мы пойдем играть? Эй? Что-то случилось? — спросил он обеспокоенно, заглядывая в ее заплаканные глаза. — О нет, вас что, отправляют в лагерь?
Этот летний лагерь Селби был просто наказанием господним и для Хилли, и для Харриет. Его организовала Первая баптистская церковь прошлым летом, и всем детям тогда пришлось провести там шесть недель. Девочки и мальчики жили на противоположных берегах небольшого озера и по четыре часа в день занимались изучением библейских текстов, а потом разыгрывали мерзкие сентиментальные сценки, которые писали для них воспитатели. Хилли был глубоко оскорблен тем, что воспитатели произносили его имя как «Хелли», что явно рифмовалось с противным девчоночьим именем «Нелли», но хуже всего было то, что его заставили остричь волосы прямо на глазах у других мальчиков. На долю Харриет не выпало таких тяжелых испытаний, наоборот, это она подвергла испытанию терпение педагогов, каждый день излагая им свою неортодоксальную точку зрения на Священное Писание, но в целом ее пребывание в лагере было таким же тоскливым и скучным, как и у Хилли, — в пять утра подъем, а в восемь вечера отбой, и палочная дисциплина, чтобы отбить у некоторых охоту нарушать правила. К концу шестой недели измученные дети, потрясенные таким откровенным нарушением их гражданских прав, сидели в зеленом автобусе с церковной символикой, везшем их домой, глядя в окно невидящими глазами, и если переговаривались, то только шепотом.
— Скажи своей маме, что ты себя убьешь! — возбужденно воскликнул Хилли, опасливо оглядываясь на кухонные окна, откуда доносился монотонный плач. Только вчера в лагерь отбыла первая порция несчастных — они шли к автобусу с таким обреченным видом, будто он должен был доставить их прямиком в ад. — Я сказал своей, что отравлюсь. Сказал, что лягу на дорогу — пусть меня переедет машина.
— Не в этом дело. — Харриет рассказала ему о кошке.
— Так ты не едешь в лагерь?
— Если смогу этого избежать. — На самом деле Харриет уже несколько недель просматривала всю поступающую в их почтовый ящик корреспонденцию и немедленно ликвидировала все письма, на которых стоял обратный адрес лагеря. Но если такой способ прекрасно работал с ее рассеянной матерью, Эдди было не так-то легко обвести вокруг пальца. Она могла и позвонить в церковный комитет, с нее станется!
Харриет рассказала Хилли про усыпление и про свой план мести.
— Здорово придумано, но может быть, лучше взять другое животное? — сразу же заинтересовался Хилли. — Ну, свинью, например, или бегемота? — Хилли терпеть не мог бабушку Харриет, потому что она все время дразнила его за длинные волосы.
— Нет, эта вполне сойдет.
Он наклонился над ее плечом, наблюдая, как Харриет аккуратно приклеивает ухмыляющуюся обезьянью морду на лицо Эдди, чтобы она оказалась окаймленной затейливой прической невесты. Жених, дед Харриет, глядел на морду влюбленными глазами. Внизу фотографии была подпись, сделанная рукой Эдди:
Эдит и Хейвард
Счастливы вместе
Миссисипи, 11 июня 1935 года
— Да, — после паузы проговорил Хилли. — Хорошо получилось.
— Неплохо, да только гиена сюда еще лучше бы подошла.
Они едва успели поставить на место «Энциклопедию» и положить на полку альбом, как на дорожке раздался шелест гравия — вернулась Эдди.
Через секунду хлопнула парадная дверь.
— Девочки! — раздался голос Эдди, как обычно резкий, как обычно деловой.
Ей никто не ответил.
— Девочки, я решила пойти вам навстречу и отвезла кошку к вам домой. Думала, что, наверное, вам захочется похоронить ее, но если вы уже и думать забыли о бедном создании, я сейчас же отвезу ее назад к доктору Кларку…
Раздался топот трех пар ног, и трое детей появились на пороге гостиной.
Эдди подняла бровь.
— Кого я вижу? Какая хорошенькая маленькая девочка! Как ее зовут? — Она с притворным изумлением прищурилась, делая вид, что не узнает Хилли. Вообще-то он напоминал ей Робина, хоть и с длинными волосами, и поэтому она втайне его любила, но не могла удержаться, чтобы хоть немного не подразнить. — Ах, Хилли, неужели это ты? Прости, я не разглядела тебя за твоими чудесными золотыми локонами…
Хилли презрительно фыркнул:
— Мы тут рассматривали ваши старые фотки.
Харриет незаметно пнула его сзади ногой под коленку.
— Ну, не знаю, что может быть интересного в моих старых фотографиях, — сказала Эдди рассеянно. — Девочки, — обратилась она к внучкам, — я думала, вы захотите похоронить кошку в вашем собственном дворе, поэтому попросила Честера выкопать яму.
— А где Винни? — спросила Алисон. Ее голос был хриплым от слез, лицо распухло так, что глаз почти не было видно. — Где она? Где ты ее оставила?
— В сарае у Честера. Она завернута в полотенце. Думаю, вам не стоит ее разворачивать.
— Ну, давай, Харриет, — сказал Хилли, подталкивая ее локтем в бок. — Разверни ее, давай посмотрим.
Они с Харриет стояли бок о бок в темном сарае для инструментов и смотрели на маленький сверток, замотанный в голубое полотенце и лежащий на скамье. Алисон, все еще плача, рылась у себя в комнате по полкам в поисках старого свитера, на котором когда-то Винни любила спать, чтобы положить его в могилу.
Харриет взглянула на улицу сквозь пыльное окно сарая. В углу сада виднелась фигура Честера, склонившегося над ямой с лопатой в руках.
— Ладно, давай, — сказала она, — только быстро, пока сестра не вернулась.
Только гораздо позднее Харриет сообразила, что именн�