Иллюзии Доктора Фаустино бесплатное чтение
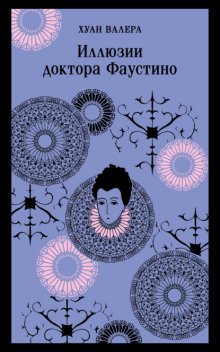
Juan Valera
Las ilusiones del doctor Faustino
Перевод с испанского Георгия Степанова
© Степанов Г.В., наследник, перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
Вступление,
в котором рассказывается о Вильябермехе, о доне Хуане Свежем и об иллюзиях вообще
Мой старый приятель дон Мигель де лос Сантос Альварес, оптимист по складу ума и характера, трезвый наблюдатель и проницательный философ, не без остроумия утверждает, что люди, достигая старости, столько же теряют в одном, сколько приобретают в другом, и поэтому у них нет причин тревожиться и огорчаться.
«Обычно думают, – поясняет он свою мысль, – что старый человек лысеет из-за недостатка жизненных соков; дескать, волосы перестают питаться и выпадают. Однако наблюдения говорят о другом: именно в тот период, когда наступает облысение, у людей начинают расти волосы – к тому же крепкие, как щетина, – в носу и в ушах, а брови становятся такими густыми и кустистыми, что затеняют почти всю верхнюю часть лица. Эта закономерность особенно ясно проявляется у женщин. Поредение волос на голове компенсируется у них обильной растительностью на подбородке и над верхней губой, придавая им сходство с графиней Трифальди[1] и с Освобожденной Святой[2]. Первая из них, как известно, обросла бородой по умыслу злого волшебника, а вторая – по божественному промыслу, ибо борода помогла ей обмануть насильников и сохранить невинность. Во всех остальных случаях обрастание бородой не имеет столь веских причин и может быть отнесено к капризам природы».
Эти примеры показывают, что соки не исчезают из организма и не теряются: они только меняют циркуляцию. Во всем остальном – точно так же. В молодости я, например, более строго судил людей, чем теперь, когда я старею. Это и понятно: тогда я не успел еще совершить столько грехов, сколько у меня накопилось их нынче. Поэтому с эгоизмом молодости я сурово судил других и был снисходителен к себе. Теперь иначе: ворох собственных грехов сделал меня в тысячу раз снисходительнее и терпимее к другим в надежде, что и другие будут платить мне тем же.
Я осуждал многое и среди прочего – страсть некоторых поэтов и писателей к воспеванию затворничества, умеренности, сельского уединения, привязанности к родным местам, порицая их стремление бежать светской суеты, желание вернуться к родным пенатам и тихо-мирно коротать там свою жизнь, пользуясь всеобщим уважением. Эти люди казались мне просто лицемерами, кем-то вроде ростовщика Альфио.
Меня повергали в бешенство стихи Мартинеса де ла Росы[3]:
- Ах, отче Дарро, нежная река,
- Стою на бреге золотом пред тобою,
- Душа приносит клятву, а пока…
- Ты успокой меня священной тишиною[4].
«К чему все эти охи и вздохи? – думал я. – Не проще ли оставить посольство в Париже, освободить председательское кресло в совете министров, махнуть рукой на парламентскую карьеру да и поехать к тенистым рощам Хенералифе и Сакро-Монте, укрыться в уединенной усадьбе и любоваться тихим Дарро и прозрачными струйками Фуэнте-дель-Авельяно?»
Значительно позже я понял, что Мартинес де ла Роса не напрасно вздыхал по своей Гранаде. В дальнейшем я заболел тем же недугом, если это можно назвать недугом. Признаюсь, мне давно уже хочется вернуться в родные места и зажить там ut prisсa gens mortalium[5] – заняться хозяйством, пахать на волах отцовскую землю, как некогда это делал Цинциннат[6] и другие знаменитые люди древности. Я всегда говорил, что готов многое отдать за эту самую тихую жизнь и уподобиться мудрецам древности, но, признаюсь, ровно ничего не делаю, чтобы осуществить свое желание, хотя зависит это только от меня самого.
Однако я понимаю, что это непросто сделать даже очень смелому и решительному человеку. Я искренно сочувствую тем, кто в городской сутолоке мечтает о деревенском покое; так посочувствуйте же и мне и поймите, сколь глубоко сидит в моей душе нежная привязанность к тихому, безвестному уголку земли, где мой отец растил виноград и пестовал фруктовые деревья, следя за тем, чтобы они взрастали, набирались сил и приносили обильные плоды.
Моя деревня находится в той же провинции и недалеко от того селения, где родились знакомые читателям Луис де Варгас и Пепита Хименес[7]. Но речь теперь пойдет не о моей деревне, а о другой. Она тоже находится близко от нас, и я часто туда наезжаю, ибо есть там у меня немного земли, которая дает небольшой, но постоянный доход – примерно по полдуро в день. Эта деревушка еще меньше и еще беднее, чем моя, окрестности ее не так милы и приятны, хотя ее обитатели думают иначе и считают, что это едва ли не лучшее место на земле.
Селение, название которого я не хочу открывать до поры до времени, расположено на склоне голого холма и со всех сторон окружено горами. Даже забравшись на колокольню, вы ничего не увидите оттуда, кроме высоких гор. В окрестностях деревни почти нет садов, но соседние склоны покрыты виноградниками, оливковыми рощами, хлебными полями; в долине журчат ручьи, по берегам растут красавцы тополя, и вся эта земля кажется ее трудолюбивым сыновьям плодородной, благословенной землей. Не умея объяснить, откуда берется такая щедрость, земледельцы приписывают ее благоволению святой троицы, трон которой будто бы находится прямо над их головами. Верят они и в святого покровителя деревушки, считая, что он ревностно и напористо посредничает за них перед богом и обеспечивает им благоденствие и процветание. Словом, и красота и богатства края – это, по их мнению, дары божьи и проявление его особой милости к обитателям здешних мест.
Фигура святого покровителя сделана из серебра и невелика ростом – не выше тридцати сантиметров. Но не все меряется на вершки и локти. Жители соседней деревни предложили однажды за эту малюсенькую фигурку – такие благочестивые сделки не редкость в наших местах – целый воз других святых разных размеров и рангов, и все же обмен не состоялся. Святой с лихвой оплатил эту любовь своих духовных сыновей. Потерпев неудачу с обменом и видя, что добром святого не заполучишь, соседи выкрали его ночью, но он обманул бдительность похитителей, покинул новое местожительство и уже на следующее утро снова стоял в своей нише. С тех пор ниша забрана решеткой из толстых железных прутьев, но не из-за боязни лишиться какого-то пустячного серебра, а из желания сохранить при себе верного покровителя, избавляющего деревню от всяких бед и напастей.
Надо признать, что дух критицизма, свойственный нашему веку, не миновал деревушку и умерил энтузиазм ее обитателей к местному чудотворцу. Но я еще помню, с каким восторгом, с какой любовью и благодарностью носили люди его изображение во время процессий, как исступленно кричали: «Да здравствует наш покровитель!», как горячо обсуждали его достоинства: «Не гляди, что сам с огурец: чудеса творит за всех чертей, вместе взятых». Это было наивно-простодушным выражением той мысли, что в одном их святом заключалась чудотворная мощность в тысячи дьявольских сил, подобно тому как машина – если позволительно сравнивать духовное с механическим и светское с духовным, – несмотря на малые размеры, вмещает тысячи сил лошадиных.
Находятся, однако, люди (это жители соседних деревень), которые утверждают, что обладатели чудотворного изображения порой обращаются с ним крайне бесцеремонно: когда долго нет дождя, они волокут святого к источнику Пилар-де-Абахо и устраивают ему ныряние и купание. Рассказывают, что дождь льется либо тут же сразу, либо несколькими часами позже. Сам я этого никогда не видел, не верю в принудительное купание и считаю все это выдумкой и сплетней. Андалусийцы – люди завистливые и к тому же большие шутники: могут придумать что угодно.
К сожалению, рассказ о нырянии святого не первая шутка-навет на жителей деревушки, о которой идет речь. Так как большинство тамошних жителей рыжеволосы и так как до недавнего времени там был богатый монастырь псов господних доминиканцев во главе с рыжеволосым отцом Бермехо, то всех жителей деревни стали называть псами рыжего отца Бермехо. Во время ярмарок и престольных праздников из-за этого часто возникали ссоры: парни дрались камнями, кулаками, кольями, а у мужчин дело доходило до ножей.
Случай, о котором я рассказываю, не единственный в Андалусии; едва ли можно найти селение, по поводу которого не ходила бы какая-нибудь обидная шутка. Деревню Висо, например, называют родиной дымовых труб именно потому, что никто их там в глаза не видел. Или спрашивают местных жителей, знают ли они, что такое кедровые орехи, хотя всем известно, что, кроме этих самых орехов, там ничего не растет. Про Валенсуэлу и Поркуну рассказывают всякие анекдоты в связи с тем, что там нет дров и крестьянам приходится жечь не очень ароматное топливо. Зная, что жители Пальма-дель-Рио потребляют много апельсинов и что каждый обязательно ест их на завтрак, соседи не без ехидства у них спрашивают: «Как же вы обходитесь без апельсинов? Что же вы едите на завтрак?» Смеются и над крестьянами из Тосины, утверждая, что они служат мессу под гитару, зная, что там нет органа. Чтобы позлить жителя Фуэнтес-де-Андалусия, его деревню как бы по ошибке называют Фуэнтес-де-ла-Балаболка.
Вряд ли стоит приводить другие примеры. Важно, что жители деревни, о которой я рассказываю, страдают от насмешек не больше, чем жители других селений Андалусии.
Возвратимся к истории нашей деревушки, пренебрежем ядовитыми шутками и будем считать отца Бермехо родоначальником, главой и отцом тамошних жителей; чтобы как-то обозначить это селение, выделить из множества подобных, дадим ему имя Вильябермеха, сохранив в тайне настоящее название, на что есть свои причины, а жителей будем именовать бермехинцами.
В данном случае я следую примеру ученых историков древности, ибо возвожу название маленькой современной деревни к имени патриарха точно так же, как это делалось на заре человеческой истории, в те славные поэтические и героические времена, когда жили настоящие патриархи: от Персея происходит название персов, Эллин дал имя эллинам, или грекам, Абар – евреям, Яфет – яфетидам и так далее, вплоть до отца Бермехо, к которому восходит название бермехинцев.
Из всего этого вовсе не следует, что отец Бермехо был реальной исторической личностью. Изначально имя это, вероятно, обозначало целый народ. Именно так толкуют современные историки данные о патриархах, упоминаемых в первых главах Книги Бытия. К примеру, Тувалкаин для них – это не отдельный человек, который жил несколько веков и был ковачом всех орудий из меди и железа, а весь род человеческий в переходный период от камня к металлу.
История знает немало случаев, когда тому или иному народу, из неприязни к нему или в виде насмешки, жаловали в родоначальники какого-нибудь злодея или чудовище. Египтяне, например, считали, что евреи родились в пустыне от отвратительного Тифона, бога зла, в то время когда он удирал верхом на ослице от Гора и от своего убиенного брата Осириса, о ту пору воскресшего. Ту же недоброжелательность можно усмотреть и в истории или в мифе об отце Бермехо и о бермехинцах, но за неимением ничего лучшего позволю себе называть селение, о котором я рассказываю, Вильябермехой и его обитателей – бермехинцами. Считаю нужным еще раз клятвенно заверить читателей, что у меня не было ни малейшего намерения обидеть моих полукомпатриотов. Я всех их очень люблю. Кроме того, есть среди них человек, которого мне лестно считать своим лучшим другом, чьим умом, характером и приятными манерами я не устаю восхищаться.
У себя на родине он известен под именем-прозвищем дон Хуан Свежий. Мы тоже будем его так называть и думаем, он на нас не обидится. Дон Хуан Свежий – настоящий философ.
В детстве его звали просто Хуанильо. Он рано покинул Вильябермеху и вернулся туда уже в солидном возрасте и с изрядной суммой денег в кармане. Из почтения его стали величать доном, а поскольку он был свежеиспеченный дон, прибавили прозвище Свежий.
Его по праву считают влиятельным лицом, но он не желает вмешиваться в политику, не интересуется выборами, поэтому он не стал местным касиком[8] и не возглавляет никакой партии. Вильябермеха, в отличие от других городов и сел Андалусии, так сказать, бескасикна и безглавна.
Возвращение сего славного мужа в такое захолустье можно считать высшей формой проявления любви к родине или – что не менее верно – проявлением крайней неосмотрительности.
В любом другом месте он сошел бы за настоящего дворянина, тогда как здесь среди его двоюродных братьев и племянников числились мясник, альгвасил, полдюжины бывших каторжников и прочая мелкая сошка. Его это ни капельки не смущает. Напротив, он даже гордится разношерстной компанией своих родичей и любит подчеркивать, что предки его – не какие-то жалкие батраки и поденщики, ковырявшиеся в земле, а люди крепкие, благородные, непокорные; в них проявились лучшие черты воинов-бермехинцев: мятежный дух и готовность к подвигу, что подтвердилось во время войны с маврами. Члены семьи Свежих – назовем их так – не желали копаться в земле, они родились, чтобы носить тогу или держать в руках оружие. Эти благородные желания не удалось удовлетворить полностью, но все же один Свежий облачился в плащ альгвасила, а другой заделался мясником, многие тоже вышли на большую дорогу: одни – чтобы возить контрабанду, другие – движимые рыцарским стремлением бороться за более справедливое распределение даров и благ слепой фортуны.
Вот какие похвальные вещи рассказывает дон Хуан о своих родственниках. Правда, он хитрец, каких мало, поэтому не ручаюсь, насколько все это серьезно.
Ему теперь далеко за шестьдесят, но он могуч, как дуб, и строен, как гвадарамское веретено; зубы у него в полном порядке, шевелюра в сохранности: седых волос не видно – может быть, потому, что он рыжий, как все бермехинцы; он прекрасно держится в седле и стреляет из ружья с такой меткостью, что ему позавидовал бы Вильгельм Телль.
По здешним понятиям он живет роскошно. Его дом стоит на самой площади и разделен на две половины: одна отведена под службы, здесь – давильня, винный погреб, житница, маслобойка, перегонный куб, каретный сарай, конюшня; другая половина – жилая, с удобными апартаментами, внутренним двориком, выложенным изразцами, с фонтаном, цветниками, мраморными колоннами и – как это ни удивительно – с богатой и хорошо подобранной библиотекой. И библиотека, надо сказать, служит не только для украшения: дон Хуан много читает и много знает.
О жизни дона Хуана и о происхождении его богатства я могу сообщить только то немногое, что он сам мне рассказал, уступив моим просьбам. Мой приятель не любит говорить о себе.
Он родился в самом начале века и отца своего не знал. Похоже, что мать больше не выходила замуж, на этот счет он никогда не распространяется. Семи лет от роду он вносил уже свою лепту в домашний бюджет и действовал весьма изобретательно: собирал для продажи съедобный чертополох, спаржу, дикий артишок, продавал или посредничал в продаже дроздов, угрей, лягушек. Где-то между десятью и пятнадцатью годами занялся выращиванием, сбором и продажей оливок и даже пас свиней. В этой последней должности и познакомился с ним его дядюшка, знаменитый священник Фернандес – слава и гордость Вильябермехи.
К тому времени, когда кончилась война за независимость[9] и на престоле уже восседал милостью божией король Фердинанд VII[10], упомянутый нами священник почивал на лаврах: он сложил оружие и полномочия предводителя отряда патриотов[11] – французы называли их бандитами, – активно действовавшего в течение пяти-шести лет в горах Ронды и в провинциях Кордова и Малага.
Отец Фернандес был самым развеселым, задиристым и удалым священником, какого когда-либо знала Андалусия. Он ловко играл на гитаре, неподражаемо пел канью[12] и фанданго[13], был, что называется, в теле и обладал увесистыми кулаками. Никто не мог с ним сравниться ни в метании барры, ни в кулачном бою, ни в ловкости, с которой он, приложив рот к краешку огромного кувшина, умел отпить вина на полпальца, а то и на целый палец и даже не покачнуться. Он хорошо говорил на цыганском наречии, был приятным собеседником и знал тысячи забавных анекдотов.
Не нужно думать, что это был какой-то невежественный поп-забулдыга. Напротив, это был настоящий Вириат[14] в сутане. За разбойничьей внешностью скрывался ревностный католик, исправный священник, гуманист, богослов и весьма просвещенный философ. По-латыни он говорил так же свободно, как по-испански, хотя и с шепелявым «с» на андалусийский манер; был яростен в спорах, ловко нападал и блестяще защищался, несмотря на свою приверженность к Фоме Аквинскому и любовь к схоластике, прекрасно знал историю философии от древних мыслителей до Декарта, Кондильяка[15], современных сенсуалистов[16] и французских материалистов, которых не очень жаловал.
По окончании войны священник Фернандес – он не был тогда еще священником, хотя все его так величали, – удалился в Арчидону, где давал уроки латинского языка и философии слушателям духовной семинарии.
Епископ города Малаги во время одной из своих инспекционных поездок посетил семинарию, но не обратил никакого внимания на Фернандеса, хотя и был когда-то его однокашником. Фернандес не обиделся, объяснив это не небрежением, а великими заботами епископа. Но, будучи человеком веселым и мастером на выдумки, Фернандес решил сыграть шутку с бывшим своим соучеником и заодно добиться аудиенции. Когда епископ выехал в карете из Арчидоны, Фернандес уже поджидал его в Пеньяде-лос-Энаморадос. Так называлось местечко на пути следования епископа. Священник облачился в добротное крестьянское платье и наложил фальшивую бороду. В помощники себе взял бывшего беглого каторжника, которого некогда обратил своими наставлениями на путь истинный и спас от виселицы. Отставной каторжник подвизался теперь в качестве ангела-хранителя: он взял на себя миссию сопровождать безоружных и робких путешественников и защищать их от дорожных неприятностей и опасностей.
Однако теперь оба они – и священник и ангел-хранитель, восседая на лошадях, с ружьями за спиной, могли насмерть перепугать кого угодно.
Они неожиданно появились перед каретой его преосвященства и вмиг обезоружили двух телохранителей. Затем ангел-хранитель вежливо попросил епископа выйти из кареты. Святой отец был крайне раздражен, но повиновался и вместе с секретарем вышел из кареты. Каково же было его изумление и радость, когда в незнакомце, снявшем бороду, он узнал старого школьного товарища, и совсем успокоился, увидев, что тот обращается с ним вежливо и предупредительно, и поняв, что от него домогаются только возобновления дружеских отношений и аудиенции.
Священник Фернандес провел епископа до импровизированного походного шатра, специально воздвигнутого у дороги, где их ждало угощение, состоявшее из ароматного коричного ликера, бисквитов, миндального печенья и знаменитых лохинских крендельков.
Священник Фернандес был так учтив, проявил себя таким блестящим собеседником, наговорил столько интересного из области философии и теологии, что епископ был очарован, и от первоначального страха у него не осталось и следа.
Вскоре Фернандес при содействии епископа стал священником в Малаге, в приходе Перчель, где получил буйную паству, давно нуждавшуюся в пасторе, способном отвратить прихожан от дурных намерений и поступков.
Будучи уже в сане малаганского священника, Фернандес прибыл однажды в Вильябермеху навестить родню и подышать деревенским воздухом. Племянник-свинопас показался ему смышленым и способным юношей, и он забрал его с собой в Малагу. И хорошо сделал: племянник легко овладел всем багажом знаний, которым владел он сам. Ему дались не только телесные упражнения, но и духовные, то есть и науки, и литература. Священник был так восхищен быстротой передачи знаний, так обрадовался способностям своего родича, что решил сделать из него еще одного священнослужителя, полагая, что он скоро доберется до сана епископа. Однако дон Хуан не имел такого призвания и отговаривался тем, что бог не призывал его на эту стезю.
Им владела страсть к путешествиям и приключениям на суше и на море. По протекции дядюшки он поступил в морское училище и через четыре года вышел оттуда дельным старшим офицером. Он долго плавал и пережил столько приключений, что если бы написал книгу, то ее прочли бы с неменьшим интересом, чем историю Синдбада-морехода[17]. Упомяну только, что, когда он прибыл в Лиму, слава о нем гремела повсюду, и его назначили капитаном на превосходное судно филиппинской компании, совершавшее рейсы с ценным грузом в Калькутту. В то время на островах и архипелагах Океании развелось множество пиратов. Команда была разноплеменная и не заслуживала доверия: матросы были малайцы, повара и конопатчики – китайцы, боцман – француз, второй помощник – англичанин и всего-навсего пять-шесть испанцев. На этой плавучей Вавилонской башне дон Хуан совершил три благополучных рейса к берегам Ганга. Пока корабль разгружался и снова грузился, готовясь в обратный путь, он жил там как набоб: совершал прогулки в роскошном паланкине, охотился на тигров, восседая на спине огромного слона, ему прислуживали красивые девушки, ублажали баядерки, а купцы этой сказочной страны, жемчужины далекого Востока, наперебой приглашали его в свои роскошные дома.
Получая большое жалованье, он имел еще право на провоз личного груза и так преуспел в коммерции, что по возвращении в Лиму из третьего рейса стал миллионером.
Когда Перу обрело независимость, дон Хуан, как и многие другие испанцы, вынужден был покинуть страну, но в Европу не вернулся, осел в Рио-де-Жанейро и открыл там торговое дело. Однако жизнь на чужбине ему надоела, он прибыл в Европу, совершил путешествие по Германии, Франции, Италии и Англии. Любовь к родине позвала его в Вильябермеху, где я имел честь познакомиться с ним и общаться.
Здесь он купил несколько ферм, оливковых рощ, виноградников и стал заправским земледельцем. От прежнего морского волка ничего не осталось: он почти не вспоминает о своих морских путешествиях и приключениях.
Всю жизнь он прожил холостяком, и нет оснований беспокоиться, что совершит теперь рискованный шаг и женится.
Дон Хуан Свежий стал кумиром своей многочисленной родни, ее добрым гением, хотя сам не был чувствительным человеком. Я никогда не слышал от него никаких признаний и излияний о его сердечных делах в Америке, Индии или еще где-нибудь. Единственный человек, о котором он часто отзывался с нежной любовью и благодарностью, был священник Фернандес. Дядюшка умер в великой бедности, так как раздал неимущим все, что имел, и был бы причислен к лику святых, если бы умел соблюдать так называемые условности, но поскольку он любил рассказывать малопристойные анекдоты, воевал и устраивал проделки вроде той, которую он совершил с епископом, или еще похлеще, то о канонизации не могло быть и речи.
Несмотря на обожание, которое дон Хуан испытывал к своему дядюшке, он не последовал его примеру: не стал ревностным католиком и добрым христианином. Дон Хуан был позитивистом и доверял только тому, что воспринимал органами чувств, а также и математическим истинам. Он утверждал, что за пределами опыта нет знания, и отрицал самую возможность познания. Однако он испытывал некоторую склонность к чистым спекуляциям и метафизическим системам, относя их к сфере поэтического творчества. Философские учения, полагал он, суть те же романы, в которых персонажи: дух, материя, я, не-я, бог, космос, конечное и бесконечное, – порождение смелой и богатой фантазии, действуют и поступают по прихоти их создателя.
Вместе с тем дон Хуан не был ни безбожником, ни богохульником. Его отрицание науки о духовном и сверхъестественном не лишало его веры. Он прекрасно понимал, что человек на крыльях веры может подняться в высшую сферу, недоступную разуму, где душа, озаренная интуицией, раскроет ему свои сокровенные тайны.
Приезжая в Вильябермеху, я всякий раз совершал с доном Хуаном длительные прогулки. На обратном пути мы обычно останавливались у каменного креста, воздвигнутого на высоком постаменте у самого входа в деревню. Здесь его называют Крус-де-лос-Аррьерос.
Иногда в наших прогулках принимал участие молодой человек лет тридцати, по имени Серафинито. Он был круглый сирота, жил одиноко, имел порядочный, по местным понятиям, достаток, отличался молчаливостью, флегматичностью и добрым нравом.
Дон Хуан Свежий уверял, что от Крус-де-лос-Аррьерос открывается панорама, красивее которой он ничего не знает. Я улыбался и внимательно смотрел на него: уж не шутит ли он? Но лицо его было серьезно – никаких признаков иронии. Думаю, что это был обман зрения, вызванный любовью к родным местам.
В один из погожих сентябрьских дней дон Хуан, Серафинито и я сидели у подножия каменного креста. Солнце уже скрылось за грядой холмов, образующих линию западного горизонта, и окрасило небо в золотые и пурпурные цвета. На долину легли тени, но колокольня и скалы, высившиеся позади селения, чудесно светились, отражая от своей полированной поверхности косые солнечные лучи. Только легкие розовые облачка нарушали безмятежную голубизну неба и тихо плыли куда-то, гонимые ласковым ветром. В более темной части небосвода, высоко над горизонтом, уже вставала бледная луна и мерцали одинокие звезды. В дальней стороне долины виднелась лента дороги, а за нею взгляд упирался в горную гряду. Повсюду царили мир и покой.
Большую часть здешней земли занимают оливковые рощи и виноградники; только дикие скалы, увенчивающие холмы, остаются невозделанными. Зеленые заборы из ежевики и агавы отделяют друг от друга земельные наделы и усадьбы. Только на самых влажных и плодородных участках в этих живых изгородях можно видеть жимолость, гранатовые деревья и кусты шиповника. В местах, защищенных от зимней стужи, растет и плодоносит смоква.
Урожай с полей был уже снят, и на черной земле желтели островки жнивья, кустики чертополоха. Под жарким солнцем жухлая трава стала сухой, как порох. Кое-где виднелись языки пламени; огонь бежал причудливой змейкой, оставляя позади себя черный след и клубы дыма.
Огромные пространства, занятые виноградниками, еще зеленели свежей, яркой листвой. Шел сбор винограда. По бесчисленным дорогам и тропам сюда двинулись арбы и телеги, чтобы забрать последний груз и отвезти его в винодельни, где утром он пойдет уже под пресс. Сборщики покидали плантацию и группами расходились по домам. То здесь, то там вспыхивала веселая песня; вдали слышался чей-то тоскующий голос: может быть, это погонщик мулов жаловался на одиночество, возвращаясь с караваном вьючных животных, или поденщик, стосковавшийся по дому.
Берега ручьев, орошающих долину, поросли ракитой, серебристым тополем, черным олеандром, камышом и дикой мятой. Садов здесь немного, и все они крохотные: площадь самого большого из них не превышает шестидесяти акров. Зато земля хорошо возделывается: на ней выросли гигантские ореховые деревья, пышные смоковницы, дающие самый сладкий в мире инжир, и множество других плодоносящих растений.
Самый полноводный ручей в округе протекает в четверти лиги от Вильябермехи, и девушки, которые стирали там белье, теперь тоже шли домой, неся корзины на голове, шли весело, задорно: движения их были свободны и изящны; короткие юбки из дешевого перкаля или еще более дешевой антекерской фланели плотно облегали сильные, красивые бедра.
Дон Хуан, словно зачарованный, наблюдал всю эту картину и, видимо, еще более укрепился в мысли, что и Вильябермеха, и ее окрестности – лучший уголок на земле. Волнение его возросло, когда он заметил облачко пыли на главной дороге. Воспоминания о лучших днях жизни нахлынули на него… Вскоре послышалось хрюканье всех регистров, от тенорового до басового, и тут же появилось розовое стадо свиней, ведомое шустрым мальчуганом лет пятнадцати. Каждый бермехинец имел в этом стаде дорогое его сердцу существо: пройдет время, и он сделает себе самому и своей семье вкусный подарок в виде ветчины, сала, колбас, сосисок, шпика и многих других продуктов; все это будет храниться в кладовых до случая, достойного быть отмеченным.
Мальчуган умело командовал своим войском и поддерживал образцовую дисциплину. Ни одна свинья не решилась бы самовольно отлучиться от стада. Но как только войско достигало первых домов, парнишка дудкой подавал сигнал, и животные разбегались рысью и галопом по улицам и проулкам; достигнув хозяйского дома, они опрометью проносились через двор, опрокидывая кувшины и бочки, и как вкопанные останавливались в хлеву, где их ждало уже вкусное пойло.
Когда дон Хуан справился с волнением, я не мог удержаться и сказал:
– Откровенно признаюсь – меня восхищает ваша любовь к Вильябермехе. Я понимаю: это ваша родина, и она вам нравится. Блеску и шуму Мадрида и Парижа вы предпочли сельское уединение и счастливы этим, И все-таки мне непонятно, как может человек, исколесивший весь мир, повидавший то, что другим бермехинцам и во сне не снилось, утверждать, что красивее Вильябермехи нет ничего на свете.
– Что же тут непонятного? – отвечал дон Хуан. – Когда я утверждаю, что Вильябермеха – лучшее место на земле, я просто хочу этим сказать, что таким оно мне представляется. Действительно, во время моих путешествий я видел бухту Рио-де-Жанейро с ее плодороднейшими берегами и островками, покрытыми вечнозеленой растительностью, и гигантские горы, окружающие ее, и вековые леса, апельсиновые и лимонные рощи, которые красиво ее обрамляют; я жил на плодородных берегах Ганга и Брамапутры, украшенных пагодами, дворцами и садами; я любовался улыбчивым Неаполитанским заливом, где все напоминает о красоте и величии древнего мира. Все это я видел собственными глазами и все же остался истинным бермехинцем, для которого и сама Вильябермеха и ее окрестности кажутся самым прекрасным, самым богатым, самым плодородным местом на земле. Вы скажете, что горизонт здесь не слишком обширен. Тем лучше: я могу вообразить себе за этим горизонтом все, что пожелаю; если же я пожелаю вообразить нечто великое и бесконечное, то достаточно воздеть глаза к небу – и смотри себе в небесную бездну: воздух здесь чист и прозрачен, и облака не скрывают от взора даже самую далекую звезду. Пространство земли, которое охватывает мой глаз, тоже невелико, но зато я знаю здесь каждую пядь и могу заселить его воспоминаниями и событиями в тысячу раз более интересными и близкими моему сердцу, чем приключения Рамы и Кришны[18] в Индии или Энея[19] и Улисса[20] в Неаполе. Разве это не чудесно, если я могу сказать: «Все оливки, растущие на том склоне, посадил я сам; виноградник тоже создан моим трудом; тот дом под красной черепичной крышей – это дом моего друга Серафинито, и я знаю, сколько галлонов вина ежегодно получает он на своей ферме; тот участок белесой земли принадлежит вам, а белесая она потому, что содержит много извести; тот сад некогда арендовала моя мать, и я провел там лучшие годы моей жизни». Видите заросли камыша на берегу ручья?
– Вижу, – отвечал я.
– Так вот, именно там я впервые понял, что такое красота искусства, порыв вдохновения и впервые испытал полное, бескорыстное, бесконечное, ни с чем не сравнимое наслаждение.
– Что же там произошло? – спросил Серафинито.
– Тростник этот – точно такой же, каким я видел его в начале века, когда мне было лет десять или того меньше. Я был совсем невежествен: не умел ни читать, ни писать и вообще ничего не знал и не понимал. Я представлял себе небо в форме стеклянного полушария – вроде половинки апельсина, что ли, к нему прибиты гвоздики, а шляпки их – это звезды; по стеклянной поверхности катятся луна, солнце и большие планеты, движут их ангелы или какие-то таинственные духи. Лоно земли казалось беспредельным, чем-то вроде огромной пещеры, бездонной пропасти, населенной чертями и преступниками. Выше стеклянной сферы я воображал себе другую бесконечность – царство света и вечной благодати, где живут святые, ангелы, девственницы и играет музыка, и бог и все, кто при нем, ее слушают. Я был убежден, – впрочем, как и все бермехинцы, – что высшая точка небесного свода находится над Вильябермехой и там – трон святой троицы. Поэтому и небесная музыка слышалась здесь лучше, чем в других местах. Так говорили мои земляки. И я забирался в заросли тростника, погружался в предвечернюю тишину, напрягал слух, надеясь услышать эту музыку, – благо исполняли ее где-то совсем недалеко. Волнение мое было так велико, нервы так напряжены, что порой мне казалось, будто я ее слышу. Я очень любил музыку, и, если бы не моя страсть к путешествиям и морским приключениям, – кто знает, может быть, из меня получился бы превосходный музыкант. И вот однажды я срезал несколько тростинок, проделал в них дырочки, попробовал одну дудку, попробовал другую и наконец добился чистого звучания: получилась настоящая флейта с сильным, красивым звуком, и я играл на ней все известные мне мотивы. Мне казалось, что многое я сам слышу впервые, что я сочинил эту музыку сам. Может быть, это было смутным воспоминанием о той музыке, которая доносилась до меня из небесных высей. Жителям нашего местечка очень нравились и моя флейта, и то, как я на ней играю, а моя мать буквально зацеловывала меня после каждого исполнения. Вот и судите теперь: есть ли на свете что-либо прекраснее нашей Вильябермехи?
Серафинито ничего на это не возражал, ибо любил Вильябермеху больше, чем сам дон Хуан. Я попытался было что-то сказать, но дон Хуан Свежий приводил все новые и новые доводы и говорил с таким поэтическим вдохновением, которого я в нем не предполагал. Тогда я повел разговор в другом направлении.
– Не буду с вами спорить, так как считаю ваши доводы убедительными, хотя и несколько софистичными. Но позволю себе спросить: откуда у вас, у трезвого позитивиста, столько чувствительности, поэтических иллюзий? Мне это кажется странным.
– Опускаю ваше замечание о чувствительности, – отвечал дон Хуан. – Я никогда не считал себя сухарем, но и чувствительным меня никак не назовешь. Однако я совершенно не согласен с вами, когда вы приписываете мне какие-то иллюзии. У меня не было, нет и не будет никаких иллюзий. Так что мне не приходилось и не придется оплакивать их потерю. Иллюзии мне отвратительны.
– То есть как это нет иллюзий? Разве ваша любовь к родным местам не иллюзия?
– Эта любовь покоится не на иллюзиях, а на реальности. Обсуждать это – значит вернуться к прежнему спору, а я не хочу спорить. Но я хочу доказать вам, что у меня нет иллюзий, что они – зло и что не иметь их – благо.
– Но тогда, – вставил Серафинито, – поэт говорит чепуху, утверждая:
- Иллюзии сгоревшие,
- Что листья улетевшие
- С дерева сердец[21].
– Нет, это не чепуха: поэт прав, если я его верно понял. Но ведь правда и то, что нам до смерти надоели бесконечные жалобы по поводу утраченных иллюзий. Может быть, они и «листья с дерева сердца», но никак не спелые плоды и даже не цветы, которые могут оздоровить воздух.
– Что же вы понимаете под иллюзиями? – спросил я.
– Иллюзия есть некая идея, рожденная воображением, не имеющая никакой реальной ценности. Иллюзия – это ложь, заблуждение. Утратить иллюзии – значит то же, что обрести истину. Обретение же истины, то есть высшее достижение, к которому стремится наш ум, не должно оплакиваться.
– Мне кажется, вы сами себе противоречите. Вы только что рассказывали, как вам жаль было расставаться с наивным неведением, ибо оно, это неведение, как раз и породило в вашей детской душе поэтические образы неба и земли.
– Разумеется, я не вижу небо и землю такими, как тогда, в детстве. Но почему вы думаете, что образы эти стали менее поэтичными теперь? Поэзия совместима не только с неведением: она еще больше совместима с глубокими знаниями, накопленными всеми университетами и академиями мира. Только благодаря науке я узнал, что есть иллюзия, что значит утратить ее или избавиться от нее. Именно наука доказала мне никчемность и лживость всякой иллюзии. И, напротив, она не доказала мне, что утрату пустых и лживых иллюзий следует оплакивать. Некогда поэт сказал: «Древо знания не есть древо жизни», но я думаю как раз обратное: древо жизни есть древо истинного знания.
– Мне не совсем ясна ваша мысль.
– Попробую ее уточнить. Скажите, не считаете ли вы, что образ, возникающий у нас с вами в результате опытного познания, является более емким, возвышенным и прекрасным, чем тот, который возникал у людей в прошлом?
– Пожалуй, это верно. Но вы говорите только об опытном познании. Беда в том, что, познавая нечто путем опыта, человек утрачивает способность воображения и лишается веры, и об этом нельзя не пожалеть.
– Я вижу, вы согласны с тем, что нынешнее познание стоит больше вчерашнего. Отсюда следует, что чем больше накапливается знаний о предмете, тем более прекрасным, возвышенным и благородным является нам образ этого предмета как частицы всего сущего.
– Но не должно исчезнуть и то, что добывается нашим воображением, – возразил я.
– Правильно. Воображению всегда есть работа. Теперь я понимаю, что небо – это бесконечное пространство, а звезды отделены друг от друга огромными расстояниями, но и за теми пределами, которых достигает глаз или телескоп, я могу вообразить все, что мне захочется, и поверить во что угодно.
– Но вы должны признать, что и воображение и вера простираются очень далеко и слишком далеко уходят от земли.
– Вы ошибаетесь и в этом; я не согласен с вами. Воображение и вера нужны не только для запредельности. Ведь то, что я вижу, наблюдаю, устанавливаю опытным путем, касается внешнего, поверхностного. Я вижу явление и что-то знаю о нем, но как увидеть и познать потаенную сущность явлений и самих предметов? Русалки и сильфиды не так глупы и просты, чтобы какой-то химик взял их голыми руками, посадил в реторты и колбы и разложил на воду и воздух. Вряд ли найдется такой совершенный микроскоп, который может раскрыть таинство оплодотворения тычинки любвеобильной пыльцой. Какими законами физики или математики можно объяснить, почему привидение, дух, дьявол без всякой посторонней помощи лезут вам в душу и тревожат ее? Кто доказал, что они не существуют? Кто измерил пределы человеческого восприятия? Кто осмелится сказать: «За этой чертой ничто не может быть познано»? Никто не доказал, что нет или не может быть людей, которые видят, чувствуют другие сокровенные существования, общаются и советуются с ними. А разве можно до конца понять сущность нашего с вами общения? Мы облекаем нашу мысль в чувственную форму, то есть передаем друг другу мысль не непосредственно, а при помощи условного материального знака. Он репрезентирует эту мысль, и название ему – «слово». Следовательно, слово есть звук, то есть физическое колебание воздуха, которое воздействует на наш орган слуха. Но почему же мы все-таки понимаем друг друга? Этого мы не знаем теперь и вряд ли когда-нибудь узнаем. Люди постоянно толкуют о сверхъестественном и естественном с таким видом, будто уже великолепно поняли различие между ними, установили четкую границу, все размежевали, обозначили и все постигли. Но, друг мой, границы между сверхъестественным и естественным нет, или, во всяком случае, она стерта. Ставить вехи и знаки, чертить демаркационные линии и проводить границу можно только между познанным и непознанным. Но, согласитесь, это совсем другое дело. Поэтому было бы ошибкой называть время классической древности эпохой веры, а наше время – эпохой разума. Нельзя противопоставлять разум вере. Царство веры беспредельно и вечно, и его могущество не может быть поколеблено завоеваниями и экспансией маленького царства разума. Некоторые иллюзии – по существу, их нельзя назвать иллюзиями – не могут быть убиты наукой. Однако самая великая и трудно вытравливаемая иллюзия как раз состоит в убеждении, что наука обязательно должна убить то, что познается нами благодаря фантазии и вере и что фантазия и вера суть иллюзии. Это иллюзия всесилия науки, иллюзия научного тщеславия. Эту иллюзию я считаю самой вредной из всех иллюзий, хотя, может быть, она не самая жульническая.
– Как это понять? – спросил Серафинито. – Выходит, что иллюзия – это просто плутня?
– Почти всегда, – подтвердил дон Хуан.
– Вы рассуждаете так, – вставил я, – потому что приводите примеры только дурных иллюзий и не упоминаете о хороших.
– Согласен, но, повторяю, никто не доказал мне, что так называемые хорошие иллюзии, рожденные верой, высоким религиозным чувством или проницательной фантазией, действительно являются иллюзиями. А это значит, что иллюзии всегда дурны, иначе они не иллюзии. Я как раз и воюю против настоящих иллюзий и утверждаю, что у меня их никогда не было, а если бы были, то я расстался бы с ними без всякого сожаления.
– Дайте примеры дурных или, как вы говорите, настоящих иллюзий.
– Сколько угодно. Представьте себе, что в Мадриде живет молодая женщина. Она элегантна, немного кокетлива, не очень богата, ей двадцать пять лет, и она не замужем. Иллюзии этой барышни состоят в том, что, выбрав себе в мужья человека богатого, знатного, доброго, терпимого и щедрого, она сможет жить на широкую ногу, тратить много денег и т. д. и т. п. Но иллюзиям не суждено было осуществиться, и теперь девица поминутно жалуется, что настоящей любви нет, что миновали времена Ромео и Джульетты, что мы живем в прозаический век и что она утратила иллюзии. Возьмем для примера замужнюю даму. Муж ее крупный чиновник; он ласков, приветлив, хороший семьянин, нежный, любящий супруг. Среди его приятелей есть чиновник помельче. Жалованье у него не очень большое, он часто остается за штатом, но умеет так устроить дела, что при всех своих долгах и неурядицах у него есть ложа в театре, он часто тратится на наряды и украшения для своей жены, возит ее в Биарриц. У нашей дамы были иллюзии, что и ее муж может создать ей такую жизнь, но, увидев, что иллюзии не осуществились, она их утрачивает. И теперь она поносит все и вся, утверждая, что идеалов нет, что все мужья – глупцы и чудовища, что в наш испорченный век супружество лишено всякой поэзии и что времена Филемона и Бавкиды[22] никогда не вернутся. Повариха нанимается на службу. Хозяйка требует у нее ежедневного отчета о покупках, интересуется ценами, просит быть экономной. Повариха тоже утрачивает свои иллюзии и начинает говорить, что теперь нет щедрых, великодушных, благородных господ, что мы живем в мелочный, мерзкий, плебейский век. В Мадрид приезжает юноша. Он строен, красив, остроумен, одет с иголочки и ежедневно прогуливается по Кастельяна. Однако ни маркизы, ни герцогини в него не влюбляются, богатые наследницы его отвергают. Интерес к нему проявляет только дочь хозяина гостиницы, где он квартирует. Молодой человек тоже утрачивает иллюзии и заключает, что женщины в наш век горделивы, заносчивы, бессердечны. Оказывается, все утрачивают иллюзии: жалкий стихоплет, возомнивший себя поэтом, – потому что никто не читает его стихов, честолюбивый журналист – потому что не стал министром, драматург – потому что освистали его пьесу, врач – потому что растерял клиентуру, адвокат – потому что никто не поручает ему вести дела, враль – потому что никто не верит его вранью, и даже игрок в лотерею – потому что не выигрывает. Они без конца твердят о том, что коррупция в наш век достигла чудовищных размеров, что идеалы исчезли, что всех поразило безверие и что всем распоряжается слепая, несправедливая судьба.
– Судя по вашим примерам, иллюзии могут обретать и утрачивать только бездельники, глупцы и несчастливцы.
– Именно. У них больше иллюзий, чем у других, значит, и теряют они больше, чем другие. Я не отрицаю, конечно, что есть много достойных людей, которые сами создают себе иллюзии, а потом оплакивают их утрату, То, что они создают иллюзии и оплакивают их, не означает отсутствия у них благородства, но свидетельствует об отсутствии здравого смысла и твердого характера.
– Поясните это примерами, – попросил Серафинито.
– Пожалуйста. Живет с мужем бедная, но добродетельная и добропорядочная дама. Она во всем себе отказывает и стойко переносит все лишения и невзгоды, обрушивающиеся на нее и ее мужа. Но проходят годы, и она видит, что за ее добродетельность к ней не стали относиться с большим уважением, никто не трубит о ее добропорядочности, никто не преподносит ей в подарок драгоценностей, не покупает ложу в театре, не дарит карету. Словом, она видит, что Лукреции[23] из нее не получилось и по-прежнему никто ее в грош не ставит. Тогда она начинает сердиться и жаловаться, что утратила иллюзии, что общество – это грязный вертеп, где только дурные женщины имеют кареты, одеваются в шелка, украшают себя бриллиантами и жемчугами. Иллюзии этой сеньоры состояли в том, что она верила, будто ее добродетель обязательно должна принести ей моральные и материальные блага. Однако добродетель, преследующая выгоду, не может считаться истинной добродетелью, и человек, проявляющий ее в своекорыстных целях, способен совершить еще более дурные поступки. Эта другая форма иллюзионизма – ужасная болезнь, которая поражает иногда умы благородные и возвышенные, хотя и недостаточно трезвые и стойкие. Она страшна тем, что ведет к перерождению самых благородных свойств души и характера, заставляя человека во всем видеть корыстную цель и воспринимать прекрасное и возвышенное только с утилитарной точки зрения. Если человек добродетелен и умен, если он занимается наукой, поэзией, то все это может принести ему некоторую пользу, но чистая утилитарность не должна быть для него конечной целью. Более того – тот, кто сознательно стремится извлечь пользу из своей добродетели, научных знаний, поэтических занятий, перестает быть ученым, поэтом и добродетельным человеком. Для низменных целей используют низменные средства. Благородные средства служат только для достижения высоких целей.
– Но разве труд, настойчивость, упорство, бережливость, являясь весьма похвальными добродетелями, не могут быть направлены на достижение материальных благ?
– Несомненно. Иногда – индивиду и всегда – всему обществу в целом они приносят материальные блага. Но я говорю о добродетелях более высокого свойства, о духовных добродетелях, которые можно легко себе приписать, не обладая ими. Иллюзии этого рода имеют две особенности: первая состоит в том, что сначала люди приписывают себе добродетели, а вторая – в том, что они стараются набить им цену и повысить их акции.
– В общем, вы утверждаете, – перебил его Серафинито, – примерно то же, что утверждает известная поговорка: «Честь и корысть в один мешок не кладут».
– То, что я утверждаю, не имеет ничего общего с этой поговоркой. Честный человек может извлекать профит, и даже немалый, из тысячи честных занятий. Я, например, имел большую выгоду от моих занятий и не считаю, что приобрел состояние нечестным путем. Я утверждаю только, что есть такие добродетельные умы и характеры и дела человеческие такого величия, что с ними несовместимо понятие выгоды, они не требуют оплаты, вознаграждения. Я осуждаю иллюзии тех людей, которые обладают или думают, что обладают, этими свойствами, думают, что вершат великие дела, и требуют за это плату, и приходят в отчаяние, когда ее не получают. У людей этого сорта, пораженных иллюзиями, существует наивное представление о мироустройстве и о божественном провидении: они считают, что бог всегда обязан поощрять добро и наказывать зло и вообще заботиться, чтобы нам было хорошо. У них бесконечные претензии к богу, они готовы взыскивать с него за все. Зачем ты меня создал? Почему я должен умереть? Почему я старею? Почему у меня болит зуб? Почему меня кусает эта муха, да еще и жужжит? Почему у куропаток так много костей? Почему в окороке так много жира и так мало мяса?
– Ну, ну, – начал я, смеясь, – из всего сказанного я заключаю, что моего друга дона Хуана тревожат какие-то неприятные воспоминания о человеке, у которого были иллюзии и который их утратил. Поэтому мой друг так резко осуждает всякие иллюзии вообще.
– Вы правы: я действительно пережил нечто неприятное, очень неприятное. Будьте прокляты, иллюзии! Несчастный доктор Фаустино!
Едва он произнес это имя, Серафинито, который до этого сидел понурив голову, расплакался, как дитя.
Это еще больше подогрело мое любопытство, и я спросил дона Хуана, кто такой доктор Фаустино и почему он вызвал столь печальные воспоминания.
Дон Хуан обещал мне рассказать историю Фаустино и исполнил свое обещание, когда Серафинито ушел: он не хотел расстраивать молодого человека.
Я записал рассказ дона Хуана Свежего, несколько его обработав на свой лад. И теперь передаю его читателям. Само собой разумеется, я не собираюсь развивать тезис, направленный против иллюзий.
Мнения дона Хуана и мои на этот счет расходятся, но это не имеет отношения к делу.
Закончив вступление, я покидаю сцену, где я подвизался некоторое время как вспомогательная фигура, и ограничусь теперь ролью рассказчика.
I. Славный дом Лопесов де Мендоса
Вильябермеха, как мы уже сообщали, в течение более двух столетий была пограничной деревней: она граничила с мавританскими владениями.
Еще и теперь там высится замок, вернее, крепость, которая некогда принадлежала местному владетельному князю, главному лицу в местечке. И почерневшие от времени толстые стены, сложенные из грубого камня, и прямоугольные стенные зубцы, и круглые башни с бойницами – все это сохранилось. Сводчатая галерея соединяет старинный замок с церковью более новой постройки: она возводилась уже после войн с маврами. В эпоху жестоких сражений за Гранаду молитвы возносились, вероятно, в замке либо под открытым небом. О возведении храма впервые подумали уже после отвоевания Гранады, а построили его сыны достославного святого Доминика.
Именно с этих пор воинственное племя бермехинцев стало все больше и больше склонять свою шею под теократическим ярмом братьев монахов, что и породило, вероятно, шутливую историю происхождения бермехинцев от рыжеволосого отца Бермехо.
В эпоху абсолютизма селение воителей-идальго растеряло воинственный дух, обмещанилось и демократизировалось. Князь отбыл ко двору, и с тех пор никто его больше здесь не видел. Никто даже не вспоминал о нем ни добрым, ни дурным словом. Всеми делами аренды и ренты занялся управляющий князя.
К началу нынешнего века в Вильябермехе едва ли насчитывалось, кроме князя-невидимки, три-четыре дворянских семейства. Остальное население составлял плебс, начисто забывший о славе героических предков. К концу тридцатых годов, то есть ко времени, когда начинается наша история, представители местного дворянства смешались с простым людом и стали прозябать в бедности либо эмигрировали кто куда в поисках лучшей доли. В местечке осталась только семья Лопесов де Мендоса, потомственных комендантов крепости со времен Аламаров и короля дона Фердинанда Святого[24].
Родовой дом Лопесов де Мендоса еще и теперь красив. Он примыкает к крепостной стене; простой и изящный фасад – произведение пятнадцатого столетия – облицован тесаным камнем, а главный вход и балконная дверь второго этажа украшены колоннами из белого мрамора. Над балконом красуется замысловатый герб славного рода Мендоса, искусно высеченный тоже из белого мрамора.
Дом, однако, пришел в некоторый упадок, хотя и не столь заметный, как семья Мендоса, и являет ныне бесспорные и печальные признаки стесненного положения его владельцев. Во многих окнах недостает стекол; массивные двери с затейливой резьбой и бронзовыми украшениями находятся в плачевном состоянии; фасад кое-где выщерблен; желтые цветы торчат из щербин – все это очень портит общее впечатление. Местами образовались широкие и глубокие трещины; вместимость их так велика, что там нашли себе приют не только отвратительные ящерицы всех видов, но угнездились, выросли и окрепли безобразные и пугливые летучие мыши, проросли и развились кусты дикой смоквы и всяких сорных трав. Вся эта паразитарная зелень особенно буйно распускается весной и придает фасаду вид вертикального сада. Навес черепичной крыши очень широк, так что между стеной дома и крепостной стеной образуется огромное пространство, где вольготно чувствуют себя ласточки и лепят свои непритязательные жилища. Третий этаж занят под кладовые и житницы, но поскольку зерно давно уже туда не поступает, там поселились совы, филины-меланхолики и умеренные в еде крысы-аскеты.
Даже самые бедные жители селения три-четыре раза в году белят свои дома, отчего они делаются ослепительно чистыми и блестят, словно снег на солнце. По сравнению с ними родовой дом Мендоса выглядит совсем иначе, даже золотые лучи солнца не могут оживить его камни, почерневшие от времени, от непогоды и от нерадивости владельцев. К тому же дом семьи Мендоса расположен в уединенном, безлюдном месте, на отшибе, и прячется за крепостью, тогда как белые веселые домики зажиточных обывателей составляют улицы селения, выходят на площадь, где имеется четырехструнный фонтан, где растут тополя и постоянно толкутся мужчины, женщины, дети, проезжают телеги, повозки, движутся лошади, ослы и мулы.
Еще совсем недавно на окраине селения начали строить – и не достроили – новое кладбище; всех обыкновенных усопших стали хоронить возле церкви, как раз против дома Лопесов де Мендоса. В церковной же ограде хоронят только монахов и членов семьи Мендоса, которые имеют там подземный склеп и великолепную часовню с запрестольным образом из золоченого дерева, выполненным с затейливостью и пышностью, свойственными стилю чурригереско[25]. В нише этой часовни хранится фигурка Иисуса Назарейского, несущего на спине крест. Иисус облачен в бархатную тунику, отороченную золотым шитьем. Главным хранителем этого образа всегда был наследник майората[26] из семьи Мендоса. После святого покровителя Вильябермехи скульптура Иисуса – самая любимая и самая чудотворная. Мастер, который делал в свое время это изображение, не отличался ни большой изобретательностью, ни высокой техникой исполнения, однако образ и по сие время обладает огромной силой воздействия. Особенно на женщин. При помощи специально прилаженной веревки, которой распоряжался пономарь, сын божий Иисус мог отвести руку от креста и с балкона консистории благословить собравшихся на площади богомольцев. Это делалось один-два раза в году по большим праздникам.
Теперь, если мы вспомним о родовом доме Мендоса, станет ясно, как мрачно он выглядел из-за соседства с запущенным кладбищем и с полуразвалившейся церковью, в ограде которой, собственно говоря, тоже было кладбище.
Мы сказали уже, что род Мендоса пришел в неменьший упадок, чем сам дом.
Прошлая судьба этой семьи и нынешнее ее положение, а также взаимоотношения ее членов с другими бермехинцами сложились несколько необычно. С того самого времени, когда здесь появились монахи-доминиканцы и селение было, так сказать, отдано на откуп монашеской братии, семья Мендоса была единственной, которая вела с ними войну и делала все возможное, чтобы сохранить в Вильябермехе светский уклад жизни. Ожесточенная борьба кончилась поражением Лопесов де Мендоса, и это при том, что среди них были мужи выдающихся способностей и отваги.
Никто из бермехинцев не относился враждебно к членам семьи Мендоса, поскольку не было такого случая, чтобы Лопесы де Мендоса хоть кого-нибудь обидели. Никто не завидовал им, ибо они были бедны и всегда в долгу как в шелку. Но все-таки о них рассказывали вещи весьма обидные.
Об одном Мендосе, жившем еще во времена мавров, рассказывали какую-то скандальную любовную историю с пленной мавританкой-колдуньей. О другом Мендосе, не менее знаменитом, говорили, что во время пребывания его в Индиях он женился не то на еврейке, не то на перуанской принцессе – здесь мнения расходились – хотя, по правде сказать, противоречия тут нет, ибо для здешних обывателей названием «еврей» (или «мавр») обозначается нехристь вообще, и некрещеного ребенка величают евреем, а то и мавром.
Но все бермехинцы были согласны в том, что сначала пленная мавританка, а потом перуанка или еврейка внесли в кровь Мендоса заквас безбожия. Но эта же самая еврейка или перуанка принесла своему мужу в приданое огромную сумму денег, на которые был построен родовой дом, куплены земельные участки и фермы, впоследствии заложенные и перезаложенные.
Обыватели уверяли также, что эта самая еврейка или перуанка привезла с собой из заморских дворцов уйму жемчуга и бриллиантов, которые хранились в тайнике, устроенном в стене дома. Впрочем, версия эта никем никогда не подтверждалась, хотя время от времени, когда кому-нибудь из жителей Вильябермехи удавалось внезапно разбогатеть, высказывались предположения, что этот человек обнаружил часть клада и, обманув бдительность заморской принцессы, хранившей его, присвоил себе или просто принудил принцессу отдать драгоценности при помощи каких-то дьявольских ухищрений.
Шепотом поговаривали о том, что на чердаке дома чуть ли не каждый день появлялось привидение в образе знаменитого командора Мендосы, того самого, который побывал во Франции во время Великой революции. У него много было всяких трагических и таинственных приключений, в последние годы он вел неправедную жизнь и за это вынужден теперь блуждать, как неприкаянная душа, в белом одеянии и с красным крестом на груди, как и полагается рыцарю ордена Сантьяго. Многие утверждали, однако, что крест этот был без нижней перекладины: поскольку командор не заслужил милости божьей, он не имел права носить в загробной жизни исправный крест. Некоторые вообще считали, что на груди его был изображен не крест без перекладины, а самая что ни на есть настоящая кровавая жаба.
Местные либералы объявляли все это суеверным вздором, придуманным монахами с целью дискредитировать род Мендоса, члены которого принадлежали к либеральной партии едва ли не со времени императора Карла V[27], а один из них даже принимал участие в восстании коммунеросов[28]. Дон Франсиско Лопес де Мендоса, умерший в 1830 году, придерживался, следуя примеру предков, самых либеральных взглядов, за что подвергался гонениям с 1823 года[29] и до самой смерти.
Некоторые лица из числа самых яростных антилибералов вроде нотариуса утверждали, что Лопесы де Мендоса всегда вели себя буйно и враждовали с властью в течение всех трех столетий, и если их ныне терпят, то это из-за прошлых заслуг в войнах с маврами и из-за их нынешнего плачевного положения. Многие члены этой семьи уходили на службу к королю, рыскали по свету в поисках приключений, иногда совершали даже что-нибудь героическое, потом возвращались в родное селение с приличным состоянием и обязательно привозили с собой какую-нибудь иностранку в качестве законной жены. Любовь к беспокойной жизни оказывалась сильнее чувства враждебности к политическому устройству, и службу свою они несли превосходно, но в делах, требовавших спокойной хозяйской рассудительности, поступали опрометчиво, и, таким образом, вместе с падением мощи Испании, потерявшей Фландрию, Индии и Италию, семья Мендоса все больше и больше теряла доходы, расстраивала свои дела дотла, до предела и оказалась в самом незавидном положении.
Уже дон Франсиско, о котором мы упоминали, наделал кучу долгов, заложил многие фермы, а в период с 1820 по 1823 год продал и часть майората.
Его наследник, нынешний владелец майората, умудрился промотать весь оставшийся капитал, и на доходы уже нечего было рассчитывать.
Лица, враждебно настроенные к семье Мендоса, хотя и не до конца, но все же понимали и другим давали понять, что либеральный дух этого семейства был проявлением духа средневекового анархизма, весьма похожего на современный, что беззаботность и отсутствие благочиния, характерные для Лопесов де Мендоса, особенно заметно проявились по возвращении командора Мендосы из революционной Франции. Членам этого семейства оказалось чуждым то, что так высоко ценится в современную эпоху: умение вести дела, расчетливая практичность, направленная на увеличение своего состояния, то есть то, что ныне зовут индустриализмом.
Местные нувориши зло смеялись над непрактичностью членов семьи Мендоса, но простой люд как раз за это их и любил. Демократическая закваска обывателей и даже подобие вольнодумных идей, привитых им монахами, не породили враждебности ни к семье Мендоса, у которой ничего не было, кроме долгов, ни к самому князю, чей управляющий обходился по-божески и с народом, и с местными Мендоса. Великодушный князь обретался в Мадриде, служил при дворе и полностью погряз в интригах. Весь праведный гнев бермехинцы обращали против новоявленных богачей, против тех, кто нажился на процентах за ссуды, на торговле вином, маслом, зерном. Они не принимали в расчет то обстоятельство, что многие из поносимых ими нуворишей своим состоянием улучшали общее благосостояние народа и нации. Очевидно, сказалось укоренившееся предубеждение, замешенное на зависти и подогретое впоследствии идеями, пришедшими из-за рубежа, которое состояло в том, что богатство, достигнутое одним человеком, не увеличивает общественного блага и весь процесс личного обогащения сводится либо к простому перераспределению этого богатства, либо к разбазариванию общественных накоплений. Старая пословица: «Богачи на небе – ослы, бедняки на небе – господа» пользовалась большой популярностью среди бермехинцев. Они произносили ее тоном угрозы, желая сказать этим, что предосудительная деятельность богачей будет строго взыскана на небе, если только здесь, на земле, не объявится какой-нибудь храбрый рыцарь и не упредит божьей кары.
Само собой разумеется, что так рассуждали не лучшие представители бермехинцев. В большинстве своем жители Вильябермехи – люди доброжелательные и разумные, спокойно и без всякой зависти наблюдающие возвышение нуворишей, тем более что способ, которым обогатились многие из них самих, не отличался нравственной чистотой.
Нувориши благосклонно относились к семье Мендоса. И на то были свои причины. Современная цивилизация, несмотря на многие социальные неурядицы, оказала благотворное влияние на все стороны жизни, и некоторые достижения культуры распространились во всех слоях населения. В семьях погонщиков мулов и поденщиков, которым удалось сколотить деньги и выстроить приличный дом, стала наблюдаться тяга к аристократизму: люди с гордостью начали вспоминать о том, что они происходят от храбрых военачальников, потянулись к церковным записям в надежде доказать, что род их по прямой мужской линии через серию законных браков восходит к какому-нибудь воину, пришедшему сюда вместе с первыми Мендоса, чтобы охранять замок и совершать разорительные набеги на мавританские владения. Отсюда рождалось ощущение всеобщего равенства и собственного достоинства, что не противоречило тому любовно-почтительному отношению, которое бермехинцы проявляли к дому Мендоса – живому монументу общей былой славы.
Вдова дона Франсиско, донья Ана, хотя и была пришлой, жила в окружении самого заботливого внимания. Несмотря на возраст – ей было шестьдесят лет – и стесненное материальное положение, почтенная дама умело блюла высокую честь господского дома. Верховая лошадь ее покойного супруга содержалась в полном порядке в своей конюшне, где она и умерла от старости. В приемном зале заботливо хранились масляные портреты наиболее прославленных Лопесов де Мендоса; одни были изображены в блестящих доспехах, другие – со щитами из лосиной кожи, с пером в руках или с командорским жезлом; галерея придавала залу вид художественного салона. Старые слуги не увольнялись. И наконец, ни одна из охотничьих собак не была продана: все таксы, спаниели и борзые умирали естественной смертью, от старости, причем многие из них дали удивительные примеры собачьего долголетия.
Как раз собаки, и в первую очередь спаниели, явились причиной, вызвавшей прилив дружеского расположения к семье Мендоса. Спаниели – большие лакомки и воришки, и тем более если они содержатся на половинном или урезанном рационе. Вследствие этого спаниели Лопесов де Мендоса прославились в селении своей вороватостью и дерзкими набегами. Ни один хозяин не мог гарантировать безопасность хранящихся у него колбас, сосисок, ветчины, сала или мяса и никогда не мог на них рассчитывать. Несмотря на это, собачьи проказы встречались снисходительными улыбками, и никаких жестких мер, чтобы пресечь их, не предпринималось. Доказательством тому может служить история, приключившаяся однажды с матерью лавочника, сеньорой лет под шестьдесят, которая слегла в постель от нестерпимых болей в желудке. На живот ей положили несколько коричных бисквитов, смоченных в вине: в Андалусии часто применяют их в качестве домашнего лечебного средства. Запах бисквитов привлек спаниелей, а между тем больная была одна в комнате. И напрасно она отбивалась от них обеими руками. Не обращая внимания на протесты, спаниели бесстыдно стянули с нее одеяло и, вытащив без зазрения совести бисквиты из столь укромного места, полакомились сладким, ароматным компрессом. Соседи не успели помешать спаниелям принять это целебное снадобье внутрь. Зато могли лицезреть почтенную матрону в неподобающем и нескромном виде.
Надо сказать, что, несмотря на эти и другие проявления симпатии к донье Ане, симпатия эта несколько ослабевала из-за невольного, почти фатального недостатка нашей беспредельно вежливой сеньоры, который состоял в том, что при ее раздражительности, сдержанности и холодности трудно было входить с нею в близкие, доверительные отношения. Донья Ана сиднем сидела в своем доме-крепости, изредка принимала гостей, одаривая визитеров утонченным обхождением по всем правилам этикета.
Ее нельзя было упрекнуть в черствости или резкости, но в дружеские отношения она ни с кем не вступала, держалась замкнуто и недоступно.
В отместку за это некоторые дамы распространили злостные слухи о том, будто донья Ана была ведьмой, причем не какой-нибудь ведьмой-плебейкой с натираниями и полетами на шабаш, но ведьмой-аристократкой, которая принимает в своей гостиной чертей и неприкаянных душ высокого полета из благородных, в том числе и представителей рода Мендоса, вроде пленной мавританки или командорской жены-перуанки, с которыми она водит компанию.
II. На что я годен?
Пусть читатель не пугается названия этой главы: ни о каких богопротивных вещах я говорить не собираюсь. Я прекрасно понимаю, что в сложной и впечатляющей машине мироздания нет ни одной детали, которая не служила бы для какой-нибудь цели: все имеет свое назначение, все подчиняется совершенному порядку и всеобщей гармонии; чтобы убедиться в этом, достаточно сказать: мы видим потому, что у нас есть глаза, мы бегаем потому, что у нас есть ноги, или наоборот: потому что мы видим, у нас есть глаза, потому что мы бегаем, у нас выросли ноги и все остальное, что необходимо для бега. Даже такое понимание связи вещей и явлений дает достаточное представление о величии ниспосланных провидением законов. В доказательство можно привести следующий пример. Представим себе двух часовщиков. Один понаделал массу колесиков, каждому определил назначение и цель, подогнал одно к другому, отрегулировал их ход, завел механизм, и он стал показывать время, отбивая каждый час. Другой взял кусочек металла и вложил в него идею движения и намерение показывать и отбивать время; эта идея и намерение возбудили все частички, из которых состоит металл, сделали их нечувствительными ни к вибрациям, ни к встряскам, заставили их расположиться относительно друг друга таким образом, чтобы они показывали время стрелками, боем, а то и музыкой или криком кукушки. Какой же часовщик лучше?
Заложенное в атомах неодолимое и неистребимое стремление принять такой порядок, который породил бы живые существа, умеющие бегать и видеть, либо находит туманное и таинственное толкование в одном из самых неясных учений самой метафизической религии, либо объясняется наличием некой идеи, развитие которой порождает мир, волю и разум высшего порядка, не менее великие, чем воля и разум отдельного индивида; они же дают нам глаза, чтобы видеть, и ноги, чтобы бегать. Повторяю: наличие разума и воли, возникших от идеи, по существу, снимает тезис о том, что глаза появились, чтобы видеть, ноги, чтобы бегать, а крылья, чтобы летать: напротив, мы должны верить, что в материи изначально заложено страстное желание летать, которое дает птицам крылья, желание бегать, которое дает нам ноги, желание видеть, которое дает нам глаза.
К счастью, чтобы ответить на вопрос «зачем все это нужно?», нам не придется залезать в такие дебри. Вопрос этот часто задавала себе донья Ана, имея в виду своего единственного сына, наследника майората. Тот же вопрос задавал себе сын: «Зачем я нужен? На что годен?» – и не находил ответа.
Не думайте, что он был хром, глух, немощен или глуп, этот самый наследник майората. Его духовные и физические силы были в полном порядке. Он был крепок, силен, здоров, и ему едва исполнилось двадцать семь лет. Однако ни донья Ана, ни ее сын не могли отделаться от навязчивого вопроса о том, зачем он нужен, и по-прежнему не находили ответа.
Чтобы читателю все это стало более понятно, начну немного издалека.
Донья Ана была дочерью знатного дворянина из горного города Ронды. Достаточно сказать, что она принадлежала к знаменитому роду Эскаланте. Среди ее славных предков был один из основателей общества верховой езды[30]. Героические подвиги членов этого общества, их великие заслуги в войне за наследство[31], в обороне Гибралтара[32], в сражениях за Росельон[33], в войнах за независимость стяжали славу и членам семьи доньи Аны; заслуги их в этих деяниях были неоспоримы.
Хотя донья Ана родилась и выросла в далекой горной Ронде, она получила утонченное воспитание не только по испанским понятиям, но, если хотите, и по понятиям европейским.
Учителем доньи Аны стал скромный французский священник из тех, что в числе многих эмигрировали из революционной Франции. Он преподавал ей свой родной язык, кое-что из истории, географии и литературы и сделал из нее чудо учености. Во всяком случае, по сравнению с другими испанскими женщинами той эпохи.
Однако вся эта ученая премудрость оказалась малопригодной для какой-либо деятельности, и, когда ей исполнилось двадцать девять лет и возникла реальная угроза остаться старой девой, она уступила настояниям отца и братьев, страстно желавших пристроить ее, или, лучше сказать, избавиться от нее, и послушно вышла замуж за дона Франсиско Лопеса де Мендосу, который знатностью рода не уступал Эскаланте, был наследником майората, потомственным комендантом замка и крепости Вильябермехи, командором ордена Сантьяго и членом клуба верховой езды, как отец и все ее братья. Некоторые авторы утверждают, что Мендосы и Эскаланте уже до этого брака состояли в каком-то родстве, но для нашей истории это несущественно, и я опускаю подробности.
Донья Ана мужественно пошла навстречу судьбе, и, хотя бывала в Севилье и подолгу жила в Малаге и в Кадисе, она дала себя заживо похоронить в Вильябермехе. При этом – ни единой жалобы, ни малейшего намека на ту жертву, которую она принесла. Дон Франсиско, несмотря на свое дворянство, был груб, невежествен и вспыльчив. Терпением и кротостью донье Ане удалось немного обуздать его, отесать и цивилизовать. Между нами говоря, донья Ана не питала к своему мужу любви, если под любовью понимать некое возвышенное, поэтическое чувство, но зато ею владело высокое чувство долга, и она блюла честь мужа с истинно патрицианским достоинством. Словом, это была образцовая супруга. Однако два существенных обстоятельства заставляют несколько умерить наши похвалы чете Мендоса. Первое заключалось в том, что гордость доньи Аны, хотя и скрытая за внешней вежливостью, не позволяла ей относиться с должным уважением даже к своим родственникам, не говоря уже о прочих бермехинцах. Второе состояло в том, что дон Франсиско бешено ревновал свою жену, отличался подозрительностью и был, что называется, всегда начеку. Можно быть уверенным, что если бы дон Франсиско хоть что-нибудь заметил за нею, то месть была бы пострашнее, чем месть кальдероновского Тетрарки[34] или шекспировского Отелло.
Если донья Ана не заслуживала особой похвалы как любящая жена, то она заслуживала ее без всяких скидок и оговорок за то чувство привязанности, которое рождается постоянным общением, за ту доверительность отношений, которая возникает при совместной жизни, за ту нежную дружбу, добровольное подчинение мужу, которое она испытывала и проявляла в его присутствии, ухаживая за ним, когда он болел, утешая, когда был расстроен, умеряя гнев, когда был раздражен, разделяя его радость, когда он радовался.
Скука, эта прилипчивая, ужасная и коварная болезнь, часто поражающая женщин, была ей незнакома, ибо она хорошо умела занять свое время. Хотя она была воспитана на чтении Расина, Корнеля и Буало, ее привлекали и восхищали испанские поэты-консептисты[35], и в первую очередь Гонгора[36], Кальдерон и даже Монторо и Херардо Лобо[37]. Ее любимыми прозаическими произведениями были «История Испании» Марианы[38], сочинения преподобного Палафокса[39], «Всеобщее критическое обозрение» и «Ученые письма» Фейхоо[40].
Она всегда была занята делом: если не читала, то шила или вышивала, занималась домом, где чистота и порядок скрашивали убогость обстановки и рассеивали впечатление тоскливого запустения.
После смерти дона Франсиско на ее долю выпала нелегкая обязанность – воспитание единственного сына. Пока отец был жив, обучение велось по трем дисциплинам: верховая езда, стрельба из мушкета и прочие телесные упражнения. Когда дон Франсиско умер, мальчику было двенадцать лет, а он уже достаточно преуспел во всех этих занятиях.
Управляющим домом был старый слуга Респета. За величайшую уважительность, с которой он относился ко всему, что касалось до его хозяев и которой он требовал от других, его стали называть Уважай-Респета и его сына – Уважай-Респетилья, хотя он не проявлял достаточного уважения к хозяйскому добру и не старался привить его другим. Респетилья был на шесть-семь лет старше наследника майората и в одном лице сочетал роль наперсника, оруженосца, слуги, няньки и наставника своего господина. Он научил наследника майората играть в орлянку, в карты, в лунку, бренчать на гитаре, петь душещипательные и веселые песни и рассказывать анекдоты. Донья Ана, в свою очередь, преподавала сыну историю. Больше всего его увлекала история Греции и Рима. Когда он не играл в карты или в орлянку, то мечтал: он воображал себя Сципионом, Милькиадом, Гаем Гракхом или Эпаминондом, о которых знал по испанскому переводу книги мосье Роллена[41].
После смерти мужа донья Ана взяла сына под свой надзор, не желая уступать воспитание своего отпрыска Респетилье. Однако было уже поздно отстранять Респетилью и выкорчевывать из ума и сердца славного наследника майората все пороки и скверные привычки, свойственные деревенским сорванцам. Донья Ана вынуждена была довольствоваться попытками привить, скажем так, деревенскому сорванцу знания и чувства, которые сделали бы из него просвещенного человека и образцового кабальеро.
Так как дон Франсиско, несмотря на свою кастовую спесивость, был «черным», то есть принадлежал к отчаянным либералам, не любил Носача – так он называл Фердинанда VII, – он не мог спокойно думать о том, чтобы отдать мальчика в военное училище и готовить к придворной службе. Донья Ана полностью разделяла мнение своего благоверного, ибо обожала сына и не хотела с ним расставаться. Полагая также, что ему будет вполне достаточно доходов от майората, она не видела причины, почему он должен служить, тем более – думала она – что ни Эпаминонд, ни Гай Гракх, ни братья Сципионы никогда не были кадетами. Карьера военного казалась ей слишком прозаичной, а погоня за каким-то генеральским чипом – даже смешной; герои древности были ораторами, политиками, воинами, крупными помещиками: они то опоясывались мечом, то брались за перо, то облачались в тогу, то надевали кольчугу и шлем. Таким хотела видеть донья Ана своего сына и, хотя он был у нее один, считала, что он стоит двух, и воображала себя Корнелией[42].
Мечтая таким образом, донья Ана все же понимала пользу, которая могла происходить от какого-нибудь занятия, и по зрелом размышлении остановилась на карьере адвоката, но не затем, однако, чтобы сын зарабатывал на хлеб составлением прошений, а затем, чтобы он изучил законы и мог изменить законодательство, если это потребовалось бы в интересах родины.
Наследник майората с помощью местного учителя так хорошо изучил латынь, что мог свободно переводить жизнеописания Корнелия Непота[43]. Затем он поступил в соборную семинарию в главном городе своей провинции, где изучал философию у отца Гевары и всегда получал отличные отметки. Наконец он поступил в Гранадский университет по факультету права, где ему жилось весьма вольготно, так как в связи с разразившейся карлистской войной[44] здесь не было больших строгостей. По этой причине большую часть университетского года наследник майората проводил в Вильябермехе. Потом пришли экзамены, которые он благодаря снисходительности профессоров хорошо выдержал.
Во время поездок наследника в Гранаду его сопровождал Респетилья, и жили они там на широкую ногу. Иногда наследник приезжал в город на своей лошадке и держал ее там, чтобы иногда можно было покрасоваться перед публикой. Надо сказать, что в то время жизнь в Гранаде была очень дешевой, недаром Гранаду называли грошовым городом: за двадцать реалов в день можно было иметь комнату, стол, постель и полную обслугу, вплоть до ухода за лошадью.
Но и при таких расходах его считали расточительным, ибо студенты за полный пансион обычно платили не больше шести-семи реалов в день. За шесть реалов опрятная, миловидная хозяйка предоставляла завтрак, обед, ужин, постель, свет, воду и тысячу других удобств.
Наконец отпрыск славного рода Мендоса окончил университет, получил диплом лиценциата, а затем и доктора in utroque[45]. Донья Ана справила ему роскошную мантию и смастерила чудесную кисточку для шапочки.
Лучший гранадский миниатюрист за шесть дуро написал на белом мраморе портрет наследника майората в мантии и в шапочке. Когда наследник, став доктором, вернулся в объятия матери, то привез ей в подарок портрет, вставленный в рамку черного дерева с бронзовыми украшениями. С того времени как наследник майората, которого звали Фаустино, сделался еще и доктором, его стали величать доктором Фаустино.
Фаустино получил степень доктора в 1840 году. Он вернулся домой, начиненный иллюзиями и горя желанием отправиться в Мадрид, чтобы воплотить их в жизнь. К несчастью, его ученые познания были весьма расплывчаты, так же как и его иллюзии. Доктор знал много и ничего не знал толком. Он знал все, кроме законов, хотя они-то и должны были составлять основу его учености.
Ученая степень была чистой фикцией. «Зачем она нужна?» – спрашивали мать и сын. Не мог же он, дон Фаустино Лопес де Мендоса-и-Эскаланте, потомственный комендант крепости, командор ордена Сантьяго, член клуба верховой езды, потомок вереницы героев, приехать в Мадрид и пойти практикантом к какому-нибудь адвокату. Донья Ана и сам доктор признавали, что адвокатура – почтенное занятие; они знали, что Цицерон и Катон были римскими законоведами. Словом, никаких основательных доводов против профессии адвоката у них не было, но вместе с тем барская спесь, оказавшаяся сильнее разума, буквально кричала: «Дон Фаустино не будет адвокатом!» Кроме того, дон Фаустино чувствовал в себе достаточно сил и знаний, чтобы изобрести новые законы, но у него не хватало терпения, чтобы изучить во всех деталях и подробностях законы, составленные другими.
«Может быть, все же поехать в Мадрид и найти там какое-нибудь занятие?» – спрашивал себя дон Фаустино. Но к лицу ли служба знатному дворянину, командору ордена Сантьяго, да еще и доктору? Степень доктора мать и сын очень высоко ценили. Не стыдно ли домогаться должности с жалованьем самое большее десять тысяч реалов? Ведь тогда он растворится в толпе плебеев или даже окажется ниже тех самых голодранцев, которые, не будучи ни докторами, ни комендантами, ни командорами, могут получать больше его и занимать более высокий чиновничий пост. Может быть, вступить на административную стезю по министерству юстиции? Но чего он там добьется даже при протекции министра и ценой унижений перед ним? Должности прокурора или – в лучшем случае – председателя суда? Нет, это не для него. Он согласился бы на должность советника – не меньше. Но тогда нужно отправляться в провинцию. А коли так, то лучше уж оставаться в своей деревне, где у него родовой дом рядом с замком, комендантом которого он является, где имя его почитается, где люди с уважением взирают на его гербы, где он мог бы стать – если бы судьбы мира не изменились столь резко – полным властелином, чиня над своими подданными суд и расправу, раздавая им милости и награды.
Может быть, заняться литературой? У него есть к этому наклонности. Но можно ли в Испании жить литературным трудом? В этом отношении дон Фаустино разделял мнение Алфьери[46] – писателя, почти равного ему по происхождению. Поэт, изображающий идеальную красоту в чувственных формах, ученый, открывающий людям истину, не могут думать о вознаграждении и не должны искать покровителей среди вельмож или домогаться признания черни. Домогаясь покровительства, они неизбежно попадут в сервильную зависимость, будут профанировать искусство, позорить высокое звание художника и превратятся в низких льстецов, подлаживающихся к вельможам и к толпе. Подумал он и о том, что, унижаясь и подлаживаясь под вкусы толпы и меценатов, он, конечно, обретет читателей и они станут ему платить за то, что он пишет. Из этого двусмысленного положения он выйдет так: будет писать для грядущих поколений и не станет подделываться под сиюминутные требования, вкусы, моды или капризы. Но так как от грядущих поколений платы не дождешься, то он соглашался с Алфьери в том, что хлеб насущный можно добывать механической работой, а писать надо не для экономических выгод, но для бессмертия.
Не раз ему приходила в голову идея сделаться журналистом. Он считал, что это будет хорошей школой, которая позволит ему разом стать и государственным деятелем и писателем. Но ведь ему придется потакать прихотям своевольного издателя, который непременно окажется грубияном, неучем и невеждой. И кроме того, неужели он, комендант замка и крепости, рыцарь ордена Сантьяго, отпрыск древнего рода, имеющий тысячу заслуг и званий, позволит какому-то шарлатану, у которого завелись деньжата, подкупить его за двадцать-тридцать дуро в месяц и заставить писать то, что подходит какой-то газетенке? Но прежде чем он будет принят в редакцию, ему придется пройти испытательный срок (доктор приходил в ужас и вздрагивал при одной этой мысли), корпя над переводами, разбором иностранной корреспонденции, вырезывая дурацкими ножницами дрянные статейки из чужих газет, подклеивая вырезки при помощи полос от почтовых блоков и собственной слюны. Нет, занятие журналистикой не для доктора Фаустино.
Над всем этим мать и сын раздумывали несколько месяцев, судили и рядили, кем мог бы стать доктор, чему он должен посвятить себя, на что годен, и не находили решения. Однако оба сходились на том, что доктор Фаустино все может – лиха беда начало. Но для начала нужны деньги. Эти дорожные деньги для первых шагов к славе, для того, чтобы подняться над толпой и обнаружить перед всем миром свои таланты, как раз и трудно было раздобыть.
Ехать в Мадрид без средств было рискованно. Не мог же доктор полагаться только на бога и надеяться на то, что в редакции газеты, в министерстве или в конторе адвоката ему помогут деньгами, пока он не выбьется в люди.
Имение семьи Мендоса давно было расстроено. Дон Франсиско своей бесхозяйственностью совсем его разорил.
Хотя дон Франсиско любил и уважал донью Ану, рыцарские страсти, а может быть, и мужское тщеславие вовлекли его в любовные отношения с некой нимфой по прозвищу Бусинка, а позже с другой нимфой, по прозвищу Гитара. Ни Гитара, ни Бусинка не ходили в браслетах, не носили жемчугов и бриллиантов, не шили платьев у дорогих портных, не разъезжали в каретах, но у каждой из них была куча родственников – дяди, тети, братья, сестры, племянники, и все они тянули из имения вино, масло, колбасы, мясо, зерно. Кроме того, Бусинка и Гитара довольно хорошо одевались по местным понятиям. Все это, конечно, поглощало много средств.
Дорого обходились и прихоти дона Фаустино во время его пребывания в Гранаде, где он имел постоянное место в театре, играл и проигрывал в карты, заказывал себе не только фраки и сюртуки, но сшил у лучших портных несколько щегольских нарядов и две униформы: костюм для верховой езды и форму офицера конных копейщиков национальной милиции. Офицерская форма стоила безумных денег, ибо была очень замысловата и живописна. Чтобы раздобыть средства, пришлось изворачиваться.
Когда готовилась экспедиция Гомеса[47] в Гранаду и были стянуты части национальной милиции, командующий сделал дона Фаустино своим флигель-адъютантом; таким образом, к униформе прибавилась полевая сумка, свисавшая на блестящих ремнях. Сумка была сделана из коричневой лакированной кожи и блестела как зеркало. Бесчисленные шнуры и масса золотых позументов выглядели весьма эффектно и стоили дорого. Польский кивер с ослепительно-белым плюмажем, устрашающего вида сабля и копье на плечевом ремне тоже стоили немалых денег.
Дон Фаустино не мог не знать, что костюм для верховой езды, оба щегольских платья, состоящие из куртки с многочисленными украшениями и кафтана, сияющего всеми цветами радуги, башмаков из телячьей кожи, изготовленных искусными мастерами-арестантами Малаги, штанов с золотыми застежками работы кордовских умельцев, не были в большом ходу в то время и производили странное впечатление на мадридцев, но он должен был также знать, что на эти наряды истрачена уйма денег, а он читал у какого-то экономиста, а если не читал, то мог бы и сам сообразить, дойти своим умом, что деньги необходимы человеку с того самого момента, когда человек начинает жить в обществе.
У дона Фаустино эта нужда в деньгах увеличилась с того момента, как он стал готовиться к переезду в Мадрид, где жить было труднее, чем в провинции. Там имело значение, как и в чем будет появляться в свете наследник майората дон Фаустино Лопес де Мендоса. Тем более что в аристократические салоны его будут вводить как своего родственника маркизы, графини, подруги и родные его матери.
Мать и сын подумывали иногда, не поехать ли дону Фаустино в Мадрид инкогнито: скрыться под чужим именем, а потом, когда у него заведутся деньги или он сделает блестящую карьеру, отличится чем-нибудь, что-нибудь сочинит и опубликует, он сможет объявить свое настоящее имя. Однако эта дерзкая идея была оставлена как неосуществимая.
Ехать в Мадрид под своим именем было не меньшей дерзостью, но нужно было дерзать. Вино, главное богатство имения, стоило дешево: песета за арробу. При таких доходах трудно быть комильфо. При самой строгой экономии расходы в столице составят огромную сумму в восемьдесят дуро ежемесячно. Восемьдесят дуро – это значит четыреста песет, то есть четыре бочонка вина, а в год – сорок восемь бочонков, или около пяти тысяч арроб, – целое море первосортного вина, весь годовой урожай, причем урожай хороший. Если все это будет истрачено в Мадриде, то из чего же платить налоги? Как рассчитываться с рабочими? Как погасить огромные проценты по закладу недвижимого имущества? Hic opus, hie labor est[48], как сказал Вергилий.
И все же дон Фаустино не отказался от поездки в Мадрид: он готов был пуститься в плавание по бурному морю и одолеть все трудности, твердо веря, что завоюет – хотя и не знал, как это сделает, – славу, богатство и всеобщее признание. Мысль о том, что многие добивались успеха с еще более скромными средствами, подстегивала его самолюбие. Ни один из видов амбиции не был ему чужд, и он чувствовал себя как бык, искусанный оводами.
В ораторском искусстве он надеялся превзойти простака из Афин Демосфена[49], ибо сам в совершенстве владел всеми красотами стиля, которые так ценятся в наш век риторики.
И действительно, никто так ловко не умел подражать своему университетскому учителю – лучшему оратору Гранады – в составлении судебных речей. Выступления учителя по процедурным вопросам гражданского и уголовного права были насыщены умопомрачительными по красоте и образности оборотами. Судите сами: «Господа, – говорил он, – обычное гражданское право – это кристально чистый ручеек, берущий начало в благодатном гроте права любой личности. Он тихо несет свои воды по прелестной долине, покрывая ее изумрудной эмалью, и счастливо достигает своей цели, оплодотворяя древо абсолютного права. Напротив, исполнительное производство – это бурный поток, который, срываясь с высокой вершины неумолимых судебных действий, все сметает на своем пути и низвергается в глубокий ров, опоясывающий, защищающий и делающий неприступной крепость священной собственности». Выступая в судебных заседаниях, он был особенно красноречив. Дидактические цели не могли умерить его порыв, прервать полет, и он устремлялся в заоблачные выси, ловко комбинируя образность с патетикой. Об одном своем клиенте, когда-то богатом человеке, ставшем по необходимости парикмахером, он высказался так: «Этот несчастный, видя, как тонет его состояние, вынужден был ухватиться за черенок бритвы». Эта фраза вызвала аплодисменты публики и даже слезы. Хотя дон Фаустино не был склонен по природе своего ума к подобным метафорам и красивостям, все же чувствовал, что если постарается, то сможет затмить своего учителя.
Поэзия была больше всего по душе дону Фаустино. Он жил в эпоху романтизма и был яростным романтиком. Все его стихи были пронизаны отчаянием и личными мотивами, то есть говорил он только о себе. Наш поэт не сочинил ни одной поэмы, ни одной драмы, но был способен настрочить целые тома Фантазий, Размышлений, Стенаний, Восточных мотивов и Фрагментов. По его словам, форма мало его заботила, главное для него было мысль и страсть, но все же он напридумывал много редких и неожиданных рифм, смело комбинировал размеры: иногда в одном стихотворении у него чередовались односложные, двухсложные, трехсложные и даже двадцатисложные размеры, потом он снова возвращался к односложным и т. д., отчего стихи получались разнобойными, со странной, замысловатой архитектоникой. Однако, обладая критической жилкой и будучи строгим к себе, он обращал критику и против себя. Конечно, он считал себя способным стать сверхпоэтом, поэтом-гением – тут и говорить нечего, – но все же критический разбор собственных стихов давался ему легче, чем проникновение в потемки собственной души. К чести бедняги доктора нужно сказать, что он сильно сомневался в достоинствах уже созданных им стихотворений.
Несмотря на приверженность к романтизму, в нем сидел этакий нудный, педантичный классицист вроде Моратина Младшего[50], который жужжал ему прямо в ухо и сбивал с толку: «Ах, друг мой Пипи! Лучше уж быть официантом в кафе, чем дрянным поэтом». Может показаться невероятным, но наш доктор ни в грош не ставил свои вирши и не спешил их публиковать, не будучи уверенным в их достоинствах и надеясь, что создаст когда-нибудь настоящие стихи.
Только одна строка, которую он часто повторял про себя, была достойна его таланта: «Я чувствую, как в голове моей зажегся хаос!» Страшное признание! Фраза эта отражала ужасный хаос докторских идей и мыслей.
Иногда ему казалось, что он ровно ничего не знает, ничему не научился и вообще ни на что не годен: не мыслитель и не практик. Но чаще он думал иначе: думал, что все познал, все понял. Однако это его не радовало, а скорее угнетало.
Неужто я все познал, и книги больше ничему меня не научат? Неужели все, что я читаю, вздор? Может быть, между знанием и незнанием нет разницы? Может быть, все, что я знаю, это только отзвук, эхо, проявление того, что уже заложено в моем сознании? Значит, писатель всего только переиначивает по своей методе существующую концепцию мира. Выходит, я знал эту концепцию до того, как прочел о ней в книгах. Но я как раз жажду узнать то, чего не могу найти в книгах.
Всякий раз, когда мысли принимали подобный оборот и ему казалось, что он уже наполнен до краев, перенасыщен знаниями и они ему обрыдли, его охватывало страстное желание общаться с высшими существами, знающими больше простых смертных, и уже с их помощью проникнуть в тайны видимого и невидимого мира.
Доктор Фаустино считал себя таким благородным и важным, что не мог объяснить, почему духи относились к нему столь пренебрежительно, и чувствовал себя оскорбленным. Однако духи действительно не откликались на его заклинания и не общались с ним. Можно было подумать, что доктор помешался. Но нет: он не был безумцем, хотя часто пребывал в состоянии крайнего возбуждения.
Отрешившись от беспочвенных спекуляций, он снова возвращался на землю и начисто забывал о всякой чертовщине, ибо не верил, что найдется какой-нибудь другой дьявол-простофиля вроде Мефистофеля, который просто так, задаром предоставит деньги, удовольствия, славу, богатство и любовь ему, Фаустино, почти тезке знаменитого Фауста. Он хотел достигнуть всего этого сам, не надеясь ни на черта, ни на дьявола, ни на науку, ни на поэзию, а рассчитывая только на житейскую изворотливость. В глубине души он презирал ее, но в то же время его угнетало сомнение: хватит ли у него этой изворотливости?
Чтобы избавиться от этого сомнения и поверить в свои силы, ему нужно было поехать в Мадрид; оставаться дольше в Вильябермехе было невозможно. Доктор часто разговаривал об этом с матерью.
– Какие же у тебя планы? – спрашивала почтенная сеньора.
– Никаких.
– Хочешь заняться адвокатурой?
– Ни за что.
– Может быть, выгоднее избрать карьеру журналиста или поступить на службу?
– Тоже не годится.
– А поэты зарабатывают что-нибудь?
– Не знаю, могу ли я стать настоящим поэтом, но даже лучшие поэты зарабатывают мало либо совсем ничего не зарабатывают.
– Впрочем, чтобы заниматься поэзией или прозой и составить себе имя, можно и не уезжать отсюда. Не так ли?
– Разумеется, – соглашался доктор.
– Тогда оставайся здесь, не покидай меня одну. Я так тебя люблю.
И доктор уступал уговорам и просьбам матери. Он понимал, что в Мадриде весь его капитал испарится за каких-нибудь полгода и тогда хоть милостыню проси. Думая об этом, он опускал голову и печально улыбался.
Оставшись один, Фаустино спрашивал себя: «На что я годен?» и приходил к заключению, что, кажется, он ни на что не годен.
Мать, оставшись наедине с собой, рассуждала примерно так: «Мой сын прекрасен телом и душой, он мил, любезен, у него большие способности (это я говорю не потому, что он мой сын), но он такой странный, такой фантазер. На что он годен? Боюсь, только на то, чтобы терзаться сомнениями».
III. План доньи Аны
Прошел год после того, как Фаустино получил степень доктора. Год прошел в мечтах о Мадриде, но он все не ехал, ибо средств по-прежнему не было. Целый год был заполнен диалогами и монологами вроде тех, что мы приводили в предыдущей главе.
Мантия, шапочка с кисточкой и прочие знаки докторского отличия, роскошная униформа офицера копейщиков и не менее роскошный костюм члена клуба верховой езды томились в шкафу, где им грозила опасность быть траченными молью. В том же положении пребывали сюртуки и фраки; щегольские наряды висели втуне, ибо доктору некуда было ходить, незачем наряжаться. Будучи человеком опрятным, он проявлял, однако, полное небрежение к одежде и ходил в платье, которое мало приличествовало доктору и аристократу: он носил куртку, широкополую шляпу, а зимой еще и плащ.
К беднякам он относился мягко, сострадательно, любезно, и мелкий люд отвечал ему на это своей любовью. Зато местные богатеи ненавидели его и позволяли себе насмехаться над ним. Он не наносил им визитов, не посещал казино, ни одна хорошенькая девушка не слышала из его уст любовного признания.
Больше всех его ненавидели дочери нотариуса – две девицы, мнившие себя красавицами и аристократками. Выражаясь по-местному, они много о себе понимали. Их отец, дон Хуан Крисостомо Гутьеррес, был очень богат, ибо, получая недурное жалованье, промышлял ростовщичеством. Обе дочери, Росита и Рамонсита, выглядели настоящими принцессами. Они выписывали себе дорогие наряды не только из Малаги, но и из Мадрида. На людях они вели себя так важно, с таким апломбом, что когда в селении обосновался наряд гражданской жандармерии, то обыватели за неимением лучшего образца для сравнения – кто же может быть более импозантным и почитаемым, чем жандарм? – дали обеим дочерям общее прозвище Жандарм-девицы, под которым они известны и по сию пору.
Жандарм-девицы безудержно злословили по поводу несчастного доктора: называли его достославным Пролетарием и доном Нищим, а ввиду того, что от его адвокатского звания не было проку, – Холодным Адвокатом.
Доктор никогда не появлялся на прогулках, которые совершались на площади, а предпочитал шататься в одиночестве по безлюдным дорогам и тропинкам. Особенно он любил забираться на холм Аталайю, где находились развалины древней сторожевой башни. Оттуда открывался прекрасный вид на поля, тянувшиеся до самого горизонта. Каменистый холм был почти лишен растительности, если не считать чахлых кустиков дрока, розмарина и тмина. В расселинах камней кое-где пробивались дикие ирисы, какие-то темно-лиловые цветы с одним-единственным лепестком – их называют здесь светильниками – и спаржа. Это дало повод Жандарм-девицам для нового прозвища: они стали величать доктора граф Спаржа Аталайский.
Нашлись люди, которые поведали ему об этом, но доктор был неуязвим и даже не удостоил насмешниц ни улыбкой, ни ответной шуткой. Он был целиком поглощен своими невеселыми думами и заботами – философского свойства и чисто практического.
Его философские размышления сводились к тому, что он познал все, что человеческое знание – пустяк, что прочти он хоть миллион книг – ничего не изменится. Он мечтал о том, чтобы обрести спокойствие духа. Но этого можно было достигнуть в любом месте: в Вильябермехе, в Париже, в Лондоне. Таким образом, мысль о поездке в Мадрид сама собой отпадала.
Однако, поскольку он этого не достиг, все желания, томления, вожделения, свойственные молодому человеку в двадцать с небольшим лет, завладели его сердцем и побуждали ехать в Мадрид. Жажда любви, удовольствий, честолюбивые мечты, стремление прославиться, стать знаменитостью, снискать благосклонность и любовь прекрасных дам, блестящие салоны, где он привлекает всеобщее внимание, таинственные будуары, двери которых завешены роскошными фламандскими коврами, аплодисменты, которыми публика встречает его великолепные стихи и речи, достойные его гранадского учителя, восхищение кавалеров и дам при виде того, как он гарцует в Прадо на горячем скакуне, – эти и тысячи других картин проносились в его голове и выбивали из привычной колеи. Унизительная бедность рушила воздушные замки. И доктор чувствовал себя несчастнее самого принца Сихисмундо[51]. Действительно, видеть себя запертым в Вильябермехе из-за постыдной бедности было еще более унизительно, чем оказаться в клетке по злой воле отца-тирана. Уединившись у себя в доме или спрятавшись от людей на холме, в зарослях спаржи, дарованных ему дочерьми нотариуса, он читал, вникал в смысл и упивался горечью прекрасных децим:[52]
- Живее! Бог мой, я намерен…[53]
«Как жаль, – думала донья Ана, – что мой сын не может подавить в себе честолюбивые желания и навсегда остаться подле меня. Разве будут его любить больше, чем я? Разве станут его так же уважать и почитать, как уважают и почитают его наши верные старые слуги и эти несчастные, но честные поденщики? Ну, где еще он услышит такие ласково-почтительные и искренние слова: «Да хранит вас бог, хозяин», «Благослови вас бог за вашу доброту, сеньорито». И его доброе «с богом, друзья мои» завоюет ему здесь большую любовь, чем все речи, стихи и романсы, которые он сочинит в Мадриде. Правда, чего ему здесь не хватает?» Так рассуждала донья Ана и по-своему была права. Родовой дом только снаружи выглядел мрачной развалиной, зато внутри было просторно и удобно. Донья Ана располагалась во втором этаже, доктор жил совершенно отдельно – в нижнем.
Здесь был просторный зал; вдоль стен стояли старинные кресла орехового дерева, обитые тисненой кожей и украшенные бронзой; на стенах висели золоченые канделябры, портреты славных предков, писанное маслом родословное древо; посередине располагались жаровня из блестящей латуни и стол, уставленный ароматницами, кувшинами и китайскими вазами. Другой зал предназначался для гимнастических упражнений. На полу лежал мат, с потолка свисала трапеция, в одном углу можно было видеть учебные сабли, рапиры, проволочные маски, панцири, латные рукавицы, в другом – охотничьи сапоги, гири для выжимания.
Третий зал был отведен под библиотеку и кабинет для занятий. Несколько шкафов крашеного дерева были заставлены книгами разного содержания и происхождения. Те, что привез с собой из Франции продавшийся дьяволу командор Мендоса, неприкаянная душа которого обреталась на чердаке, были нечестивыми: Вольтер, энциклопедисты и прочие. Те, что служили для образования и воспитания доньи Аны, приобретенные большей частью у французского священника, были своеобразным противоядием вольнодумным книгам командора Мендосы. Тут можно было найти благочестивые сочинения Бержье и других защитников церкви, произведения Фенелона, Массильона и Боссюэ[54]. Отдельно хранились книги по юриспруденции и огромное количество томов испанских авторов, от знаменитых «Посланий» епископа из Мондоньедо[55] до великолепных стихов священника Фруимского[56], и, наконец, книги по медицине, химии, физике и другим естественным наукам, которые доктор купил у вдовы ученого медика, умершего от холеры в 1834 году.
В спальне у доктора стояла еще одна полка; здесь были любимые поэты: от Гомера до Соррильи, Эспронседы и Ароласа[57].
В нижнем этаже была комната, где доктор проводил большую часть времени, особенно зимой. Она называлась нижней господской кухней, но не потому, что в ней что-то готовили, а потому, что там стоял огромный камин с пирамидообразным кожухом. Камин был так велик, что в него можно было одновременно запихнуть целое бревно, множество жмыха и несколько охапок сухой виноградной лозы, что часто и делал доктор. Стенки сильно выступали вперед, и по обеим сторонам камина удобно размещались кресла с подлокотниками. В одном из них доктор проводил долгие часы за чтением или просто размышляя. Тут же был стенной шкаф, дверца которого откидывалась сверху вниз и, опираясь на подставки, образовывала подобие конторки, куда можно было положить бумагу, книги, поставить чернильницу.
В другое кресло обычно усаживалась донья Ана, когда хотела поболтать с сыном. Общество дополняли стареющие спаниели, борзые и гончие, располагавшиеся у очага полукругом.
Кухня была не лишена своеобразного очарования: деревенская простота сочеталась здесь с некоторой изысканностью. На кожухе камина красовался герб рода Мендоса. На одной стене висело несколько клеток с певчими птицами, на другой – мушкеты, охотничьи ножи, пистолеты и другое оружие, и повсюду – головы оленей, лисиц, волков и куниц. Чучела не отличались хорошей выделкой. Это свидетельствовало о том, что здесь висели охотничьи трофеи, а не украшения, купленные в лавке.
Все это доставляло удовольствие владельцу, а между тем он рвался в Мадрид. Но разве в захудалой гостинице он может рассчитывать на такую роскошь и комфорт!
Несмотря на свою бедность, хозяева ели совсем недурно. На рынок, слава богу, ходить надобности не было, в доме в изобилии имелись продукты земледелия и животноводства: старое доброе вино, сочные окорока, колбасы, сосиски, вяленое мясо и горы другой снеди, заготовленной доньей Аной. В их хозяйстве были две голубятни: одна – в башне родового дома, другая – на ферме; на той же ферме стояло несколько десятков ульев с душистым медом, росло множество плодовых деревьев, на скотном дворе резвились куры, индюшки, утки, выкармливаемые отходами пшеницы и прочим зерном.
Все это, несмотря на долги и материальные затруднения, содержалось в полном порядке благодаря бережливости, экономии и зоркому глазу доньи Аны. В доме ничего не пропадало даром: ветхую мебель не выбрасывали, старые матрасы, простыни, одеяла и полотенца чинили и латали, увеличивая срок их службы. Донья Ана немало трудилась, чтобы подольше сохранить белье, и не жалела благоухающей лаванды. И все же доктор жаждал покинуть дом и отправиться на поиски приключений.
Всю зиму донья Ана думала об этом, вела деятельную переписку, не посвящая в нее сына. Наконец однажды вечером – это было весной, когда мать и сын были одни в зале со старинной мебелью, портретами предков и картиной, изображавшей родословное древо, донья Ана обратилась к сыну со следующими словами:
– Послушай меня внимательно: я хочу говорить с тобой о весьма важном деле.
Доктор, устроившись в кресле против матери, приготовился слушать с почтительным вниманием.
– Я с горечью замечаю, что ты несчастлив здесь со мною, и очень от этого страдаю. Конечно, тебе здесь покойно и удобно, но нет того, что могло бы удовлетворить твое честолюбие, жажду славы и любви. Я не упрекаю тебя за то, что ты хочешь меня оставить. Это естественно. Но согласись: ехать в Мадрид без гроша в кармане было бы чистым безумием. Когда говорят «бедность не бесчестье, но болезнь похуже проказы», то желают сказать этим, что жестокая нужда может толкнуть даже благородного и порядочного человека на низкий поступок, чего я, разумеется, не пережила бы. Поэтому я нашла средство. Ты можешь ехать в Мадрид без риска окончательно там разориться и погибнуть.
– Какое же это средство? – взволнованно спросил доктор Фаустино.
– Сейчас объясню, – отвечала мать. – Тебе известно, что в городе ***, в четырнадцати лигах отсюда, живет моя горячо любимая кузина, донья Арасели де Бобадилья. Хотя ей за шестьдесят, все зовут ее барышня Бобадилья. Это потому, что она не нашла в свое время жениха, достойного ее руки и сердца. Твоя тетка живет на широкую ногу: дает балы, устраивает в деревне корриды по случаю ярмарок и празднеств. Не позже, чем через неделю, ты получишь от нее приглашение на один из таких праздников и можешь пробыть там, сколько тебе вздумается.
– Какая же мне выгода гостить у тетки и присутствовать на празднике?
– Имей терпение: сейчас все объясню. У барышни Бобадильи есть брат дон Алонсо, владелец богатого майората. Он хороший хозяин и сумел увеличить доходы благодаря разумной обработке земли и успехам в разведении скота. Дон Алонсо живет в том же городке, что и Арасели; лет пятнадцать тому назад он овдовел; у него есть восемнадцатилетняя дочь Констансия, красавица и умница выше всяких похвал, к тому же она так добра, добродетельна и скромна, что даже злые языки ее хвалят.
– Ну и что же?
– Скажу без обиняков. Я договорилась насчет твоей женитьбы. Отец ее боготворит, а у него миллионное состояние.
– Значит, вы хотите сделать из меня Кобурга?
– А почему бы и нет? У тебя будут деньги, которые дадут тебе крылья. Ты поднимешься так высоко и так высоко вознесешь свою жену, что она никогда не пожалеет, что дала тебе эти крылья. Девушка знает тебя по портрету, где ты выглядишь так славно в мантии и в шапочке. Кузина Арасели, которая показывала ей портрет, пишет, что ты ей очень понравился.
– Я рад, матушка, очень рад, но понравится ли она мне?
– Ты познакомишься с ней, присмотришься. Тебя никто не неволит. Еще ничего не решено. Возможно, дону Алонсо кое-что известно о наших планах, но он делает вид, что ничего не знает. Вы еще не обручены. Вы увидитесь, познакомитесь и, если не понравитесь друг другу, расстанетесь – тоже не беда.
– Да, но я потеряю время, силы, деньги на поездку, – возразил доктор. – Может быть, отказаться, пока не поздно?
– Но я обещала, что ты приедешь. Так что не подводи меня.
– Если вы обещали, я еду. Ничего не поделаешь.
– Ну вот и хорошо. Я предчувствую, что ты, как мальчишка, влюбишься в Констансию. О ней я не говорю: Арасели пишет, что она горит желанием увидеть тебя. Верный признак, что готова к свадьбе.
– Если Констансия мне приглянется и если она так богата, как ты говоришь, то мы поладим.
Поскольку в том городке, куда ехал Фаустино, не было университета, знаки докторского отличия – мантия и шапочка с кисточкой – были ему не нужны.
Наступил день отъезда. Мать и сын нежно обнялись и простились. Доктор отправлялся на своей лошадке, украшенной богатой сбруей. На нем было дорожное платье: куртка, брюки с кожаными леями, широкий пояс. Респетилья, исполнявший роль оруженосца, ехал на сером муле и одет был чуть похуже. Шествие замыкал другой слуга с тремя мулами, запряженными цугом, навьюченными багажом и массой подарков для доньи Арасели и для самой доньи Констансии: тут было ореховое печенье, миндальные пирожные, слоеные пирожки, домашняя пастила, фруктовые соки в бутылках, залитых сургучом, виноградный сироп, рыбьи паштеты, компот из айвы и множество других вкусных вещей, которыми славится Вильябермеха.
Путешественники отправились в дорогу спозаранку, но отъезд их не прошел незамеченным: любопытные Жандарм-девицы, постоянно торчавшие у окон, наблюдали за ними из-за жалюзи балкона. Выехать из селения, минуя дом нотариуса, было невозможно.
– Росита, – обратилась Рамонсита к сестре, увидев доктора, – ты не знаешь, куда это направился граф Спаржа?
– На завоевание более плодородных и доходных земель, – ответила Росита.
Доктор услышал эти слова и покраснел как маков цвет. Он подумал, что они знают, куда и зачем он едет, и потому смеются над ним. Но Жандарм-девицы ничего не знали.
IV. Донья Констансия де Бобадилья
Четырнадцать лиг, отделявших доктора Фаустино от его тетки Арасели, остались позади, и никаких происшествий не случилось.
Караван, вернее – праздничный сватовской поезд ночью сделал остановку в придорожной гостинице в десяти лигах от Вильябермехи. Там они поужинали жареными цыплятами с рисом и перцем, которые показались им особенно вкусными после утомительного пути, и свежими сардинами, купленными у торговца из Малаги, оказавшегося, к счастью, в той же гостинице. Сардины, зажаренные на углях, были действительно вкусны и возбудили жажду. Доктор, его оруженосец, слуга и торговец из Малаги, которого тоже пригласили к ужину, по-братски, как в старину, разделили трапезу за одним столом и изрядно выпили из докторского бурдюка. Потом, растянувшись на матрацах, набитых сеном, и приладив в изголовье конскую упряжь, постояльцы блаженно заснули.
Едва занялась заря, а господин и его слуги были уже на ногах. Слуги, несмотря на ночное возлияние, заморили червячка, начав с двойной порции анисовой водки, а господин выкушал чашку шоколада.
Вытряхнув матрасы, заплатив за постой, приготовив лошадь и мулов, путешественники снова отправились в дорогу. Звезды уже побледнели в рассеянном свете занимающегося зарей неба.
Было чудесное весеннее утро. Слышалось пение щеглов, соловьев, свист ласточек. Воздух был прозрачен и чист, свежий ветерок и розовый свет неба радовали душу и тело. Даже с доктора слетела его обычная меланхолия.
Когда путь долог, ехать по дороге скучно, и караван то и дело сворачивал, двигался по узким тропам и тропинкам через оливковые рощи, минуя луга и фермы, то следуя вдоль ручья, то взбираясь на холмы и кручи.
Респетилья ехал впереди и хорошо выбирал дорогу, за ним – доктор Фаустино. Далее следовал слуга с упряжкой из трех мулов, навьюченных багажом и подарками. Доктор ехал, ни о чем не думая, в каком-то блаженно-рассеянном состоянии.
Солнце уже взошло. Путники проехали еще несколько лиг. Было десять часов утра. Тут доктор спустился с облаков на землю, очнулся и вспомнил о завтраке.
– Надо немного проехать, там будет источник с хорошей водой и тень. Если вам угодно, тогда мы и позавтракаем, – сказал Респетилья.
И действительно, скоро они увидели источник, спешились, расположились в тени развесистого дуба и закусили холодной бараниной, крутыми яйцами и сочной ветчиной. Огромный бурдюк, сильно похудевший еще прошлой ночью, совсем отощал, и бока его слиплись.
Читатель может посетовать на меня за то, что я так долго и подробно описываю, как путники ехали, спали, ели. Читатель хочет, вероятно, чтобы я поскорее закончил описание путешествия и перенес моего героя в дом доньи Арасели. В оправдание свое скажу, что когда доктор Фаустино позавтракал и снова отправился в путь, то, уже приближаясь к селению, где он намеревался заключить брачный союз, который мог существенным образом переменить его судьбу, он пустился в размышления столь важного и решающего свойства, что я должен рассказать о них хотя бы вкратце. Поэтому я воспользуюсь некоторыми подробностями, может быть излишне пространными, о которых мне поведал дон Хуан Свежий. Их так много, что я не буду отягощать историю собственными домыслами и ограничусь кратким изложением самого главного, ибо не хочу прослыть многословным.
Но прежде всего необходимо остановиться на одном пункте, которого мы еще не касались. Читатель уже составил себе представление о духовном и моральном облике доктора, но почти ничего не знает о его внешности.
Он был высок ростом, сухощав, крепок и светловолос, правда, без всякой рыжеватости, столь характерной для бермехинцев. Хотя доктор жил в эпоху разгула романтизма, он не стал отращивать длинную шевелюру, но и не стригся коротко, что давало возможность любоваться природными, мягкими, как шелк, завитками. В нем блестяще проявилось одно из выдающихся качеств, которое этнографы считают исключительной принадлежностью арийцев: он был euplocamos[58] по преимуществу. Его светло-золотистая борода была довольно густа, а усы, которых не касалась бритва, были мягки, как юношеский пушок. Лоб чистый, открытый, нос с небольшой горбинкой, маленький рот, великолепные зубы, белая матовая кожа, нежная, как у женщин, румянец на щеках, и огромные синие глаза, полные томной меланхолии. Словом, все находили, что юноша недурен собою, хотя несколько застенчив. Правда, он отлично держался в седле и больше был похож на англичанина в андалусийском платье, чем на испанца. Это тоже было кстати, ибо выглядеть андалусийцем среди андалусийцев не бог весть какое достоинство. Весь облик нашего доктора был несколько необычным и иностранным, что особенно привлекает и восхищает женщин.
Между тем доктор продолжал путь и размышлял таким образом: «Уступая матушке, я дал вовлечь себя в предприятие, на которое сам никогда бы не решился. Допустим, мы понравимся друг другу, но что я могу предложить девушке взамен ее согласия стать моей женой? Родовой дом, несколько ферм, доходов от которых едва хватает для уплаты долгов? Смешно. Лучше уж ничего не иметь, но и это не имущество. Звучность моего имени мало что значит для нее, ибо она сама славна предками. В Испании каждый встречный-поперечный может иметь славных предков: были бы деньги и охота доказывать, что ведешь свое начало чуть ли не от самого Сида. Если бы у меня был титул – хотя бы графа Спаржи, который мне пожаловали дочери нотариуса, – тогда другое дело. Это уже кое-что. Молодым девицам льстит мысль о том, что их будут величать графинями и герцогинями и писать на визитной карточке «Супруга доктора, коменданта крепости и замка Вильябермехи». Вот и получается, что я ничего не могу принести ей, кроме своих надежд. Конечно, если Констансия благосклонно примет эти надежды и отдаст мне взамен свою руку, сердце, пять-шесть тысяч годового дохода, которые обещал ей отец, то, может быть, стоит на это согласиться? В самом деле: ведь она получит недурного мужа, а отцовские деньги и мои знания, ум и труд будут помещены в заклад под проценты, так сказать, на паритетных началах. Так что и она ничего не потеряет».
Здесь мечтания доктора так стремительно взлетели ввысь, что за ними было не уследить и не рассказать о них ни устно, ни письменно. Он видел себя лауреатом премии Мадридского лицея, увенчанным лаврами за поэму на восточные мотивы, автором драмы, выходящим раскланиваться после премьеры спектакля на подмостках Королевского театра, министром, ведущим прием посетителей в своем кабинете, счастливым обладателем титула князя, пожалованного ему королевой за особые заслуги и освобождающего имение от налогов, послом в Париже, где и сам король Луи-Филипп, и весь его двор приходят в восторг от его ума и тонкости обращения, философом, придумавшим новую философскую систему – основу всех других наук – на радость и удивление всему человечеству.
В возбужденном мозгу доктора проносились картины этих и тысячи других триумфов, блестящих, удивительных, потрясающих, ошеломляющих. Перед ним открывался новый сказочный мир, мир красоты и гармонии. Он видел его так ясно и реально, что стоило сделать только шаг… Но все это станет возможным, если у него появятся те пять-шесть тысяч дуро, которые принесет с собой донья Констансия де Бобадилья. «Однако я не женюсь на ней, – продолжал доктор, – если она не полюбит меня или окажется недостаточно хороша собой и бесталанна. Ни за что не женюсь: пусть лучше гибнут все мои мечты и надежды. Ведь люди должны понимать, что я могу жениться только по любви, а не по расчету».
Так рассуждал доктор, обманывая себя, придумывая безвыходные положения, а потом все же преодолевая их. То есть он поступал, как все люди. И получал от этого удовольствие. Наверное, каждому из вас представлялась такая картина: полдюжины врагов нападают на вас, вы геройски принимаете вызов и повергаете противника в прах. На самом же деле бывает достаточно и одного врага, чтобы многие из вас обратились в бегство. Самые скромные белошвейки и судомойки глубоко убеждены, что сам Крез, положивший к их ногам полмира, не мог бы соблазнить их. И только богу известно, с какой легкостью улетучивается обычно их гордая неприступность.
Доктор прекрасно знал, что Констансия хороша собой, поэтому ему не нужно было ни великодушничать, ни проявлять геройство, если бы дело дошло до женитьбы на этой действительно красивой девушке. Однако то, что нынче называется «пускать пыль в глаза», используется не только для того, чтобы ослеплять других, но и себя самого, чтобы создать впечатление о своих собственных достоинствах и совершенствах, к своему же собственному удовольствию.
Внутренний монолог доктора стал еще более откровенным, прямым и значительным, когда он продолжал: «А если Констансия меня не полюбит? Я могу показаться ей малоприятным, скучным, неостроумным, она может не оценить мою душу и не поверить в мое будущее. И что, если, несмотря на все это, я влюблюсь в нее? Тогда я должен буду ее убить. Но чем она виновата, если я ей не понравлюсь? У меня нет права не только убить женщину, которая меня отвергла, но даже возненавидеть ее. Это будет ужасно, и я не знаю, что мне тогда делать. Я ослушаюсь матушку и поеду в Мадрид как есть, без всяких средств, наудачу, буду бороться и не отступлюсь, пока не завоюю славу, деньги и почет, пока не докажу Констансии, что я достоин ее, что мне не нужны ее деньги, что я не пустой мечтатель. Я готов ехать в Мадрид хоть сейчас, прямо через Толедские ворота, со всем своим скарбом, с мулами, с печеньями, вареньями и прочей снедью. Там они не залежатся».
И тем не менее доктор продолжал ехать следом за Респетильей в селение, где жила его тетка Арасели, а мысль о Мадриде мелькнула у него в голове и исчезла.
«Итак, – продолжал доктор, – если Констансия меня не полюбит, а я ее полюблю, то я совершу нечто великое, героическое, удивлю весь мир своими подвигами и завоюю ее холодное сердце. Разве может она полюбить меня теперь, когда я безвестен и неприметен? Но едва ли она останется равнодушной и бесстрастной, увидев, как я, увенчанный лаврами, иду сквозь расступающуюся толпу, когда имя мое будет вписано золотыми буквами в книгу Истории».
Когда мысли приняли такой оборот и он живо представил себе, что уже любит Констансию, а она его – нет, дыхание его стало прерывистым, как у тяжелобольного. Респетилья ехал далеко впереди и не слышал этого, а то испугался бы.
Между тем путники выехали на высокое место, откуда открывался вид на селение – цель их путешествия была близка. Домики сверкали белизной, во внутренних двориках виднелись апельсиновые деревья, акации, олеандры, кипарисы. Речушка, протекавшая близ селения, орошала многочисленные сады, разбитые в плодородной обширной долине, расстилавшейся у их ног.
Путешественники спустились с холма по узкой тропе и выехали на дорогу. Минут через десять впереди показалось белое облачко пыли, а затем – какой-то темный предмет, двигавшийся им навстречу. Респетилья, обладавший острым зрением, все понял, завернул мула и поскакал к хозяину.
– Сеньорито, сеньорито, это карета сеньора дона Алонсо едет вас встречать.
И он не ошибся. Уже слышался звон серебряных колокольчиков, украшавших богатую упряжь статных вороных коней, впряженных в четырехместную карету. Доктор приосанился в седле, отряхнул пыль с платья, лихо сдвинул набок шляпу и, пришпорив лошадь, быстро доскакал до кареты, делая многочисленные вольты. Карета остановилась, и доктор увидел в ней двух дам. Одна оказалась пожилой и сухопарой женщиной с живыми глазами и добрым, приветливым лицом. На ней было черное платье и чепец, украшенный темно-лиловыми бантиками. Другая была невысокого роста и очень грациозна. У нее были черные как смоль волосы, черные глаза, пунцовые губы; когда она улыбалась, обнажались два ряда ровных, ослепительно-белых зубов; нос был чуточку вздернут, что придавало лицу задорное, насмешливое, детски лукавое выражение; кожа лица, чистая и свежая, излучала молодость и здоровье; гибким станом она напоминала скорее змейку, чем пальму. И вообще все, что можно было в ней видеть, предполагать, угадывать, имело совершенные формы, без излишеств и недостатков, словом – как надо: соразмеренно и гармонично, как и полагается быть произведению искусства, сотворенному по строгим и точным правилам; все соответствовало ее восемнадцати годам и положению знатной сеньоры, заботящейся о своей внешности. Эта прелестная женщина была одета в лиловое шелковое платье, в волосах красовалось несколько алых роз; их лепестки удачно сочетались с ярко-зелеными листьями.
Обе дамы знали доктора по портрету: ошибки быть не могло. Старшая из них – это, несомненно, была тетка Арасели – воскликнула, как только увидела его подле себя:
– Здравствуй, племянник. Добро пожаловать!
– Добро пожаловать, кузен, – приветствовала его Констансия.
Доктор ответил на приветствие самым любезным образом. Он спешился, нежно обнял тетку, пожал руку кузине, заметив при этом, что ручка у нее маленькая, с длинными точеными аристократическими пальцами.
– Мне хотелось, – сказала тетка Арасели, – встретить тебя, дорогой племянник, поэтому я одолжила карету у Констансии, а она любезно согласилась сопровождать меня. Твой дядюшка дон Алонсо не мог поехать, у него хлопот полон рот: отделяет животных от стада для продажи на ярмарке. Надеюсь, ты не посетуешь, что вместо него поехала дочка.
Доктор рассыпался в комплиментах и, поборов природную застенчивость, произнес несколько приличествующих случаю фраз, Констансия назвала его льстецом и густо покраснела.
– Поверишь ли, племянник, – сказала тетка Арасели, – Констансия боялась встречи с тобой: она думала, что увидит важного доктора, точно как на том портрете, боялась, что скажет что-нибудь невпопад и опростоволосится. Но теперь она уже не робеет.
– Неправда. Я все еще робею. И вообще, что вы тут наговорили, боже правый! Неужто я могла подумать, что он едет к нам верхом на лошади в своем докторском облачении – в мантии и в шапочке с кисточкой! Я не такая уж простушка. Я только думала, что мой кузен умен и образован, а я – нет, поэтому он может составить обо мне дурное мнение. Я и сейчас этого боюсь. А мантия и шапочка здесь ни при чем.
Доктор снова рассыпался в любезностях. Напрягая ум и обдумывая каждое слово, он старался выразить просто, без ученых терминов и витиеватости, ту мысль, что женщины всё понимают и проникают в самую суть вещей по интуиции, что им вообще не нужно ничего изучать и что в глазах кузины светилось больше учености, чем у самого Аристотеля, Платона и Фомы Аквинского, вместе взятых. Доктор успел уже привести веское доказательство в защиту этого тезиса и готовился привести новое, когда тетка Арасели прервала его, сказав, что нужно поторопиться домой, где он может отдохнуть.
Доктор снова сел на лошадь и затрусил рядом с каретой – то с той стороны, где сидела кузина, то с другой, чтобы не обидеть тетку. Наконец они въехали в селение и добрались до дома. Хотя остаток пути они преодолели за двадцать минут, доктор успел бросить на кузину тысячу пламенных взглядов – не меньше сотни в минуту.
Констансия встречала этот град взглядов самым очаровательным образом, хотя понять ее было трудно: иногда казалось, что она понимает смысл и значение этих взглядов, так как стыдливо опускала глаза, что было многообещающим признаком, то вдруг делала наивный вид, будто принимает их за выражение родственной любви, и отвечала на них ласково, но без всяких признаков ответного любовного чувства, то разражалась звонким смехом, как бы выражая сомнение по поводу столь внезапно вспыхнувшей любви, то отвечала доктору таким же взглядом, и тогда ему мерещилось, что это его взгляд, отразившись в ее черных очах, возвращается к нему во сто крат более прекрасным.
В результате всего этого, когда доктор подъехал к дому тетки Арасели, у него несколько кружилась голова. Он решительно не знал, кем стала для него кузина – ангелом или демоном. Одно было несомненно: он был очарован ею.
Доктор спешился, отдал слуге поводья, чтобы тот отвел лошадь в конюшню, помог донье Арасели выйти из кареты, потом подал руку кузине.
– Нет, нет, дорогой кузен. Я еду домой. Прощайте. До свидания, тетушка.
И, приказав кучеру трогать, донья Констансия укатила; доктор оторопело смотрел вслед, пока карета не исчезла из виду. Но прежде чем карета скрылась, Констансия два или три раза обернулась и перед самым поворотом еще раз выстрелила взглядом, значение которого из-за дальности расстояния доктор не мог разгадать.
V. Первое впечатление
Донья Арасели отвела доктору милую, веселую комнатку с окнами во внутренний дворик. Вдоль стен – апельсиновые и лимонные деревья, в центре – фонтан, низвергающий прозрачные струи в мраморную чашу с золотыми рыбками. Цветы и журчание фонтанов услаждают обоняние и слух. В опрятной, чистой комнате – кровать, стулья, ночной столик и письменный стол.
Хозяйка, сказав, что он может отдохнуть до трех часов дня, когда будет подан обед, покинула его.
До трех часов оставалось совсем немного, доктор не ощущал усталости и стал расхаживать по комнате, собираясь с мыслями.
Некоторые люди всегда мыслят ясно, другие – туманно. Доктор принадлежал ко второму типу. Это не значит, что он видел и чувствовал меньше или хуже других. Может быть, туманность мысли как раз и характеризует тех, кто слишком много видит. Те, кто видит только то, что им подходит, нравится или льстит, видят или думают, что видят все это четко и ясно; те же, кто видит и то, что им не подходит, колеблются и мыслят путано. В их мозгу постоянно роятся противоборствующие идеи и намерения.
Путаные и противоречивые мысли делают реальные предметы нечеткими, расплывчатыми, что порождает, в свою очередь, сомнения. Наш доктор тоже испытывал сомнение: «Как понимать мои чувства к кузине?» Ему ясно было, что она хороша собой, элегантна, умна, но он не знал, добра она или зла. Он не был склонен думать, что она добра или зла наполовину. Он полагал, что она либо само небо, либо сонмище демонов.
Будучи пылким романтиком, он испытывал склонность к преувеличениям и рассуждал примерно так: «В ней мое спасение или моя гибель, мой ад или моя слава, она мой Табор[59] или Голгофа».
Было совершенно ясно, что Констансия ему небезразлична, что он почти влюбился в нее, но тут же задавал себе вопрос: «Однако чем ответит она на мою любовь? Способна ли она понять мое чувство?»
Попробуем и мы разобраться во всем этом, раз доктор не мог найти ответа. Впрочем, он не мог найти ответа и на другие вопросы, так как слишком много знал.
Любил он или не любил Констансию в том смысле, в котором обычно понимается это чувство? Сам он давал тысячу различных определений любви, и потому выходило, что и любил и не любил. Если понимать под любовью то, что ему, пылкому юноше, она нравилась своей красотой, свежестью, элегантностью, изяществом, даже кокетливостью, это значит, что он мог бы последовательно или одновременно влюбиться во всех девушек, обладающих сходными добродетелями. «Любовь, – говорил он себе, – чувство исключительное, следовательно, я не могу назвать мое чувство к кузине истинной любовью». Может быть, он любит ее за то, что в ее лице, глазах, улыбке видит родственную душу, натуру одаренную, умную, страстную? Доктору иногда казалось, что он любит ее именно за это, и тогда приходилось согласиться, что он любит ее не просто как женщину, но как женщину исключительную, способную вызвать истинную любовь или, по крайней мере, заставить предпочесть себя всем остальным. Тогда выходило, что доктор уже попал в любовные сети. Но не примешалось ли к этой неожиданно вспыхнувшей любви какое-то другое чувство, например корысть? Не походило ли его чувство на ту любовь, которую испытывал пророк Илья к ворону?[60] Мысленно он лишал ее ренты и вообще всяких шансов на наследство. Ограбив ее, он почувствовал, что любовный пыл его несколько охладевает, умеряется, но все же не исчезает окончательно; в душе сохраняется еще образ Констансии, но становится расплывчатым. Доктор понимал, что, лишив свою избранницу доходов, он должен был компенсировать этот недостаток, наградив ее более поэтическими достоинствами, что сделало бы образ более четким. Словом, необходимо, чтобы его любовь придала ее образу чистые, совершенные линии либо нарисовала совсем иной образ.
Может быть, его любовь к Констансии вызвана только тщеславием и эгоизмом? Доктор соглашался и с этим, В самом деле, разве можно найти любовь, возбужденную человеческим существом и нашедшую отклик в другом человеческом сердце, в чистом виде, без примеси каких-то низменных чувств? Ведь и золотой самородок редко встречается без примеси пустых пород. Любовь – тот же самородок: только огонь, который она в себе таит, может очистить ее в плавильне души; если душа достаточно крепка и закалена, чтобы выдержать невероятный жар, в ней образуются зерна чистой любви, наподобие кристаллов чистого, высокопробного золота. Когда доктор дошел до этого металлургического сравнения, он понял, что высоко ценит кузину, настолько высоко, что сама мысль о каких-то непоэтических примесях огорчила его.
«Что же кузина могла подумать обо мне?» – это был второй вопрос, который доктор задавал себе. Он ощущал в себе благородное желание нравиться и вместе с тем испытывал страх от того, что мог не понравиться кузине. Может быть, это и есть признак той возвышенной любви, о которой он мечтал? Никоим образом. Доктор принадлежал к тем людям, которые хотят нравиться всему роду человеческому, даже тем, кто его не любит, или тем, чье мнение мало чего стоит. Однако он заметил, что его желание нравиться кузине было сильнее, чем желание нравиться кому-нибудь другому. Выше этого было только желание нравиться всем сразу, то есть жажда славы. Что же предпочесть: любовь толпы или любовь кузины? Способен ли он полюбить Констансию сильнее, чем славу? Здесь доктор останавливался в растерянности. Дело, видимо, стало за тем, чтобы обнаружить в глубинах души своей избранницы те сказочные сокровища, которыми он благородно наделял ее в своем воображении. Если бы он действительно обнаружил эти сокровища, то предпочел бы кузину славе. Это возможно только в том случае, если бы кузина была такой доброй или такой злой, какой он ее себе воображал. Даже если бы она была зла, он мог бы полюбить ее возвышенной любовью. Ну, а что, если она окажется ни доброй, ни злой, ни умной, ни глупой, а существом посредственным? Нет, доктор не мог бы ее полюбить, разве что в одном случае: если бы в металле ее голоса, в жгучем взгляде, в гармонии черт лица, в движениях тела, в магнетической атмосфере, окружающей ее, оказалась какая-то таинственная притягательная сила, не осознанная даже ею самою. Только это могло соблазнить и пленить такого человека, как он. Так демоны или духи послушно являются на зов того, кто знает формулу заклинания, хотя и не понимает ни значения отдельных слов, ни причины их действенности; так артист голосом или инструментом пробуждает в возвышенной душе мысли и чувства, о которых сам он не имеет ни малейшего представления.
Все это и тысячи подобных вещей проносились в голове доктора; вихрь беспорядочных мыслей и разноречивых чувств.
Его занимали и совсем тривиальные вещи. Он думал о том, что хорошо бы ей понравиться, а для этого он не должен выглядеть смешным. Доктор заметил, что кузина – большая охотница до шуток. Вместе с любовью рос и его страх стать мишенью ее насмешек. Чем больше он думал о том, что любит ее, тем сильнее одолевал его этот страх. Здесь следует сказать, даже рискуя тем, что наш герой может много потерять в глазах читательниц (если таковые найдутся), об одном его предубеждении: он был невысокого мнения о женском уме, считая, что даже самая умная из женщин не превосходит развитием десятилетнее дитя. И тем не менее он боялся показаться кузине смешным.
Хотя он был крайне наивен и простодушен, он все же подозревал, что портрет, который послала донья Ана донье Арасели, где он был изображен в докторской мантии и в шапочке с кисточкой, мог вызвать насмешку кузины. Он понимал, конечно, что портрет плохо исполнен – он ведь стоил всего шесть дуро – и что у него там слишком напыщенный вид, «Ну что же, – рассуждал доктор, – она воображала меня этаким сухарем-педантом, провинциальным чудаком. Тем лучше. Теперь, увидев меня, она переменит мнение. Я был прав, предполагая, что этого дьяволенка не пленишь ни мундиром офицера копейщиков, ни костюмом члена клуба верховой езды. Взял я их только потому, чтобы не огорчать матушку. Пусть они так и лежат на дне чемодана – я о них и словом не обмолвлюсь».
Приняв смелое решение не использовать униформу для завоевания сердца кузины, доктор подумал еще об одном затруднении – большего масштаба, если вообще можно себе представить большее затруднение. «Что делать со всеми этими ореховыми печеньями, вареньями и прочей снедью? Прилично ли было везти их в подарок?» – спрашивал он себя.
Тут доктор вспомнил стихи из «Кошкомахии»[61], где поэт говорит о подарке, который Мисифус посылает Сапакильде:
- И ни платья, и ни рубинов
- Наконец увидали в подарок,
- Кот привез сыр купеческих марок
- И большую гусиную ножку,
- Да чего уж… И устриц немножко.
То, что он привез с собой, было похоже на кошачьи подарки, и он с горечью подумал о своей нищете. Он сожалел, что вместо паштетов и сладостей не мог привезти ни браслетов, ни бриллиантов, ни жемчужных ожерелий, ни дорогого медальона с изумрудами и рубинами. Но ведь в Вильябермехе не было других драгоценностей, кроме тех, что замуровала его прабабка, перуанская принцесса. Однако они были надежно спрятаны.
Затруднение состояло в том, чтобы достойно вручить эти жалкие сиропы и паштеты. Но ведь и дары волхвов – мирра, золото и ладан – не были более приятны богу, чем деревенские подношения пастухов. Однако душа доктора не успокоилась от этого сопоставления. При одной мысли, что ему нужно вручать сиропы и паштеты, он заливался краской. Может быть, передать все это донье Арасели как подарок матери и тем самым снять с себя всякую ответственность? Но ведь это явное нарушение сыновнего долга и к тому же проявление трусости. Не перепоручить ли все это Респетилье? Пусть он вручит подарки какой-нибудь служанке, а та уже – донье Арасели. На первый взгляд это неплохой выход, но по зрелом размышлении доктор решил, что этот способ таит в себе много неудобств и чреват опасностями. Андалусийские служанки – большие лакомки и либо сами все проглотят, либо растащат сладости по домам, будут угощать своих женихов, ополовинят гостинцы, и когда они передадут остатки донье Арасели, ей уже нечего будет прятать в свои чуланы. Да, доктору пришлось долго ломать голову над тем, как выйти из трудного положения. Зачем он согласился взять эти подарки? «Я был слишком уступчив», – говорил он себе, забыв, однако, что там, в Вильябермехе, дыша деревенским воздухом, находясь вдали от насмешливой искусительницы кузины, он не считал зазорным или неприличным везти с собой пищевые дары. Теперь, наоборот, он сгущал краски, находя, что вручение подобных подарков достойно осмеяния. «Констансия будет смеяться надо мной, – терзал он себя, – наверняка она обратила внимание на упряжку из трех мулов, которые плелись за нами, и, несомненно, должна была заинтересоваться, что они везут, что лежит в тех корзинах и плетенках, и, может быть, прозой перескажет стихи из «Кошкомахии»:
- И ни платья, и ни рубинов…
Она, конечно, рассмеется самым обидным образом, когда тетушка Арасели пошлет ей от меня виноградный сироп и паштеты. Я вынужден буду сказать, что эти гостинцы посылает моя матушка, и прибавлю, что она советует кушать паштет с шоколадным соусом. «Непременно, сеньор, именно с шоколадным – я люблю пикантные вещи», – скажет она. А что, если я вообще не буду упоминать о подарках и отдам их Респетилье? Пусть лопает. Нет, это не годится. Совсем не годится. Респетилья корыстолюбив: откроет, чего доброго, палатку на ярмарке, станет торговать, люди подумают, что он делает это для меня, и скажут: «Вот до чего докатился потомственный комендант крепости и замка Вильябермехи».
Пока доктор терзался таким образом, запутавшись в противоречиях, вошел Респетилья с баулами.
– Где мундиры? – тихо спросил доктор, чтобы никто посторонний не услышал его.
– В этом бауле, – ответил Респетилья, показывая на самый большой. – Прикажете вытащить офицерский? Думаю, что в нем хорошо пойти к двоюродной сестре.
– Нет, будь ты проклят! Оставь там и офицерский и неофицерский. Никому даже не заикайся о них.
– А что, барышне не нравятся военные?
– Именно. Помалкивай о мундирах.
– Боже мой, – отвечал на это Респетилья, – если барышне не нравится военная форма, чего же вы не взяли докторскую?
– Докторская ей тоже не нравится.
– Что же ей нравится?
– Не знаю. Кажется, ничего.
– А докторский костюм – шикарный. Помните, вы надевали его, когда у нас были священник и доктор. Им очень понравилось.
– Не болтай глупостей. И вообще поменьше болтай. Никому не говори, что я надевал мантию.
– Вот еще… Чего ж тут плохого? Помните, как ваша нянька Висента тоже захотела посмотреть, и вы надели для нее и шапочку, и черный балахон, и еще накидку. Висента, помню, сказала тогда: «Кто бы мог подумать, что из малыша выйдет такой важный доктор».
– Ну ладно, ладно. Тут нет никаких нянек. Везде свои обычаи и привычки. Здесь как в Гранаде, а не как у нас в Вильябермехе. Запомни это и помалкивай. То, что можно и даже нужно было говорить в Вильябермехе, здесь может показаться глупостью. О докторском платье тоже ни слова.
– О чем же тогда говорить?
– Ни о чем. Говори о себе. Обо мне вообще ничего не рассказывай. Помалкивай.
Респетилья умолк. Барин умылся, оделся к обеду в самое обыкновенное платье: брюки, сюртук, жилет.
Когда его позвали обедать и за столом донья Арасели сообщила, что Респетилья передал ей подарки от доньи Аны, доктор вздохнул с облегчением. Тетка Арасели без тени иронии похвалила сиропы, печенья и прочую снедь, включая и паштеты, и прибавила, что отослала большую часть племяннице, так как та большая лакомка. Теперь доктору стало неловко уже за то, что он стыдился своей родной Вильябермехи, и подарков, и даже матери, которая их посылала. Сущность того, что ныне называют дурным тоном, состоит в преувеличенном страхе впасть в него.
Пока доктор был занят этими мыслями и разговорами, его кузина Констансия и ее отец вели такой разговор:
– Здравствуй, дочка, – сказал дон Алонсо, входя в комнату, даже не сняв шпор. – Приехал наконец Фаустинито?
– Да, папа. Фаустинито приехал.
– Ты выезжала с теткой встречать его? Видела его? Говорила с ним?
– Да, папа.
Дон Алонсо испытующе посмотрел на дочь, стараясь угадать то впечатление, которое произвел на нее кузен.
Надо сказать, что дон Алонсо был любящим отцом. Более любящего отца трудно было себе представить. Дочь командовала им и делала с ним что хотела. Доном Алонсо владели две страсти: дочь и деньги. И то и другое составляло его гордость. Корыстолюбию он подчинялся точно так же, как горячо любимой дочери. Не было такой жертвы, которую он не принес бы во имя денег, не было такого каприза, который он не исполнил, чтобы угодить дочери, если при этом не нужно было жертвовать деньгами.
Дон Алонсо был резок, строг, противник всяких половинчатых и легкомысленных решений, но если речь шла о желаниях его дочери, он сдавался, хотя часто ворчал и сердился при этом.
– Я сожалею о том, что юноша приехал сюда, – сказал дон Алонсо после некоторой паузы. – Тысячу раз говорил тебе, что не надо его приглашать. Но ты же не слушаешься. Это чистое сумасбродство.
– Что же тут сумасбродного? Что из того, что я его пригласила? Полноте, папочка, не ворчите на меня.
– Разве не сумасбродство? Это же мой племянник, а не обезьянка для забавы.
– Послушай, папа, откуда ты взял, что мне нравится забавляться обезьянами? Фаустинито не обезьяна, и я не собираюсь им забавляться. Это было бы дурно с моей стороны. Но он и правда похож на обезьянку. Может быть, я займусь этой обезьянкой. Только по-хорошему: возьму и влюблюсь в него, да еще предложу ему свою белую ручку.
– Хотя и есть такая пословица: «Грушу поносит, а с собой уносит», я не верю, что ты говоришь серьезно. Как же получается? Ты вволю посмеялась над его портретом, а теперь приезжает Фаустинито собственной персоной, и ты влюбляешься в него. Признайся – мы здесь одни – ты пригласила его из чистого любопытства, чтобы посмеяться над ним?
– Признаюсь. И что из этого? Разве это грех? Считай, что он приехал развлечь меня на праздники. Разве от него убудет? Я не собираюсь его ни мучить, ни вешать, ни оскорблять.
– Ты полагаешь, что смеяться над несчастным юношей не грешно? Твоя тетка Арасели – кстати, ты ее наследница – простодушно принимает все это всерьез; она может рассердиться, узнав о твоих проделках.
– Об этих моих проделках, кроме тебя, никто не будет знать. От тебя у меня нет секретов. Я немного просчиталась. Не скажу, что я готова влюбиться в него, но он не показался мне таким смешным, как на портрете. Поверишь ли, он красив, совсем неглуп и вообще незаурядный молодой человек. Впрочем, мы можем присмотреться к нему внимательнее: тетушка устраивает сегодня вечером прием в его честь. Да, совсем забыла. Бедняжка привез нам кучу еды. Я велела поставить в кладовку. А его каурая лошадка совсем недурна.
– Теперь я вообще ничего не понимаю, – сказал дон Алонсо.
– По-моему, все понятно, – возразила донья Констансия.
– Оригинально! Что же все это значит?
– У нас с тобой получается сказка про белого бычка.
– Да, я повторяю: недопустимо делать из Фаустино посмешище. Я не хочу ссор между родственниками, не хочу, чтобы мы сами оскорбляли наш род и нашу кровь. И, по правде говоря, я не хочу, чтобы ты влюбилась в человека бедного как церковная мышь, способного только на то, чтобы проесть твое приданое. Ты думаешь, я много могу тебе дать? Ты же знаешь, что в последние годы пшеница и оливки плохо родятся, правительство душит налогами. Мадрид – это прорва, на которую не напасешься ни денег, ни продуктов. Вряд ли я могу много за тобой дать.
– Откуда мне все это знать? Но я уверена, что ты дашь мне столько, сколько я попрошу. Не можешь же ты отказать любящей дочери?
– Я ни в чем тебе не откажу, но у меня не так уж много денег. Я не крёз. Самое большее, что я смогу тебе дать, – это три тысячи дуро ренты. Чтобы жить здесь, это больше чем достаточно, но если ты уедешь в Мадрид или Севилью, это почти что ничего. На большее в ближайшее время рассчитывать трудно, хотя я, слава богу, здоров и надеюсь прожить еще лет двадцать.
– Желаю тебе прожить сто лет мне на радость, я так тебя люблю.
– Верю, что любишь, но ты непослушна и делаешь все, что тебе взбредет в голову. Я слишком тебя избаловал. Прошу тебя: не влюбляйся в этого голодранца.
– Тогда я над ним просто посмеюсь, заодно оскорблю наш род и нашу кровь, обижу тетку Арасели, хотя я ее наследница.
– Но ты не будешь над ним смеяться!
– Слушай, отец. В какой-то книжонке я прочла об одной вещи, которая называется дилеммой. Это когда у тебя есть два возможных выхода. Так и со мной: либо я над ним посмеюсь, либо выйду за него замуж. Выбирай любое.
– Забудь про эту дилемму. У тебя не два, а двадцать два выхода. И еще прибавь один: не кокетничать и не кружить голову кузену. Тогда он тихо-мирно вернется восвояси, как только пройдут праздники. Или вот еще один: если он в тебя влюбится, постарайся осторожненько сделать так, чтобы он в тебе разочаровался. А смеяться над ним или выходить за него замуж – ни к чему.
– Ты предлагаешь что-то очень мудреное. Есть только дилемма, самая что ни на есть главная дилемма: либо – замуж, либо – посмеяться. Отплатить бедняге насмешкой за его съестные подарки – разве это не великолепно? Сначала поднести подслащенную пилюлю, а потом отказать.
Исчерпав весь арсенал диалектики, дон Алонсо умолк, признав тем самым существование дилеммы, и поцеловал в лоб донью Констансию.
Она же повязала ему галстук, потрепала по щеке и, охватив своими белыми ручками его голову, несколько раз звонко чмокнула в лысину.
Дон Алонсо чувствовал себя в тот момент таким счастливым, что готов был дать не три, а целых четыре тысячи дуро. Ему не понравилось только то, что дочь серьезно подумывала о замужестве, но он успокаивал себя тем, что план этот мог обернуться шуткой, хотя и не очень деликатной.
VI. Письмо доктора матери
Прошло уже два дня, как доктор находился в доме доньи Арасели, и пора было отправлять слугу с мулами в Вильябермеху, во-первых, чтобы не вводить в расходы сиятельную хозяйку и не причинять ей неудобства, а во-вторых, потому, что мулы принадлежали не доктору, а были взяты внаем. Достославный дом Лопесов де Мендоса мог содержать только докторскую лошадку, мула Респетильи и пару ослов, которые постоянно находились на кошту. Выражение «находиться на кошту» употребляют в Вильябермехе в отношении животных, которых оставляют в поле без присмотра, с тем чтобы они сами искали себе пропитание, особенно в засушливые годы. Так как доктор не рассчитывал здесь долго задерживаться, он и отправил погонщика со своими подопечными домой. С этой оказией он послал письмо матери, которое мы приведем полностью, ибо оно является важным и достоверным документом, дополняющим наш рассказ. В письме говорилось:
«Дорогая матушка, не знаю, радоваться мне или печалиться тому, что я предпринял эту поездку и нахожусь здесь. Тетя Арасели – сама доброта, она вас очень любит и меня встретила радушно. У нее много достоинств, но она слишком чиста, чтобы подозревать в поступках других злой умысел. Похвалы, которые расточала донья Констансия моему портрету, были, поверьте мне, просто шуткой, тетушка же приняла их за чистую монету. Констансита из любопытства, из пустого каприза просила ее пригласить меня, а вовсе не потому, что влюбилась в меня по портрету. Она очень избалована отцом и делает все, что ей заблагорассудится. К счастью, я могу льстить себя надеждой, что моя собственная персона произвела на нее более благоприятное впечатление, чем мой портрет. Я разговаривал с дядюшкой Алонсо. У него, слава богу, недурной характер, иначе он был бы невыносим. Он так погряз в своих богатствах, так тщеславен, что считает себя самым умным, самым знающим, самым удачливым из всех смертных. То, что он сколотил огромное состояние, он приписывает своей учености, а не игре случая. Воображая, что он в совершенстве владеет своей наукой, и считая ее главной, дядюшка взял себе за правило безапелляционно судить о всех науках вообще. С непререкаемым авторитетом он рассуждает о политике, литературе, искусстве – словом, обо всем. Так как здесь нет ни одного человека, который не был бы ему должен и не получал бы от него подачки, все почтительно выслушивают его мнения, словно это какой-то оракул, и никто не смеет ему возразить.
Обходительность дядюшки не только по отношению ко мне, но и ко всем другим поразительна. Он желает прослыть человеком добрым, что не мешает ему быть и великодушным и кичливым одновременно. Со всеми он держится покровительственно, с сознанием собственного превосходства, но делает это не обидно, а как-то простодушно и естественно. Он мнит себя остряком и доволен, когда смеются его шуткам. Все, кто присутствует на его приемах, привыкли смеяться этим шуткам: получается так, что смеются они охотно и как бы по своей воле, ибо деньги даются взаймы с такой очаровательной простотой, которая вызывает доверие и к словам и к мыслям обладателя.