Когда падают горы бесплатное чтение
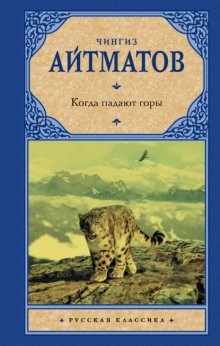
Серия «Русская классика»
Серийное оформление А. Кудрявцева
Дизайн обложки А. Чаругиной
© Ч. Т. Айтматов, наследники, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023
Пегий пес,
бегущий краем моря
Владимиру Сангя
В непроглядной, насыщенной летучей влагой и холодом приморской ночи, на всем протяжении Охотского побережья, по всему фронту суши и моря шла извечная, неукротимая борьба двух стихий – суша препятствовала движению моря, море не уставало наступать на сушу.
Гудело и маялось море во тьме, набегая и расшибаясь на утесах. Надсадно ухала, отражая удары моря, каменнотвердая земля.
И вот так они в противоборстве от сотворения – с тех пор, как день зачался днем, а ночь зачалась ночью, и впредь быть тому, все дни и все ночи, пока пребудут земля и вода в нескончаемом времени.
Все дни и все ночи…
Еще одна ночь протекала. Ночь накануне выхода в море. Не спал он той ночью. Первый раз в жизни не спал, первый раз в жизни изведал бессонницу. Уж очень хотелось, чтобы день наступил поскорее, чтобы ринуться в море. И слышал он, лежа на нерпичьей шкуре, как едва уловимо подрагивала под ним земля от ударов моря и как грохотали и маялись волны в заливе. Не спал он, вслушиваясь в ночь…
А ведь когда-то все было по-иному. Теперь такое невозможно даже представить себе, об этом теперь никто знать не знает, не догадывается даже, что, не будь в ту издавнюю пору утки Лувр, мир мог бы устроиться совсем по-другому – суша не противостояла бы воде, а вода не противостояла бы суше. Ведь в самом начале – в изначале начал – земли в природе вовсе не было, ни пылиночки даже. Кругом простиралась вода, только вода. Вода возникла сама из себя, в круговерти своей – в черных безднах, в безмерных пучинах. И катились волны по волнам, растекались волны во все стороны бесстороннего тогда света: из ниоткуда в никуда.
А утка Лувр, да-да, та самая, обыкновенная кряква-широконоска, что по сей день проносится в стаях над нашими головами, летала в ту пору над миром одна-одинешенька, и негде ей было снести яйцо. В целом свете не было ничего, кроме воды, даже тростиночки не было, чтобы гнездо смастерить.
С криком летала утка Лувр – боялась, не удержит, боялась, уронит яйцо в пучину бездонную. И куда бы ни отправлялась утка Лувр, куда бы ни долетела она – везде и повсюду плескались под крыльями волны, кругом лежала великая Вода – вода без берегов, без начала, без конца. Извелась утка Лувр, убедилась: в целом свете не было места, где бы устроить гнездо.
И тогда утка Лувр села на воду, надергала перьев из своей груди и свила гнездо. Вот с того-то гнезда плавучего и начала земля образовываться. Мало-помалу разрасталась земля, мало-помалу заселялась земля тварями разными. А человек всех превзошел среди них – приноровился по снегу ходить на лыжах, по воде плавать на лодке. Стал он зверя добывать, стал он рыбу ловить, тем кормился и род умножал свой.
Да только если бы знала утка Лувр, как трудно станет на белом свете с появлением тверди среди сплошного царства воды. Ведь с тех пор, как возникла земля, море не может успокоиться; с тех пор бьются море против суши, суша против моря. А человеку подчас приходится очень туго между ними – между сушей и морем, между морем и сушей. Не любит его море за то, что к земле он больше привязан…
Приближалось утро. Еще одна ночь уходила, еще один день нарождался. В светлеющем, сероватом сумраке постепенно вырисовывалось, как губа оленя в сизом облаке дыхания, бушующее соприкосновение моря с берегом. Море дышало. На всем вскипающем соприкосновении суши и моря клубился холодный пар летучей мороси, и на всем побережье, на всем его протяжении стоял упорный рокот прибоя.
Волны упорствовали на своем: волна за волной могуче взбегали на штурм суши вверх по холодному и жесткому насту намытого песка, вверх через бурые, осклизлые завалы камней, вверх – сколько сил и размаха хватало, и волна за волной угасали, как выдох, на последней черте выплеска, оставляя по себе мгновенную пену да прелый запах взболтанных водорослей.
Временами вместе с прибоем выметывались на берег обломки льдин, невесть откуда занесенных весенним движением океана. Шалые льдины, вышвырнутые на песок, сразу превращались в нелепые беспомощные куски смерзшегося моря. Последующие волны быстро возвращались и уносили их обратно, в свою стихию.
Исчезла мгла. Утро все больше наливалось светом. Постепенно вырисовывались очертания земли, постепенно прояснялось море.
Волны, растревоженные ночным ветром, еще бурунились у берегов беловерхими набегающими грядами, но в глубине, в теряющейся дали море уже усмирялось, успокаивалось, свинцово поблескивая в той стороне тяжкой зыбью.
Расползались тучи с моря, передвигаясь ближе к береговым сопкам.
В этом месте, близ бухты Пегого пса, возвышалась на пригористом полуострове, наискось выступавшем в море, самая приметная сойка-утес, и вправду напоминавшая издали огромную пегую собаку, бегущую по своим делам краем моря. Поросшая с боков клочковатым кустарниковым разнолесьем и сохранявшая до самого жаркого лета белое пятно снега на голове, как большое свисающее ухо, и еще большое белое пятно в паху – в затененной впадине, сопка Пегий пес всегда далеко виднелась окрест – и с моря и из лесу.
Отсюда, из бухты Пегого пса, поутру, когда солнце поднялось высотой на два тополя, отчалил в море нивхский каяк. В лодке было трое охотников и с ними мальчик. Двое мужчин, что помоложе и покрепче, гребли в четыре весла. На корме, правя рулем, сидел самый старший из них, степенно посасывая деревянную трубку, – коричневолицый, худой, кадыкастый старик, очень морщинистый – особенно шея, вся изрезанная глубокими складками, и руки были под стать – крупные, шишковатые в суставах, покрытые рубцами и трещинами. Седой уже. Почти белый. На коричневом лице очень выделялись седые брови. Старик привычно жмурился слезящимися красноватыми глазами: всю жизнь ведь приходилось смотреть на водную гладь, отражающую солнечные лучи, – и, казалось, вслепую направлял ход лодки по заливу. А на другом конце каяка, примостившись, как кулик, на самом носу, то и дело мельком поглядывая на взрослых, с великим трудом удерживал себя на месте, чтобы поменьше крутиться, дабы не вызывать неудовольствие хмурого старейшины, черноглазый мальчик лет одиннадцати-двенадцати.
Мальчик был взволнован. От возбуждения ноздри его упруго раздувались, и на лице проступали скрытые веснушки. Это у него от матери – у нее тоже, когда она очень радовалась, появлялись на лице такие скрытые веснушки. Мальчику было отчего волноваться. Этот выход в море предназначался ему, его приобщению к охотничьему делу. И потому Кириск крутил головой по сторонам, как кулик, глядел повсюду с неубывающим интересом и нетерпением. Впервые в жизни отправлялся Кириск в открытое море с настоящими охотниками, на настоящую, большую добычу, в большом родовом каяке. Мальчику очень хотелось привстать с места, поторопить гребцов, очень хотелось самому взяться за весла, подналечь изо всех сил, чтобы быстрей доплыть до островов, где предстояла большая охота на морского зверя. Но такие ребяческие желания могли показаться серьезным людям смешными. Опасаясь этого, он всеми силами пытался не выдать себя. Но это не совсем удавалось. Трудно было ему скрыть свое счастье – горячий румянец отчетливо проступал на смуглых крепких щеках. А главное, глаза, сияющие, чистые, одухотворенные глаза мальчишечьи не могли утаить радости и гордости, переполнявших его ликующую душу. Впереди море, впереди большая охота! И старик Орган понимал его. Углядывая прищуром глаз направление по морю, он замечал и настроение мальчишки, ерзающего от нетерпения. Старик теплел глазами – эх, детство, детство, – но улыбку в углах запавшего рта вовремя подавлял усиленным посасыванием полуугасшей трубки. Нельзя было открывать улыбку. Мальчик находился с ними в лодке не ради забавы. Ему предстояло начать жизнь морского охотника. Начать с тем, чтобы кончить ее когда-нибудь в море, – такова судьба морского добытчика, ибо нет на свете более трудного и опасного дела, нежели охота в море. А привыкать требуется сызмальства. Потому-то прежние люди говаривали: «Ум от неба, сноровка сызмальства». И еще говаривали: «Плохой добытчик – обуза рода». Вот и выходит, чтобы быть кормильцем, мужчина должен с ранних лет постигать свое ремесло. Пришел такой черед и Кириску, пора было натаскивать мальчишку, приучать его к морю.
Об этом все знали, все поселение клана Рыбы-женщины у сопки Пегого пса знало, что сегодняшний выход в плавание предпринимался ради него, Кириска, будущего добытчика в кормильца. Так заведено: каждый, кто рождается мужчиной, обязан побрататься с морем с малолетства, чтобы море знало его и чтобы он уважал море. Потому-то сам старейшина клана старик Орган, двое лучших охотников – отец мальчика Эмрайин и двоюродный брат отца Мылгун – шли в плавание, повинуясь заветному долгу старших перед младшими, в этот раз перед ним, мальчиком Кириском, которому предстояло отныне и навсегда спознаться с морем, отныне и навсегда и в дни удач и неудач.
Пусть он, Кириск, сейчас мальчишка, пусть еще молоко материнское на губах, и неизвестно, выйдет ли толк из него, но кто возьмется сказать, может статься, когда они сами отойдут от дел, превратясь в немощных старцев, именно он, Кириск, будет кормильцем и опорой рода. Так этому и положено быть, так оно и идет в поколениях, из колена в колено. На том жизнь стоит.
Но об этом никто не скажет вслух. Человек думает об этом про себя, а говорит об этом редко. Оттого-то там, на побережье Пегого пса, никто из людей Рыбы-женщины не придал особого значения этому событию – первому выходу Кириска на добычу. Наоборот, соплеменники постарались даже не заметить, как он уходил в море вместе с большими охотниками. Вроде бы не принимали всерьез эту затею.
Провожала его только мать, и то, не сказав вслух ни слова о предстоящем плавании и не дойдя до бухты, попрощалась. «Ну, иди в лес! – нарочито внятно сказала она сыну, при этом не глядя на море, а глядя в сторону леса. – Смотри, чтобы дрова были сухие, и сам не заблудись в лесу!» Это она говорила для того, чтобы запутать следы, оберечь сына от кинров – от злых духов. И об отце мать не проронила ни слова. Точно бы Эмрайин был не отец, точно не с отцом Кириск отправлялся в море, а со случайными людьми. Опять же умалчивала для того, чтобы не проведали кинры, что Эмрайин и Кириск – отец с сыном. Ненавидят злые духи отцов и сыновей, когда они вместе на охоте. Погубить могут одного из них, чтобы силу и волю отнять у другого, чтобы с горя поклялся один из них не ходить в море, не вступать в лес. Такие они, коварные кинры, только высматривают, только выжидают случай какой, чтобы вред учинить людям.
Сам-то он, Кириск, не боится злых кинров, не маленький уже. А мать боится, особенно за него страшится. Ты, говорит, еще мал. Сбить тебя с толку, погубить очень просто. И то правда! Ох, эти злые духи, сколько они бед приносят в малолетстве – болезни разные или вред какой нашлют, покалечат дитя, чтобы охотник из него не вышел. А кому тогда нужен такой человек! Поэтому очень важно остерегаться злых духов, особенно в малолетстве, пока не подрос. А когда человек поднимается на ноги, когда станет самим собой, тогда не страшны никакие кинры. Им тогда не совладать, боятся они сильных людей.
Так и попрощались мать с сыном. Мать постояла молча, затаив в том молчании и страх, и мольбу, и надежду, да пошла назад, не оглянувшись ни разу в сторону моря, не обмолвившись ни словом об отце, вроде бы она и в самом деле ведать не ведала, куда отправлялись ее муж с сыном, а ведь сама накануне собирала их в путь, еду готовила с запасом – на три дня плавания, а теперь прикинулась ничего не знающей, так боялась она за сына. Так боялась, что ничем не выдала тревоги своей, чтобы не учуяли злые духи, как страшится она в душе.
Мать ушла, не дойдя до бухты, а сын, петляя по кустам, запутывая след, скрываясь от незримых кинров, как и наказывала мать, – не хотелось огорчать ее в такой день, – пустился догонять ушедших далеко вперед мужчин.
Он быстро догнал их. Они шли не спеша, с ношей, с ружьями, со снастями на плечах. Впереди старейшина Орган, за ним, выделяясь своей фигурой и ростом, плечистый, бородатый Эмрайин, а за ним, косолапо ступая, коренастый, сбитый и круглый, как пень, Мылгун. Одежда на них была обношенная, для моря, вся из выделанных шкур и кож, чтобы тепло держала и не намокала. А Кириск, по сравнению с ними, выглядел нарядным. Мать постаралась, давно готовила она его морскую одежду. И торбаса и верхняя одежда порасшиты по краям. На море-то к чему это? Но мать есть мать.
– Ух ты, а мы думали, что ты остался. Думали, увели тебя за ручку домой! – насмешливо подивился Мылгун, когда Кириск поравнялся с ним.
– Это почему? Да никогда в жизни! Да я! – Кириск чуть не задохнулся от обиды.
– Ну, ну, шуток не понимаешь, – урезонил его тот, – ты это брось. На море-то с кем разговаривать, как не друг с другом. На вот, неси-ка лучше! – Подал он ему свой винчестер. И мальчик благодарно зашагал рядом.
Предстояла погрузка и отплытие.
Вот таким образом уходили они в море. Но зато возвращение, если выпадет удача, если с добычей вернутся они домой, будет иным. Тогда-то по праву мальчику честь воздадут. Будет праздник встречи юного охотника, будут песни петься о щедрости моря, в необъятных глубинах которого умножаются рыбы и звери, предназначенные сильным и смелым ловцам. Величать будут в песнях Рыбу-женщину, прародительницу, от которой пошел их род на Земле. И тогда загудят бревна-барабаны под ударами кленовых палок, и среди пляшущих шаман – самый многоумный человек – разговор заведет с Землей и Водой, разговор о нем, Кириске, новом охотнике. Да-да, о нем будет говорить шаман с Землей и Водой, заклинать станет и просить, чтобы всегда добры были к нему Земля и Вода, чтобы вырос он великим добытчиком, чтобы удача всегда сопутствовала ему на Земле и на Воде, чтобы всегда суждено было ему делить добычу среди старых и малых по всей справедливости. И еще заклинать и просить станет он, шаман многомудрый, чтобы дети народились у Кириска и все выжили, чтобы род великой Рыбы-женщины умножался, и потомки к потомкам прибавлялись:
Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина? Твое жаркое чрево – зачинает жизнь. Твое жаркое чрево – нас породило у моря. Твое жаркое чрево – лучшее место на свете. Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина? Твои белые груди, как нерпичьи головы. Твои белые груди вскормили нас у моря. Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина? Самый сильный мужчина к тебе поплывет, чтобы чрево твое расцветало, чтобы род твой на земле умножался…
Вот такие песни будут петься на празднике среди плясок и гомона. И на празднике том для Кириска состоится еще одно важное действо. Судьбу его охотничью неистово пляшущий шаман поручит одной из звезд в небе. Ведь у каждого охотника есть своя звезда-охранительница. А какой звезде будет поручена его, Кириска, судьба, об этом никто никогда не узнает. Только сам шаман и та звезда, незримая охранительница, будут знать. И больше никто. А звезд в небе много…
Ну, конечно, мать и сестренка возрадуются больше всех, будут петь громче всех и выплясывать. И отец, Эмрайин, во всеуслышание назовется отцом и тоже будет рад и горд. А покуда он не отец. В море нет отцов и сыновей, в море все равны и подчиняются старшему. Как скажет старший, так тому и быть. Отец не станет вмешиваться. Сын не станет жаловаться отцу. Так положено.
И еще, пожалуй, Муэлук, девчонка, с которой они играли в детстве, обрадуется. Очень. Теперь они стали меньше играть. А отныне и вовсе: охотнику не до игр…
Лодка шла справно, слегка приныривая по волнам. Уже давно осталась позади бухта Пегого пса, минули мыс Длинный и, выйдя из залива в море, обнаружили, что на море волна не сильнее, чем в заливе. Волны всплескивались на одинаковую высоту с одинаковым промежутком времени. По таким устойчивым волнам можно плыть ходко.
Хорошо, сноровисто шла лодка, долбленная из ствола могучего тополя. Надежно держалась она и на прямой и на боковой волне, легко повинуясь рулю.
Посасывая все ту же уже угасшую трубку, старик Орган испытывал удовольствие от прочного хода лодки и в душе чувствовал себя так, точно бы он сам был лодкой, идущей по студеному морю вполборта осадки на воде; будто то сам он плыл по раздолью морскому, под ровный скрип уключин и мерные взмахи весел; будто то он сам двигался, прорезая килем, как собственной грудью, упругость встречных волн, слегка покачиваясь от ударов и толчков воды. Это ощущение полной слитности с движением лодки вызывало в нем странное раздумье. Доволен он был лодкой, очень даже, ведь сам стругал и долбил; тополь свалили сообща, одному да и четверым такое не под силу, а работал сам – три лета сушил и рубил и уже тогда знал: выйдет лучший каяк из всех сработанных им на его веку. Но, думая об этом, огорчался невольно: а что если это последний в его жизни? Еще бы пожить. Еще походить бы за добычей по морю, еще пару каяков состругать бы, пока зрение есть, пока чутье не утратил.
И, думая так, он разговаривал мысленно с лодкой. «Я люблю тебя и верю тебе, брат мой каяк, – говорил он лодке. – Ты знаешь язык моря, ты знаешь повадки волн, в том твоя сила. Ты достойный каяк, лучший среди всех, соструганных мною. Ты большой каяк – два лахтака и еще нерпа вмещаются в тебя. Ты приносишь удачу нам. Поэтому я уважаю тебя. Мы все тебя любим, когда тебе тяжко от добычи нашей, когда возвращаешься ты к берегу, проседая до краев и даже зачерпывая воду. Вот тогда все выбегают к берегу встречать тебя, брат мой каяк!
Если я умру, ходи долго, ходи далеко по богатым добычей местам. Если я умру, плавай по морю с молодыми и сильными охотниками. Если я умру, служи им, как служишь мне. И дождись, брат мой каяк, чтобы и этот отпрыск наш, что вон сидит на носу, головой крутит, едва терпит, – была бы не вода, а твердь, побежал бы он сейчас на большую охоту, сам, один управляться с делами, так ему кажется, – дождись, брат мой каяк, чтобы и этот подрос, чтобы и он плавал с тобой далеко и близко. А сегодня он с нами впервые в море. Так надо. Пусть привыкает. Мы уйдем, а ему еще оставаться долгие годы. Удастся в отца, в Эмрайина, значит, будет толковый человек. Не пустобрех какой-нибудь. Эмрайин, пожалуй, лучший охотник среди нынешних. Крепкий парень, дельный. Когда-то и я был таким. В самой силе. Женщины меня любили тогда. А я-то думал – век нескончаем. Только поздно узнаешь, что это не так. А молодые знать не хотят. Вот Эмрайин и Мылгун наверняка еще не думают. Ну да ладно. Узнают еще. А гребут они хорошо, ухватисто. Мылгун под стать Эмрайину, надежная, выносливая пара. Лодка вроде сама по себе играючи плывет. Но это так кажется. По морю ведь на руках ходишь. А впереди – грести и грести! Сегодня, почитай, до самой темноты плыть, пока доберешься до Третьего сосца. И завтра весь день в обратный путь. С утра и весь день. Подменять буду то одного, то другого, однако тяжелое это дело – переболтать веслами целое море. А вернемся с добычей, праздник устроим.
Ты слышишь, ты понимаешь меня, брат мой каяк? Ты доставишь нас на острова, к Трем сосцам, к месту большой охоты. Для того и плывем. Там, на лежбищах, на берегу, встретим нерпу. Скоро окот, нерпа в стада собирается на островах.
Ты меня понимаешь, брат мой каяк? Ты-то меня понимаешь. Я с тобой начал говорить, когда ты еще не знал моря, когда ты еще жил в чреве великого тополя в лесу. Я освободил тебя из чрева дерева, и теперь мы плывем.
А когда не станет меня, не забывай обо мне, брат мой каяк. Помни, когда будешь плавать по морю…»
Так думал Орган, держа курс от главного ориентира на побережье, от сопки Пегого пса по прямой в море. Эта сопка-утес имела необычайное свойство, о чем говорили все ходившие в плавание, – в ясную погоду сопка как бы вырастала по мере удаления от нее. Точно бы Пегий пес сам увязывался следом, не желая отстать. Как ни оглянешься, Пегий пес все на виду. Очень долго видна эта сопка на удалении, а потом вдруг за какой-то крутизной воды сразу исчезает с глаз. Значит, ушел Пегий пес домой, значит, земля осталась далеко позади…
И тогда надо запомнить, хорошо запомнить, где, в какой стороне остался Пегий пес, надо запомнить направление ветра, стояние солнца по отношению к сопке, облака приметить, если в тихую погоду, и следовать в море, все время, до самых островов, держа в уме месторасположение Пегого пса, чтобы не сбиться с пути в морском пространстве.
Они направлялись к островам, находящимся на расстоянии почти дневного перехода. То были необитаемые, крохотные скальные островки – три клочка суши, выступавшие темными сосцами среди водного безбрежья. Поэтому островки прозывались Три сосца – Малый, Средний, Большой. А за ними, если плыть еще дальше, путь лежал в океан, меры которому не было, имени которого они не знали, – великая, нехоженая, неведомая Вода вечности, возникающая сама из себя, пребывающая от сотворения мира, еще с тех времен, когда утка Лувр с криком носилась в поисках маленького местечка для гнезда – кусочка тверди величиной с ладонь – и не находила его в целом свете. Вот там, на тех островах, на границе моря и океана, в эти весенние дни располагались нерпичьи лежбища. За тем и шли, за тем и путь держали в ту сторону…
Мальчик поражался, что море оказалось совсем иным, не таким, каким представлялось оно ему в его играх на кручах Пегого пса, и даже не таким, каким оно было при лодочных катаниях по лагуне. Особенно остро он ощутил это, когда они вышли из залива, когда море вдруг расступилось, заполняя за собой все видимое пространство до самого неба, превратившись в безраздельную, неоглядную, единственную сущность мира.
Открытое море ошеломило Кириска. Такого зрелища он не ожидал. Только вода – зыбучая, тяжелая вода, только волны – скоротечно возникающие и немедленно умирающие, только глубина – темная, тревожная глубина, и только небо в кочующих белых облаках, легковесных и недоступных. И то был весь сущий мир – и ничего больше, ничего иного, кроме этого, кроме самого моря, – ни зимы, ни лета, ни бугра, ни оврага.
Вода застилала свет из края в край.
А лодка плыла, все так же приныривая по волнам. Все так же занятно и радостно было мальчику находиться в лодке в ожидании большой охоты. Но, однако, все, что он видел и замечал вокруг – в воде и над водой, – в этот раз он воспринимал мимолетно, по-праздничному вполвнимания, поскольку душа его торопилась, всецело занятая ожиданием иных впечатлений. В другое время его привлекала бы и нескончаемая игра лучей на воде, причудливо скользящих по поверхности, преображая лик моря переливами оттенков от нежно-фиолетового и темно-зеленого до густой тьмы в тени за бортом; и очень обрадовался бы он тем странным любопытным рыбам, нечаянно оказавшимся возле лодки, и посмеялся бы над горбушами, что столкнулись с ними плотным косяком и вместо того чтобы разбежаться, с перепугу стеснились еще плотней и стали выпрыгивать из воды и смешно падать на спины, зависая в воздухе.
Всего этого он не удостоил особого внимания – пустяки какие-то. Он жаждал лишь одного – скорей бы добраться до островов! Скорей бы за дело!
Но вскоре настроение мальчика как-то странно, само по себе изменилось, хотя он и не подавал вида. По мере того как удалялись они от земли, особенно после того как Пегий пес вдруг скрылся с глаз за взгорбившейся чернотой воды, он стал улавливать некую смутную опасность, исходящую от моря, и почувствовал всю свою зависимость от моря – свою бесконечную малость и бесконечную беззащитность пред лицом великой стихии.
Для него это было ново. И тут он понял, как дорог ему Пегий пес, о котором он прежде никогда не вспоминал, беззаботно и безбоязненно резвясь на его склонах, любуясь с высоты сопки ничем не угрожающим морем. Теперь он понял, какой могучий и добрый был Пегий пес, несокрушимый и всесильный на своем месте.
Теперь он понял разницу между сушей и морем. На земле не думаешь о земле. А находясь в море, неотступно думаешь о море, даже если мысли твои о другом. Это открытие настораживало мальчика. В том, что море заставляло постоянно думать о себе, таилось нечто неведомое, настойчивое, властное…
А взрослые, однако, были спокойны. Эмрайин и Мылгун все так же гребли, взмах за взмахом, как один человек, в ровном, слаженном ритме: четыре весла разом прикасались к воде, легко и свободно сообщая лодке постоянный ход. Но это стоило гребцам непрерывного напряжения. Кириск не видел их лиц. Гребцы сидели к нему спиной, но он видел, как бугрились и расправлялись их заплечья. Они лишь изредка обменивались словом. Отец, правда, иногда успевал оглянуться, успевал улыбнуться сквозь бороду сыну: «Ну, как, мол?..»
Так они и плыли. Взрослые были спокойны и уверены в себе. Старик Орган, тот и вовсе был невозмутим. Все так же посасывая трубку, правил лодкой на своем месте. Так они и плыли, каждый занятый своим делом. Правда, раза два Кириск брался грести – то в паре с Мылгуном, то в паре с отцом. Гребцы ему охотно уступали одно из весел. Пусть, мол, поработает. И хотя он ворочал весло обеими руками, надолго его не хватало: слишком тяжела была для него лодка, да и весло великовато. Но никто его в том не упрекал и не жалел, всё больше работали молча.
А когда Пегий пес вдруг скрылся из виду, все разом оживились почему-то.
– Пегий пес ушел домой! – объявил отец.
– Да, ушел! – подтвердил Мылгун.
– Разве? Ушел, стало быть. – Глянул в ту сторону и старик Орган. – Ну, коли так, значит, дело идет. Эй, Кириск, – лукаво обратился он к мальчику, – а не покликать ли тебе Пегого пса, может, вернется?
Все засмеялись, и Кириск засмеялся. Потом он подумал и громко сказал:
– Тогда надо поворачивать назад – вот он и вернется!
– Ишь ты, какой скорый! – воскликнул Орган, усмехаясь. – Давай-ка лучше займемся делом. Перелезай ко мне. Хватит глазеть. Море не пересмотришь.
Кириск покинул свое место на носу, стал перебираться к корме, переступая вещи на дне лодки: пару винчестеров, завернутых в оленьи кожи, гарпун, моток веревки, бочонок с водой, мешок с провизией и еще какие-то узлы и одежды. Протискиваясь по борту мимо гребцов, переступая через весла, мальчик ощутил запах крепкого мужского пота и табака, исходящий от взмокших затылков и спин. Тот самый запах отцовской одежды, который мать любит вдыхать, когда отец в море, – возьмет его старый кожух и прижмется лицом.
Отец кивнул сыну, прибоднул его слегка плечом в бок, но весел не выпустил из рук. Кириск, однако, не задержался на невольную отцовскую ласку. Ишь чего! В море все равны. В море нет ни отцов, ни сыновей. В море есть только старший. И без его ведома пальцем не пошевельни…
– Садись, прилаживайся возле, – указал ему место Орган, притрагиваясь к плечу длинной узловатой рукой. – Ты никак сробел малость, а? Сначала вроде ничего, а потом…
Кириск смутился: значит, старик Орган догадался. Но все же протестующе возразил:
– Да нет, аткычх[1], вовсе не сробел! Чего мне бояться?
– Ну как же, первый раз в море.
– Ну и что – первый раз?! – не сдавался Кириск. – Да я ничего не боюсь.
– Ну, дело. А вот я, когда первый раз поплыл, а это было очень давно, честно признаюсь, перепугался. Смотрю: берега давно не видно и Пегий пес убежал куда-то. А кругом только волны. Домой захотелось. Да вон спроси у них – у Эмрайина и Мылгуна, каково им было?
Те в ответ понимающе заулыбались, закивали головами, налегая на весла.
– А я нет! – стоял на своем Кириск.
– Значит, молодец, коли так! – успокоил его старик. – А теперь скажи мне, в какой стороне остался Пегий пес?
Кириск призадумался от неожиданности и потом указал рукой:
– Вон там!
– Ты уверен? Что-то рука у тебя дрожит.
Унимая дрожь в руке, мальчик указал чуть-чуть, лишь слегка правее:
– Вон там!
– Вот теперь точно! – согласился Орган. – А если каяк повернется носом в эту сторону, тогда где будет Пегий пес?
– Вон там!
– А если ветер развернет нас в ту сторону?
– Вон там!
– А если налево поплывем?
– Вон там!
– Хорошо, а теперь скажи мне, как ты определяешь, – ведь вокруг глазам ничего не видно, кругом вода? – допытывался Орган. – Можешь объяснить?
– А у меня еще есть глаза, – ответил Кириск.
– Какие глаза?
– Не знаю, какие. Они у меня в животе, наверно, и они видят не видя.
– В животе? – Все рассмеялись.
– И то верно, – отозвался Орган. – Есть такие глаза. Только они не в животе, а в голове.
– А у меня в животе, – отстаивал свое Кириск, хотя соглашался уже, что такое зрение может быть лишь в голове.
Спустя некоторое время старик снова принялся испытывать Кириска и, убедившись в его способности запоминать стороны моря, остался доволен:
– Ну-ну, неплохие у тебя глаза в животе, – пробормотал он.
Польщенный похвалой, Кириск принялся сам задавать себе задачи и находить ответы. Пока что, при относительно спокойном море, это не представляло больших трудностей.
Верный и великий Пегий пес всякий раз безотказно отзывался – без особых усилий памяти возникал перед внутренним взором Кириска именно там, в той стороне, где он оставался, возникал как бы воочию, всей своей громадой, с лохматыми лесами по кручам, с пятнами снега на «голове» и в «паху», с гремящим, неутомимым, вечным прибоем у подножия утеса. Представив себе Пегого пса, мальчик не мог не думать о других окружающих сопках и невольно начинал думать о доме. Виделась ему небольшая долина среди прибрежных сопок, а в той долине у опушки леса, на берегу речки стойбище – срубы, лабазы, собаки, куры, вешала для сушки рыбы, дымы, голоса, и там мать и сестренка Псулк. Он живо представил их себе и то, что они сейчас делают, чем занимаются. Мать втайне думает, конечно, о нем, и об отце, и обо всех них – охотниках в море. Да, вот сейчас она наверняка думает о них. Думает, а сама очень боится, чтобы злые духи не отгадали ее мысли, не проведали ее страха. И еще кто думает о нем, так это, наверно, Музлук. Музлук, пожалуй, прибегала уже вроде бы поиграть с Псулк. А ведь мать может отругать ее, если та ненароком скажет вслух или спросит что-нибудь о нем, ушедшем в море. Мать непременно отчитает ее: «Ты о чем это болтаешь, разве ты не знаешь, что он ушел в лес за дровами?» Девочка спохватится, замолчит, пристыженная. Кириску при этом даже жаль стало ее. Он хотел, чтобы Музлук думала о нем, но ему очень не хотелось, чтобы ее укоряли из-за него.
А лодка все так же плыла, слегка приныривая по волнам. И кругом блистало в мелком кипении волн все то же сплошь бурунистое море. Нивхи рассчитывали пополудни, самое позднее к концу дня добраться до первого островка (то был близлежащий из трех сосцов – Малый сосец) и при удаче начать там охоту. Затем им предстояло засветло доплыть до второго – Среднего – сосца и там заночевать, благо у берега есть удобная затишь для лодки. А рано утром снова в море. Если с вечера повезет, если добудут сразу три туши нерпы, утром могут не мешкая лечь в обратный путь. Но как бы то ни было, возвращаться предстояло в первой половине дня, не позднее высоты солнца в два тополя. Известно ведь, чем раньше покинешь море, тем лучше.
Все это было предусмотрено стариком Органом, на все он имел свой расчет. Да и подручные его – Эмрайин и Мылгун – не первый раз шли к Трем сосцам. Сами отлично знают, что к чему. Главное же – чтобы погода стояла и чтобы зверя вовремя обнаружить на лежбище. Это главное, а все остальное, как сумеешь справиться, тут уж каждый за себя в ответе.
Старик Орган ходил в плавание не только в силу необходимости, нужда нуждой, ясное дело – без прокорма с моря не проживешь, но еще и потому, что море влекло его. Морские дали располагали старика к его заветным раздумьям. Были у него сокровенные мысли свои. В море ничто не мешало предаваться им, ибо всему тому, о чем поразмыслить некогда на суше, среди повседневных забот, в море наступал черед – здесь ничто не отвлекало Органа от его великих дум. Здесь он чувствовал себя сродни и Морю и Небу.
Он понимал, что перед лицом бесконечности простора человек в лодке ничто. Но человек мыслит и тем восходит к величию Моря и Неба, и тем утверждает себя перед вечными стихиями, и тем он соизмерен глубине и высоте миров. И потому, пока человек жив, духом он могуч, как море, и бесконечен, как небо, ибо нет предела его мысли. А когда он умрет, кто-то другой будет мыслить дальше, от него и дальше, а следующий еще дальше и так без конца… Сознание этого доставляло старику горькую усладу непримиримого примирения.
Он понимал, что смерть неизбежна, что не так уж далек предел его жизни, понимал, что смерть – всему конец, но при этом надеялся почему-то, что самое сокровенное и заветное в нем – его великие сны о Рыбе-женщине пребудут, останутся с ним и после смерти. Он не мог передать свои сны другому – сновидения непередаваемы, и потому, считал он, они не должны исчезнуть бесследно… Не должны. Великая Рыба-женщина бессмертна, стало быть, и сны о ней должны быть бессмертными.
Об этом он много и часто думал в плавании. Надолго умолкал, уходил в себя, не вступая ни в какие разговоры с попутчиками. Глядя на море, обращаясь неизвестно к кому, он просил лишь об одном: оставить ему его сны о великой Рыбе-женщине. Разве невозможно, чтобы сны уходили вместе с человеком в иной мир, чтобы они снились вечно, во веки веков? Не находя ответа, он мучительно размышлял, пытаясь убедить себя, что так оно и будет, что сны останутся при нем.
…Когда-то очень и очень давно, в незапамятные времена, на побережье близ сопки Пегого пса жили три брата. Старший был скороход, легок на подъем, везде и повсюду поспевал: женился он на дочери оленного человека, стал хозяином оленьих стад, откочевал в тундру, с тем и ушел.
Младший был следопыт и меткий стрелок. Он тоже женился, взял себе девушку из лесных людей, ушел в тайгу, стал охотником в таежных местах. А средний брат, хромоногий от рождения, не повезло человеку, рано вставал, поздно ложился, да что толку – за оленями ему не угнаться, зверя в лесу не выследить. Никто в округе не отдал ему дочери своей в жены, братья покинули его, и остался он один у самого синего моря. Перебивался тем, что рыбу удил. Известное дело – сколько ее наудишь…
Однажды сидел он, горемычный брат хромоногий, в лодке своей, закинув леску в море, только вдруг почувствовал, как удилище сильно задрожало в руках. Обрадовался – вот будет улов! Начал он выводить рыбину, все ближе и ближе к лодке подтягивать.
Смотрит – что за диво! А то рыба в образе женщины. По воде колотит, извивается, уйти хочет. А красоты невиданной – тело гладкое, серебром отливает, как речной галечник в лунную ночь, груди белые с темными сосцами торчком, точно бы то еловые шишечки, а глаза зеленые огнем искрятся. Поднял он Рыбу-женщину из воды, подхватил под руки, тут она обняла его, и легли они в лодку. От счастья такого голова хромоногого брата кругом пошла. Сам не помнит, что с ним было, и казалось ему – до небес вскидывалась лодка. Раскачалось море до неба, небеса раскачались до моря. А потом все утихло разом, как после бури. Тут Рыба-женщина выпрыгнула из лодки и уплыла. Кинулся хромоногий брат, стал ее звать и умолять вернуться, но она не откликалась, исчезла в морской глубине.
Вот такой случай приключился с хромоногим средним братом, одиноким и покинутым всеми на краю моря. Уплыла Рыба-женщина и больше никогда не появлялась. А хромоногий брат с того дня затосковал, закручинился крепко. С того дня все дни и все ночи ходил он с плачем по берегу и все звал Рыбу-женщину, заклинал и просил ее хотя бы издали показаться.
По приливу шел и пел:
- Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?
По отливу шел и пел:
- Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?
Лунной ночью шел и пел:
- Это море – тоска моя,
- Эти воды – слезы мои.
- А земля – голова моя одинокая.
Темной ночью шел и пел:
- Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?
По приливу шел и пел, по отливу шел и пел…
А тем временем зима миновала, следом весна миновала, и однажды в летнюю пору шкондылял по берегу горемычный брат хромоногий, по волнам прибоя по колено брел и все в море смотрел – не покажется ли вдруг Рыба-женщина, и все звал ее – не откликнется ли вдруг Рыба-женщина, только вдруг услышал он на отмели вроде бы детский плач. Вроде бы дитя малое плачет-надрывается. Побежал он туда и глазам не верит своим – младенец голышом сидит на отмели у самой воды, волна то накроет его, то уйдет, а он плачет да все приговаривает громко: «Кто мой отец? Где мой отец?» Еще больше диву дался хромоногий брат, и не знал он, бедняга, как тут быть. А младенец увидел его и говорит: «Это ты мой отец! Возьми меня к себе, я твой сын!»
Вот ведь какая история вышла! Взял человек сына своего, унес его к себе.
Быстро подрос мальчик. По морю стал ходить. Отважным и крепким добытчиком прослыл. Удачливым родился: сеть забросит – рыбы полно, стрелу выпустит – зверя морского насквозь прошьет. Слава пошла о нем далеко, за леса и горы. Тут и девушку со всем уважением выдали за него из лесного племени. Дети народились, и отсюда пошел умножаться род людей Рыбы-женщины.
И отсюда песня поется на праздниках:
- Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?
- Твое жаркое чрево – зачинает жизнь,
- Твое жаркое чрево – нас породило у моря.
- Твое жаркое чрево – лучшее место на свете.
- Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?
- Твои белые груди, как нерпичьи головы,
- Твои белые груди вскормили нас у моря.
- Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?
- Самый сильный мужчина к тебе поплывет,
- Чтобы чрево твое расцветало,
- Чтобы род твой на земле умножался…
Этот сон наплывал исподволь, как неумолимо прибывающий прилив из глубин океана, погружающий на какое-то время прибрежные земли, травы, дюны в околдованную призрачность подводного сумрака.
Всякий раз этот сон оставлял ошеломляющее, долго не проходящее ощущение у Органа. Он верил в него настолько, что никому, ни одной душе на свете не рассказывал о своих свиданиях с Рыбой-женщиной, как не стал бы рассказывать кому бы то ни было о подобных случаях в обычной жизни.
Да, то был сон-спутник, часто навещавший старика, доставляя ему и отраду, и печаль, и неземные страдания духа. Удивительное свойство этого сновидения состояло в том, что каждый раз оно поражало Органа нескончаемостью сути своей и многозначностью намеков, заключенных в невероятных превращениях и причудах сна. Размышляя об этом, пытаясь разгадать тайную тайных – ту вечно неуловимую, непрестанно изменяющуюся связь сновидений с живой жизнью, которая вечно мучает человека своей загадочностью и неведомыми предзнаменованиями, Орган ловил себя на мысли, что при всем смятении духа он всегда жаждет возвращения этих снов, с неизбывной тоскою всегда жаждет свидания с ней, с Великой Рыбой-женщиной.
Он встречался с ней в море. Поджидая ее появления, выходил к берегу и долго шел по пустынным прибрежным пескам, на которых не задерживались следы ног, но сохранялись черные неподвижные тени от угасших лучей ушедшего солнца. Эти тени лежали подобно черному снегу, по которому он шел страдая, объятый пронзительной, нечеловеческой тоской. Боль любви, боль желаний и надежды переполняла его, а море оставалось пустынным и безучастным. Ни ветра, ни звуков, ни шороха не присутствовало в том напряженном безмолвном мире одиночества. А он ждал, неотрывно глядя на море, ждал чуда, ждал ее появления.
И тяжко становилось ему оттого, что бесшумные волны нагоняли вдоль его пути белую кипень бесшумного прибоя. Как огромные мятущиеся хлопья снега, беззвучно витали над головой безголосые чайки.
В этом оглохшем и онемевшем пространстве он не находил себе места, чувствуя, как ему делалось дурно, как по мере ожидания все больше, все острей и мучительней нарастала в нем неуемная, неумолимая тоска по ней, и даже во сне он понимал, что ему будет плохо, что он погибнет в пустоте одиночества, если не увидит ее, если она не появится. И тогда он принимался кричать, звать ее. Но голоса своего не различал, ибо голос отсутствовал, как отсутствовали все звуки в этом странном сне. А море молчало. Лишь собственное тяжкое дыхание, невероятно громкое и прерывистое, и неумолчный бой собственного сердца, бешено отдающийся в висках, преследовали его. Они раздражали его. Он не знал, куда деваться, как избавиться от самого себя. Он ждал Рыбу-женщину так страстно и безумно, как ждет утопающий последней надежды на спасение. Он знал, что только она, Рыба-женщина, может дать ему счастье, знал и ждал из последних сил.
И когда, наконец, она стремительно выныривала на поверхность, когда она плыла к нему со взором, обращенным к нему, мелькая неясным ликом между волнами, немота мира сокрушалась, как обвал. Крича и ликуя, встречал он возвращение звуков: вновь пробудившийся рев прибоя, шум ветра и гомон чаек над головой. Крича и ликуя, он бросался к ней в море и плыл к ней, превратившись в быстроплавающее, как кит, существо.
А она, Рыба-женщина, ждала его, ходила бурными кругами, взмывая на миг над водой, и, вся трепеща, зависала в длинных бросках, ясно вырисовываясь в те мгновения живой телесной плотью, как самая обыкновенная женщина с хорошими бедрами, очутившаяся вдруг в море.
Он подплывал к ней, и они уходили в океан.
Плыли рядом, бок о бок, легко соприкасаясь в стремительном, все убыстряющемся движении. Это и было то, ради чего он томился в муках тоски и немоты одиночества.
Теперь они были вместе. С непостижимой силой и скоростью мчались они в мерцающую даль ночного океана, излучающего необыкновенное, из глубины идущее сияние на зыбкой черте горизонта, они неслись туда, к неуловимому горизонту, прошивая телами вспененные гребни беспрестанно бегущих навстречу волн, они мчались по нескончаемым перекатам, то возносясь вверх, то скользя вниз, захваченные восторгом ликующего полета – то вверх, то вниз, с гряды на гряду, от переката к перекату. А рядом с ними, сопровождая их, неотступно следовала скачущим зеркальным пятном вытянувшаяся в беге, поспешающая по волнам желтая луна. Только луна и только они – он и Рыба-женщина, только они царили в этом безбрежном океанском просторе, только они и океан! То была вершина их счастья, то было упоение свободой, то было торжество их свидания…
Они мчались беспрерывно и мощно, во власти неодолимого желания поскорее достигнуть некоего места на свете, предназначенного им, где они, одержимые страстью, соединятся, наконец, чтобы познать в одно молниеносное мгновение всю усладу и всю горечь начала и конца жизни…
Так они и плыли, стремглав, безудержно, в надежде скорого достижения желанной цели.
И чем быстрее они плыли, тем отчаяннее разгоралось в нем яростное нетерпение плоти. Он плыл без устали, рвался вперед изо всех сил, как лосось, несущий к месту нереста всю свою жизненную энергию до единой, до наипоследней, наиисчерпывающей капли. Он плыл, готовый умереть от любви. А загадочная Рыба-женщина, увлекая его все дальше и дальше в глубь океана, продолжала лететь по волнам в туче брызг и сверкающей радуге, восхищая Органа жемчужной теплотой, стремительностью и гибкостью тела. Дыхание занималось от совершенства красоты ее, омываемой синевой и белизной завихряющихся струй.
Они ни о чем не говорили, они лишь неотрывно смотрели друг на друга, пытаясь вглядеться в потоках воды и брызгах в смутные очертания лиц, и безостановочно мчались по океану в нетерпеливом, всевозрастающем ожидании места и часа, предназначенных им судьбой…
Но они никогда не достигали того места, и тот час никогда не наступал…
В большинстве случаев сны его кончались ничем – внезапно все обрывалось, исчезало, как дым. И тогда он оставался в недоумении. По-настоящему огорчался и долго потом тосковал, испытывал чувство некой неудовлетворенности, незавершенности. Иной раз, спустя много времени припоминал все с самого начала, задумывался всерьез – что бы все это значило и к чему это, ибо в душе он верил, что то, что ему снилось, было больше, чем сон. Ведь обычный сон если и вспомнишь, то вскоре забудешь навсегда. От такого зряшного дела голова не болела бы, мало ли чего приснится. А Рыбу-женщину Орган никогда не забывал, думал, размышлял о ней как о чем-то таком, что действительно имело и имеет место в жизни. Поэтому, пожалуй, старик каждый раз искренне переживал, воспринимая свою встречу и неожиданную разлуку с Рыбой-женщиной во сне как подлинное событие.
Но, бывало, сильнее всего терзался он духом, когда сон завершался тяжким финалом. В таких случаях сокрушался с великим отчаяньем и прискорбием, не находя объяснения загадочному исходу сна.
Снилось ему, что вот-вот доплывут они до заветного фиеста, что уже виден вдали какой-то берег. То был берег любви – к нему направлялись, поспешали они что есть мочи, охваченные неистовым желанием поскорее достигнуть этого берега, где они смогут отдаться друг другу. Вот уже близко совсем до берега, и вдруг с ходу врезались в песчаное дно мелководья, где воды ниже колена и где плаванию конец. Орган спохватывался, оглядывался: Рыба-женщина бешено колотилась в мелководье, тщетно пытаясь вырваться из плена коварной отмели. Обливаясь холодным потом, Орган бросался к ней на помощь. Но проходила целая вечность, пока он, увязая в засасывающей, как болото, трясине дна, полз на коленях, волоча непослушные, обмякшие, чужие ноги. Рыба-женщина была совсем рядом, рукой дотянуться оставалось самую малость, но добираться до нее было мучительно, он задыхался, захлебывался, проваливаясь в илистом дне, запутывался в липнувших водорослях. Но еще более мучительно было видеть, как трепыхалась, билась застрявшая на мели его прекрасная Рыба-женщина. И когда, наконец, он добирался и, шатаясь от головокружения, шел к берегу, прижимая ее к груди, он явственно слышал, как панически стучало готовое разорваться на части сердце Рыбы-женщины, точно то была схваченная в погоне птица-подранок. И от этого, оттого что он нес ее на руках, крепко прижимая к себе, оттого что до боли, всем существом своим проникался нежностью и жалостью к ней, как если бы он нес на руках беззащитное дитя, к горлу подкатывал тугой горячий ком слез. Растроганный, стыдясь Рыбы-женщины, он сдерживал себя, чтобы не заплакать. Он нес ее, замирая сердцем, плавно передвигаясь, замирая и зависая на лету в воздухе, думая о ней на каждом шагу. А она, Рыба-женщина, умоляла его, в слезах заклинала, чтобы он отнес ее обратно в море, на волю. Она задыхалась, она умирала, она не могла любить его вне большого моря. Она плакала и молча смотрела на него такими просящими, пронзительными глазами, что он не выдерживал. Поворачивал назад, шел через отмель к морю, погружаясь все глубже и глубже в воду, и здесь осторожно выпускал ее из объятий.
Рыба-женщина уплывала в море, а он оставался оглушенный и одинокий. Глядя ей вслед, Орган просыпался в рыданиях…
- Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?
- Это море – тоска моя,
- Эти воды – слезы мои.
- А земля – голова моя одинокая!
- Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?
Тяжко и невыносимо было ему вспоминать об этом, будто бы и в самом деле держал он Рыбу-женщину в руках и сам же отпустил ее на волю. Отчего так случалось? Разве невозможно, чтобы во сне сбывались любые желания человека? От кого зависит это? Кто стоит и что стоит за этим, в чем смысл, какой тут сказ и к чему он? Теряясь в догадках, отмахивался Орган от таких мыслей, пытался забыть, не думать о Рыбе-женщине.
Но, очутившись на промысле, сам не замечал, как начинал думать о ней и обо всем, что было с этим связано. В море он как бы заново переживал всю историю необыкновенного сновидения и, размышляя трезво, удивлялся, спрашивал себя: зачем он думает об этом, разве его стариковское дело тосковать о несуществующей Рыбе-женщине? Укорял себя и себе же признавался: не будь ее, сам бы себе был уже в тягость – вот постарел уже, и силы не те, и глаза не те, и краса ушла, и зубов не хватает. Все, чем славен был, все уходит, разрушается, и смерть не за горами, и лишь грудь не сдается, желания в груди живут по-прежнему, как в молодости, беда – не стареет душа. Потому-то и думы думаются такие, и сны видятся такие, – потому как только во сне и в мыслях человек для себя бессмертен и свободен. Мечтой восходит в небо он и опускается в глубины морей. Тем и велик он, что до самого смертного часа думает обо всем, что есть в жизни. Но смерть не считается с этим, дела ей нет, что жил человек, какого величия в мыслях достиг и какие сны он видел, каким он был, насколько и на что ума у него хватало – все ей нипочем. Почему так? Зачем так устроено на свете? Пусть Рыба-женщина – сон, но пусть оставался бы этот сон навечно и там, в ином мире…
Так же, как он верил в Рыбу-женщину, верил Орган и в то, что море внемлет ему. Здесь ему и дышалось и думалось вольготно. Тут изливал он душу свою. Погруженный в свои мысли, порой он даже спрашивал себя: «А не здесь ли мы проплывали с ней?»
В такие минуты заново набивал трубку. Упивался табачным дымом: «И где она растет, трава эдакая – вроде злая, а на душе легчает… В Маньчжурии, говорят купцы. Оттуда они ее привозят. Далеко она, эта Маньчжурия, ох, далеко, никогда никто из наших людей там не бывал… Неужто табак растет там, как трава в лесу? Вот чудеса, чего только не бывает на свете…»
Солнце уже перевалило за полдень. Несколько раз за это время оно то скрывалось за облаками, набегавшими вдруг откуда-то из-за горизонта, точно бы там таилось гнездовье непогоды, – и тогда море моментально меркло, темнело ликом, сумрачно, неуютно становилось вокруг. То вновь выглядывало, светило из-за туч по-весеннему щедро и ясно, и тогда море играло мириадами живых, купающихся отблесков, сверкавших до боли в глазах, и опять становилось веселей на душе.
Кириск хотя и привык к морю и даже заскучал немного, но все еще не покидало его чувство удивления огромностью, неоглядностью морского простора. Сколько плывут – всё конца-края не видно. На земле, какая бы она ни была обширная, он никогда не удивлялся бы этому, как в море.
А взрослые ничуть ничему не удивлялись. Им было все привычно. Эмрайин и Мылгун продолжали грести все так же ровно, без замашистости зацепляя веслами верх воды. Они работали неутомимо, не позволили даже Органу подменить их для передышки, сказали, что лучше на обратном пути, когда с грузом будут, тогда поможет, а сейчас, мол, пусть правит себе. Старый Орган, кадыкастый и длинношеий, сидел на корме ссутулившись, как орлан, выжидающий добычу. Больше молчал, думал о чем-то своем.
А лодка плыла, все так же слегка приныривая по волнам. И волна стояла все та же – умеренной силы. Ветер шел низовой, устойчивый.
Так они плыли…
– Аткычх! Аткычх! Вон остров! Малый сосец! – радостно воскликнул вдруг Кириск, дернув Органа за рукав.
– Где остров? – не поверил Орган, приставляя ладонь к глазам. И гребцы удивленно оглянулись туда, куда указывал мальчик.
– Не должно быть, – пробормотал старик, ибо мальчик показывал совсем в другую сторону, неожиданную для них сторону.
Мальчик не врал. Там, вдали, очень далеко, действительно неподвижно темнела в море застывшая неровная полоса грязно-бурого оттенка, точно то был выступ тверди среди воды. Орган долго всматривался.
– Нет, то не остров, – убежденно сказал он наконец. – Нам до Малого сосца еще плыть по прямой, на закат, туда, куда мы плывем. А это совсем в стороне. И то не остров, – продолжал он. – Сдается мне, то не остров.
– Такого острова в этих водах никогда не было, никогда не видели мы такого острова, – сказал Мылгун. – Малый сосец будет слева, а это не знаю, что такое.
– А не туман ли это или облако какое? – промолвил Эмрайин. – Или волна так бурунит, тогда почему она не движется?
– Вот то-то, что он есть? Туман или облако, кто его знает. Далеко отсюда. Но то не остров, – рассуждал Орган. – Но если это туман такой, то радости мало.
– Ничего, лишь бы ветер не изменился, – приналегая на весла, высказал свое мнение Эмрайин. – Стоит оно на месте, не движется. А нам в той стороне делать нечего, пусть себе что есть, то есть…
Кириск вначале разочаровался было, что обнаруженное им оказалось чем-то неопределенным, но потом быстро забыл об этом.
А охотники не ошиблись. Островок Малый сосец вскоре завиднелся из воды по левую руку. Тут уж никаких сомнений не было. То оказался совсем небольшой, сплошь каменистый, бугристый выступ суши, и в самом деле напоминавший сосок.
Завидев остров, все оживились, особенно Кириск, – значит, не бесконечно море. И тут началось самое интересное в плавании.
– Ну вот, – потрепал Орган башлык на голове мальчишки. – Пегий пес довел нас до острова, хотя сам остался дома. Ведь побеги он следом за нами, утонул бы?
– Еще бы! – подтвердил Кириск, улавливая смысл игры.
– А Пегий пес затем нам и нужен, чтобы оставался дом стеречь, а мы, помня его, добрались бы, не сбиваясь с пути, к месту охоты. Как ты думаешь, нужен будет нам еще Пегий пес или нет?
– Нет, не нужен, – опять же совершенно уверенно отвечал Кириск. – Теперь мы сами видим, куда плыть.
– Ты подумал бы, а! – укорил Орган. – А то ведь ты такой шустрый, ты бы подумал.
Кириск не сообразил, зачем еще нужен будет этот Пегий пес в море у далекого острова.
– А зачем тут наш Пегий пес?
– Как зачем? Домой возвращаться как будешь? Куда поплывешь, в какую сторону? Ну-ка, подумай? Догадался? Запомни, с какой стороны подплывем, какой стороной остров смотрит на Пегого пса – тогда будешь знать, куда путь держать, когда возвращаться.
Кириск молча согласился, но все же самолюбие его было уязвлено, и, возможно, поэтому он спросил несколько запальчиво:
– А если будет томно, а? Если ночью окажемся в море и ничего не видно, а? Так как?! А! Тогда как узнать, где Пегий пес, в какой стороне? А!
– Ну что ж, и тогда можно узнать, – спокойно отвечал ему на это Орган. – Для этого есть звезды на небе. Звезды не подведут, всегда точно укажут. Только бы сам знал, где какая звезда. Дай срок, научишься еще. Ты созвездие утки Лувр знаешь?
– Знаю, кажется, – неуверенно произнес Кириск, глянув на отца. Эмрайин понял затруднение сына:
– Знает чуть-чуть, я ему как-то показывал. Но этого мало. Надо еще поучиться…
Так они плыли, постепенно приближаясь к острову. А когда стали различимы отдельные камни и скалы на берегу, пошли обходом вокруг острова, пристально вглядываясь в прибрежные места с тем, чтобы обнаружить лежбище нерпы. Кириск смотрел очень усердно, ему хотелось первому увидеть стадо. Но его предупредили – если заметит зверей, не производить лишнего шума. Орган сказал, что нерпы лежат где-то среди прибрежных камней у воды – они выползают на сушу погреться на солнце. Надо приметить, где они расположились, а затем, высадившись скрытно на берег, подкрасться к ним незаметно, чтобы не вспугнуть. Но Кириск так ничего и не разглядел. Берега были пустынны и унылы. Сплошной дикий камень, разрушенный от времени, бесформенный, глыбистый. Вокруг острова белопенным кипящим кольцом шумел прибой, норовя все время перехлестнуть через завалы обледенелых камней. Нет, ничего не углядел на островке Кириск. Только камни на камнях и никаких живых тварей.
Зато Мылгун первым заметил. И пока Кириск крутил головой, пытаясь различить, где именно затаились нерпы, лодка отплыла подальше от того места, чтобы не оказаться увиденной с лежбища.
А старый Орган понял, что Кириск ничего не разглядел.
– Ну, ты видел? – спросил он у него. Мальчик не посмел соврать.
– Не увидел, – признался он.
– Подплывем еще раз, – велел Орган. – Учись различать среди камней. A иначе ты не сможешь стать охотником.
Гребцы повиновались, подвели лодку на прежнее место, хотя это было рискованно. Стоило одной нерпе поднять тревогу, как все стадо немедленно кинулось бы в море. Но, к счастью, звери не замечали охотников. Они лежали за каменной грядой среди корявых, беспорядочно разбросанных каменьев почти у самой воды.
– Вон видишь острый камень, как обломанный клык, и неподалеку красноватый такой, обледенелый бугорок – смотри между ними, – сказал Кириску Мылгун.
Кириск вглядывался. Мылгун и Эмрайин тем временем, нагребая веслами, старались устойчиво держать лодку на месте. И тут Кириск увидел спины морских зверей – мощные хвостатые тулова. Сероватые, пятнистые, лоснящиеся спины были неподвижны. Издали для неопытного глаза они были неразличимы между камнями.
И с этой минуты мальчика охватило волнение. Начинается: вот они, настоящие морские звери! Вот она, большая охота!
Когда они затем высаживались на берег, он был возбужден, он был переполнен отвагой и восхищением. Отвагой, ибо он чувствовал себя в этот момент сильным и значительным. И восхищением – он видел, как здорово и слаженно действовали охотники: как они подвели лодку к берегу, как Эмрайин и старик Орган держали на веслах лодку у прибоя, а Мылгун изловчился, выпрыгнул на край галечника, как затем он подтянул лодку за брошенный конец, перекинув его через плечо, и как, подхватив винчестеры, выпрыгнул на берег отец. За ним, не без помощи старика Органа, выпрыгнул и он сам, хотя и намочил при этом ноги в прибрежной волне и выслушал негромкий выговор отца.
В лодке оставался Орган, чтобы держать ее на волне у берега, а они втроем – Эмрайин, Мылгун и Кириск – поспешили к лежбищу. Шли берегом, инстинктивно пригибаясь, быстрыми перебежками от укрытия к укрытию. Кириск не отставал и только чувствовал, как бешено колотится сердце в груди и как временами кружится голова от возносящего чувства гордости и волнения.
Если бы только люди Рыбы-женщины могли видеть его сейчас, быстро идущего с большими охотниками на морского зверя! Если бы видела его сейчас мать, как она гордилась бы им, будущим великим добытчиком и кормильцем рода! Если бы видела его сейчас Музлук, с которой он часто играл, а теперь никогда не будет играть, ибо отныне имя его – охотник, и если бы она видела, как он сейчас вдали от родного Пегого пса пробирается незнакомым бушующим берегом, среди диких скал и камней, к лежбищу нерпы, и не беда, что винчестеры находились у Мылгуна и Эмрайина: отец обещал дать ему в руки ружье, когда наступит время стрелять.
Так они шли, подкрадываясь к месту лежбища, а потом поползли по земле, и Кириск пополз. По жестким камням и щербатому льду ползти было тяжко, неловко, но Кириск понимал, что это необходимо.
Они ползли, тяжело дыша, обливаясь потом, то и дело затаиваясь, то и дело выглядывая, осматриваясь по сторонам. И замерли, затихли, когда оставалось приладиться и стрелять.
На всю жизнь запомнил Кириск этот час, этот весенний день, этот холодный каменистый островок среди бесконечно огромного моря и на нем – эти дикие темно-рыжие камни, вывороченные и раскиданные повсюду некой безумной силой, эту голую смерзшуюся землю, на которой он лежал ничком, еще неоттаявшую ото льда, жесткую и безжизненную, а рядом с собой отца и Мылгуна, изготовлявшихся к стрельбе, а впереди, в ложбинке у самого края моря, среди скальных развалин, замшелых, корявых, разрушенных ветрами и штормами, – небольшое нерпичье стадо, пока еще ничего не подозревавшее и спокойно возлежащее на своем месте. А над ними, над лежбищем, над островом, над морем – слегка мглистое, застывшее небо, как показалось ему тогда, напряженно ожидающее первого выстрела.
«Только бы попасть!» – подумал он, придвигаясь плечом к прикладу винчестера, переданного ему отцом.
В то короткое долгожданное мгновение, когда, гордясь собой, он уже видел себя прославленным, отважным охотником, его вдруг поразило, что живые спины, живые бока этих неуклюжих, тучных животных, затесавшихся в каменную лощину в ожидании скупого солнечного тепла, так беззащитны и уязвимы. Но то была лишь минутная заминка. Вспомнил, что он охотник и что люди ждут от него добычи, что без мяса и жира нерпы жизнь голодна и скудна, и где-то мелькнула еще мысль, что надо первым выстрелить и показать себя. Он окреп духом, твердо целясь, как советовал отец, под левый ласт и чуть выше и чуть правее – в самое сердце крупного пятнистого лахтака. А лахтак, будто предчувствуя что-то недоброе, вдруг насторожился, хотя он не видел охотников и учуять их не мог – ветер дул с моря. Надо было еще слегка пододвинуться в сторону – для лучшего прицела, что-то мешало впереди, какая-то тень, – надо было пододвинуться очень осторожно, тут камень из-под локтя Кириска резко отскочил и покатился вниз по уклону, зацепляя случайные камни по пути. Пятнистый лахтак издал короткий лающий звук – стадо встрепенулось и с ревом быстро поползло, покатилось к воде. Но в эту секунду, упреждая их отход к морю, прогремел выстрел, сразивший большую нерпу с края стада – то Мылгун спасал положение. Кириск растерялся.
– Стреляй! – приказал ему Эмрайин.
В плечо сильно садануло, выстрел ударил в уши, и все потонуло в глухоте. Кириску стало невыносимо стыдно, что промазал, и что по его вине охота срывалась. Но отец совал ему патрон:
– Заряжай, стреляй быстрей!
То, что казалось не таким уж трудным делом – зарядить и выстрелить (сколько раз он это проделывал запросто, когда учился стрелять), теперь не получалось. Затвор винчестера не сразу поддался. Мылгун тем временем дал с колена еще два выстрела вдогонку кинувшимся в воду нерпам. Одну ранил, и она закрутилась у самого края берега. Охотники побежали туда. Стадо уже скрывалось в море, а раненое животное, оставшееся на берегу, всеми силами пыталось уползти в воду. Когда люди подбежали к тому месту, нерпе удалось добраться до воды, и она, увлекая за собой кроваво колыхающееся пятно, поплыла, работая лапами-ластами, медленно погружаясь в прозрачную глубину моря. Ясно были видны ее испуганно вытаращенные глаза и светло-сиреневая полоса по хребту, от затылка до самого кончика хвоста. Мылгун опустил вскинутый винчестер – добивать нерпу теперь не было смысла.
– Оставь, все равно утонет, – проговорил Эмрайин.
А Кириск стоял, запыхавшись, удрученный, недовольный собой. Он-то ожидал гораздо большего. Вот тебе и великий охотник!
И замолчал мальчишка, все силы собрал, чтобы не заплакать вдруг от обиды. Так было ему горько.
– Ничего, у тебя еще будет удача, – успокоил его потом Мылгун, когда они принялись потрошить убитую нерпу. – Вот сейчас поплывем на Средний сосец, там зверья побольше водится.
– Да я просто поспешил, – начал было Кириск, но отец прервал его:
– Не оправдывайся. С первого выстрела никто не становится охотником. Будь здоров, стрелять умеешь, добыча от тебя никуда не уйдет.
Кириск промолчал, но в душе был благодарен, что взрослые не упрекали его. И теперь он дал себе слово – не спешить на охоте и не думать ни о чем другом, стрелять наверняка, когда глаз и дыхание, как учил отец, «переселятся в прицел». Вот тогда посылать пулю!
Нерпа оказалась большой, тяжеловесной, совсем еще теплой, как живая. Мылгун удовлетворенно потирал руки, освежевывая тушу с брюшной части: «Жира-то, видишь, на четыре пальца. Хороша!» Забыв уже о своем огорчении, Кириск с увлечением помогал ему. А Эмрайин тем временем пошел к старику Органу причалить поблизости лодку. Вскоре он вернулся, озабоченно торопливый.
– Время не ждет, давайте быстрей! – И, поглядев на небо, добавил, ни к кому не обращаясь: – Не нравится мне погода…
Наскоро выпотрошив тушу, оставив из внутренностей только печень и сердце, охотники потащили нерпу на связанных жердях к лодке. Кириск шел следом, нес ружья, оба винчестера.
На берегу, возле лодки, их ждал Орган. Старик был обрадован.
– Пусть Курнг[2] услышит, как мы довольны! Для начала и это неплохо! – приговаривал он, готовя свой охотничий нож для трапезы. Предстояло самое главное после охоты – поедание на месте сырой нерпичьей печенки. Орган присел над располосованной тушей, нарезал печень дольками. Слегка присыпав солью, охотники глотали нежные куски печени, причмокивая от удовольствия. Печень была очень вкусна – нежная, теплая, сытная. Во рту она таяла, обволакивая язык жирным соком. Сбылась мечта Кириска – как настоящий мужчина, ел сырую печень на охоте!
– Глотай, глотай побольше! – советовал Орган мальчику. – Ночь будет холодной, промерзнешь. А печень – самый лучший согрев. И от всех болезней первое средство.
Да, здорово это было. Наелись отменно, и сразу пить захотелось. Но вода была в бочонке, в лодке.
– Разделывать тушу сейчас не стоит, – сказал Эмрайин, когда все насытились, и опять беспокойно посмотрел на небо.
– Успеется, – согласился Орган. – Чай согреем на ночь, когда устроимся на Среднем сосце, – добавил он. – А пока обойдемся. Будем грузиться.
Перед самым отплытием охотники не забыли покормить землю. Мелко нарезанное сердце нерпы разбросали с приговором для хозяина острова, чтобы тот не отказывал им в удаче в следующий раз. С тем они снова вышли в море.
Малый сосец оставался позади. Одинокий сиротливый островок среди хмурой воды вызывал чувство жалости и неприкаянности. Путь держали к Среднему. День уже клонился к вечеру. Гребцы приналегали на весла, торопились засветло попасть к Среднему сосцу, где предстояло зачалить лодку в укрытие и заночевать. Малый сосец вскоре исчез из вида, как бы опустился в море, но Средний еще не появлялся. Снова кругом обступала вода.
Пока они промышляли нерпу, море заметно изменилось. Волна стала плотней. Твёрже. Масса воды еще продолжала катиться в прежнем направлении, ветер же успел уже перемениться. Лодку встряхивало и качало теперь гораздо жестче. Но охотников больше беспокоило небо. Что оно предвещало? Что-то непонятное и неожиданное в это время года! Невесть откуда летящая муть в воздухе покрывала небо белесой текучей завесой, как марью, гонимой верховым ветром от далеких лесных пожаров, бушующих где-то в черных дебрях. И хотя дымка эта всего лишь затягивала небо и ничем никому не мешала, охотники хмурились.
– Откуда ее прет? – бормотал Орган, недовольно оглядываясь вокруг.
Теперь они плыли в напряжении, ожидая с каждым взмахом весел, что вот-вот покажется впереди земля – Средний сосец, самый удобный и надежный из Трех сосцов.
Тем временем небо прояснилось, и даже солнце вновь проглянуло с края моря, а может быть, с самого края света – настолько далеко и неправдоподобно это было. На солнце можно было запросто смотреть, не отворачиваясь. Четко очерченное и налившееся багровостью, солнце уже угасало, смутно рдея, в той далекой багрово-дымной стороне. Приоткрылось небо, и снова свет и спокойствие воцарились в мире. И этого оказалось достаточно – сразу спало напряжение. Люди в море уже предвкушали приют и отдых на острове.
– Потерпи еще немного, и Средний сосец подымется впереди, – сказал Орган сидящему возле Кириску, ободряя его похлопыванием по спине.
Мальчику давно хотелось пить, но он пока воздерживался, по детской наивности своей неукоснительно соблюдая запрет отца. Тот накануне еще сказал ему, что в плавании питьевой воды всегда в обрез, нельзя пить попусту, как дома. Даже на островах, на всех трех, нет ни капли пресной воды. А в лодку лишний груз брать тоже невозможно. Пить можно лишь тогда, когда будут все пить.
В тот светлый промежуток, когда вдруг в прояснившейся дали выглянуло солнце, мальчик почувствовал расположение старика Органа.
– Аткычх! Пить хочется очень! – сказал он, мужественно улыбаясь и поглядывая на отца.
– Во-он как! – понимающе усмехнулся Орган. – После такой печенки-то немудрено! Ясное дело! Да ведь мы все пить хотим, а?
Эмрайин и Мылгун одобрительно закивали в ответ со своих мест. И это обрадовало Кириска – значит, все пить хотят, не только он один.
– Ну что ж, коли так, побалуем себя водицей, а потом и закурим! – С этими словами старик Орган заклинил рулевое весло, поднял со дна лодки бочонок с водой, поставил его сподручней, и стал нацеживать воду через желобок в луженный изнутри медный ковш. Вода была холодная, светлая – в роднике набирали, как раз на противоположном от моря склоне Пегого пса. Там самая любимая вода, всегда чистая, вкусная. Летом травами наполоскавшимися пахнет и сырой землей.
Ковшик держал под струйкой Кириск. Очень хотелось побыстрей напиться. И когда ковш наполнился наполовину, старик Орган прикрыл струю затычкой.
– Ну, пей! – предложил он Кириску. – А потом напоишь и других. Не расплескивай, – предупредил он.
Кириск пил вначале жадно, а под конец помедленней и тогда ощутил, что вода уже припахивает набухшим деревом.
– Напился? – спросил Орган.
– Да.
– По глазам вижу – не совсем. Ну так и быть уж. Еще малость дам. Печенка – штука сильная, были бы на земле, пей хоть целое ведро, – приговаривал старик, нацеживая Кириску на дно ковша.
И тогда он напился вдоволь и почувствовал справедливость слов, которые взрослые говаривали в таких случаях: ох, мол, на душе отлегло!
Потом по три четверти ковша налил гребцам. Кириск сам подавал каждому из них ковш с водой. Напившись досыта, он ничего не имел против, чтобы отец и Мылгун тоже пили столько, сколько захотят. Старейшина Орган, однако, счел нужным объяснить ему, почему он налил им по три четверти ковша:
– Ты еще мал телом, а они вон какие! И работа у них тяжелая. Когда гребешь, пить очень хочется.
Эти двое и в самом деле сразу осушили свои ковши, и еще пришлось им налить. В этот раз старейшина Орган счел нужным пожурить самих гребцов:
– Вы, братцы, не очень-то. Не на берегу реки сидите!
Эмрайин и Мылгун в ответ только заулыбались. Понимаем, мол, но ничего не могли поделать – пить хотелось.
Но и сам Орган, выпив свою долю воды, покачал с усмешкой головой:
– Да-а, неплохо бы и у реки посидеть. Вот ведь какая сила – печень сырая…
Потом он набил трубку, закурил, задымил, блаженствуя, не подозревая, что уж больше никогда не испытает такой отрады…
Первым увидел беду Кириск…
Перед этим была удивительная минута покоя, когда все, утолив жажду, почувствовали себя довольными, счастливыми.
Первая нерпа была добыта, вскоре предстоял отдых на острове, а с утра снова большая охота на морского зверя. И сразу после охоты возвращение домой, без промедления. Все было в порядке.
Лодка все так же плыла, привычно приныривая по волнам. Старик Орган правил на корме, посасывая свою трубку и, быть может, думал о своей Рыбе-женщине. Эмрайин и Мылгун знай себе гребли, махали веслами, казалось бы, без усилий, легко, точно, красиво. Кириск невольно залюбовался охотниками. По какому-то мальчишечьему наитию в ту минуту он разглядывал каждого из них в отдельности, думая о каждом из них. Он любил их неосознанно, гордился тем, что находился в этот час вместе с ними в плавании.
Кириск не мог представить себе этих людей иными. Старик Орган, должно быть, всегда, во все времена был стариком Органом, вот таким кадыкастым, длинношеим, с узловатыми, как корневища, длинными руками и привычно слезящимися, всепонимающими глазами. А разве могло быть иначе? Разве могла быть жизнь без старейшины, без этого всеми уважаемого человека?
Мать говорит, что он, Кириск, очень похож на отца и что, когда он вырастет, будет вылитый Эмрайин. И глаза, говорит, точно такие, карие, как желуди, и зубы крепкие и точно такие, – два передних немного выпирают вперед. И борода, говорит она, будет у него, как у отца, черная, жесткая и густая. Недаром же отца зовут Бородатым Эмрайином. А когда Кириск был еще поменьше, когда он еще купался голышом в ручье, мать подталкивала сестру свою под бок: смотри, смотри, ну в точности как сам. И, потешаясь над чем-то, они до упаду смеялись, озорно перешептывались, и мать говорила, что, если Кириску, когда он вырастет, попадется жена такая же, как она сама, та будет не в обиде – ей будет хорошо, это она знает. Странно, думалось ему, кому и как это будет хорошо? И почему жене его должно стать хорошо, если он будет похож на отца?
Вот он сидит впереди, нагребает. Чернобородый, белозубый. И сам крупный, плечистый, уверенный в себе, всегда ровный характером. Не помнил Кириск, чтобы отец громко накричал на него или пожалел, оберегал, как другие. А глаза, и в самом деле, как зрелые желуди – чистые, налитые блеском.
За ним, у второй пары весел, сидит его двоюродный брат Мылгун, младше отца года на два. Даром что брат – бороды у него почти нет. А что есть, так топорщится, как у моржа усы. И сам он похож на моржа. Этот и поговорить и поспорить любит, если что не так. Обиды никому не спустит – подрался раз с каким-то заезжим купцом. Пришлось всем родом извиняться да задабривать купца. А Мылгун ни в какую: несмотря что короткий ростом и круглый, как пень, рвется, я, говорит, докажу ему правду. Напился пьяный. До этого дела он охочий. Несколько человек, и Эмрайин в том числе, хотели его скрутить, так туго пришлось. Силен оказался, как медведь. Кириску он аки-Мылгун[3]. С отцом они дружны, всегда в паре ходят на охоту, потому что они никогда не подведут друг друга и оба одинаково надежные охотники. У Мылгуна сын еще совсем маленький – только-только бегать стал, и две девочки постарше. Кириск их никому в обиду не дает, пусть попробует кто-нибудь тронет. А мать Кириска души не чает в девчушках Мылгуна, часто прибегают они поиграть к Псулк.
Но красивее всех среди всех девочек Музлук! Жаль, говорят, когда она вырастет, ее отдадут на сторону – замуж соседним людям. Вдруг бы взять и не отдать…
Там, на побережье, редко когда думал Кириск о таких вещах, а теперь, на отдалении, все обычное обрело для него ранее неведомый трогательный смысл.
Ему вдруг очень сильно захотелось домой, туда, где за сопкой Пегого пса, в долине реки, у опушки леса, расположилось старинное становище прибрежных нивхов – людей Рыбы-женщины. Так ему захотелось в тот час к матери, что сердце заныло. Но так далеко находились они от родного побережья, от родного Пегого пса, вечно бегущего по делам своим краем вечного моря. Кириск невольно обернулся даже, как бы желая удостовериться в том, и, озираясь по сторонам, увидел совершенно неожиданное.
По морю, застилая почти полгоризонта, двумя широкими, смыкающимися языками надвигалась на них серая стена густого тумана. Туман подступал зримо, могуче клубясь по черной поверхности воды, неуклонно заполняя собой все окружающее пространство. Он приближался, как живое существо, как чудовище, имеющее непременной целью захватить, поглотить их вместе с лодкой, вместе со всем видимым и невидимым миром. Туман шел именно с той стороны, в какой ранее, приняв издали за остров, Кириск видел нечто неопределенное, какую-то застывшую средь моря серую массу. Теперь вся эта масса, набухая и разрастаясь на глазах, бесшумно и безостановочно катилась, гонимая ветром, к ним.
– Смотрите! Смотрите! – испуганно вскричал Кириск. Все оторопели. Лодка, оставшаяся на миг без управления, заплясала на волнах. И в ту же минуту донесся грозный шум великой волны, выбегающей из-под плотной завесы тумана. Волна шла накатом, со все возрастающим грохотом взбунтовавшейся воды, вспучиваясь, вырастая и разрушаясь одновременно.
– Разворачивай! – отчаянно закричал Орган. – Разворачивай носом!
Едва гребцы успели развернуть лодку навстречу волне, как первый удар шторма чуть не опрокинул органовский каяк. Волна пронеслась, вызывая следом возмущение моря, и тут уже подступил туман. Когда оставалось до наползающего края тумана совсем близко, стало отчетливо видно, с каким мрачным торжеством, с какой зловещей непреклонностью и неотвратимостью двигалась эта клубящаяся, живая тьма.
– Запоминайте ветер! Запоминайте ветер! – успел прокричать Орган. И сразу все потонуло в беспросветной мгле. Туман обрушился, как обвал, погребая их в пучину безмерного мрака. Сразу, в мгновение ока, они попали из одного мира в другой. Все исчезло. С этой минуты не стало ни неба, ни моря, ни лодки. Они не различали даже лиц друг друга. И с этой минуты они уже не знали покоя – море бушевало. Лодку кидало то вверх, то вниз, то разом вскидывая, то низвергая разом в расступающуюся пропасть между волнами. От брызг и всплесков одежда намокала, тяжелела. Но самая большая беда заключалась в том, что люди в сплошном тумане ничего не различали вокруг, ровным счетом ничего не видели и не могли определить, что происходит в море, что следует предпринять. Оставалось единственное – бороться наугад, вслепую, только бы удержать каким-либо способом лодку на плаву, не дать ей перевернуться. Теперь уже не могло быть и речи, чтобы направлять лодку к какой-то цели. Волны несли ее по своей необузданной прихоти неизвестно куда, и неизвестно, как долго могло так продолжаться.
Кириск и прежде слышал, бывали случаи, охотники в море попадали в непогоду, случалось, исчезали навсегда, тогда при всеобщем трауре женщины и дети много дней жгли костры на склонах Пегого пса в безнадежной надежде: а вдруг! Но и тогда даже приблизительно не мог предполагать он, насколько это страшно и дико – погибать в открытом море. И тем более не предполагал он, что безобидные туманы, эти безмолвные пришельцы зимней поры, появление которых он так любил, когда весь мир, околдованный молочной тишиной, покрывался ровным белым маревом, когда земные предметы как бы воспаряли, призрачно цепенея в воздухе, когда душа переполнялась необъяснимой жутью и истомой в ожидании некоего сказочного видения, что эти туманы могут превратиться в такого грозного вездесущего врага. Скручиваясь, скользя, растекаясь и снова сжимаясь, темные клубы тумана, плывущие над разыгравшимся морем, напоминали змеиное движение…
Вцепившись в сиденье, Кириск судорожно жался в страхе к ноге старика Органа.
– Ты держись за меня! Крепко держись! – прокричал ему на ухо Орган, и больше он уже не мог что-либо сказать или сделать для мальчика.
И никто из них не мог облегчить его участи, ибо все они были равны перед лицом яростной стихии. Если бы даже Кириск закричал, заплакал и стал бы звать отца, то и тогда Эмрайин не сдвинулся бы с места, ибо лодка только тем и держалась на плаву, что он и Мылгун отчаянно балансировали веслами, предугадывая разрывы и взрывы волн. Волны же безостановочно уносили лодку во тьму непроглядного тумана. Орган еще пытался как-то управлять рулем, чтобы сохранить устойчивость, но чем дальше, тем больше усиливался шторм.
Возможно, стояла уже полночь. Трудно было определить в тумане течение суток. О наступлении ночи они могли лишь догадываться по сгустившейся кромешной тьме. И в этой тьме уже много времени шла эта беспрерывная, изматывающая, неравная борьба с почти безнадежным исходом. И все-таки нивхи пока держались, все-таки не покидала их отчаянная надежда, что, быть может, шторм так же внезапно утихнет, как и начался, что туман рассеется, тогда они могли бы подумать, как им быть дальше. И один раз эта надежда начала почти сбываться. В какое-то время шторм вроде пошел на убыль, болтанка стала угасать, успокаивались всплески и брызги. Но тьма окружала все та же – плотная, аспидно-черная. Первым, пересиливая шум моря, подал голос Орган:
– Это я! Кириск со мной! Вы слышите меня?
– Слышим! Мы на местах! – прохрипел Эмрайин.
– Кто запомнил ветер? – прокричал Орган.
– А что толку? – со злостью выкрикнул Мылгун.
Старик замолчал. В самом деле, направление ветра теперь было им ни к чему. Куда занесло их, где они, далеко или близко от островов, могущих послужить ориентиром, угадать было трудно. А возможно, их унесет так далеко, что они никогда не найдут свои Сосцы. И он замолчал, угнетенный мраком и качкой. Великий Орган замолчал в тяжком раздумье. Единственно, что можно было посчитать везением, это то, что, минуя по воле судьбы острова, они избежали участи быть разбитыми о прибрежные скалы. Но без островов и без звезд средь ночи и тумана никакого способа определиться теперь не существовало. Орган был бессилен что-либо сказать. И все-таки через некоторое время он прокричал:
– Ветер был Тланги-ла[4], когда мы развернулись носом!
Ему никто не ответил. Гребцам было не до ответов. И опять Орган замолчал, Кириск дрожал всем телом, приткнувшись у его ног. Тогда Орган предупредил гребцов:
– Мы с Кириском будем вычерпывать воду, а вы держитесь!
Он склонился к Кириску, ощупал его в темноте и сказал ему, убедившись, что мальчик невредим:
– Кириск, ты не бойся. Давай вычерпывать воду. Иначе нам будет плохо. Черпак у нас один, вот он, я его нашел, а ты на вот, возьми ковшик, все же лучше… Ты держишь? Возьми ковш, говорю…
– Да, аткычх, я держу. А долго так будет? Мне страшно.
– Мне тоже страшно, – проговорил старейшина Орган. – Но мы мужчины, и нам положено такое.
– А мы не утонем, аткычх?
– Не утонем. А если утонем, значит, так должно быть. А теперь давай, держись за меня одной рукой, а другой вычерпывай, выплескивай воду.
Хорошо, что Орган вовремя спохватился, и, пользуясь небольшой передышкой, они смогли отлить накопившуюся воду из лодки. И именно тогда, когда они, действуя ощупью, вычерпывали воду, Орган обратил внимание Кириска на небольшой бочонок, из которого они днем пили.
– Кириск, – сказал он ему, беря его за руку. – Вот бочонок наш с водой. Нащупал? Запомни, что бы ни случилось, береги бочонок. Держись за него, вцепись, но не разлучайся. Если что, лучше нам погибнуть, чем остаться без него. Ты понял меня? Ни на кого не надейся… Слышишь?
Хорошо, что он сказал об этом, хорошо, что он вовремя предупредил об этом мальчика. Очень скоро это ему пригодилось.
После короткой передышки шторм налетел с еще большей силой и свирепостью, точно бы пользуясь прикрытием ночи и беспомощностью людей, ничего не видящих во тьме и в тумане. В этот раз волны обрушились с новым приступом ярости, поистине как в отместку за доставленное короткое послабление. И закрутился, завертелся органовский каяк между невидимыми волнами, нещадно швыряемый их ударами во все стороны. Всплески захлестывали лодку. Лодка оседала, зачерпывая воду. Как ни метался Орган с черпаком, ползая на коленях, успеть вычерпать набегающую воду было немыслимо. И тогда закричали гребцы зло и отчаянно:
– Выбрасывай все! То-онем! Выбрасывай!
Кириск громко заплакал от страха, но его никто не слышал, и никому не стало дела до него. Мальчик забился в углу у кормы, крепко держа бочонок под собой. Он навалился на него боком, судорожно скрючившись, содрогаясь от плача. Он помнил, что это главное дело, которое он должен был делать, что бы ни случилось. Он понимал, они тонут, но и тогда он делал то, что было сказано старейшиной Органом, – сохранял бочонок с водой.
Полузатонувшую лодку надо было срочно спасать. Мылгун продолжал пока сумасшедше работать веслами, стараясь изо всех сил действовать так, чтобы лодка не перевернулась, а Орган и Эмрайин выбрасывали за борт все, что находилось в лодке. Другого выхода не было. В море полетели оба винчестера, гарпун, мотки веревок и все прочие вещи и даже жестяной чайник Органа. Труднее всего им пришлось с тушей нерпы. Намокшая, отяжелевшая, ослизлая туша не поддавалась. Ее надо было поднять со дна лодки и перевалить за борт. То, ради чего они шли в плавание на необитаемые острова, – добычу – предстояло выкинуть прочь. Хрипло рыча, выкрикивая ругательства и проклятия, они с большим трудом выталкивали в тесноте тушу к краю борта и наконец опрокинули ее в море. Даже в этой сумятице и дикой схватке с морем было ощутимо, как облегченно качнулась лодка, освободившись от груза нерпы. И, возможно, это-то и спасло положение…
Орган очнулся первым. В белой безжизненной пустоте он не сразу смог взять в толк, где он и что значит эта мутная, непроглядная неподвижность вокруг. То был туман.
То был Великий туман, безмолвно, безраздельно и незыблемо покоившийся в ту пору над всем пространством океана. Великий туман переживал свое великое оцепенение…
Когда глаза немного присмотрелись, старик Орган различил во мгле контуры лодки, потом и людей. Эмрайин и Мылгун валялись на своих местах возле весел. Вусмерть истерзанные, измотанные ночным шквалом, они лежали в странных позах, точно были сражены наповал, и только сиплый, прерывистый храп свидетельствовал об их жизни. Кириск лежал, скорчившись у его ног, привалившись к бочонку. Он продрог во сне от сырости и холода. Орган пожалел его, но ничем не мог помочь.
Оглушенный пережитой ночью, он сидел на корме, опустив седую голову. Все тело старика болело и ныло. Его длинные узловатые руки свисали, как плети. Много разных бед и испытаний довелось пережить Органу на своем веку, но такого жестокого случая не знавал даже он. Он не представлял себе, где они сейчас находились, куда угнал их шторм, как далеко они от земли, в море ли они или в самом океане. Он не представлял себе даже, какое время протекало в тот час. В сплошном, беспросветно застывшем стоянии тумана невозможно было отличить день от ночи. Но, по всей вероятности, если учесть, что штормы обычно утихают к утру, стоял день. Возможно, вторая половина дня.
Как бы то ни было, даже радуясь, что чудом остались в живых, Органу было от чего повесить голову. Лишившись всего, что имелось с ними в плавании, вплоть до ружей, выменянных у заезжих купцов за сотни соболей, они оставались теперь в лодке с двумя парами весел и початым бочонком пресной воды. Что их ждало впереди?
Конечно, как только гребцы придут в себя, они вместе обдумают, как им быть и что делать дальше. Но кто скажет, в какую сторону им двигаться? Это прежде всего. Во-вторых, если дождаться ночи и если небо не будет в облаках, можно попытаться определиться по звездам. Но как долго придется им плыть? Сколько потребуется сил и времени? Дотянут ли, выдержат ли?
А туман, что за туман? Так густо и неподвижно лежит он над морем. Точно бы он встал здесь навечно. Неужто повсюду так, неужто весь мир погрузился в такой туман?..
Хотелось курить и пить. О куреве, однако, не приходилось беспокоиться – тот табак, что оставался при нем, весь вымок. И трубка куда-то подевалась. А вода? А пища? Орган боялся думать об этом. Пока еще можно терпеть. И пока еще можно было не думать…
На море стояла мертвая зыбь, полный покой, штиль. Лодка лишь слегка покачивалась на месте. Никуда ее не влекло, и никуда она не двигалась. Весла, брошенные в воду, безвольно лежали на поверхности. Можно было понять Эмрайина и Мылгуна – они достигли такого предела усталости, что не могли поднять весла на борта: свалились в мертвецком сне.
При полном безветрии все замерло во мгле и неподвижности. Море стояло, туман стоял, лодка стояла, спешить было некуда… плыть было некуда…
Печально прикорнув, старик незаметно уснул и проснулся, когда его разбудил Кириск.
– Аткычх, аткычх! – толкал его мальчик. – Мы хотим пить.
Орган встрепенулся и понял, что трое соплеменников ждут от него действий, ибо он старейшина, и понял, что начинается самое страшное – распределение воды…
Туман стоял все так же густо и неподвижно. Море находилось в полном затишье.
Весь остаток дня они неспешно плыли в тумане. Бесцельно и неизвестно куда.
После того как люди пришли в себя и осознали свое положение, стоять на месте было уже невозможно.
И они плыли. Быть может, приближаясь к земле, а возможно, напротив, удаляясь от нее.
Но все-таки в этом имелась какая-то иллюзия движения.
Вся надежда была на то, что туман рассеется, и тогда станет ясней, что делать.
Во всяком случае, ночью можно будет увидеть звезды, если рассеется туман. Перво-наперво необходимо было ухватиться за звезды.
И еще была надежда, что натолкнутся на какой-нибудь остров. А там будет легче сориентироваться.
Так они и плыли пока в никуда – все время в туман.
Но и при этом Орган велел навести некоторый порядок в лодке. Вычерпали начисто остатки воды со дна, чтобы под ногами не хлюпало. Кириска он посадил рядом с собой на корму, чтобы теплее было мальчику под боком и чтобы он обсыхал побыстрей. Воды выдал всем поровну. На первый раз всем по неполному на одну четверть ковшу. После штормовой ночи необходимо было напиться хотя бы раз досыта. Но Орган предупредил, что отныне пить будут только тогда, когда он найдет нужным, и лишь столько, сколько он нальет. И при этом для пущей убедительности покачал воду в бочонке – он был уже наполовину пуст.
Была и нечаянная радость: когда приступали разливать воду, за бочонком, в самом углу кормы, под сиденьем, обнаружили кожаную, из нерпичьей шкуры торбу с вяленой юколой. Большую торбу с пищей выбросили за борт вместе с другими вещами, а этот мешочек, собранный в дорогу женой Мылгуна, остался ненароком на месте, потому что лежал под сиденьем, за бочонком, который Кириску поручили сохранить во что бы то ни стало. Правда, в той торбе было полно морской воды, и юколу невозможно было взять в рот, настолько она пропиталась солью и без того соленая. И все же то была пища. И если бы имелось вдосталь воды питьевой, то и такая юкола вполне сгодилась бы.
Но пока что юколу никто не ел, опасаясь жажды.
Все ждали одного: когда исчезнет туман…
В полном безмолвии и неподвижности тумана лишь уныло скрипели уключины весел. Скрип тот среди великой тишины походил на усталые мольбы и стенания заблудившегося человека: где я, где я? Куда мне, куда мне податься теперь?
Все ждали одного: когда исчезнет туман…
Но он не исчез и не собирался исчезать. Туман не шевелился. Казалось, что нечто невообразимо чудовищное, какая-то иная сущность, неземная, дышащая промозглой влажностью, поглотила весь белый свет – и Землю, и Небо, и Море…
Снова наступила ночь в чреве тумана. Об этом можно было судить по налившейся черноте вокруг. И никаких звезд, никакого неба наверху.
Плыть куда-то для того лишь, чтобы только куда-то плыть, уже не имело смысла.
Ждали, уповали, надеялись, не покажутся ли звезды на небе. Ждали с часу на час. Ждали появления ветра, который угнал бы этот ненавистный, трижды проклятый туман. Не спали. Обращались с мольбой к духу неба, чтобы раскрыл он звездный небосвод, вызывали мольбой хозяина ветров, чтобы проснулся он за морем – гривастый и косматый зверь.
Но все тщетно. Никто не слышал их обращений, и туман не развеивался.
Кириск тоже ждал появления звезд. Эти звезды, обычно, как игрушечки, блиставшие в небе, теперь были ему нужнее всего. Все то, что довелось пережить с прошлого вечера, потрясло, устрашило мальчика. Ведь ничего не стоило детской душе отчаяться, надломиться, сокрушиться навсегда. Но то, что трое взрослых, находясь в одной лодке с ним, при общей смертельной опасности, когда, казалось, уже наступал конец их плаванию, выстояли, преодолели разъяренную стихию, вселяло в него надежду, что и в этот раз путь к спасению будет найден. Он очень верил, что стоит только показаться звездам в небе, как придет конец их страданиям.
Только бы побыстрее это совершилось, быстрее бы вернуться назад, к земле, туда, к Пегому псу, быстрее, быстрее, быстрее потому, что очень хотелось пить и есть, невыносимо хочется пить и есть, и чем дальше, тем острее хочется пить и есть, очень хочется домой, к матери, к сородственникам, к жилищам, к дымам, к ручьям и травам…
Всю ночь бедствующие томились в ожидании, но ничто не изменилось – туман не тронулся с места, звезды не высыпали в небе, море продолжало оставаться во мгле.
И всю ночь очень хотелось пить, было сыро и зябко, но, прежде всего, очень хотелось пить. Кириск мог полагать, что только он так тяжко хотел воды, но и другие так же страдали от неутоленной жажды. Но ему хотелось пить больше всех. И это его терзало, что ему хотелось пить больше всех.
А старейшина Орган не дал воды, когда Кириск все же попросил немного.
– Нет, – твердо сказал он, – сейчас не будет. Терпи.
Если бы знал он, старик Орган, как хотелось пить после юколы, которую они втроем, с отцом и Мылгуном, – все же не утерпели к концу дня – начали грызть от голода. И хотя запили юколу водой, но этого было совсем недостаточно, а через некоторое время пить захотелось еще сильней. А старик Орган не притронулся к юколе, перетерпел, но и воды не пил, сберег, не позволил себе ни глотка. В тот день два раза пили воду – утром и вечером, за исключением Органа. Вечером совсем немного, всего лишь на донышке ковша. А воды в бочонке оставалось все меньше и меньше.
Когда хотелось пить, пить и пить, ожидание перемен вдвойне становилось пыткой.
Так длилось всю ночь… И всю ночь неподвижно лежал стылый туман. И море не шелохнулось.
И наутро никаких перемен. Лишь чуть светлее стало в серо-бурых недрах тумана, чуть попросторнее. Теперь можно было различить лица и глаза. И на несколько сажен вокруг лодки тускло серебрилась тяжелая, неподвижная, как ртуть, мертвая зыбь. Такой стоячей воды Кириск никогда не видел.
И никакого ветерка, и никаких перемен.
Но в то утро мальчика очень поразило, как сильно изменились лица взрослых. Осунулись здорово, позарастали жесткой щетиной, глаза померкли, провалились темными кругами, точно бы схватила их смертная болезнь. Даже отец, на что сильный и уверенный, и тот крепко переменился. Только и осталось – борода. Губы искусаны до черноты. И на Кириска смотрит с жалостью, хотя и молчит, ничего не скажет. Особенно сдал старик Орган. Ссутулился старик, еще белее стал, и кадыкастая шея его вытянулась еще длиннее, а глаза слезились больше прежнего. И только во взгляде осталось то, чем был Орган. Мудрый, строгий взгляд старейшины все так же таил в себе нечто значительное, известное и доступное только ему.
День начали с самого тяжкого – с того, что распределили между собой по нескольку глотков воды. Орган сам наливал. Зажав бочонок под мышку, тоненькой струйкой цедил он влагу на дно ковша, и руки его при этом крупно дрожали. Первым он подал Кириску. Кириск едва дождался этого. Застучал зубами о край ковша и, проглатывая воду, почувствовал лишь на мгновение, как увлажнился, опал жар внутри и как от волнения зашумело в голове. Но пока он возвращал ковш, жар снова восстановился, как прежде, и даже больше, точно бы там, внутри, раздразнили зверя. Потом пил Мылгун. Потом Эмрайин. Страшно было смотреть, как они пили. Хватали ковш дрожащими руками и возвращали, не глядя в лицо Органа. Будто бы то он был виноват, что так мало оказалось питья. А сам Орган, когда наступил его черед, не налил себе ни капли. Молча приткнул затычку. Это казалось Кириску невероятным. Был бы бочонок в его руках, он бы налил себе полный ковш, потом еще и еще и пил, пил, пока не упал бы. А потом будь что будет. Лишь бы один раз досыта напиться. А старик Орган отказывал себе даже в том, что полагалось ему. Отказывался от воды на донышке.
– Зачем так, аткычх. Наливай, как всем! – не вытерпел наконец Эмрайин, хрипя, пересиливая себя. – И вчера не пил, погибать, так вместе погибать!
– Я обойдусь! – невозмутимо ответил Орган.
– Нет, это неправильно! – повысил голос Эмрайин и добавил с раздражением: – Тогда и я не буду пить!
– Пить-то тут нечего. О чем разговор! – Орган усмехнулся, мол, какие вы неразумные, тихо покачал головой, снова откупоривая бочонок и, нацедив воды на донышко, сказал: – Пусть Кириск выпьет за меня.
Мальчик растерялся, и все замолчали. А Орган протягивал ему ковш:
– На, Кириск, пей. Не думай ни о чем.
Кириск молчал.
– Пей, – сказал ему Мылгун.
– Пей, – сказал ему Эмрайин.
– Пей, – сказал старик Орган.
Кириск колебался. Умирая от жажды, хотел разом опрокинуть в себя эти несколько глотков воды, но не посмел.
– Нет, – сказал он, перебарывая пожирающее изнутри желание, – нет, аткычх, сам пей, – и почувствовал, как закружилась голова.
Рука Органа дрогнула от этих слов, он тяжело вздохнул. Взгляд его смягчился, благодарно лаская мальчика.
– Я ведь на веку своем, знаешь, ой как много выпил воды. А тебе надо еще долго жить, чтобы… – И он не договорил. – Ты понял меня, Кириск? Пей, так надо, ты должен выпить, а за меня не беспокойся. На!
И опять, проглатывая воду, лишь на мгновение почувствовал мальчик, как увлажнился, опал жар внутри, и снова, вслед за облегчением, тут же захотелось пить. В этот раз он ощутил, что во рту остался привкус протухающей воды. Но это не имело значения. Лишь бы была вода, пусть какая угодно, лишь бы питьевая. А ее оставалось все меньше и меньше…
– Ну, как быть, что будем делать? – проговорил Орган, обращаясь тем временем к соплеменникам. – Будем плыть?
Наступило долгое молчание. Все оглянулись вокруг. Но, кроме непроницаемого тумана в двух саженях от лодки, в мире ничего не существовало.
– Куда плыть? – со вздохом нарушил молчание Эмрайин.
– Что значит – куда? – неожиданно вспылил почему-то Мылгун. – Будем плыть, лучше плыть, чем подыхать на месте!
– Ну, а какая разница – что мы плывем, что не плывем? – урезонил его Эмрайин. – При таком тумане плыть в никуда, какая разница?
– А мне плевать на туман! – с еще большим вызовом возразил Мылгун. – Мне плевать на твой туман! Ясно? Будем плыть, а нет, я переверну сейчас этот проклятый каяк вверх дном, и все пойдем кормить рыб! Ты понял меня, Эмрайин Бородатый, будем плыть! Ты понял?
Кириску стало не по себе. Ему стало стыдно за аки-Мылгуна. Тот поступал не так, как следовало, все же он был младше отца. Значит, что-то стронулось, что-то нарушилось в нем или в том, что они из себя теперь представляли, эти четверо нивхов в лодке. Все молчали, подавленные и горестные. Умолк, шумно дыша, и сам Мылгун. Эмрайин опустил голову. А старик Орган смотрел куда-то в сторону, и лицо его было непроницаемо, как тот туман, что окружал их со всех сторон глухой пеленой.
– Успокойся, Мылгун, – промолвил наконец Эмрайин. – Ведь я так, к слову сказал, конечно, лучше плыть, чем стоять на месте. Ты прав. Давай, поплыли.
И они двинулись. Снова заскрипели уключины, снова со всплеском поднимались и опускались весла, беззвучно разбегалась и тут же снова смыкалась за лодкой тихая бесследная вода. Но впечатление было такое, что они не плыли, а стояли на месте. Сколько бы они ни продвигались, кругом стоял туман, получалось, как в заколдованном кругу. Это-то, наверно, и вывело опять Мылгуна из себя.
– А мне плевать на твой туман, ты слышишь, Бородатый Эмрайин! – заговорил он, раздражаясь. – И я хочу, чтобы мы плыли быстрее! Пошевеливайся, Борода, греби, не спи, ты слышишь! Мне плевать на твой туман!
И при этом Мылгун стал резко налегать на весла.
– А ну, нагребай! Нагребай! – требовал он.
Эмрайин не стал озлоблять его, но, задетый им, тоже включился в эту безумную игру.
Лодка набирала все большую и большую скорость. Она напропалую неслась рывками сквозь туман, неизвестно куда и неизвестно зачем. А Мылгун и Эмрайин, не уступая друг другу, продолжали зверски грести, в каком-то диком, остервенелом, яростном ожесточении, точно они могли обогнать туман, вырваться из его беспредельных пределов.
Мелькали лопасти весел, взвеивая косо летящие брызги, шумела вода за бортами, наклонялись и вскидывались залитые потом, ощеренные лица гребцов, то падающих, сгибаясь, выбрасывая весла, то с силой разгибающихся, упираясь веслами в воду…
То вдох, то выдох, то вдох, то выдох… Вдох, выдох, вдох, выдох…
Туман – впереди, туман – позади, туман – кругом.
– Хана, хана![5] – как бы выхаркивая, зло подзадоривал, выкрикивал Мылгун.
Вначале Кириск оживился, поддался обману движения, но потом понял, как это бесплодно и страшно. Мальчик испуганно смотрел на старейшину Органа, ожидая, что тот прекратит эту бессмысленную гонку. Но тот как бы отсутствовал – задумчивый взгляд его блуждал где-то в стороне, на лице застыло отрешенное выражение. И то ли старик плакал, то ли привычно слезились глаза – лицо его было мокрое. Он неподвижно сидел на корме, будто не ведая, что происходит.
Лодка же шла, гонимая напропалую сквозь туман, неизвестно куда и неизвестно зачем…
– Хана, хана! – отчаянно разносилось в тумане. – Хана, хана!
Так продолжалось довольно долго. Но постепенно гребцы стали выдыхаться, постепенно убывала скорость, и вскоре они опустили весла, шумно дыша, задыхаясь от удушья. Мылгун не поднимал головы.
Так наступило горькое отрезвление. Туман они не обогнали, за пределы его не выскочили, все осталось по-прежнему: мертвая зыбь, полная неизвестность, сплошная непроницаемая мгла. Лишь лодка продолжала еще некоторое время плыть и кружиться с разбегу сама по себе…
Зачем это было делать? К чему? А что выиграли бы они, если бы стояли на месте? Тоже ничего.
Каждый, пожалуй, думал об этом. И тогда Орган сказал:
– Послушайте теперь меня. – Слова свои он выкладывал неторопливо, возможно, сберегая тем свои силы – ведь он уже не пил, не ел второй день: – Может статься, – рассуждал он, – туман продержится еще много дней. Бывают такие годы. Случаи такие бывают. Сами знаете. Семь, восемь, а то и десять дней лежит туман над морем, как мор над краем, как болезнь, которая не уйдет, пока не выйдет срок. А каков ее срок, об этом никто не знает. Если туман этот из тех, значит, судьба наша тяжкая. Юколы осталось совсем малость, да и к чему она, когда нет воды. А вода ваша, вот она! – И он поболтал содержимое бочонка. Вода свободно плескалась где-то лишь на ладонь-полторы выше дна.
Все молчали. И старик замолчал. Ясно было всем, о чем он хотел сказать: пить воду только раз в день, на самом донышке ковшика, чтобы протянуть подольше, если удастся, превозмочь, переждать напасть тумана. А откроется море, появятся звезды или солнце – тогда видно станет, а вдруг и повезет – дотянуть до земли!
Да, так оно получалось. И иного выхода не могло быть! Но легко сказать – перетерпеть, и то, что человек умом приемлет, далеко не всегда приемлет его плоть. Им, страждущим, сейчас хотелось пить, немедленно и не на донышке, а много, очень много хотелось воды.
Орган понимал безвыходность положения, и тяжелее всех было ему самому. Старик высыхал на глазах. Изборожденное складками и морщинами, темно-коричневое лицо его становилось с каждым часом чернее и жестче от боли, идущей изнутри. В слезящихся глазах появился напряженный, лихорадочный оттенок – нелегко было старику заставить себя выносить такие страдания. Но пока, сохраняя в себе присутствие духа, он держался, как держится на корню умирающее дерево. Однако так не могло долго продолжаться. Необходимо было высказать все, что могло иметь хоть малейшее значение для их спасения.
– Думал я о том, – продолжал он, – что надо все время присматриваться и прислушиваться к воздуху – не пролетит ли вдруг агукук[6]. Агукук – единственная птица, что летает над морем в такую пору. Если мы находимся между каким-нибудь островом и землей, то полет агукук может указать нам путь. Любая птица в открытом море летит только по прямой дороге. Никуда не сворачивая, только прямо. И агукук тоже.
– А если мы не находимся между островом и землей? – мрачно спросил Мылгун, все так же не поднимая головы.
– И тогда не видать нам ее, – опять же спокойно ответил Орган.
Кириск хотел уточнить, а зачем, мол, агукук станет летать над морем, по какой нужде такой, но Мылгун опередил его.
– А если агукук забудет летать над нами, а, аткычх, – мрачно насмехался Мылгун, – а вздумает пролететь стороной, вон там где-нибудь, тогда как?
– И тогда не видать нам ее, – опять же спокойно ответил Орган.
– Значит, не видать? – удивляясь, озлоблялся Мылгун. – Стало быть, и так и эдак, но агукук нам не видать? Так чего же, спрашивается, мы торчим здесь? – озлобляясь все больше, бормотал Мылгун, потом громко захохотал, потом умолк. Всем было не по себе. Все молчали, не зная, как быть.
Мылгун тем временем что-то надумал. Выбил ударом ладони из-под низу весло из уключины, затем взобрался зачем-то на нос лодки и встал там во весь рост, балансируя веслом. Никто ничего не сказал ему. И он ни на кого не обращал внимания.
– Э-эй, ты, сука! – закричал он во гневе. – Э-эй, ты, Шаман ветров! – угрожая веслом, кричал он что есть мочи в туманную мглу. – Если ты хозяин ветров, а не падаль собачья, то где твои ветры? Или ты подох в берлоге своей, сука, или обложили тебя кобели со всего света, и ты не знаешь, которому подставлять или склещаешься со всеми подряд, сука, и некогда тебе ветры поднять, или забыл ты, что мы здесь, в тумане гиблом, как в яме, сидим? Или не знаешь ты, что с нами малый, как же так?! Он хочет пить, он хочет воды! Воды, понимаешь?! Я же тебе говорю, с нами малый, он первый раз в море! А ты так с нами поступил?! Разве это честно? Отвечай, если ты хозяин ветров, а не тюленье дерьмо вонючее! Посылай свои ветры! Слышишь? Убирай туманы себе под хвост. Ты слышишь меня? Посылай, бурю, собака, самую страшную бурю – Тланги-ла посылай, сука, опрокидывай нас в море, пусть волны погребут нас, сука паршивая! Ты слышишь? Ты слышишь меня?! Плевать мне, плюю и мочусь я в твою морду косматую! Если ты хозяин ветров, посылай нам свою бурю, потопи нас в море, а нет – ты сука последняя, а я кобель, еще один кобель, только я тебя не стану, на-ка, вот, на тебе, на, на, на, выкуси, выкуси!
Вот так, последними словами поносил Мылгун Шамана ветров, неведомо где существующего и неведомо где укрывающего подвластные ему ветры. Долго еще, до хрипоты, до изнеможения кричал и выходил из себя Мылгун, издеваясь, оскорбляя и одновременно выпрашивая ветра у хозяина ветров.
Потом он с силой отшвырнул весло в море и, усаживаясь на свое гребное место, громко и страшно зарыдал вдруг, уткнувшись лицом в руки. Все беспомощно молчали, а он захлебывался в рыданиях, выкрикивая имена своих малых детей, а Кириск, никогда не видевший мужчину в плаче, задрожал от страха и со слезами на глазах обратился к Органу:
– Аткычх! Аткычх! Зачем он так, зачем он плачет?
– Не бойся, – успокаивал старик, сжимая руку мальчика. – Это пройдет! Скоро он перестанет. А ты не думай об этом. Это тебя не касается. Это пройдет.
И вправду Мылгун стал утихать понемногу, но лица не отнимал от рук и, всхлипывая, судорожно вздергивал плечами. Эмрайин медленно подводил лодку к плавающему на воде веслу. Он подбил весло к лодке, поднял его и установил на место, в уключину.
– Успокойся, Мылгун, – сочувственно говорил ему Эмрайин. – Ты прав, лучше в бурю попасть, чем томиться в тумане. Ну подождем еще, а вдруг да откроется море. Что ж делать…
Мылгун ничего не отвечал. Он все ниже и ниже ник головой и сидел согнувшись, как помешанный, боящийся взглянуть перед собой.
А туман все так же бесстрастно и мертво висел над океаном, скрывая мир в великой оцепеневшей мгле. И никакого ветра, никаких перемен. Как ни донимал, как ни бранил, ни поносил Мылгун Шамана ветров, тот остался ко всему этому глух и безучастен. Он даже не разгневался, не шевельнулся, не обрушил на них бурю…
Эмрайин тихо нагребал своей парой весел, чтобы не стоять на месте, лодка скользила по воде едва-едва заметно. Орган молчал, ушел в свои мысли, быть может, опять и, быть может, в последний раз в жизни думал он о своей Рыбе-женщине.
От невеселых стариковских размышлений отвлек его Кириск.
– Аткычх, аткычх, а зачем агукук летает на острова? – тихо спросил он.
– А, я и забыл тебе сказать. В таком большом тумане только агукук может летать над морем. Агукук летает на острова охотиться, а иной раз малых детенышей нерпичьих схватывает. У агукук глаза такие – и в тумане, и темной ночью видит, как днем. На то она сова. Самая большая и самая сильная сова.
– Вот бы и мне такие глаза, – прошептал сухими губами Кириск. – Я бы сейчас разглядел бы, в какую сторону нам плыть, и мы быстро доплыли бы к земле и стали бы пить, пить много и долго… Вот бы и мне такие глаза…
– Эх, – вздохнул Орган. – Каждому даны свои глаза.
Они замолчали. И спустя много времени, как бы возвращаясь к этому разговору, Орган сказал, глядя в лицо мальчику:
– Тебе очень тяжко? Ты потерпи. Если выдержишь, будешь великим охотником. Потерпи, родной, не думай о воде, думай о чем-нибудь другом. Не думай о воде.
Кириск послушно старался не думать о воде. Но ничего не получалось. Чем больше пытался он не думать, тем сильней хотелось пить. И очень хотелось есть, даже дурно становилось. И от этого хотелось орать, как Мылгун, на весь мир.
Вот так протекал тот день. Все время ждали, все время надеялись, что вдруг послышится издали шум волны, и ударит свежий ветер, и угонит туман на другой конец света, а им откроет путь к спасению. Но на море царила тишина, такая неподвижная, гиблая тишина, что становилось больно в голове и ушах. И все время, беспрерывно, бесконечно хотелось пить. Это было чудовищно: находясь среди безбрежного океана, они погибали от жажды.
К вечеру Мылгуну стало плохо. Он совсем не разговаривал, и глаза его были бессмысленны. Пришлось налить ему немного воды, чтобы промочил горло. Но, глядя на Кириска, который при этом не мог оторвать взгляда от ковша, Орган не удержался, налил и ему на донышке, а потом и Эмрайину. А сам так и не взял в рот ни капли. В этот раз, поставив бочонок с остатками воды под скамью, он долго сидел неподвижно, по-особому сосредоточенный и ясный, занятый какими-то иными, высокими мыслями, точно бы вовсе не испытывал никакой жажды и никаких мучений плоти. Он сидел на корме молчаливый, несуетный, как одинокий сокол на вершине скалы. Он уже знал, что предстоит ему, и потому, собираясь с духом, сохранял в себе остатки сил перед последним делом своей жизни. Очень не хватало трубки в такой час. Закурить, подымить хотелось старику напоследок, думая думу о ней – о своей Рыбе-женщине… Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?
Он знал себя, знал, на сколько хватит еще сил и достоинства на пороге Предела. Единственное, что пока удерживало его от задуманного, – Кириск, так привязавшийся за эти дни и все время льнущий под бок в поисках защиты и тепла. Мальчишку было жалко. Но ради него надо было идти на это…
Так завершался тот долгий, безрадостный, последний день старейшины Органа.
Уже вечерело. Еще одна ночь наступала.
Но и в эту ночь погода оставалась по-прежнему без изменений. Туман на море пребывал все в том же состоянии невозмутимого оцепенения. И опять надвигалась глухая вечерняя тьма, а за ней предстояла невозможно долгая, невыносимая, жуткая ночь. Но если бы вдруг среди ночи ударил ветер, пусть шторм, пусть что угодно, только бы открылось небо и увидеть бы звезды! Однако ночь ничего не предвещала, незаметно было никакой волны на воде, никакого дуновения в воздухе – все замерло в нескончаемой тишине и в нескончаемой тьме. Одинокая, заблудшая во мраке лодка с измученными, умирающими от жажды и голода людьми медленно кружилась в тумане, в полной безвестности и обреченности…
Кириск не помнил точно, когда он уснул. Но засыпал долго, томясь, изнывая от нестерпимой жажды. Казалось, во веки веков не будет конца этим снедающим его заживо мукам. Нужна была только вода! Только вода – и ничего другого! Чувство голода постепенно притуплялось, как глухая, ушедшая внутрь боль, а жажда разгоралась чем дальше, тем с большей силой. И ничем нельзя было унять ее.
Вспомнилось Кириску, что в детстве, когда он однажды тяжко заболел и лежал в горячем поту, ему было так же плохо и очень хотелось пить. Мать не отходила от его изголовья ни на шаг, все прикладывала мокрую тряпку к его пылающему лбу, плакала украдкой и что-то пришептывала. В полутьме, при свете жировника, в зыбком, мерцающем мареве склонялось над ним озабоченное лицо матери, отца не было – он находился в море, – а Кириску хотелось, чтоб дали пить и чтобы быстрее вернулся отец. Но ни то, ни другое желание его не исполнялось. Отец был далеко, а пить мать ему не давала. Она смачивала тряпицей его спекшиеся губы, но это облегчало его страдания лишь на мгновение. И снова хотелось пить и становилось невыносимо.
Мать уговаривала его, упрашивала не пить воды, говорила, что надо перетерпеть и тогда болезнь отойдет.
– Потерпи, родной! – говорила она. – И к утру тебе станет лучше. Ты повторяй про себя: «Синяя мышка, дай воды». Вот посмотришь, легче будет. Попроси, родной, синюю мышку, пусть прибежит и пусть принесет тебе воды… Только ты хорошенько попроси…
В ту ночь, борясь с жаждой, он шептал это заклинание, ожидая, что синяя мышка и вправду прибежит и принесет ему пить. Он все повторял и умолял синюю мышку: «Синяя мышка, дай воды! Синяя мышка, дай воды!» Потом он бредил, метался в жару. И все просил: «Синяя мышка, дай воды!» Она не появлялась очень долго, а он все шептал, звал ее, плакал и просил: «Синяя мышка, дай воды!» И наконец она прибежала. Синяя мышка была прохладная, неуловимая, как ветерок над полуденным ручьем в лесу. Разглядеть ее было трудно, она оказалась вся голубая, воздушная и порхала как бабочка. Мышка прикасалась, порхая, мягкой шерсткой к лицу, к шее, к телу и тем приносила облегчение. Кажется, она дала ему испить воды, и он долго и ненасытно пил, а вода прибывала, бурлила вокруг, захлестывала его с головой. Утром он проснулся со светлым, легким ощущением на душе, выздоровевший, хотя и сильно ослабевший. И долго потом не выходила из памяти мальчика эта синяя мышка-водонос, прибегавшая той ночью, когда ему было очень худо, чтобы напоить и излечить его…
Теперь он вспомнил об этом, иссыхая, сгорая от жажды в лодке. Вот бы опять появилась синяя мышка! И с пронзительней тоской и горестью подумал в тот час о матери, заронившей в душу его надежду на синюю мышку-поительницу. Он с жалостью вспоминал, как мать склонялась над ним, когда ему дышалось так тяжко и так хотелось пить. Каким печальным и до слез преданным было ее лицо, с какой тревогой, с какой готовностью сделать для него все, что только сумеет, смотрела она на него с мольбою и с затаенным страхом. Что теперь с ней, как там она сейчас? Убивается, плачет, ждет-пождет у моря… А море ничего не скажет. И никто не в силах помочь ей в такой беде. Только женщины и дети, наверно, палят еще костры на кручах Пегого пса и тем еще обнадеживают ее, а вдруг да и грянет счастье – вдруг да и объявятся у берегов пропавшие в море. А они тем временем медленно кружили на лодке в безжизненном аспидно-черном пространстве, постепенно утрачивая во мгле ночного тумана последние надежды на спасение. Нет, слишком неравны были силы – мрак вечности, существовавший еще до появления Солнца во Вселенной, и четверо обреченных в утлой ладье… Без воды, без пропитания, без путеводных звезд среди океана…
Никогда не видел Кириск такой черной черноты на свете и никогда не предполагал за свою короткую жизнь, что так жестоки страдания неутоленной жажды. Чтобы как-то совладать с собой, Кириск стал думать о той синей мышке-поительнице, которая когда-то вызволила его, напоив и исцелив…
«Синяя мышка, дай воды! – Он принялся без устали нашептывать про себя это удивительное заклинание, которому научила ею мать: – Синяя мышка, дай воды! Синяя мышка, дай воды!» И хотя чуда не происходило, он продолжал истово молить и звать синюю мышку. Теперь она стала его надеждой и заговором против жажды…
- Синяя мышка, дай воды!
Заговаривая себя, пытаясь таким способом отвлечься, мальчик то задремывал, то просыпался, невольно прислушиваясь урывками среди сна к разговору Органа и Эмрайина. Они о чем-то тихо и долго разговаривали. То был странный, непонятный разговор, с долгими паузами молчания, с недосказанными и порой невнятными словами. Кириск отчетливей разбирал слова Органа, приткнувшись у него под боком, – старик говорил с трудом, тяжело дыша, но с упорством преодолевая хрипы и клокотание в горле, а отца слышал хуже – тот находился подальше, на своих веслах.
– Не мне тебя учить, но подумай, аткычх, – горячо шептал Эмрайин, точно бы кто-то мог их услышать здесь. – Ты же умный человек.
– Думал, крепко думал, так будет лучше, – отвечал Орган, оставаясь, по-видимому, все-таки при своем мнении. Они ненадолго умолкли, и потом Эмрайин произнес:
– Мы все в одной лодке – всем нам должна выйти одна судьба.
– Судьба, судьба, – с горечью пробормотал старик. – От судьбы не уйдешь, известно, – говорил он с хриплым придыханием в голосе, – но на то она судьба – хочешь покорись, хочешь нет. Раз нам конец – кому-то можно и самому поторопить судьбу, чтобы другие повременили. Сам подумай, а вдруг пути откроются, пустишься из последних сил, и земля будет уже на виду, и не хватит нескольких глотков воды душу дотянуть, разве разумно, разве не обидно будет?!
Эмрайин что-то ответил невнятное, и они замолчали.
Кириск пытался уснуть и все звал свою синюю мышку. Ему казалось, что она появится, когда он будет спать… Но сон не шел.
- Синяя мышка, дай воды!
– Ну, как там Мылгун? – спросил Орган.
– Да все так же – лежит, – ответил ему Эмрайин.
– Лежит, говоришь. – И, повременив, старик промолвил, напоминая: – Придет в себя – передай ему.
– Хорошо, аткычх. – Голос Эмрайина при этом дрогнул, он с усилием прокашлялся. – Все передам, как было сказано.
– Скажи ему, что я уважал его. Он большой охотник. И человек недурной. Я всегда уважал его.
Опять они замолчали.
- Синяя мышка, дай воды!
Эмрайин потом что-то сказал, Кириск не совсем расслышал его слова, а Орган ответил тому:
– Нет, не смогу ждать. Разве не видишь? Сил не хватит. Хорошая собака подыхает в стороне от глаз. Я сам. Я был великим человеком! Это я знаю. Мне всегда снилась Рыба-женщина. Тебе этого не понять… Я хочу туда…
Они еще о чем-то говорили. Кириск засыпал, призывая мышку-поительницу:
- Синяя мышка, дай воды!
Последнее, что он слышал, как отец, придвинувшись поближе к Органу, сказал:
– Помнишь, аткычх, как-то купцы приезжали на оленях, топоры меняли и разные вещи. Вот тот, Рыжий большой, говорил, что был в какой-то далекой стране великий человек, который пешком прошел по морю. Ведь были такие люди…
– Значит, он очень великий человек, самый великий из всех великих, – ответил на то Орган. – А у нас самая великая – Рыба-женщина.
Кириск уже спал, но какие-то слова еще смутно доходили до его сознания:
– Подожди. Подумай немного…
– Пора. Я свое пожил… Не удерживай. Сил нет, не вынесу…
– Такая тьма…
– А какая разница…
– У меня еще не все слова кончились к тебе…
– Слова не кончаются. Не кончатся и после нас.
– Такая тьма.
– Не удерживай. Не вынесу, силы уходят. А я хочу сам…
– Такая тьма…
– Вы еще подержитесь, там еще есть немного воды…
Чья-то большая, жесткая и широкая ладонь, ощупью притрагиваясь, осторожно легла на голову мальчика. Он понял спросонья: то была рука Органа. Теплая, тяжелая рука некоторое время покоилась на его голове, как бы желая защитить и запомнить ее, голову Кириска…
Снилось Кириску, что он шел пешком по морю. Шел туда, где должна быть земля, чтобы напиться воды. Шагал, не проваливаясь, не утопая. Дивное и странное было видено вокруг. Чистое, сияющее море простиралось повсюду, куда только достигали глаза. Кроме моря, кроме морской воды ничего на свете не существовало. Только море и только вода. И он шел по той воде, как по твердой земле. Волны плавно катились под солнцем, отовсюду, со всех сторон. Не угадать, откуда появлялись волны и куда они уходили.
Он ступал по морю в полном одиночестве. Вначале ему показалось, что он побежал впереди Органа, Эмрайина и Мылгуна, чтобы поскорее найти воду и поскорее позвать их. Но потом он понял, что оказался здесь в совершенном одиночестве. Он кричал, звал их, но никто не откликался. Ни души, ни звука, ни тени… Он не знал, куда они исчезли. И от этого ему стало страшно. Докричаться не мог. И земли не видно было нигде, ни в какой стороне. Он побежал по морю, тяжело дыша, истрачивая силы, но никуда не приближался, оставался на месте, пить хотелось все сильней и нестерпимей. И тут он увидел летающую над ним птицу. То была утка Лувр. Она с криком носилась над морем в поисках места для гнезда. Но нигде не находила ни клочка суши. Кругом плескались бесконечные волны. Утка Лувр жалобно стонала и металась.
– Утка Лувр! – обратился к ней Кириск. – Где земля, в какой стороне, мне хочется пить!
– Земли еще нет на свете, нигде нет! – отвечала утка Лувр. – Кругом только волны.
– А где остальные? – спросил мальчик об исчезнувших людях.
– Их нет, не ищи их, их нигде нет, – отвечала утка Лувр.
Непередаваемое словами, жуткое чувство одиночества и тоски охватило Кириска. Ему хотелось бежать отсюда куда глаза глядят, но бежать было некуда, только вода и волны обступили со всех сторон. Утка Лувр исчезала вдали, превращаясь в черную точку.
– Утка Лувр, возьми меня с собой, не оставляй меня! Я хочу пить! – взмолился мальчик.
Но она не отзывалась и вскоре совсем скрылась в поисках не существующей еще земли. А солнце слепило глаза.
Он проснулся в слезах, все еще всхлипывая и испытывая тяжесть безысходной тоски и страха. Медленно открыл заплаканные глаза, понял, что видел сон. Лодка слегка покачивалась на воде. Сереющая туманная мгла нависла и обступала со всех сторон. Значит, ночь минула, приближалось утро. Он шевельнулся.
– Аткычх, я хочу пить, я видел сон, – пробормотал он, протягивая руку к старику Органу. Рука его никого не обнаружила. Место Органа на корме было пусто.
– Аткычх! – позвал Кириск. Никто не отозвался. Мальчик поднял голову и встрепенулся:
– Аткычх, аткычх, где ты?
– Не кричи! – разом придвинулся к нему Эмрайин. Он обнял сына, крепко прижал его к груди. – Не кричи, аткычха нет! Не зови его! Он ушел к Рыбе-женщине.
Но Кириск не слушался:
– Где мой аткычх? Где мой аткычх?
– Да послушай же! Не плачь! Успокойся, Кириск, его уже нет, – пытался уговорить отец. – Ты только не плачь. Он сказал, чтобы я тебе дал воды. У нас еще есть немного. Вот ты перестанешь, и я дам тебе попить. Ты только не плачь. Скоро туман уйдет, и тогда вот посмотришь…
Кириск не унимался, отчаянно вырываясь из рук отца. От резких движений лодка закачалась. Эмрайин не знал, как быть.
– Вот мы сейчас поплывем! Смотри, мы сейчас поплывем! Эй, Мылгун, поднимись, поднимись, говорю! Поплыли!
Мылгун стал нагребать. Лодка тихо заскользила по воде. И опять поплыли они неизвестно куда и неизвестно зачем в сплошном молочном тумане, по-прежнему наглухо затмившем весь белый свет.
Так они встретили новый день. Теперь их оставалось трое в лодке.
- Синяя мышка, дай воды!
Потом, когда Кириск немного успокоился, Эмрайин пересел к веслам, и они поплыли в четыре весла чуть быстрее, опять же неведомо куда и неведомо зачем. А Кириск, потрясенный исчезновением старика Органа, все еще горько всхлипывал, сиротливо сидя на корме. Отец и Мылгун тоже были подавлены и ничем и никак не могли помочь ни себе, ни ему, Кириску. Только и нашлись – взяться за весла. Плыли, лишь бы плыть. Лица их были черны в белом тумане. И над всеми ними висела общая, неотвратимая, безжалостная беда – жажда и голод.
Они молчали, ни о чем не говорили. Боялись говорить. Лишь через некоторое время Мылгун бросил весла.
– Дели воду! – мрачно сказал он Эмрайину.
Эмрайин нацеживал из бочонка на донышко ковша каждому по нескольку глотков. Вода была затхлая, с неприятным запахом и гнилым вкусом. Но и той оставалась теперь самая малость. Еще поделить раза три-четыре – не больше. Никто не напился, и никому не стало легче от выпитого.
И опять наступило тягостное, отупляющее ожидание: изменится погода или нет? Уже никто не высказывал никаких обнадеживающих предположений. Ослабевшие и изнуренные, они невольно впадали в безразличие – смиренно ждали своей участи, бесцельно кружа на лодке в гиблом тумане. Оставалось только это – примириться с участью. Туман все больше угнетал и подавлял их волю. Лишь раз, крепко выругавшись, Мылгун проговорил с дрожью и ненавистью в голосе:
– Пусть бы исчез туман, и я готов умереть! Сам выброшусь из лодки. Только бы увидели глаза мои край света!
Эмрайин промолчал, даже головы не повернул. Что было сказать? Теперь он оставался в лодке за старейшину. Но ничего иного предложить он не мог. Некуда было плыть!
Время шло. Лодка теперь дрейфовала сама по себе, то замирая на месте, то снова трогаясь.
И с каждым часом возрастала угроза их жизни – к неутихающей жажде прибавлялся жестокий, разрушительный голод. Силы угасали, уходили из тел.
Кириск лежал на корме с полуприкрытыми глазами. Голова отяжелела, кружилась, дышать было трудно – то и дело схватывали спазмы пустого желудка. И все время хотелось пить. Страсть как хотелось пить.
- Синяя мышка, дай воды!
Заклиная и призывая синюю мышку-поительницу, мальчик пытался теперь забыться, теперь он искал спасение в воспоминаниях о той жизни, которая осталась у подножия Пегого пса и которая была теперь недоступной и сказочной.
«Синяя мышка, дай воды!» – шептали его губы, и оттого что кружилась голова, он представлял себе, как они играли, скатываясь с травянистого бугра, наподобие бревен. О, это была забавная, отличная игра! Кириск был самый ловкий и выносливый в этой игре. Надо было взбежать на крутой бугорок и оттуда катиться с горки, перевертываясь вокруг себя, точно ты ошкуренное бревно, пущенное вниз по склону. Надо плотно прижать руки вдоль тела. Вначале приходится помогать себе, чтобы стронуться с места. Перевернешься раз, два, три, и дальше пойдет – не удержишься. А сам смеешься, хохочешь от удовольствия, а небо накреняется то одним, то другим краем, облака кружатся и мельтешат в глазах, кружатся и валятся деревья, все летит вверх тормашками, а солнце в небе надрывается от смеха. А кругом крики и визг ребят! Катишься, катишься вниз, перевертываясь все быстрей и быстрей, и в это время до того чудно мелькают то вытянутые лица, то искривленные ноги скачущих следом ребят, и наконец остановка. Ух! Только шум в ушах! И тут самый ответственный момент. До счета – раз, два, три – надо успеть вскочить на ноги и не упасть от головокружения. Обычно все с первой попытки падают. Вот смеху-то! Все смеются, и сам смеешься! Хочешь устоять, а земля плывет под ногами. А Кириск не падал. Удерживался на ногах. Старался. Музлук ведь была всегда рядом. Не хотелось при ней валиться с ног, как какому-то слабаку.
Но самое лучшее и самое смешное было, когда они вместе с Музлук наперегонки катились с бугра. Девочки тоже могут скатываться. Только они трусихи и, бывает, косичками зацепятся за что-нибудь. Но это не в счет. Без синяков не обходится в таком веселом деле.
А когда они вместе с Музлук скатывались, то Кириск нарочно растопыривал незаметно локти, тормозил, чтобы не обгонять ее. Они одновременно докатывались вниз под крики и хохот окружающих, одновременно вскакивали до счета «три» на ноги, и никто не догадывался, какое наслаждение было удерживать Музлук, помогать ей устоять на земле. Они невольно обнимались, вроде бы поддерживая друг друга. Музлук так весело смеялась, губы ее были такие заразительные, и все время она делала так, чтобы Кириск удерживал ее, она все время изображала, что падает, а он должен был помогать ей устоять на ногах, подхватывая, обнимая ее. И никто не догадывался, какие минуты неведомого счастья и пугающей любви переживали они при этом. Под тонким платьицем бешено колотилось сердце девочки, то и дело соприкасались их тела, и Кириск чувствовал, как под руку попадались крохотные, еще только возникающие, тугие грудки и как вздрагивала и быстро льнула она при этом к нему, какие загадочные, сияющие были глаза ее, опьяненные от головокружения. И весь мир – все, что имелось на земле и в небе, – плыл, кружился вместе с ними, купаясь в их несмолкающем смехе и счастье. Никто не догадывался, какое это было удивительное счастье!
И лишь однажды один соплеменник чуть постарше Кириска, ненавистный и презренный, догадался – стал валиться, как дурак, на Музлук – вроде не в силах устоять от головокружения на месте. Музлук отстранялась, убегала от него, а он делал вид, что падает от кружения, догонял ее и валился на нее. Кириск подрался с ним. Тот был побольше его и несколько раз сбивал его с ног. И все-таки выходила ничья – Кириск не сдавался и не позволил Музлук вступаться за него. Но это случилось лишь однажды…
И еще были отрадные мгновения, когда, наигравшись, потные и разгоряченные, они бежали пить воду из ручья.
- Синяя мышка, дай воды!
- Ах, синяя мышка, дай воды!..
Ручей протекал неподалеку. Из лесу шел он и выходил на то место, где они играли. Вода в нем журчала по камням, сохраняя в беге лесной сумрак и лесную прохладу. Травы, теснясь вокруг, обступали ручей вплотную, до самой проточной воды. Те, что росли с самого края, полоскались в ручье, сопротивляясь вытянутыми стеблями напору радостного течения. И бежал себе ручей бесшабашно в сторону моря, то юрко поблескивая на солнце, то ныряя под крутой, нависающий берег, то скрываясь в зарослях трав и лозняка.
Они разом добегали до ручья и разом припадали к воде, раздвигая травы по сторонам. Некогда там мыть руки и черпать воду пригоршнями, пили по-оленьи, свесив головы к воде, окуная лица в булькающий, ласково щекочущий поток. Эх, какое это было наслаждение!
- Синяя мышка, дай воды!
- Синяя мышка, дай воды!
- Ах, синяя мышка, дай воды!..
Они лежали у ручья, опустив головы к воде. Их плечи соприкасались вплотную, и руки, опущенные в быструю струю, сливались, точно бы у них была общая пара рук. Они пили, ловя воду губами, с передышками, с упоением насыщаясь и дурачась, булькая ртами в воде. Им не хотелось уходить отсюда, им не хотелось поднимать опущенные головы от чистого потока, в котором они разглядывали свои быстротекущие, неуловимые отражения, улыбались им, смешно искаженным отражением, и улыбались друг другу.
- Синяя мышка, дай воды!
- Синяя мышка, дай воды!
- Синяя мышка, дай воды!
- Ах, синяя мышка, дай воды!..
А Музлук, не поднимая лица от ручья, смотрела на него, лукаво скосив продолговатые глаза, и он смотрел на нее таким же манером и так же лукаво улыбался ей в ответ. Она толкала его плечом, как бы отстраняя его от себя, а он не уступал. Тогда она набирала в рот воды и брызгала ему в лицо. Он делал то же самое: набирал воды, и еще побольше, и с силой выдувал струю ей в лицо. И с этого начиналась безудержная возня и беготня. Они гонялись по воде, забрызгивали друг друга, как могли и сколько могли, и, мокрые с головы до ног, с криком и хохотом носились взад-вперед по ручью…
- Синяя мышка, дай воды!
Тяжело было Кириску сознавать, что это больше никогда не повторится. Дышать становилось все труднее и труднее, вес чаще сводило судорогой желудок. Он тихо плакал и корчился от боли, обращаясь все к той же синей мышке:
- Синяя мышка, дай воды!
Так он лежал, пытаясь забыться в грезах. И ничто не изменилось вокруг. Белая пелена тумана все также неподвижно нависала над ними. Они бессильно валялись в лодке, каждый на своем месте. И неизвестно было по-прежнему, что их ждало впереди, когда вдруг лодка сильно вздрогнула, и он услышал испуганный возглас отца:
– Мылгун! Мылгун! Что ты делаешь? Перестань!
Кириск поднял голову и поразился. Мылгун, перевалившись за борт, зачерпывал ковшом морскую воду и пил ее.
– Перестань! – кинулся к нему Эмрайин, собираясь вырвать ковш.
Но Мылгун угрожающе изготовился:
– Не приближайся, Борода! Убью!
Эту горько-соленую воду, которую немыслимо было взять в рот, он пил, обливая одежду, вода лилась на грудь и рукава, пил, давясь, принуждая себя, опрокидывая на себя ковш дрожащими руками. Лицо его при этом звероподобно ощерилось.
Потом он швырнул ковш на дно лодки и откинулся навзничь, заваливаясь, хрипя и задыхаясь. Так он лежал, и помочь ему ничем невозможно было. Кириск от страха сжался в комок, испытывая еще большую жажду и острые рези в животе. А поникший Эмрайин снова взялся за весла и тихо повел лодку куда-то в тумане. Ничего иного предпринять он не мог.
Мылгун то утихал, то снова судорожно вздрагивал, хрипел, погибал от приступа жажды. Через некоторое время он, однако, поднял голову:
– Горит, внутри все горит! – И стал раздирать одежду, на груди.
– Ну скажи, что сделать? Как тебе помочь? Там еще есть, – кивнул Эмрайин на бочонок. – Налить немного?
– Нет, – отказался Мылгун. – Теперь уже нет. Хотел дотянуть до ночи и потом, как наш покойный аткычх, но не дотянул. Пусть так. А не то сделал бы что-нибудь не то. Выпил бы всю воду. А теперь мне конец, и я уйду. Теперь мне конец… Я сам, я еще в силах…
Среди пустынного моря, в тумане, которому не было ни конца, ни края, ни погибели, страшно и невыносимо было слушать слова человека, обрекшего себя на медленную смерть. Эмрайин пытался как-то успокоить друга и брата своего Мылгуна, что-то сказать ему, но тот не желал его слушать, он торопился, он решил пресечь свои муки одним ударом.
– Ты не говори мне, Эмрайин, ничего, уже поздно! – бормотал Мылгун, как безумный. – Я сам. Я сам уйду. А вы, отец с сыном, вы сами решайте. Так будет лучше. Вы меня простите, что так получается. Вы отец с сыном, вы оставайтесь, еще есть немного воды… А я сейчас перешагну. – И с этими словами Мылгун встал, пригибаясь, держась за борт лодки. Пошатываясь, собрав в себе силы, Мылгун сказал Эмрайину, глядя исподлобья:
– Ты мне не мешай, Борода! Так надо. Ты мне не мешай. Прощайте. Может быть, дотянете. А я сейчас… А ты сразу гони прочь… Сразу, и не жди… Если приблизишься, опрокину. А теперь греби. Борода, греби сильнее. Слышишь, опрокину…
Эмрайину ничего не оставалось, как подчиниться угрозам и мольбам Мылгуна. Лодка пошла по прямой, рассекая бесшумный туман и бесшумную воду. Кириск жалобно заплакал:
– Аки-Мылгун! Аки-Мылгун! Не надо!
И именно в эту минуту Мылгун решительно перевалился за борт лодки. Лодка сильно накренилась и снова выпрямилась.
– Прочь! Прочь уплывайте! – закричал Мылгун, барахтаясь в ледяной воде.
Туман сразу скрыл его от глаз. Все затихло, и потом в звенящей тишине еще раз раздался голос, последний выкрик утопающего. И тут Эмрайин не выдержал:
– Мылгун! Мылгун! – откликнулся он и, рыдая, развернул лодку назад.
Они быстро вернулись, но Мылгуна уже не было. Поверхность воды была пуста и спокойна, будто бы ничего и не произошло. И уже трудно было определить то место, где затонул человек.
Весь остаток дня кружились они здесь, никуда не уплывая. Опустошенные и убитые горем, они оба плакали. Первый раз в жизни видел Кириск, как плакал отец. До этого никогда не случалось с ним такого.
– Вот теперь мы одни, – бормотал Эмрайин, утирая слезы с бороды, и никак не мог унять себя. – Мылгун, верный мой Мылгун! – шептал он, всхлипывая…
А день уже клонился к концу. Так оно казалось. Если существовало где-то солнце, если оно ходило по небу над морями, над туманами, то, должно быть, уже закатывалось спокойно на свое место. А здесь, под плотным покровом тумана, постепенно темнеющего, насыщаясь сумрачной мглой, кружила по морю затерявшаяся без вести одинокая лодка, в которой оставались теперь только двое – отец и сын.
Перед этим, перед тем как сказать себе, что приближается вечер, Эмрайин наконец решил, что пора им испить воды. Он видел, как тяжко дожидался этого Кириск, и понимал, чего стоило сыну терпеть жажду и голод, пересиливая себя, не проронив ни звука. Гибель Мылгуна на долгое время как бы приглушила мысль о воде. Но постепенно жажда брала свое и теперь уже разгоралась с удвоенной силой, жестоко возмещая невольную отсрочку мучений.
С чрезвычайной осторожностью, чтобы не пролить напрасно ни единой капли, нацедил он протухшей воды сначала Кириску. Мальчик схватил ковш и тут же проглотил свою долю как одержимый. Затем Эмрайин налил для себя, обнаружив, что воды в бочонке после этого осталось, собственно, на дне. Кириск тоже понял это, судя по наклону бочонка в руках отца. Эмрайин помертвел, пораженный этим, хотя и предполагал, что так оно и должно было быть. Теперь Эмрайин не спешил выпить свою воду. Он задумчиво держал в руке ковш, потрясенный грянувшей вдруг мыслью, с появлением которой утоление жажды уже ничего не значило.
– На, подержи, – передал он ковш сыну, хотя не следовало этого делать. Для мальчика это было равносильно пытке – держать ковш с водой и не сметь выпить. Освободив руки, Эмрайин плотно вогнал пробку и поставил опустевший почти до дна бочонок на свое место.
– Выпей, – предложил он сыну.
– А ты? – удивился Кириск.
– А я потом. Ты не думай ничего, выпей, – спокойно сказал отец.
И Кириск снова без промедления проглотил и эту порцию вонючей воды. Жажда не утолилась, как хотелось бы, но все же он почувствовал какое-то небольшое облегчение.
– Ну, как? – спросил отец.
– Немножко лучше, – благодарно прошептал мальчик.
– Ты не бойся. И запомни, даже совсем без капли воды во рту человек может протянуть два-три дня. И, что бы то ни было, ничего не бойся…
– Потому ты не выпил? – перебил его Кириск. Эмрайин растерялся, застигнутый врасплох этим вопросом. И, подумав, сказал коротко:
– Да.
– А без еды сколько? Мы уже не едим давно.
– Лишь бы вода была. Но ты не думай об этом. Давай-ка мы лучше поплывем немного. Я хочу с тобой поговорить.
Эмрайин заскрипел веслами, и они медленно потащились в тумане по морю, точно не могли поговорить на том месте, где они находились. Отцу предстояло собраться с духом. Ему казалось, что так будет легче сосредоточиться, подготовить себя к тому разговору, при одной мысли о котором тягостно холодело внутри. Не только сам нагребал, но и сыну велел сесть за весла. Необходимости в этом никакой не было, так же, как не было необходимости куда-то плыть. Мальчик с трудом ворочал непомерно большими для него морскими веслами. С одним он бы еще мог управиться, а для пары пока не подрос. К тому же чувствовалось, мальчишка заметно ослаб, как и сам он слабел час от часу. Это-то и вынуждало отца торопить события. Время уходило, время истекало.
Кириск молчал и не оглядывался, невпопад проворачивая тяжелые весла. Но не это терзало Эмрайина. Глядя на сына со спины, на эту согбенную, и как теперь он заметил, все еще по-детски щуплую, беззащитную фигурку, он кусал губы, и сердце его, он это явственно ощутил, обливалось кровью – горячим, пульсирующим потоком боли. Но начать разговор он не смел, хотя и не было иного выхода…
Постепенно видимость в недрах тумана снижалась, а Эмрайин все плыл в тяжком раздумье, и времени у него оставалось действительно мало. Как ни крепился он, каким бы ни был могучим от природы, жажда и голод быстро одолевали, быстро съедали его силы. Надо было успеть подготовить сына к тому, что он обдумывал в тот час, надо было сделать это, пока сам был в состоянии держаться и проявлять волю.
Он понимал, что и ему предстоит вслед за Органом и Мылгуном покинуть лодку, что это единственная возможность если не сохранить, то хотя бы продлить жизнь сына настолько, насколько оставалось на дне бочонка той немногой воды. Он не мог сказать себе, развеется ли туман этой ночью или следующим днем, и уж вовсе не мог сказать себе, что предстоит сыну впереди, если даже наладится рано или поздно погода, как, каким образом, оставшись один в море, смог бы он выжить и спастись. На это ответа не существовало. Единственная надежда, маловероятная, а то и вовсе несбыточная, в которой он пытался уверить самого себя, состояла в том, что, если откроется море, быть может, случайно встретится большая лодка белых людей. По слухам он знал, что белые люди иной раз появлялись в этих водах – проплывали океаном, вдалеке от их берегов, плыли по каким-то своим делам, из каких-то далеких стран в какие-то другие далекие страны. Сам он никогда не встречался с ними, но рассказывали об этом купцы, которые все на свете знают, а иные из них сами якобы плавали на этих огромных, как горы, лодках белых людей. Только такое чудо, если разгуляется погода, если совпадут пути, если заметят белые люди маленький каяк-долбленку в океане, только это могло быть надеждой, слабой, невероятной, почти невозможной, но все-таки какой-то надеждой.
Об этом и собирался поведать Эмрайин сыну перед тем, как покинуть его. Необходимо было еще убедить Кириска, строго-настрого наказать ему, чтобы он оставался в лодке до самого последнего дыхания, пока сознание будет при нем. И если суждено ему умереть, когда кончится вода, то умереть он должен в лодке, а не выбрасываться в море, как вынуждены были поступить старик Орган, Мылгун, и как поступит он, его отец. Никакого иного выхода не было. Требовалось повиноваться, примириться с жестокостью судьбы… Однако при мысли, что одиннадцатилетний мальчик останется в лодке один на один со всем светом, в беспроглядном тумане, в безбрежном море, медленно умирая от жажды и голода, Эмрайина охватывала оторопь. С этим невозможно было примириться, то было выше всяких сил. И тогда он ловил себя на мысли, что не сможет оставить сына одного, лучше умереть вместе с ним…
Вскоре стало совсем темно. Опять воцарилась в море черная чернота туманной ночи. Если бессмысленно плыть куда-либо днем по туману, то тем более бессмысленно это ночью. Лодка тихо покачивалась на месте. И опять никаких признаков того, что погода изменится. Море лежало бездыханное.
Отец с сыном примостились на ночь на дно лодки, тесно прижавшись друг к другу. Не спали ни тот, ни другой. Каждый думал, мучимый жаждой и голодом, что ожидает их впереди…
Лежа рядом с отцом, Кириск остро ощутил, как здорово исхудал и извелся отец за эти дни, как уменьшился телом и обессилел. Только и осталась борода – по-прежнему жесткая и упругая. Прижимаясь к отцу, тихо сглатывая слезы от жалости к нему, мальчик постиг той ночью неведомые прежде чувства изначальной сыновней привязанности. Он не смог бы выразить эти чувства словами – они таились в душе, в крови, в сердцебиении его. Прежде он всегда гордился, что похож на отца, подражал ему и мечтал быть таким, как отец, а теперь он приходил к пониманию, что отец – это он сам, это его начало, а он продолжение отца. И потому ему было больно и жалко отца, как самого себя. Он воистину заклинал синюю мышку, чтобы она принесла им воды – и ему и отцу:
- Синяя мышка, дай нам воды!
- Синяя мышка, дай нам воды!
Отец же о воде для себя уже не думал, хотя с каждым часом все тяжелей переносил страдания неутоленной, всевозрастающей, уже физически невыносимой жажды. Внутри все горело, пересыхало и сжималось железной, необратимой спазмой. В голове поднимался гул. Теперь он понимал последние муки Мылгуна. И, однако, не о том была его дума. Думать о воде, желать напиться досыта теперь для него уже не имело смысла. И уже давно бы прервал он эти безысходные мучения, если бы не сын, если бы он мог принудить себя оставить сына, примостившегося у него под боком этой темной последней ночью. Ради сына, пусть не имеющего никаких надежд на спасение и все-таки, и вопреки этому, оберегаемого им до наипоследней возможности, ради того, чтобы сколько-нибудь продлить ему жизнь, и в том теперь заключалась безотчетная борьба и надежда отца, в том теперь он видел свою последнюю волю и деяние, ради всего этого он должен был поскорее покинуть лодку. Но именно из-за него, из-за сына, он не мог на то решиться, не смея бросить его на произвол судьбы. Но и медлить, тянуть дальше тоже становилось опасно – уходили последние силы, необходимые, чтобы собраться с духом…
Время жить у отца истекало…
Как, какими словами объяснить это сыну? Как сказать ему, что он оставит его ради него?..
Время жить у отца истекло…
– Отец! – прошептал вдруг Кириск, будто бы отгадывая его мысли, и еще крепче прижался к отцу, заклиная свою синюю мышку:
- Синяя мышка, дай нам воды!
- Синяя мышка, дай нам воды!
Эмрайин, стискивая зубы, застонал от горя и не посмел ничего сказать. Мысленно он прощался с сыном, и, чем дольше прощался, тем труднее, тем мучительнее было подняться на последний шаг. Этой ночью он понял, что, оказывается, вся его предыдущая жизнь была предтечей нынешней его ночи. Для того он и родился и для того он умирал, чтобы из последних сил продлить себя в сыне. Об этом он думал в тот час, молча прощаясь с сыном. Эмрайин совершал для себя открытие – всю жизнь он был тем, кто он есть, чтобы до последнего вздоха продлить себя в сыне. И если он не думал об этом раньше, то лишь потому, что не было на то причин.
И тут он вспомнил, что были и прежде случаи, когда мысль эта проскальзывала в сознании, как молния по небу. Он вспомнил и понял теперь то, что произошло с ним однажды, когда они с покойным Мылгуном и другими соплеменниками рубили великое дерево в лесу. Дерево стало валиться, а он по чистой случайности оказался в тот момент на той стороне, куда заваливалось, сокрушая все вокруг, это поверженное дерево-гигант. Все закричали в голос:
– Берегись!
Эмрайин оцепенел от неожиданности, и было уже поздно: треща, громыхая рвущейся кроной и обрушивая и опрокидывая само небо, вырывая кусок зеленого лесного потолка вверху, дерево медленно и неумолимо падало на него. И он подумал в то мгновение лишь об одном, что Кириск – тогда он был малышом и единственным ребенком, Псулк еще не родилась – он подумал тогда, в те считанные секунды, на пороге неминуемой смерти, подумал только об этом, и ни о чем другом он не успел подумать, что сын – это то, что будет им после него. Дерево рухнуло рядом, с грозным гулом, обдав его волной листьев и пыли. И тут все облегченно вскричали. Жив остался, жив и невредим Эмрайин!
Теперь, вспомнив об этом случае, он понял, что именно появление сына сделало его таким, какой он есть, и что ничего лучшего и более сильного он не испытывал в жизни, нежели отцовские чувства. За это он был благодарен детям, и прежде всего сыну, Кириску. Эмрайину хотелось рассказать Кириску об этом, но он не стал его тревожить. Мальчику и без того было худо…
Время жить у отца истекало…
- Синяя мышка, дай нам воды!
- Синяя мышка, дай нам воды!
Время жить у отца истекало…
Осталось еще два-три дорогих воспоминания, с которыми трудно было ему расставаться. И он не хотел уходить туда, не подумав об этом, хотя время уже поджимало. Теперь он прощался с воспоминаниями, постоянно помня, что пора покидать лодку…
Он любил жену с первых дней. Удивительное было в том, что, находясь в море, он думал, оказывается, о том же, о чем думала она дома. Так было с первых дней. Она знала, о чем он думал, находясь в плавании, так же, как он знал о ее мыслях… Это узнавание на расстоянии было их тайной и никому неведомым счастьем близости.
Когда Кириск еще не родился, но появились первые признаки, которые могли подтвердиться и не подтвердиться, он сразу сказал, вернувшись, жене:
– У нас будет мальчик?
– Тише, кинры услышат! – перепугалась она, и глаза ее налились радостью. – Откуда ты знаешь?
– Ты думала об этом сегодня. Ты этого очень хочешь.
– А ты?
– Ты же знаешь, что я знаю, о чем ты думала, и я думал об этом же.
– А я думала потому, что ты думал об этом и очень хотел этого…
Так оно и случилось. Сбылось их предчувствие. Кириска еще не было, но он должен был вскоре появиться. И тот срок постепенно приближался. В те дни жена ходила в его старых кожаных штанах, видавших виды, латаных-перелатаных. Это для того, объясняла она, чтобы присутствовал его мужской дух, когда он уходит на промысел, а не то плохо будет расти тот, кто должен появиться. В те дни жена в его старых кожаных штанах была самой красивой и желанной. Самой красивой и самой желанной!
Славные, тревожные и радостные были те дни, когда они думали о том, кто должен был сделать их отцом и матерью…
То был Кириск…
С ним и со всем, что было связано с ним, предстояло теперь разлучиться навеки.
И еще, когда Кириск уже подрос, мать как-то, рассердившись, сказала, что, когда его не было, ей было гораздо лучше без него.
Мальчика это очень обидело.
– А где я был, когда меня не было? – пристал он к отцу, когда тот вернулся с моря.
Вот смеху-то… Смеялись они с женой молча, лишь глазами. Особенно ей доставляло удовольствие, что он никак не мог ответить и не знал, как ему быть, как объяснить мальчику, где он был, когда его не было.
Теперь бы отец ему сказал, что он был в нем, когда его не было на свете, что он был в его крови, в его пояснице, откуда он истек в чрево матери и возник, повторенный ею, и что теперь, когда он сам исчезнет, он останется в сыне, чтобы повторяться в детях его детей…
Да, так бы ему и сказал, и был бы счастлив сказать перед смертью именно так, но теперь всему приходил конец. Его роду приходил конец. Самое большее, жизнь Кириска могла продлиться еще на день, два, но не дольше, отец это хорошо понимал. И в том заключалась для него непримиримая беда и несчастье, а не в том, что приходилось покидать лодку ради сына…
И еще хотелось Эмрайину внушить напоследок сыну, чтобы он с благодарностью думал в оставшееся для него время о старике Органе и аки-Мылгуне. Людей этих уже нет, им все равно, вспоминает ли о них кто или не вспоминает, но думать так следует для самого себя. Даже за мгновение перед смертью надо думать об этом для самого себя. Умирать надо, думая для себя о таких людях.
Но потом он решил, что, быть может, сын сам догадается об этом…
Когда Кириск проснулся, он удивился, что спалось ему теплее, чем в предыдущие ночи. Он был укрыт отцовской кухлянкой. Мальчик открыл глаза, поднял голову – отца в лодке не было. Он рванулся, шаря по лодке, и закричал жутким воплем, горестно огласившим безмолвную пустыню туманного моря. И долго не смолкал его одинокий, полный отчаяния и боли вопль. Он плакал страшно, до изнеможения, а потом упал на дно лодки, хрипя, и бился головой о борт. То была его плата отцам, его любовь, его горе и причитание по ним…
Мальчик лежал на дне лодки, не поднимая головы, не открывая глаз. Ему некуда было смотреть и некуда было деваться. Кругом все так же расстилался белесый туман, и лишь море в этот раз нерешительно пошевеливалось, покачивая и кружа лодку на месте.
Кириск плакал, сокрушаясь и упрекая себя в том, что уснул, что если бы он не уснул, то никогда и ни за что не пустил бы отца, вцепился бы руками и зубами и не отпустил бы его, пусть бы они погибли вместе, пусть бы скорее умерли от жажды и голода, но только бы не оставаться одному в полном и страшном одиночестве. Ругал и упрекал себя, плача, что не проснулся, не вскочил и не закричал, когда ночью вдруг почувствовал, как сильно дернулась и закачалась лодка от резкого толчка. Разве он допустил бы, чтоб отец выбросился в море! Разве он не кинулся бы с ним вместе в эту черную пучину!
Потом он забылся постепенно, плача и трясясь всем телом. И через некоторое время с новой силой, как бы возмещая свое отступление перед горем, начался приступ жажды. Он даже во сне чувствовал, как изнывал и страдал от безводья. Жажда одолевала, жажда терзала и душила его. Тогда он почти вслепую дополз до бочонка и обнаружил, что пробка слегка приослаблена, чтобы легче было ее вытащить, и ковш был рядом. Он налил себе воды и, ни о чем не думая, напился, разнимая тем слипшиеся губы и спазмы глотки. Хотел еще налить и еще выпить, но раздумал, сумел остановить себя. Водицы оставалось еще раза на два попить…
Потом он сидел уныло и думал о том, почему отец ушел, не сказав ничего. Ведь вместе с отцом ему было бы легче утонуть, чем теперь, когда одиночество и страх сковали его руки и ноги, и когда он так страшится переступить за борт лодки. Он решил, что сделает это, как только соберется с силами…
Был уже полдень, а может быть, чуть больше полдня. Так казалось Кириску, судя по светлеющим тонам тумана. Значит, солнце сияло где-то в зените. Однако солнечные лучи не пробивали толщу Великого тумана в его великом оцепенении над океаном. Туман становился жиже, голубоватым, как дым от усохших дров. И все равно далее двадцати-тридцати саженей ничего не различить было, кроме темной, колышущейся воды вокруг.
Плыть было некуда, да он и не справился бы теперь с веслами. Он с грустью посмотрел на отцовские и мылгуновские весла, аккуратно заставленные по бортам. Лодка дрейфовала теперь сама по себе, двигаясь в тумане в неизвестном направлении. И со всех сторон обступало мальчика одиночество, и кругом царил безысходный страх, холодящий душу.
Позднее, к вечеру, ему опять нестерпимо захотелось пить. И голова шла кругом от голода и слабости. Ему не хотелось ни двигаться, ни глядеть по сторонам. Да и некуда и не на что было смотреть. И даже трудно стало добраться до бочонка. Он пополз на коленях и остановился от усталости. Кириск понимал, что скоро не сможет и двигаться. Он поднес к лицу руку и ужаснулся: рука его утончилась, уменьшилась, как ссохшаяся шкурка бурундучка.
В этот раз он напился больше, чем следовало бы. Теперь воды осталось на самом дне, еще на один раз, и на том питью наступал конец. Ни капли. Но ему теперь все стало безразлично. Все равно хотелось пить, ненасытно хотелось пить. Острота голода притупилась, и в желудке засела неутихающая, тяжкая, ноющая боль.
Он несколько раз впадал в беспамятство, потом снова приходил в себя. А лодка дрейфовала сама по себе, плыла в тумане, увлекаемая ожившими течениями.
В какой-то момент он всерьез решил броситься в море. Но сил не хватило. Поднявшись на колени, повис на краю борта. И так висел, выпростав руки за борт, но не в силах выкинуть тело свое из лодки. Потом он обессилел настолько, что даже не пытался допить остаток воды в бочонке.
Он лежал на дне лодки и тихо плакал, призывая свою мышку-поительницу:
- Синяя мышка, дай нам воды!
Но синяя мышка не появлялась, и только еще больше хотелось пить. И опять припоминалось ему то лето, когда он голышом купался в ручье. Ведь было ему тогда лет семь, не больше. Лето стояло в тот год жаркое. На опушке леса здорово припекало. Там они собирали ягоду. А потом купались. Мать и сестра ее тоже купались. Они не очень-то стыдились его. Разделись обе и, смугло поблескивая бедрами, прижимая ладони к грудям, боязливо вошли в ручей. И странно вскрикивали, визжали, плескаясь в воде. А когда он бегал вдоль ручья и прыгал с бережка в воду, они потешались над ним до упаду, особенно мать. «Посмотри, посмотри, – говорила она сестре, – как он похож на него, в точности как сам!» И еще что-то они говорили, озорно перешептываясь и задорно смеясь… А вода текла в ручье нескончаемым потоком, и ее можно было пить досыта и купаться в ней сколько угодно…
- Синяя мышка, дай нам воды!
Чудилось ему, что снова он у того ручья. И вроде бы снова жарким летом купается в нем голышом. Вот он бежит берегом, прыгает в поток, но не ощущает прохлады струи. То какая-то неуловимая, невещественная вода, то туман. Он купается в тумане. Ему зябко в такой воде. А мать не смеется, а плачет. «Посмотри, посмотри, как он похож на него!» – говорит она кому-то и плачет, горько плачет… Слезы ее солоны, они стекают по лицу…
Ночью Кириск проснулся от качки и шума волн за бортом лодки. Мальчик тихо вскрикнул – он увидел над собой звезды! Первый раз за все эти дни. Они высоко блистали в темном небе, в разрывах туч, проносящихся над морем. И даже луна несколько раз показывалась, быстро ныряя в облаках.
Мальчик был ошеломлен – звезды, луна, ветер, волны – жизнь, движение! И хотя туман еще держался скоплениями и, когда лодка попадала в такие места, все снова погружалось в мутную мглу, продолжалось это недолго. Тронулся Великий туман, вышел из оцепенения, расползался по свету, гонимый ветром и волнами.
Мальчик смотрел на звезды со слезами на глазах. У него не было сил взяться за весла, он не знал, как находить дорогу по звездам, он не знал, куда ему плыть, он не знал, где он и что ожидало его впереди, и все равно он был рад, что слышит шум бегущих волн, что ветер ожил, что лодка плыла по волнам.
Он плакал от радости и горя, оттого что мир прояснился, оттого что море пришло в движение, и что, будь у него вода для питья и какая-то еда, он бы еще мог любить эту жизнь. Но он понимал, что не удастся теперь подняться с места, что дни его сочтены, что он умрет скоро от жажды…
А лодка плыла по волнам все резвей и резвей. Плыла по течению, без руля и без весел. Уже смутно угадывался над морем горизонт, все ясней раздвигалось ночное пространство, все реже встречались на пути скопления тумана. И мгла, что встречалась, была уже не та, не такая глухая и всеподавляющая. Теперь в тумане чудились бесшумно мчащиеся фантастические существа. Они возникали и исчезали на ветру сами по себе, растворяя и расталкивая туман по сторонам.
Как только появлялась луна из-за облаков, поверхность моря живо рябилась, живо поблескивала, и снова угасала, и снова оживала. Мальчик смотрел на молчаливо светящиеся звезды и думал: «Которые из них звезды-охранительницы? Которая звезда аткычха Органа, которая аки-Мылгуна, а которая отца моего – Эмрайина? Вас не видно было все эти дни. И вы, звезды, не могли нас видеть в тумане. А теперь я один, и я не знаю, куда я плыву. Но мне теперь не страшно, потому что я вижу всех вас в небе. Только я не знаю, которая звезда чья. Но вы не виноваты, что так случилось. Вы же не видели нас в море. Великий туман скрывал нас. И теперь я один. А они уплыли, все трое уплыли. Они очень любили вас, звезды. Они очень ждали, очень хотели увидеть вас, чтобы найти дорогу к земле. Аткычх Орган говорил, что звезды никогда не подведут. Он хотел научить меня… Но вы не виноваты, что так случилось. Я тоже скоро умру. У меня нет воды, и я уже совсем без сил, и я не знаю, куда я плыву… У меня осталось немного воды, совсем немного, я ее выпью сейчас, больше не могу терпеть, мочи нет. Я сегодня сжевал кусок торбы из-под юколы, она из нерпичьей шкуры. Но я больше не могу, меня тошнит, выворачивает от этого… Я выпью сейчас последнюю воду. И если мы не увидимся больше, я хочу сказать вам, звезды, – аткычх Орган, аки-Мылгун и отец мой, Эмрайин, очень любили вас… Если я буду до утра, я потом попрощаюсь…»
Вскоре лодка снова попала в обширную полосу тумана. И все скрылось, снова исчезла видимость. Но лодка по-прежнему плыла, гонимая ветром и волнами. Кириску теперь все было безразлично. Выпив остаток окончательно прогнившей, затхлой воды, он остался лежать там, у пустого бочонка, на корме, на том месте, где обычно сидел старик Орган. Он приготовился умирать, и туман теперь ему был не страшен. Он лишь сожалел о том, что не видно стало звезд и что, возможно, он не успеет с ними попрощаться… Ему становилось все хуже и хуже.
Так он лежал в полубреду и полусне, и неизвестно, сколько прошло времени. Быть может, было уже за полночь, а быть может, ночь приближалась к концу. Трудно сказать. Легкая мгла стелилась над морем, как дым по ветру.
Есть судьба, и есть судьба. Мальчик мог услышать, а мог и не услышать. Но он услышал. Он услышал, как над головой вдруг со свистом прошумели крылья и что-то низко пролетело во мгле над лодкой. Он встрепенулся и в мгновение ока успел увидеть, что то была птица, большая, сильная птица, широко машущая крыльями.
– Агукук! – прокричал он. – Агукук! – И успел проследить направление полета полярной совы, и успел запомнить ветер. Ветер был слева, слева в затылок, чуть позади левого уха!
– Агукук! – прокричал он вслед птице и уже держал в руках органовский руль, направляя лодку туда, куда улетала агукук.
Кириск весь напрягся, вцепившись в рулевое весло, он поднял в себе все силы, которые еще сохранились в нем, и ни о чем другом не думал, он помнил только ветер и только направление полета.
Неизвестно было, куда и откуда летела полярная сова. С острова на материк или с материка на какой-нибудь остров. Но Кириск не забыл, как рассказывал старик Орган, – эта птица летит над морем только по прямой. Это самая сильная птица, летающая по ночам и в тумане. Теперь он следовал за ней.
Лодка же плыла с волны на волну. Ветер был устойчивый. Мгла редела, развеивалась, и уже слегка светлели края неба. Впереди же, прямо перед ним, на плотном темно-синем небосклоне ярко высвечивалась одинокая лучистая звезда, Кириск заметил, что звезда стоит как раз в той стороне, куда направлял он нос лодки. Он догадался, что должен держаться ее, должен следить за ней и идти к ней, ибо туда, в ту сторону, пролетела агукук. Он не знал этой звезды, но теперь он не спускал с нее глаз и затылком помнил ветер: его направленность, его силу, его струю.
«Ты держись, ветер, не уходи. Я не знаю, как тебя звать, это мог бы сказать мне аткычх Орган. Но будь моим братом. Не уходи, не уклоняйся, ветер, в другую сторону. Ведь ты можешь долго держаться так, как тебе нужно. Помоги мне, ветер, не уходи. И я узнаю твое имя и буду звать тебя по имени. А хочешь, я буду звать тебя ветер Орган? По имени моего аткычха Органа. И буду всегда тебя так называть – ветер Орган. И ты будешь меня знать…»
Так заговаривал он попутный ему ветер, убеждал его держаться, вселяя в него свою волю и душу. А глаза не спускал с путеводной звезды, по которой он плыл. «Я люблю тебя, звезда моя, – говорил он звезде. – Ты так высоко и далеко стоишь впереди. Ты самая большая и красивая. Я прошу тебя, не уходи, стой на месте, не угасай. Я плыву к тебе. В твою сторону пролетела агукук. Я не знаю, куда она полетела, – на остров или на землю. Если даже на остров, пусть я умру на острове. Не уходи, не угасай, звезда. Я не знаю, как тебя звать, ты не гневись на меня. Я не успел узнать твоего имени. Твое имя мог бы сказать мне отец Эмрайин. Если хочешь, я буду звать тебя по имени отца, я буду называть тебя звезда Эмрайина. И когда ты будешь появляться на небе, я буду здороваться с тобой и шептать твое имя. А ты помоги мне, звезда Эмрайина, не уходи прежде времени, не угасай, не спрячься вдруг за тучей…»
Так заговаривал он свою путеводную звезду. И еще заговаривал он волны: «Волны, вы сейчас погоняете мой каяк, вы сейчас хороши. Я буду звать вас – волны акимылгуны. Вы идете туда, куда полетела агукук. Ведь вы можете долго катиться туда, куда вам нужно. Не уходите, волны акимылгуны, не сбивайтесь с пути. Я бы поплыл на веслах, но я совсем обессилел. Вы же видите, я плыву но вашей воле. Если я останусь жить, я всегда буду знать: вы идете по ветру Органа и звезде Эмрайина. И я всем передам: акимылгуны в море к добру! Помогите мне, акимылгуны. Не уходите, не оставляйте меня…»
Среди всех звезд дольше всех светилась звезда Эмрайина. К рассвету она осталась одна на всем небосклоне. К рассвету она запылала сильным чистым сиянием и потом постепенно угасала в сереющем воздухе утра, и еще долго проступала в небе нежным, белым пятном.
Так наступило утро. Потом взошло солнце над морем. Кириск обрадовался и испугался. Обрадовался солнцу и испугался неоглядности моря. Переливаясь зыбкой синевой под солнцем, море было почти черным и необозримо пустынным. Мальчик судорожно держался за рулевое весло, пытаясь плыть по памяти, не сбиваясь с ветра. Это было утомительно…
Он помнил, как у него закружилась голова и все поплыло перед глазами…
Лодка шла теперь своим ходом…
Солнце уже передвинулось на другой край неба, когда мальчик пришел в себя. Подтягиваясь и опираясь на трясущиеся руки, он с трудом вылез на корму и замер с закрытыми глазами, пережидая головокружение. Потом он открыл глаза. Лодка плыла по волнам. И море все так же рябилось, насколько хватал глаз, бесчисленными бликами живой, колышущейся воды. Кириск глянул перед собой, протер глаза и обомлел. Прямо на него из-за темно-зеленой горбины моря выплывал Пегий пес. Пегий пес бежал навстречу! Великий Пегий пес!
Берег был уже виден на краю моря серо-голубой гористой полосой. Но Пегий пес, белоухий и белопахий, вздымался выше всех сопок, и уже различима была кипящая кайма вечного прибоя у подножия Пегого пса. Уже слышны были в воздухе голоса прибрежных чаек. Чайки первыми приметили его. А над сопкой витал голубой дымок угасающего на круче сигнального костра…
- Пегий пес, бегущий краем моря,
- Я к тебе возвращаюсь один —
- Без аткычха Органа,
- Без отца Эмрайина,
- Без аки-Мылгуна.
- Где они, ты спроси у меня,
- Но сначала дай мне напиться воды…
Кириск понял, что это и есть начальные слова его именной песни, с которой ему жить до конца его дней…
…Гудело и маялось море во тьме, набегая и расшибаясь на утесах. Надсадно ухала, отражая удары моря, каменнотвердая земля.
И вот так они в противоборстве от сотворения, с тех пор как день зачался днем, а ночь зачалась ночью, и впредь быть тому все дни и все ночи, пока пребудут земля и вода в нескончаемом времени…
Все дни и все ночи…
…Еще одна ночь протекала…
Шумел над морем ветер Орган, катились по морю волны акимылгуны, и сияла на краю светлеющего небосклона лучистая звезда Эмрайина.
…Еще один день наступал…
с. Байтик.Декабрь 1976 – январь 1977
Когда падают горы
(Вечная невеста)
I
Существует одна непреложная данность, одинаковая для всех и всегда, – никто не волен знать наперед, что есть судьба, что написано ему на роду, – только жизнь сама покажет, что кому суждено, а иначе зачем судьбе быть судьбою… Так было всегда от сотворения мира, еще от Адама и Евы, изгнанных из рая, – тоже ведь судьба, – и с тех пор тайна судьбы остается вечной загадкой для всех и для каждого, из века в век, изо дня в день, всякий час и всякую минуту…
Вот и теперь так же обернулось. Да. И в этот раз то же самое: кто бы мог предугадать событие, оказавшееся за пределами человеческого разумения, и если на то пошло, пожалуй, и за пределами Божественного Промысла.
Единственное, что можно было бы предположить, пытаясь все же постичь непостижимое, – так это некую астрологическую взаимосвязь двух существ, о которых будет повествование, их космическое родство, в том всего лишь смысле, что могли они родиться, волею все тех же судеб, под одним знаком зодиака. А что, могло быть и так…
Разумеется, они не подозревали, и не могли подозревать, о существовании друг друга на земле. Ибо один из них жил в городе, в многолюднейшем современном мегаполисе, распираемом от перенаселенности, от уличных торжищ и кабаков с шашлычными дымами; другой же обитал высоко в горах, в диких скалистых ущельях, поросших густыми арчевниками и покрытых по склонам залеживающимися по полгода теневыми снегами. Потому и прозывался он снежным барсом. А в науке – существует такая наука о высокогорьях – именовался тянь-шаньским снежным барсом из рода леопардовых, из семейства кошачьих, к коему относятся и тигры. В народе же, в местах его обитания, такого зверя называют «жаабарс» (барс-стрела), что более всего соответствует его натуре – в момент прыжка он и впрямь быстр, как стрела. А еще называют его «кар кечкен ильбирс», что означает – «по грудь идущий в снегу»… И это тоже соответствует истине… Другие твари ищут ходы, только бы не оказаться заложниками сугробов в горах, а он – мощный! – пашет напрямую…
Час барсовой охоты по большей части приходился на середину дня. К тому времени в горах наступает пора водопоя травоядных – дикие косули-эчки и бараны-архары направляются с разных сторон к проточным ручьям и речкам, чтобы утолить жажду, бывает, что на целые сутки, до следующего дня. На водопой они следуют организованно. Легко и упруго, прискакивая, ступая по тропам, словно бы почти не касаясь земли, они идут небольшими группами в цепочку, зорко вглядываясь на ходу и чутко вслушиваясь, чтобы в любое мгновение взлететь пружиной над землей и ускакать прочь от опасности.
Жаабарс, однако, великолепно знает свое хищное дело. Он поджидает добычу, умело притаившись за укрытием, чтобы вмиг совершить неожиданный прыжок сверху, из-за скалы (это самый удачный вариант), или неожиданно кинуться сбоку, из-за куста, сбить жертву с ног и тут же перекусить ей горло, которое обагрится клокочущей горячей кровью, а дальше – известное дело…
А вот настигать добычу в погоне лучше всего после того, как стадо вдосталь напьется. И для этого надо уметь залечь в засаде вблизи – не дай бог шевельнуться! – терпеливо ждать, хотя живая плоть – вот она, на расстоянии одного прыжка. Надо зорко высматривать и ждать, сдерживая себя изо всех сил, пока эчки, вскидывая свои тонкошеие головы, прядая ушами и поблескивая настороженно сияющими очами, пьют и пьют неслышными глотками, стоя передними ногами по щиколотку в воде. Чем больше поглотят они журчащей влаги, тем большая удача ждет барса. Если погоня предстоит по прямой, то не всегда стоит и ввязываться – очень уж эти эчки-архары быстроноги. Они бегут стремительнее звука – в этом их спасение, – не орут и не визжат, не обгаживаются от страха на бегу, как некоторые иные твари вроде диких свиней, порой забредающих в здешнее мелколесье в засуху. А вот когда эчки-архары хорошо напьются, резвость у них становится не та, и тут надо действовать не медля, как только они шевельнутся на отход от водопоя…
И в этот раз ближе к полудню Жаабарса потянуло поохотиться где-нибудь у источника. Он шел сквозь заросли, не торопясь, вдоль привычно шумной речки, посматривая по сторонам и оглядываясь, – позади мог объявиться кто-нибудь из пятнистых собратьев, снежных барсов. Такое бывает, и это нежелательно, особенно если на охоту выходит семейная стая. К чему лишние неприятности да грозное рычание друг на друга! Лучше охотиться в одиночку. И он шел…
День стоял предосенний, а это что ни на есть лучшая пора в Тянь-Шаньском высокогорье – снежные вьюги нагрянут еще не скоро, перевалы пока открыты для прохода, всякая дичь в самом своем смаке, во вкусном теле, нагулянном за лето; птицы и те пока еще галдят, свистят и резвятся как хотят – птенцы-то уже хорошо окрепли. А к зиме птичьего отродья здесь не останется, исчезнут все крылатые до следующего лета. Зиму им тут не выдюжить…
Высматривая, не появятся ли где косули, бредущие на водопой, Жаабарс прилаживался на ходу к местности, шел так, чтобы пятнистая шкура его не была заметна среди кустарников и скал. Высокий и неограниченно подвижный в крутой холке, с мощной округлой шеей, с крупной увесистой головой, с кошачьими ушами и пристальными, лазерно светящимися во тьме глазами, Жаабарс и телом был упруг, длинен и силен, наделен четко пятнистой шелковисто-плотношерстной шкурой, какие, как поют в песнях, носили на себе шаманы и ханы. Знал бы он, невозмутимо ступающий по земле, что с африканским собратом-леопардом очень схож, даже хвосты одинаково длинны и внушительны. Правда, собрату-леопарду приходится по деревьям карабкаться, как кошке какой, чтобы было сподручней на добычу набрасываться, а снежным барсам лазить суждено посолиднее – по скалам, по обрывам, да и деревьев таких мощных, как в Африке, на четырех-пятитысячной высоте нет; лес в здешних местах растет внизу, в долинах, а там разве что рысье племя живет на ветвях да сучьях… Бывает, что забредают барсы в те места лесные и рыси на них фырчат и шипят, вроде как не признают троюродных сородичей. Для снежных барсов существует иной, высотный мир – обителью им служат только горы поднебесные, и великая охота ждет в схватках и состязаниях в беге с недосягаемыми эчками-архарами…
Жаабарс вскоре определился, выбрал позицию, залег среди валунов в кустах на берегу небольшой речушки. Притаился, настраиваясь и навостряя когти. Сюда должны были прийти эчки-косули пить воду, было их штук семь, следующих цепочкой краем склона, горделиво и вместе с тем пугливо вскинув головы. Он высмотрел их давеча издали через расщелину в скалах. И теперь замер в ожидании.
Солнце стояло высоко, светило ясно, редкие светлые облака походя слегка касались ледяных пиков Тянь-Шаньского хребта. Все, по предчувствию бывалого зверя, складывалось как должно. Приближался решительный момент охоты. Единственное, что внутренне настораживало Жаабарса, так это то, что, затаившись между валунами в наблюдательной позе, слышал он явственно собственное дыхание – точно никак не мог отдышаться. Такое случается, конечно, во время быстрого бега и резких прыжков или в злобных драках за самку, когда рыки и хрипы исторгаются с шумным яростным дыханием, когда клочья летят, когда готов передушить всех вокруг. Но в неподвижной позе выжидания, требующего сосредоточенности и полной слитности с местом засады, когда все внимание обращено вовне, такой одышки быть не должно. Между тем он слышал каждый собственный вдох и выдох. Подобное случалось с ним впервые. И сердце билось сегодня заметнее, чем прежде, – в ушах отдавалось. Вообще много что изменилось в жизни Жаабарса в последний период. Ведь с прошлой зимы он – свирепый барс-одиночка, живущий изгоем в отторжении от стаи. Такое случается, когда исподволь наступает старение. К этому шло давно. Никому не стало прежней нужды в нем, после того как прибился к его барсихе новый барс, из молодых. Схватка была страшная, но одолеть соперника не удалось. Потом еще сошлись, грызлись насмерть, и опять отогнать чужака не получилось. Тот кривоухий (одно ухо у него было изодрано, видимо, в прежних драках) оказался на редкость злобным, неутомимым, настырным зверем, пристал к барсихе, все лез к ней, притирался, заигрывал, угрожал. И все это на виду у Жаабарса. Наконец и сама матка-барсиха, с которой Жаабарс после первой самки, погибшей при землетрясении в горах, долго жил вместе и дважды плодил потомство, ушла с новым самцом, с кривоухим. Уходила демонстративно, то повиливая хвостом налево-направо, то поджимая его, то вскидывая вверх, то выкручивая дугой, потиралась боками и плечами о нового напарника. Ушла и глазом не моргнула…
Жаабарс тогда кинулся было вслед. Догнал, догнать было нетрудно – они уходили по лощине трусцой, – но толку не вышло никакого, все обернулось по-прежнему. Снова началась дикая схватка. Однако в этот раз и сама барсиха кинулась на Жаабарса, трепала, кусала его, и это оказалось последним ударом, окончательным поражением Жаабарса в попытке сохранить былое место в стае, продлить свою первоприродную роль самца-производителя в барсовом роду. Но даже и тогда, придя немного в себя, Жаабарс попытался перехватить в соседней стае, куда забрел сгоряча, одну из молоденьких новосозревших маток. И здесь схватка была беспощадная, ибо сшиблись сразу три самца, – и тоже ничего не получилось. Стая с маткой и молодыми претендентами умчалась в ближайшее ущелье выяснять отношения и разрешать свои проблемы, а он остался один, покинутый, отторгнутый от главного своего предназначения, – в борьбе за продление рода природа всегда на стороне свежих прибывающих сил.
Прежде чем окончательно удалиться, Жаабарс покружил еще какое-то время по окрестностям – то застывал на ходу, то бесцельно бежал, то ложился, то вставал и оглашал горы отчаянным рыком. Ему хотелось выть по-волчьи, если бы было ему это дано природой. Ошеломленный, растерянный, он не знал, куда себя деть, даже охотничья страсть стала покидать его, не до добычи было – стада козерогих спокойно трусили мимо, будто зная, что ему, матерому Жаабарсу – а ведь еще далеко не старому, еще крепкому, беспроигрышному охотнику, – сейчас не до них…
Так оно по сути и было. И вот тогда, в непонятное ему, потерявшее привычную сущность время, он увидел вдруг то, что явилось высшей точкой его страданий. Стоя на гребне скалистой возвышенности, припав к стволу корявой арчи, он бесцельно озирался вокруг и увидел неожиданно, как внизу вдоль лощины стремится в брачном беге пара снежных барсов – молодые, впервые обретшие друг друга самец и самка, переполненные силой и страстью, приплясывающие на бегу, игриво покусывающие друг друга, чтобы разгорячить кровь перед тем, как, вырвавшись из земной своей оболочки, воспарить над миром… Даже на таком расстоянии было видно, как зазывно пылали их глаза.