Дитя двух семей. Приемный ребенок в семье бесплатное чтение
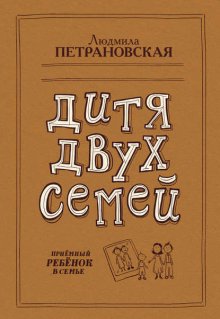
© Л. Петрановская
© ООО «Издательство АСТ», 2017
Самое ценное в этой книге – живые рассказы приемных родителей или уже выросших приемных детей. Везде, где было возможно, я старалась давать их от первого лица.
Поэтому особая благодарность автора – приемным родителям Анастасии Добровольской, Леониду Кондратенко, Ирине Кожухаровой, Дине Сабитовой, которые разрешили использовать тексты из своих блогов или даже специально их написали для этой книжки.
Я не знаю по именам, но от этого не менее глубоко благодарю участников ЖЖ-сообщества выросших усыновленных детей http://usynovlen.livejournal.com, которые имели мужество разместить свои истории в открытом доступе.
Особая благодарность – создателю этого сообщества и приемной маме Марине Трубицкой. Работа, которую она делает – бесценна. Никакие рассуждения специалистов не заменят исповеди людей, которые пережили все сами.
Хочу сказать спасибо всем приемным родителям и детям, которые делились своими историями на семинарах и тренингах, которые были так открыты, имели столько мужества, так глубоко и честно говорили о своих чувствах на консультациях.
Спасибо!
Введение
В начале любой истории про приемного ребенка лежит боль. Потом, позже, эта история может стать светлой, доброй, теплой, полной любви и радости. Но начинается она всегда с боли. С того, что ребенок был оторван от своих родителей, по их ли решению, по воле ли злого рока или государственных служб, но то положение дел, которое задумано природой: дитя на руках у своей матери или отца, рядом с ними, под их защитой и заботой, – было нарушено, сломано. Европейские коллеги так и называют приемных родителей: «специалисты по потере».
Приемные дети могут быть очень разными – большими и маленькими, больными и здоровыми, вредными и покладистыми, тугодумами и живчиками, но есть нечто общее для любого приемного ребенка. Он всегда дитя двух (иногда трех, четырех) семей. Он всегда рожден в одной, а растет в другой. И ему надо что-то с этим делать, как-то это осознать, пережить, принять. А приемным родителям надо ему в этом помочь, а сначала – самим осознать, пережить, принять.
Это совсем не просто. Возможно, это одна из самых сложных задач, стоящих перед приемными родителями, потому что здесь сплетаются в один узел очень много разных чувств, мифов, рисков. «Как ему сказать? А надо ли говорить? Лучше позже или раньше? А если он нас перестанет любить? У него не будет травмы? Как ему объяснить, что его бросили? Как говорить о родителях, которые были с ним жестоки? Как справиться с собственными чувствами, если я не могу говорить об этом без слез? А вдруг он захочет к ним уйти? Что делать, если он хочет с ними встречаться? А если, наоборот, боится или затаил на них обиду? Как помочь ему простить родителей? Как рассказать о наследственных рисках, чтобы не подтолкнуть к плохому и не испугать?» – это лишь некоторые из вопросов, которые я слышу от приемных родителей на каждом тренинге, на каждом семинаре и на консультациях.
Цель этой книжки – помочь приемным родителям разобраться в своих чувствах и чувствах ребенка, найти правильные слова, не наделать ошибок, создать из боли – любовь, из внутреннего разлада – гармонию. Это требует смелости, честности, мудрости, но не надо думать, что это задача для сверхлюдей. Я знаю очень много приемных родителей, у которых все очень хорошо получилось. И у вас получится.
Глава первая. Как ему сказать?
Этот короткий вопрос безусловно вошел бы в шорт-лист вопросов, которые приемные родители задают психологам на консультациях, семинарах, по Интернету или просто поймав за рукав в коридоре. За ним очень много всего: страх за ребенка и за себя, любовь и ревность, внутренний раздрай между «может, лучше не надо» и «если не сейчас, то когда».
Сегодняшним приемным родителям непросто, потому что однозначной, непротиворечивой традиции «говорить ли и как» не существует. Совсем недавно было принято одно, сейчас считается правильным другое. На это есть разные точки зрения в обществе и разные – внутри семей. Иногда мама хочет сказать, а папа или бабушка против. Кто-то прочитает в Интернете хорошую историю и уже готов своему все рассказать, а потом натыкается на критику, объяснения, что все это было неправильно и опасно для ребенка. И тоже вроде звучит убедительно. Кого слушать? Пробуешь со своим ребенком так, как написано, а он совершено иначе реагирует, и не знаешь, как быть.
Все это совершенно естественно, и к сожалению, действительно не существует рецепта, универсального для всех детей и всех семей – говорить или не говорить, а если говорить, то когда, как и какими словами. Дети разные, ситуации разные, отношения с приемными родителями разные. Все равно придется многое делать по наитию, по ситуации. Но с некоторыми принципами и подходами имеет смысл познакомиться и разобраться – внутри себя, заранее. Тогда и в разговоре с ребенком легче будет ориентироваться по ситуации.
К тайне и обратно
Прежде всего стоит разобраться с традицией, чтобы понять, откуда взялись стереотипы и представления, которые влияют на нас сегодня.
Когда-то давно все было просто. Детей, которые росли не со своими кровными родителями, было много, поскольку материнская смертность была высока, да и мужская тоже. Осиротевшего ребенка брали в дом родственники, реже соседи. Иногда его растили совсем как своего, искренне любя и заботясь, иногда просто помогали выжить и вырасти, иногда жестоко эксплуатировали – это уж кому как везло. Но с его статусом все было ясно: все знали, что ребенок – сирота, что его родители умерли. Только особые ситуации, например угроза жизни ребенка как наследника чьего-то кровного врага, могли заставить скрывать от него и окружающих факт приемности.
Во многих культурах существовали и обряды усыновления. Обычно они имитировали роды и могли применяться (и в основном применялись) к взрослым людям: к примеру, если к родовому племени присоединялся скиталец-одиночка или нужно было «оформить» имущество присоединившегося к общине. Где-то «чужака» травили, где-то, наоборот, ценили и считали особенным. Так, герои мифов и преданий – часто «чужие» дети, потомки богов или духов. Но, приравняв человека (в том числе ребенка) к членам семьи в смысле прав и обязанностей, тайны из его происхождения, конечно, не делали.
Так мир менялся, а в последние сто-двести лет менялся с головокружительной скоростью. Жизнь в городах больше не определялась традициями общины, заниматься судьбой детей, оставшихся без родителей, стали другие инстанции – церковь, городские власти, государство. Хотя большинство осиротевших детей по-прежнему попадали под опеку в семьи родственников, а в деревнях ими по-прежнему занималась община, появились сироты «ничьи». Чаще «ничьими» оказывались дети либо родителей, безнадежно обнищавших в городе и утративших связи с деревенской родней, либо незаконнорожденные, либо дети людей, осужденных за преступления. Так тема сиротства стала сплетаться с темой стыда, греха, вины. То, что прежде воспринималось лишь как несчастье ребенка, его злая доля, становилось клеймом, постыдной тайной, дурными корнями. Поскольку сироты чаще всего воспитывались при церквях или в религиозных приютах и школах, ханжества и презрения к их кровным родителям хватало. О них либо не говорили вовсе, либо их участью пугали и стыдили детей.
Параллельно изменялись и семьи. В городах люди стали жить отдельными – нуклеарными – семьями по принципу: одна семья – один дом. И если раньше бездетная женщина могла найти себя и удовлетворить свой материнский инстинкт, возясь с многочисленными племянниками и прочими родственниками младшего возраста, и при этом она была востребована, уважаема и любима, то теперь эти возможности для нее резко сузились. Она могла вязать племянникам чепчики и приглашать их в гости, но и только.
Также осложнилось положение мужчины: если раньше он приумножал своим трудом или защищал с оружием в руках общее состояние большого семейного клана и для него не так важно было «непременно оставить своего наследника», то теперь мужчина без своих детей не понимал, для кого он работает, кому оставит свое дело, опыт, состояние, дом. А если некому – тогда зачем все, ведь с собой на тот свет не унесешь?
Кроме того, непонятно было, как жить в старости. В семье-общине и дети, и старики общие, а что делать состарившимся в городе супругам или вдове, если нет детей, которые о них позаботятся?
При этом бездетность, неспособность родить ребенка для большинства была бедой и знаком своей «неполноценности», нереализованности в мире. То есть вызывало стыд, чувство вины и уязвимости. Новая городская реальность, жизнь отдельными нуклеарными семьями у людей с традиционной системой ценностей эти чувства многократно усиливала.
Вот на таком социальном и эмоциональном фоне и проходило становление процедуры официального, государственного усыновления. С одной стороны – «позорные», «неправильные» дети, с другой – «неполноценные», «неправильные» семьи. Неудивительно, что из такого сплава и возникла идея сохранения тайны приема ребенка в семью. Ведь если никто не будет знать, что ребенок усыновлен, можно жить «как все», быть «нормальными», не боясь осуждения и отчуждения в социуме. Все это более чем понятно, тем более что социум и правда мог затравить ребенка, про которого, например, стало бы известно, что он незаконнорожденный. Слова «толерантность» тогда еще никто не знал. Так год за годом складывалось и укреплялось «очевидное» правило: лучше, чтобы никто ничего не знал. Максимального развития этот подход достиг сразу после Второй мировой войны, когда было немало детей как осиротевших, так и незаконнорожденных (в том числе и рожденных «от врагов», в результате насильственных контактов). Интересно, что в Советском Союзе, лишенном вроде религиозных предрассудков, скрывать от окружающих и от самих детей их происхождение начали в связи с «неправильными», «постыдными» родителями – когда появилось много осиротевших детей «врагов народа».
Со временем в идее сохранения тайны усыновления все меньше оставалось защиты от социума, и все больше было защиты ребенка (и его приемных родителей) от правды, связанной с его происхождением. Да и сама эта правда оказывалась все тяжелее: сиротами во второй половине XX века в основном становились не из-за физической смерти родителей, а по причине их отказа от детей или неспособности быть родителями: жестокого обращения, алкоголизма, наркомании. Казалось несомненным, что самое лучшее для ребенка, потерявшего родителей, тем более «плохих» родителей – забыть все, как дурной сон, начать жизнь с чистого листа, искренне верить, что ты был, как все, рожден в своей семье, с самого рождения был желанен и окружен любовью.
Будущие усыновители разрабатывали все более сложные стратегии сохранения тайны, меняли место жительства и работу, заранее привязывали будущей приемной маме искусственный «живот», подбирали ребенка по цвету глаз и группе крови, меняли задним числом его дату рождения, чтобы подогнать под срок заявленных окружающим «родов». Появилась целая «индустрия тайны» – резиновые животы, постепенно увеличивающиеся в размерах, услуги посредников, помогающих найти ребенка «по параметрам» и точно в срок. Некоторые ухитрялись сохранить тайну даже от собственных родителей и старших детей.
В СССР в Кодексе о браке и семье 1969 года была законодательно закреплена «тайна усыновления» – то есть запрет сообщать кому-либо (в том числе самому ребенку) сведения об усыновлении против воли усыновителей, а усыновителям разрешалось изменять не только фамилию, имя и отчество ребенка, но и место, и дату его рождения. Все это объяснялось благом ребенка – пусть ничего не знает и будет счастлив, потому что правда может заставить его страдать. Другим аргументом была защита спокойной жизни приемной семьи от возможных попыток кровных родителей найти и вернуть своего ребенка.
Однако когда дети, на сохранение счастливого неведения которых их родители потратили столько сил, вырастали, все оказывалось вовсе не так радужно. Кто-то из них все же узнавал правду, кто-то догадывался, кто-то не узнавал, но всю жизнь чувствовал, что «с ним что-то не то» (об этом феномене чуть ниже поговорим подробнее). А нередко дети, в которых было вложено столько любви, в подростковом возрасте начинали вдруг ломать свою жизнь, рвать отношения с приемными родителями и копировать поведение кровных, о которых они знать не знали. Кто-то попадал в ужасные, в том числе криминальные истории, кто-то пытался покончить с собой или убежать из дома куда глаза глядят. Если этого не было, то все равно приемные дети пугали своих любящих приемных маму и папу лютой ненавистью, отчуждением, недоверием и неблагодарностью.
К счастью, не все и не всегда. Многие дети и родители все же справлялись с кризисом, а кто-то просто тихо-мирно миновал все опасные «пороги», но случаев было достаточно много, чтобы у окружающих возникло стойкое впечатление: «сколько волка не корми», «от осинки не родятся апельсинки», «гены есть гены» и т. п. Тогда специалисты глубоко задумались. Жизнь показала, что судьбу человеческую нельзя переписать так же просто, как свидетельство о рождении, что ложь во спасение никого не спасает.
Тем временем продолжались глубинные перемены в семьях. Семья все меньше была просто «ячейкой общества», рациональным способом совместного ведения хозяйства и выращивания потомства. Семья стала миром душевной близости, доверия, глубоких личных отношений. Утаивание «неудобной» правды, лицемерие, отчуждение среди членов семьи, которое веками воспринималось как неприятная, но норма, стали непереносимы для многих людей. Все больше родителей просто не могли себе представить, что им придется годами лгать близкому человеку. Это чувство было важнее и сильнее давления стереотипа о «тайне», и приемные родители, как могли и как получалось, говорили с детьми об их приемности, подбирая слова, придумывая образы и истории и стараясь сказать правду так, чтобы не ранить ребенка. Одновременно и специалисты начали рекомендовать не скрывать от ребенка историю его прихода в семью. Кроме того, прием в семью ребенка стал все больше восприниматься не как «решение вопроса бездетности», а как акт помощи ребенку, самореализация, общественно значимое дело. Детей стали активно принимать и усыновлять семьи со своими детьми, которые, не страдая от своей бездетности, обычно легче относились к тому, что ребенок не своерожденный. В результате в большинстве стран нормой стало открытое усыновление.
Это имело огромное значение для развития семейного устройства, потому что теперь, без тайны, стало обычным делом усыновление детей, вышедших из младенческого возраста, усыновление детей другой национальности и расы, прием в семью ребенка, который помнит и любит своих кровных родственников. Тайна усыновления была одним из тяжелых «камней» на пути развития семейного устройства детей-сирот, и этот камень был сдвинут совместными усилиями приемных родителей, специалистов, СМИ, знаменитостей, которые открыли общественности историю своих семей, а главное – выросших приемных детей, которые начали отстаивать право знать про свою жизнь и свои корни. Не везде и не полностью, но сдвинут, чтобы не мешать живому движению вперед.
В России этот процесс существенно запоздал, но он тоже идет, и он набирает силу. Если десять лет назад почти все кандидаты в приемные родители имели установку «соблюдать тайну» и лишь в процессе работы ее иногда меняли, то сейчас установка на открытость – практически норма, особенно в больших городах. Даже те, кто изначально тайну соблюдал, задумываются и приходят посоветоваться о том, как ее открыть. Помощь приемным родителям, в том числе усыновителям, со стороны государства тоже часто делает тайну бессмысленной, ведь где помощь, там и отчетность, списки, контакты с множеством специалистов – какая уж тут тайна.
Закон о сохранении тайны все еще существует, несмотря на почти солидарное мнение специалистов о его ненужности и даже вредности. Причем на практике он почти никогда не применялся для того, чтобы оградить семью и ребенка от посторонних (судебные процессы были единичны), но до сих пор успешно ограждает от правды самих выросших приемных детей, не давая им возможности найти кровных родных. К сожалению, на данный момент даже достигший совершеннолетия приемный ребенок вынужден добиваться права узнать о себе правду через суд, впрочем, чаще всего суды идут навстречу таким искам.
Вот с таким «букетом традиций» имеет дело современный приемный родитель. А поскольку смена представлений происходила очень быстро, то все эти представления вполне могут встретиться, и встречаются, в пределах одной семьи. Например, прабабушка, которая по-деревенски не видит проблемы в том, чтобы приютить сироту, раз есть возможность, и не городить огородов ни с какими тайнами, бабушка, которая в ужасе от того, «что люди скажут» и «как же ему жить, зная, что неродной», и мама с папой, которые не только взяли ребенка, но и готовы, например, пропагандировать идею приемного родительства и давать интервью в СМИ. Договориться бывает непросто.
Да и в самой последней, современной традиции открытого приема ребенка в семью тоже есть разные направления, но о них речь пойдет позже. А сейчас все же о тайне.
Семейные тайны: цена вопроса
Есть любимая подростками довольно жесткая игра, называется «Правда или последствия». Компания бросает жребий, и тот, на кого он выпал, должен выбрать: правда или последствия? Если он выбирает «правду», то обязан совершенно честно ответить на любой вопрос. Если «последствия» – выполнить без отговорок то, что придумает компания. Подростки любят экстремальные переживания, поэтому и вопросы, и задания обычно не из легких. Кто кого тайно любит, кто кому когда соврал – а ну, иди признайся, а ну, давай разденься, а ну, спрыгни в холодную воду, и все в таком роде. Но подросткам нравится – они любят испытывать себя и друзей.
Приемным родителям приходится играть в эту игру независимо от того, нравится она им или не очень. Им приходится поддерживать тайну, мучительно ожидая всех ее последствий, либо признаваться, что соврали, оставаться беззащитными, душевно голыми, перед трудными вопросами и чувствами ребенка, и окунаться, как в холодную воду, в очень тяжелую правду о его судьбе. Они не могут отказаться играть, не могут махнуть рукой и уйти, им приходится выбирать каждый день: правда – или последствия? Если все же правда, то чего тогда ждать? Или не надо правды, потому что последствия еще когда будут, а может, и обойдется?
И кстати, разве не будет последствий у самой правды? Так что игра получается на порядок сложнее, и на кону – не авторитет в компании, которую на худой конец можно сменить, а отношения с ребенком, жизнь семьи.
Давайте попробуем разобраться, о какой правде и о каких последствиях идет речь.
Собственно, сама идея сохранения любой семейной тайны (тайна прихода ребенка в семью не исключение) исходит из желания предотвратить последствия. В истории нашей страны немало примеров, когда семьи были вынуждены что-то скрывать: свое происхождение из «не того» социального класса; свою национальность и религию; свое родство с «не теми людьми» (репрессированными или иностранцами), факты из жизни родных, которые официальной пропагандой подавались как «постыдные» (пребывание в плену или на оккупированных территориях во время войны).
Каких последствий при этом избегали, всем было понятно: от прямых репрессий и ограничений на учебу и карьеру до просто неудобных вопросов при устройстве на работу и запрета на выезд за границу.
Но были и другие последствия, о чем тогда догадывались немногие. Лишь через годы были проведены исследования, которые показали чисто статистическими методами, насколько дети, искусственно отрезанные тайной от своих «не тех» родственников, особенно прямых: родителей, бабушек и дедушек, оказывались менее благополучными в жизни. К зрелому возрасту они чаще болели, были в целом более несчастными в семейной жизни, не преуспели в самореализации, имели больше психологических проблем. Напротив, дети, чьи приемные родители пошли на риск осложнений отношений с репрессивным государством, отказались врать детям об их родных и делать вид, что тех не существовало вовсе, были в конечном итоге, несмотря на некоторые сложности в молодости, более успешны, здоровы и счастливы. Конечно, когда речь шла о простом выживании семьи и детей, выбирать не приходилось, тайна была меньшим злом. А вот когда хранить семейные тайны продолжали «по инерции» или из соображений прагматических: карьера, выезды за рубеж, – оказывалось, что последствия себе дороже[1].
Сейчас мои коллеги семейные терапевты все еще работают с уже третьим-четвертым поколением людей, травмированных семейной тайной, страдающих от чувства «потери корней». Вот их типичные высказывания: «Словно я кого-то потерял и горюю, но не знаю, кого», «С моей семьей что-то не так, она не такая, как надо», «Я не могу быть счастливым со своими детьми, как будто все время смотрю не на них, а назад, в прошлое» и т. п. Очень часто потомки обретают душевный покой, только восстановив воспоминания о прабабушках-прадедушках, вынужденно вычеркнутых из семейной памяти и долгие годы запрещенных к упоминанию, поплакав над их найденными в дальнем углу чердака фотографиями или письмами[2]