Детские годы Багрова-внука. Сказки бесплатное чтение
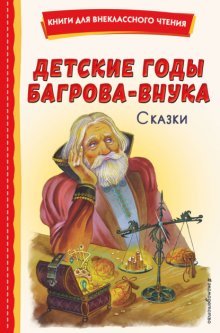
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
Аксаков Сергей Тимофеевич
Аленький цветочек
(сказка ключницы Пелагеи)
В некиим царстве, в некиим государстве жил-был богатый купец, именитый человек.
Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных камней, золотой и серебряной казны; и было у того купца три дочери, все три красавицы писаные, а меньша́я лучше всех; и любил он дочерей своих больше всего своего богатства, жемчугов, драгоценных камней, золотой и серебряной казны – по той причине, что он был вдовец и любить ему было некого; любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковее.
Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за тридевять земель, в тридевятое царство, в тридесятое государство, и говорит он своим любезным дочерям:
– Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купецким делам за тридевять земель, в тридевятое царство, тридесятое государство, и мало ли, много ли времени проезжу – не ведаю, и наказываю я вам жить без меня честно и смирно, и коли вы будете жить без меня честно и смирно, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите, и даю я вам сроку думать на три дня, и тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам хочется.
Думали они три дня и три ночи и пришли к своему родителю, и стал он их спрашивать, каких гостинцев желают. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги, да и говорит ему первая:
– Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни мехов чёрного соболя да жемчуга бурмицкого[1], а привези ты мне золотой венец из камней самоцветных[2], и чтоб был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтоб было от них светло в тёмную ночь, как среди дня белого.
Честной купец призадумался и сказал потом:
– Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, привезу я тебе таково́й венец; знаю я за морем такого человека, который достанет мне таковой венец; а и есть он у одной королевишны заморской, а и спрятан он в кладовой каменной, а и стоит та кладовая в каменной горе, глубиной на три сажени[3], за тремя дверьми железными, за тремя замками немецкими. Работа будет немалая, да для моей казны супротивного нет[4].
Поклонилась ему в ноги дочь середняя и говорит:
– Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни чёрных мехов соболя сибирского, ни ожерелья жемчуга бурмицкого, ни золотого венца самоцветного, а привези ты мне тувалет[5] из хрусталю восточного, цельного, беспорочного[6], чтобы, глядя в него, видела я всю красоту поднебесную и чтоб, смотрясь в него, я не старилась и красота б моя девичья прибавлялася.
Призадумался честно́й купец и, подумав мало ли, много ли времени, говорит ей таковые слова:
– Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, достану я тебе таковой хрустальный тувалет; а и есть он у дочери короля персидского, молодой королевишны, красоты несказанной, неописанной и негаданной; и схоронен тот тувалет в терему каменном, высоком, и стоит он на горе каменной, вышина той горы в триста сажен, за семью дверьми железными, за семью замками немецкими, и ведут к тому терему ступеней три тысячи, и на каждой ступени стоит по воину персидскому и день и ночь, с саблею наголо булатною, и ключи от тех дверей железных носит королевишна на поясе. Знаю я за морем такого человека, и достанет он мне такой тувалет. Потяжеле твоя работа сестриной, да для моей казны супротивного нет.
Поклонилась в ноги отцу меньшая дочь и говорит такое слово:
– Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни чёрных соболей сибирских, ни ожерелья бурмицкого, ни венца самоцветного, ни тувалета хрустального, а привези ты мне аленький цветочек, которого бы не было краше на белом свете.
Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, доподлинно сказать не могу; надумавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую дочь любимую и говорит такие слова:
– Ну, задала ты мне работу потяжеле сестриных; коли знаешь, что искать, то как не сыскать, а как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек не хитро найти, да как же узнать мне, что краше его нет на белом свете? Буду стараться, а на гостинце не взыщи.
И отпустил он дочерей своих, хороших, пригожих, в ихние терема девичьи. Стал он собираться в путь, во дороженьку, в дальние края заморские. Долго ли, много ли он собирался, я не знаю и не ведаю: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Поехал он в путь, во дороженьку.
Вот ездит честной купец по чужим сторонам заморским, по королевствам невиданным; продаёт он свои товары втри́дорога, покупает чужие втридёшева; он меняет товар на товар и того сходней, со придачею серебра да золота, золотой казной корабли нагружает да домой посылает. Отыскал он заветный гостинец для своей старшей дочери: венец с камнями самоцветными, а от них светло в тёмную ночь, как бы в белый день. Отыскал заветный гостинец и для своей середней дочери: тувалет хрустальный, а в нём видна красота поднебесная, и, смотрясь в него, девичья красота не стареется, а прибавляется. Не может он только найти заветного гостинца для меньшой, любимой дочери – аленького цветочка, краше которого не было бы на белом свете.
Находил он во садах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать; да никто ему поруки не даёт, что краше того цветка нет на белом свете; да и сам того не думает.
Вот едет он путём-дорогою, со своими слугами верными, по пескам сыпучим, по лесам дремучим, и откуда ни возьмись налетели на него разбойники, бусурманские, турецкие да индейские, и, увидя беду неминучую, бросает честной купец свои караваны богатые со прислугою своей верною и бежит в тёмны леса. «Пусть-де меня растерзают звери лютые, чем попасться мне в руки разбойничьи, поганые и доживать свой век в плену, во неволе».
Бродит он по тому лесу дремучему, непроездному, непроходному, и что дальше идёт, то дорога лучше становится, словно деревья перед ним расступаются, а часты кусты раздвигаются. Смотрит назад – руки не просунуть, смотрит направо – пни да колоды, зайцу косому не проскочить, смотрит налево – а и хуже того. Дивуется честной купец, думает не придумает, что с ним за чудо совершается, а сам всё идёт да идёт: у него под ногами дорога торная. Идёт он день от утра до вечера, не слышит он рёву звериного, ни шипения змеиного, ни крику совиного, ни голоса птичьего: ровно около него всё повымерло. Вот пришла и тёмная ночь; кругом его хоть глаз выколи, а у него под ногами светлёхонько. Вот идёт он, почитай, до полуночи, и стал видеть впереди словно будто зарево, и подумал он: «Видно, лес горит, так зачем же мне туда идти на верную смерть, неминучую?»
Поворотил он назад – нельзя идти, направо, налево – нельзя идти; сунулся вперёд – дорога торная. «Дай постою на одном месте – может, зарево пойдёт в другую сторону, аль прочь от меня, аль потухнет совсем».
Вот и стал он, дожидается; да не тут-то было: зарево точно к нему навстречу идёт, и как будто около него светлее становится; думал он, думал и порешил идти вперёд. Двух смертей не бывать, а одной не миновать. Перекрестился купец и пошёл вперёд. Чем дальше идёт, тем светлее становится, и стало, почитай, как белый день, а не слышно шуму и треску пожарного. Выходит он под конец на поляну широкую, и посередь той поляны широкой стоит дом не дом, чертог не чертог[7], а дворец королевский или царский, весь в огне, в серебре и золоте и в камнях самоцветных, весь горит и светит, а огня не видать; ровно солнышко красное, и тяжело на него глазом смотреть. Все окошки во дворце растворены, и играет в нём музыка согласная, какой никогда он не слыхивал.
Входит он на широкий двор, в ворота широкие, растворённые; дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны воды, высокие, большие и малые. Входит он во дворец по лестнице, устланной кармазинным сукном[8], с перилами позолоченными; вошёл в горницу[9] – нет никого, в другую, в третью – нет никого; в пятую, десятую – нет никого; а убранство везде царское, неслыханное и невиданное: золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и мамонтовая.
Дивится честной купец такому богатству несказанному, а вдвое того, что хозяина нет; не только хозяина, и прислуги нет; а музыка играет не умолкаючи; и подумал он в те поры про себя: «Всё хорошо, да есть нечего», – и вырос перед ним стол, убранный-разубранный: в посуде золотой да серебряной яства стоят сахарные, и вина заморские, и питья медвяные. Сел он за стол без сомнения; напился, наелся досыта, потому что не ел сутки целые; кушанье такое, что и сказать нельзя, – того и гляди, что язык проглотишь, а он, по лесам и пескам ходючи, крепко проголодался; встал он из-за стола, а поклониться некому, и сказать спасибо за хлеб за соль некому. Не успел он встать да оглянуться, а стола с кушаньем как не бывало, а музыка играет не умолкаючи.
Дивуется честной купец такому чуду чудному и такому диву дивному, и ходит он по палатам изукрашенным да любуется, а сам думает: «Хорошо бы теперь соснуть да всхрапнуть» – и видит, стоит перед ним кровать резная, из чистого золота, на ножках хрустальных, с пологом серебряным, с бахромою и кистями жемчужными; пуховик на ней, как гора, лежит, пуху мягкого, лебяжьего.
Дивится купец такому чуду новому, новому и чудному; ложится он на высокую кровать, задёргивает полог серебряный и видит, что он тонок и мягок, будто шёлковый. Стало в палате темно, ровно в сумерки, и музыка играет будто издали, и подумал он: «Ах, кабы мне дочерей хоть во сне увидать!» – и заснул в ту ж минуточку.
Просыпается купец, а солнце уже взошло выше дерева стоячего. Проснулся купец, а вдруг опомниться не может: всю ночь видел он во сне дочерей своих любезных, хороших и пригожих, и видел он дочерей своих старших: старшую и середнюю, что они веселы́м-веселёхоньки, а печальна одна дочь меньшая, любимая; что у старшей и середней дочери есть женихи богатые и что сбираются они выйти замуж, не дождавшись его благословения отцовского; меньшая же дочь, любимая, красавица писаная, о женихах и слушать не хочет, покуда не воротится её родимый батюшка; и стало у него на душе и радостно, и нерадостно.
Встал он с кровати высокой, платье ему всё приготовлено, и фонтан воды бьёт в чашу хрустальную; он одевается, умывается и уж новому чуду не дивуется: чай и кофей на столе стоят, и при них закуска сахарная. Помолившись богу, он накушался, и стал он опять по палатам ходить, чтоб опять на них полюбоваться при свете солнышка красного. Всё показалось ему лучше вчерашнего. Вот видит он в окна растворённые, что кругом разведены сады диковинные, плодовитые, и цветы цветут красоты неописанной. Захотелось ему по тем садам прогуляться.
Сходит он по другой лестнице из мрамора зелёного, из малахита медного, с перилами позолоченными, сходит прямо в зелены сады. Гуляет он и любуется: на деревьях висят плоды спелые, румяные, сами в рот так и просятся, инда[10] глядя на них слюнки текут; цветы цветут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписанные; птицы летают невиданные, словно по бархату зелёному и пунцовому золотом и серебром выложенные, песни поют райские; фонтаны воды бьют высокие, глядеть на их вышину – голова запрокидывается; и бегут и шумят ключи родниковые по колодам хрустальным.
Ходит честной купец, дивуется; на все такие диковинки глаза у него разбежалися, и не знает он, на что смотреть и кого слушать. Ходит он так много ли, мало ли времени – неведомо: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. И вдруг видит он, на пригорочке зелёном цветёт цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимается; подходит он ко тому цветку; запах от цветка по всему саду ровно струя бежит; затряслись и руки и ноги у купца, и возговорил он голосом радостным:
– Вот аленький цветочек, какого нет краше на белом свете, о каком просила меня дочь меньшая, любимая.
И, проговорив таковы слова, он подошёл и сорвал аленький цветочек. В ту ж минуту, безо всяких туч, блеснула молния и ударил гром, земля зашаталась под ногами – и вырос, как будто из-под земли, перед купцом зверь не зверь, человек не человек, а так, какое-то чудовище, страшное и мохнатое, и заревел он голосом диким:
– Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моём саду мой заповедный, любимый цветок? Я хранил его паче зеницы ока[11] моего и всякий день утешался, на него глядючи, а ты лишил меня всей утехи в моей жизни. Я хозяин дворца и сада, я принял тебя, как дорогого гостя и званого, накормил, напоил и спать уложил, а ты эдак-то заплатил за моё добро? Знай же свою участь горькую: умереть тебе за свою вину смертью безвременною!..
И несчётное число голосов диких со всех сторон завопило:
– Умереть тебе смертью безвременною!
У честного купца от страха зуб на зуб не приходил; он оглянулся кругом и видит, что со всех сторон, из-под каждого дерева и кустика, из-под воды, из-под земли лезет к нему сила нечистая и несметная, всё страшилища безобразные. Он упал на колени перед набольшим хозяином, чудищем мохнатым, и возговорил голосом жалобным:
– Ох ты гой еси, господин честной, зверь лесной, чудо морское: как величать тебя – не знаю, не ведаю! Не погуби ты души моей христианской за мою продерзость безвинную, не прикажи меня рубить и казнить, прикажи слово вымолвить. А есть у меня три дочери, три дочери-красавицы, хорошие и пригожие; обещал я им по гостинцу привезти: старшей дочери – самоцветный венец, середней дочери – тувалет хрустальный, а меньшой дочери – аленький цветочек, какого бы не было краше на белом свете. Старшим дочерям гостинцы я сыскал, а меньшой дочери гостинца отыскать не мог; увидел я такой гостинец у тебя в саду – аленький цветочек, какого краше нет на белом свете, и подумал я, что такому хозяину богатому-богатому, славному и могучему не будет жалко цветочка аленького, о каком просила моя меньшая дочь, любимая. Каюсь я в своей вине перед твоим величеством. Ты прости мне, неразумному и глупому, отпусти меня к моим дочерям родным и подари мне цветочек аленький для гостинца моей меньшой, любимой дочери. Заплачу я тебе казны золотой, что потребуешь.
Раздался по лесу хохот, словно гром загремел, и возговорит купцу зверь лесной, чудо морское:
– Не надо мне твоей золотой казны: мне своей девать некуда. Нет тебе от меня никакой милости, и разорвут тебя мои слуги верные на куски, на части мелкие. Есть одно для тебя спасение. Я отпущу тебя домой невредимого, награжу казной несчётною, подарю цветочек аленький, коли дашь ты мне слово честное купецкое и запись своей руки, что пришлёшь вместо себя одну из дочерей своих, хороших, пригожих; я обиды ей никакой не сделаю, а будет она жить у меня в чести и приволье, как сам ты жил во дворце моём. Стало скучно мне жить, одинокому, и хочу я залучить себе товарища.
Так и пал купец на сыру землю, горючими слезами обливается; а и взглянет он на зверя лесного, на чудо морское, а и вспомнит он своих дочерей, хороших, пригожих, а и пуще того завопит истошным голосом: больно страшен был лесной зверь, чудо морское. Много времени честной купец убивается и слезами обливается, и возговорит он голосом жалобным:
– Господин честной, зверь лесной, чудо морское! А и как мне быть, коли дочери мои, хорошие и пригожие, по своей воле не захотят ехать к тебе? Не связать же мне им руки и ноги да насильно прислать? Да и каким путём до тебя доехать? Я ехал к тебе ровно два года, а по каким местам, по каким путям, я не ведаю.
Возговорит купцу зверь лесной, чудо морское:
– Не хочу я невольницы: пусть приедет твоя дочь сюда по любви к тебе, своей волею и хотением; а коли дочери твои не поедут по своей воле и хотению, то сам приезжай, и велю я казнить тебя смертью лютою. А как приехать кто мне – не твоя беда; дам я тебе перстень с руки моей: кто наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает, во единое ока мгновение. Сроку тебе даю дома пробыть три дня и три ночи.
Думал, думал купец думу крепкую и придумал так: «Лучше мне с дочерьми повидаться, дать им своё родительское благословение, и коли они избавить меня от смерти не захотят, то приготовиться к смерти по долгу христианскому, и воротиться к лесному зверю, чуду морскому». Фальши у него на уме не было, а потому он рассказал, что у него было на мыслях. Зверь лесной, чудо морское, и без того их знал; видя его правду, он и записи с него заручной[12] не взял, а снял со своей руки золотой перстень и подал его честному купцу.
И только честной купец успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора; в ту пору в те же ворота въезжали его караваны богатые с прислугою верною, и привезли они казны и товаров втрое противу прежнего. Поднялся в доме шум и гвалт, повскакали дочери из-за пялец своих, а вышивали они серебром и золотом ширинки[13] шёлковые; почали[14] они отца целовать, миловать и разными ласковыми именами называть, и две старшие сестры лебезят пуще меньшой сестры. Видят они, что отец как-то нерадостен и что есть у него на сердце печаль потаённая. Стали старшие дочери его допрашивать, не потерял ли он своего богатства великого; меньшая же дочь о богатстве не думает, и говорит она своему родителю:
– Мне богатства твои не надобны; богатство дело наживное, а открой ты мне своё горе сердешное.
И возговорит тогда честной купец своим дочерям родимым, хорошим и пригожим:
– Не потерял я своего богатства великого, а нажил казны втрое-вчетверо; а есть у меня другая печаль, и скажу вам об ней завтрешний день, а сегодня будем веселиться.
Приказал он принести сундуки дорожные, железом окованные; доставал он старшей дочери золотой венец, золота аравийского[15], на огне не горит, в воде не ржавеет, со камнями самоцветными; достаёт гостинец середней дочери, тувалет хрусталю восточного, достаёт гостинец меньшой дочери, золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшие дочери от радости рехнулись, унесли свои гостинцы в терема высокие и там на просторе ими досыта потешалися. Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленький, затряслась вся и заплакала, точно в сердце её что ужалило. Как возговорит к ней отец таковы речи:
– Что же, дочь моя милая, любимая, не берёшь ты своего цветика желанного? Краше его нет на белом свете!
Взяла дочь меньшая цветочек аленький ровно нехотя, целует руки отцовы, а сама плачет горючими слезами. Скоро прибежали дочери старшие, попытали они гостинцы отцовские и не могут опомниться от радости. Тогда сели все они за столы дубовые, за скатерти браные[16], за яства сахарные, за питья медвяные; стали есть, пить, прохлаждаться, ласковыми речами утешаться.
Ввечеру гости понаехали, и стал дом у купца полнёхонек дорогих гостей, сродников, угодников, прихлебателей. До полуночи беседа продолжалася, и таков был вечерний пир, какого честной купец у себя в дому не видывал, и откуда что бралось, не мог догадаться он, да и все тому дивовалися: и посуды золотой-серебряной, и кушаний диковинных, каких никогда в дому не видывали.
Наутро позвал к себе купец старшую дочь, рассказал ей всё, что с ним приключилося, всё от слова до слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому. Старшая дочь наотрез отказалася и говорит:
– Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек.
Позвал честной купец к себе другую дочь, середнюю, рассказал ей всё, что с ним приключилося, всё от слова до слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, чуду морскому. Середняя дочь наотрез отказалася и говорит:
– Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек.
Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей всё рассказывать, всё от слова до слова, и не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала:
– Благослови меня, государь мой батюшка родимый: я поеду к зверю лесному, чуду морскому, и стану жить у него. Для меня достал ты аленький цветочек, и мне надо выручить тебя.
Залился слезами честной купец, обнял он свою меньшую дочь, любимую, и говорит ей таковые слова:
– Дочь моя милая, хорошая, пригожая, меньшая и любимая, да будет над тобой моё благословение родительское, что выручаешь ты своего отца от смерти лютой и по доброй воле своей и хотению идёшь на житьё противное к страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь жить ты у него во дворце, в богатстве и приволье великом; да где тот дворец – никто не знает, не ведает, и нет к нему дороги ни конному, ни пешему, ни зверю прыскучему[17], ни птице перелётной. Не будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, а тебе от нас и подавно. И как мне доживать мой горький век, лица твоего не видя, ласковых речей твоих не слыша? Расстаюсь я с тобой на веки вечные, ровно тебя живую в землю хороню.
И возговорит отцу дочь меньшая, любимая:
– Не плачь, не тоскуй, государь мой батюшка родимый: житьё моё будет богатое, привольное; зверя лесного, чуда морского, я не испугаюсь, буду служить ему верой и правдою, исполнять его волю господскую, а может, он надо мной и сжалится. Не оплакивай ты меня живую, словно мёртвую: может, бог даст, я и вернусь к тебе.
Плачет, рыдает честной купец, таковыми речами не утешается.
Прибегают сёстры старшие, большая и середняя, подняли плач по всему дому: вишь, больно им жаль меньшой сестры, любимой; а меньшая сестра и виду печального не кажет, не плачет, не охает и в дальний путь неведомый собирается. И берёт с собою цветочек аленький во кувшине позолоченном.
Прошёл третий день и третья ночь, пришла пора расставаться честному купцу, расставаться с дочерью меньшою, любимою; он целует, милует её, горючими слезами обливает и кладёт на неё крестное благословение своё, родительское. Вынимает он перстень зверя лесного, чуда морского, из ларца кованого, надевает перстень на правый мизинец меньшой, любимой дочери – и не стало её в ту ж минуточку со всеми её пожитками.
Очутилась она во дворце зверя лесного, чуда морского, во палатах высоких, каменных, на кровати из резного золота с ножками хрустальными, на пуховике пуха лебяжьего, покрытом золотой камкой[18], ровно она и с места не сходила, ровно она целый век тут жила, ровно легла почивать да проснулася. Заиграла музыка согласная, какой отродясь она не слыхивала.
Встала она с постели пуховой и видит, что все её пожитки и цветочек аленький в кувшине позолоченном тут же стоят, разложены и расставлены на столах зелёных малахита медного, и что в той палате много добра и скарба[19] всякого, есть на чём посидеть-полежать, есть во что приодеться, есть во что посмотреться. И была одна стена вся зеркальная, а другая стена золочёная, а третья стена вся серебряная, а четвёртая стена из кости слоновой и мамонтовой, самоцветными яхонтами разубранная; и подумала она: «Должно быть, это моя опочивальня»[20].
Захотелось ей осмотреть весь дворец, и пошла она осматривать все его палаты высокие, и ходила она немало времени, на все диковинки любуючись; одна палата была краше другой, и все краше того, как рассказывал честной купец, государь её батюшка родимый. Взяла она из кувшина золочёного любимый цветочек аленький, сошла она в зелены сады, и запели ей птицы свои песни райские, а деревья, кусты и цветы замахали своими верхушками и ровно перед ней преклонилися; выше забили фонтаны воды и громче зашумели ключи родниковые, и нашла она то место высокое, пригорок буравчатый, на котором сорвал честной купец цветочек аленький, краше которого нет на белом свете. И вынула она тот аленький цветочек из кувшина золочёного и хотела посадить на место прежнее; но сам он вылетел из рук её и прирос к стеблю прежнему и расцвёл краше прежнего.
Подивилася она такому чуду чудному, диву дивному, порадовалась своему цветочку аленькому, заветному, и пошла назад в палаты свои дворцовые, и в одной из них стоит стол накрыт, и только она подумала: «Видно, зверь лесной, чудо морское, на меня не гневается, и будет он ко мне господин милостивый», – как на белой мраморной стене появилися слова огненные:
«Не господин я твой, а послушный раб. Ты моя госпожа, и всё, что тебе пожелается, всё, что тебе на ум придёт, исполнять я буду с охотою».
Прочитала она слова огненные, и пропали они со стены белой мраморной, как будто их никогда не бывало там. И вспало ей на мысли[21] написать письмо к своему родителю и дать ему о себе весточку. Не успела она о том подумать, как видит она, перед нею бумага лежит, золотое перо со чернильницей. Пишет она письмо к своему батюшке родимому и сестрицам своим любезным.
«Не плачьте обо мне, не горюйте, я живу во дворце, у зверя лесного, чуда морского, как королевишна; самого его не вижу и не слышу, а пишет он ко мне на стене беломраморной словами огненными; и знает он всё, что у меня на мысли, и в ту ж минуту всё исполняет, и не хочет он называться господином моим, а меня называет госпожой своей».
Не успела она письма написать и печатью припечатать, как пропало письмо из рук и из глаз её, словно его тут и не было. Заиграла музыка пуще прежнего, на столе явились яства сахарные, пития медвяные, вся посуда золота червонного. Села она за стол веселёхонька, хотя сроду не обедала одна-одинёшенька; ела она, пила, прохлаждалася, музыкою забавлялася. После обеда, накушавшись, она опочивать легла; заиграла музыка потише и подальше по той причине, чтоб ей спать не мешать.
После сна встала она веселёшенька и пошла опять гулять по садам зелёным, потому что не успела она до обеда обходить и половины их, наглядеться на все их диковинки. Все деревья, кусты и цветы перед ней преклонялися, а спелые плоды, груши, персики и наливные яблочки сами в рот лезли. Походив время немалое, почитай, вплоть до вечера, воротилась она во свои палаты высокие, и видит она: стол накрыт, и на столе яства стоят сахарные и питья медвяные, и все отменные.
После ужина вошла она в ту палату беломраморную, где читала она на стене слова огненные, и видит она на той же стене опять такие же слова огненные:
«Довольна ли госпожа моя своими садами и палатами, угощением и прислугою?»
И возговорила голосом радостным молодая дочь купецкая, красавица писаная:
– Не зови ты меня госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин, ласковый да милостивый. Я из воли твоей никогда не выступлю. Благодарствую тебе за всё твоё угощение. Лучше твоих палат высоких и твоих зелёных садов не найти на белом свете: и как же мне довольною не быть? Я отродясь таких чудес не видывала. Я от такого дива ещё в себя не приду, только боюсь я почивать одна; во всех твоих палатах высоких нет ни души человеческой.
Появилися на стене слова огненные:
«Не бойся, моя госпожа прекрасная: не будешь ты почивать одна, дожидается тебя твоя девушка сенная[22], верная и любимая; и много в палатах душ человеческих, а только ты их не видишь, и не слышишь, и все они вместе со мною берегут тебя и день и ночь: не дадим мы на тебя ветру подуть, не дадим и пылинке сесть».
И пошла почивать в опочивальню свою молодая дочь купецкая, красавица писаная, и видит: стоит у кровати её девушка сенная, верная и любимая, и стоит она чуть от страха жива; и обрадовалась она госпоже своей, и целует её руки белые, обнимает её ноги резвые. Госпожа была ей также рада, принялась её расспрашивать про батюшку родимого, про сестриц своих старших и про свою прислугу девичью; после того принялась сама рассказывать, что с нею в это время приключилося; так и не спали они до белой зари.
Так и стала жить да поживать молодая дочь купецкая, красавица писаная. Всякий день ей готовы наряды новые богатые, а убранства такие, что цены им нет, ни в сказке сказать, ни пером написать; всякий день угощения и веселья новые отменные: катанье, гулянье с музыкой на колесницах без коней и упряжи по тёмным лесам; а те леса перед ней расступалися и дорогу давали ей широкую, широкую и гладкую. И стала она рукодельями заниматься, рукодельями девичьими, вышивать ширинки серебром и золотом и низать бахромы частым жемчугом; стала посылать подарки батюшке родимому, а и самую богатую ширинку подарила своему хозяину ласковому, а и тому лесному зверю, чуду морскому; а и стала она день ото дня чаще ходить в залу беломраморную, говорить речи ласковые своему хозяину милостивому и читать на стене его ответы и приветы словами огненными.
Мало ли, много ли тому времени прошло: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, – стала привыкать к своему житью-бытью молодая дочь купецкая, красавица писаная; ничему она уж не дивуется, ничего не пугается; служат ей слуги невидимые, подают, принимают, на колесницах без коней катают, в музыку играют и все её повеления исполняют. И полюбила она своего господина милостивого, и видела она, что недаром он зовёт её госпожой своей и что любит он её пуще самого себя; и захотелось с ним разговор повести, не ходя в палату беломраморную, не читая слов огненных.
Стала она его о том молить и просить; да зверь лесной, чудо морское, не скоро на её просьбу соглашается, испугать её своим голосом опасается; упросила, умолила она своего хозяина ласкового, и не мог он ей супротивным быть, и написал он ей в последний раз на стене беломраморной словами огненными:
«Приходи сегодня во зелёный сад, сядь во свою беседку любимую, листьями, ветками, цветами заплетённую, и скажи так: “Говори со мной, мой верный раб”».
И мало спустя времечка побежала молодая дочь купецкая, красавица писаная, во сады зелёные, входила во беседку свою любимую, листьями, ветками, цветами заплетённую, и садилась на скамью парчёвую; и говорит она задыхаючись, бьётся сердечко у ней, как у пташки пойманной, говорит такие слова:
– Не бойся ты, господин мой добрый, ласковый, испугать меня своим голосом: после всех твоих милостей не убоюся я и рёва звериного; говори со мной, не опасаючись.
И услышала она, ровно кто вздохнул за беседкою, и раздался голос страшный, дикий и зычный, хриплый и сиплый, да и то говорил он ещё вполголоса. Вздрогнула сначала молодая дочь купецкая, красавица писаная, услыхав голос зверя лесного, чуда морского, только со страхом своим совладала и виду, что испугалася, не показала, и скоро слова его ласковые и приветливые, речи умные и разумные стала слушать она и заслушалась, и стало у ней на сердце радостно.
С той поры, с того времечка пошли у них разговоры, почитай, целый день – во зелёном саду на гуляньях, во тёмных лесах на катаньях и во всех палатах высоких. Только спросит молодая дочь купецкая, красавица писаная:
– Здесь ли ты, мой добрый, любимый господин?
Отвечает лесной зверь, чудо морское:
– Здесь, госпожа моя прекрасная, твой верный раб, неизменный друг.
И не пугается она его голоса дикого и страшного, и пойдут у них речи ласковые, что конца им нет.
Прошло мало ли, много ли времени: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, – захотелось молодой дочери купецкой, красавице писаной, увидеть своими глазами зверя лесного, чуда морского, и стала она его о том просить и молить. Долго он на то не соглашается, испугать её опасается, да и был он такое страшилище, что ни в сказке сказать, ни пером написать; не только люди, звери дикие его всегда устрашалися и в свои берлоги разбегалися. И говорит зверь лесной, чудо морское, таковые слова:
– Не проси, не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная, красавица ненаглядная, чтобы показал я тебе своё лицо противное, своё тело безобразное. К голосу моему привыкла ты; мы живём с тобой в дружбе, согласии, друг со другом, почитай, не разлучаемся, и любишь ты меня за мою любовь к тебе несказанную, а увидя меня, страшного и противного, возненавидишь ты меня, несчастного, прогонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски.
Не слушала таких речей молодая купецкая дочь, красавица писаная, и стала молить пуще прежнего, клясться, что никакого на свете страшилища не испугается и что не разлюбит она своего господина милостивого, и говорит ему таковые слова:
– Если ты стар человек – будь мне дедушка, если середович[23] – будь мне дядюшка, если молод ты – будь мне названый брат, и поколь я жива – будь мне сердечный друг.
Долго, долго лесной зверь, чудо морское, не поддавался на такие слова, да не мог просьбам и слезам своей красавицы супротивным быть, и говорит ей таково слово:
– Не могу я тебе супротивным быть по той причине, что люблю тебя пуще самого себя; исполню я твоё желание, хоть знаю, что погублю моё счастье и умру смертью безвременной. Приходи во зелёный сад в сумерки серые, когда сядет за лес солнышко красное, и скажи: «Покажись мне, верный друг!» – и покажу я тебе своё лицо противное, своё тело безобразное. А коли станет невмоготу тебе больше у меня оставаться, не хочу я твоей неволи и муки вечной: ты найдёшь в опочивальне своей, у себя под подушкою, мой золот-перстень. Надень его на правый мизинец – и очутишься ты у батюшки родимого и ничего обо мне никогда не услышишь».
Не убоялась, не устрашилася, крепко на себя понадеялась молодая дочь купецкая, красавица писаная. В те поры, не мешкая ни минуточки, пошла она во зелёный сад дожидаться часу урочного, и когда пришли сумерки серые, опустилось за лес солнышко красное, проговорила она: «Покажись мне, мой верный друг!» – и показался ей издали зверь лесной, чудо морское: он прошёл только поперёк дороги и пропал в частых кустах; и не взвидела света молодая дочь купецкая, красавица писаная, всплеснула руками белыми, закричала истошным голосом и упала на дорогу без памяти. Да и страшен был зверь лесной, чудо морское: руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди-сзади горбы великие верблюжие, весь мохнатый от верху донизу, изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза были совиные.
Полежавши долго ли, мало ли времени, опамятовалась молодая дочь купецкая, красавица писаная, и слышит: плачет кто-то возле неё, горючими слезами обливается и говорит голосом жалостным:
– Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная, не видать мне больше твоего лица распрекрасного, не захочешь ты меня даже слушати, и пришло мне умереть смертью безвременною.
И стало ей жалко и совестно, и совладала она со своим страхом великим и со своим сердцем робким девичьим, и заговорила она голосом твёрдым:
– Нет, не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый, не испугаюсь я больше твоего вида страшного, не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей; покажись мне теперь же в своём виде давешнем: я только впервые испугалася.
Показался ей лесной зверь, чудо морское, в своём виде страшном, противном, безобразном, только близко подойти к ней не осмелился, сколько она ни звала его; гуляли они до ночи тёмной и вели беседы прежние, ласковые и разумные, и не чуяла никакого страха молодая дочь купецкая, красавица писаная. На другой день увидала она зверя лесного, чудо морское, при свете солнышка красного, и хотя сначала, разглядев его, испугалася, а виду не показала, и скоро страх её совсем прошёл. Тут пошли у них беседы пуще прежнего: день-деньской, почитай, не разлучалися, за обедом и ужином яствами сахарными насыщалися, питьями медвяными прохлаждалися, гуляли по зелёным садам, без коней каталися по тёмным лесам.
И прошло тому немало времени: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Вот однажды и привиделось во сне молодой купецкой дочери, красавице писаной, что батюшка её нездоров лежит, и напала на неё тоска неусыпная, и увидал её в той тоске и слезах зверь лесной, чудо морское, и очень закручинился и стал спрашивать, отчего она во тоске, во слезах. Рассказала она ему свой недобрый сон и стала просить у него позволения повидать своего батюшку родимого и сестриц своих любезных. И возговорит к ней зверь лесной, чудо морское:
– И зачем тебе моё позволение? Золот-перстень мой у тебя лежит, надень его на правый мизинец и очутишься в дому у батюшки родимого. Оставайся у него, пока не соскучишься, а и только я скажу тебе: коли ты ровно через три дня и три ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете, и умру я тою же минутою, по той причине, что люблю тебя больше, чем самого себя, и жить без тебя не могу.
Стала она заверять словами заветными и клятвами, что ровно за час до трёх дней и трёх ночей воротится во палаты его высокие. Простилась она с хозяином своим ласковым и милостивым, надела на правый мизинец золот-перстень и очутилась на широком дворе честного купца, своего батюшки родимого. Идёт она на высокое крыльцо его палат каменных; набежала к ней прислуга и челядь дворовая[24], подняли шум и крик; прибежали сестрицы любезные и, увидевши её, диву дались красоте её девичьей и её наряду царскому, королевскому; подхватили её под руки белые и повели к батюшке родимому; а батюшка нездоров лежит, нездоров и нерадостен, день и ночь её вспоминаючи, горючими слезами обливаючись; и не вспомнился он от радости, увидавши свою дочь милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую, и дивился он красоте её девичьей, её наряду царскому, королевскому.
Долго они целовалися, миловалися, ласковыми речами утешалися. Рассказала она своему батюшке родимому и своим сёстрам старшим, любезным, про своё житьё-бытьё у зверя лесного, чуда морского, всё от слова до слова, никакой крохи не скрываючи. И возвеселился честной купец её житью богатому, царскому, королевскому, и дивился, как она привыкла смотреть на своего хозяина страшного и не боится зверя лесного, чуда морского; сам он, об нём вспоминаючи, дрожкой дрожал. Сёстрам же старшим, слушая про богатства несметные меньшой сестры и про власть её царскую над своим господином, словно над рабом своим, завистно стало.
День проходит, как единый час, другой день проходит, как минуточка, а на третий день стали уговаривать меньшую сестру сёстры старшие, чтоб не ворочалась она к зверю лесному, чуду морскому. «Пусть-де околеет, туда и дорога ему…» И прогневалась на сестёр старших дорогая гостья, меньшая сестра, и сказала им таковы слова:
– Если я моему господину доброму и ласковому за все его милости и любовь горячую, несказанную заплачу его смертью лютою, то не буду я стоить того, чтобы мне на белом свете жить, и стоит меня тогда отдать диким зверям на растерзание.
И отец её, честной купец, похвалил её за такие речи хорошие, и было положено, чтобы до срока ровно за час воротилась к зверю лесному, чуду морскому, дочь хорошая, пригожая, меньшая, любимая. А сёстрам то в досаду было, и задумали они дело хитрое, дело хитрое и недоброе: взяли они да все часы в доме целым часом назад поставили, и не ведал того честной купец и вся его прислуга верная, челядь дворовая.
И когда пришёл настоящий час, стало у молодой купецкой дочери, красавицы писаной, сердце болеть и щемить, ровно стало что-нибудь подмывать её, и смотрит она то и дело на часы отцовские, аглицкие[25], немецкие, а всё равно ей пускаться в дальний путь. А сёстры с ней разговаривают, о том о сём расспрашивают, позадерживают. Однако сердце её не вытерпело; простилась дочь меньшая, любимая, красавица писаная, со честным купцом, батюшкой родимым, приняла от него благословение родительское, простилась с сёстрами старшими, любезными, со прислугою верною, челядью дворовою, и, не дождавшись единой минуточки до часа урочного, надела золот-перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном, во палатах высоких зверя лесного, чуда морского, и, дивуючись, что он её не встречает, закричала она громким голосом:
– Где же ты, мой добрый господин, верный друг? Что же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока назначенного целым часом со минуточкой.
Ни ответа, ни привета не было, тишина стояла мёртвая; в зелёных садах птицы не пели песни райские, не били фонтаны воды и не шумели ключи родниковые, не играла музыка во палатах высоких. Дрогнуло сердечко у купецкой дочери, красавицы писаной, почуяла она что-то недоброе; обежала она палаты высокие и сады зелёные, звала зычным голосом своего хозяина доброго – нет нигде ни ответа, ни привета и никакого гласа послушания. Побежала она на пригорок муравчатый[26], где рос, красовался её любимый цветочек аленький, и видит она, что лесной зверь, чудо морское, лежит на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными. И показалось ей, что заснул он, её дожидаючись, и спит теперь крепким сном. Начала его будить потихоньку дочь купецкая, красавица писаная, он не слышит; принялась будить покрепче, схватила она за лапу мохнатую – и видит, что зверь лесной, чудо морское, бездыханен, мёртв лежит…
Помутилися её очи ясные, подкосилися ноги резвые, пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго, голову безобразную и противную, и завопила истошным голосом:
– Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, я люблю тебя, как жениха желанного!..
И только таковы слова она вымолвила, как заблестели молнии со всех сторон, затряслась земля от грома великого, ударила громовая стрела каменная в пригорок муравчатый, и упала без памяти молодая дочь купецкая, красавица писаная. Много ли, мало ли времени она лежала без памяти – не ведаю; только, очнувшись, видит она себя во палате высокой беломраморной, сидит она на золотом престоле с камнями драгоценными, и обнимает её принц молодой, красавец писаный, на голове с короною царскою, в одежде златокованной; перед ней стоит отец с сёстрами, а кругом на коленях стоит свита великая, все одеты в парчах золотых, серебряных. И возговорит к ней молодой принц, красавец писаный, на голове с короною царскою:
– Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в образе чудища безобразного, за мою добрую душу и любовь к тебе; полюби же меня теперь в образе человеческом, будь моей невестой желанною. Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, короля славного и могучего, украла меня, ещё малолетнего, и сатанинским колдовством своим, силою нечистою, оборотила меня в чудище страшное и наложила такое заклятие, чтобы жить мне в таком виде безобразном, противном и страшном для всякого человека, для всякой твари божией, пока найдётся красная девица, какого бы роду и званья ни была она, и полюбит меня в образе страшилища, и пожелает быть моей женой законною – и тогда колдовство всё покончится, и стану я опять по-прежнему человеком молодым и пригожим. И жил я таким страшилищем и пугалом ровно тридцать лет, и залучал я в мой дворец заколдованный одиннадцать девиц красных, а ты была двенадцатая. Ни одна не полюбила меня за мои ласки и угождения, за мою душу добрую. Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мои ласки и угождения, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную, и будешь ты за то женою короля славного, королевою в царстве могучем.
Тогда все тому подивилися, свита до земли преклонилася. Честной купец дал своё благословение дочери меньшой, любимой, и молодому принцу-королевичу. И поздравили жениха с невестою сёстры старшие, завистные, и все слуги верные, бояре великие и кавалеры ратные[27], и нимало не медля принялись весёлым пирком да за свадебку, стали жить да поживать, добра наживать.
В некиим царстве, в некиим государстве жил-был богатый купец, именитый человек.