Сразу после сотворения мира бесплатное чтение
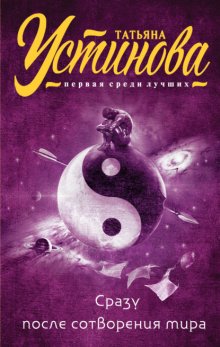
В Анадыре в этот день вдруг повалил снег и пришла самая настоящая метель, вблизи острова Врангеля разгулявшиеся под вечер волны чуть не потопили рыболовецкое судно, на севере Британских островов сильно похолодало и начались дожди, и все это не имело никакого отношения к Тверской губернии.
Здесь вовсю жарило солнце, отцветали пионы, и пыльные деревенские собаки спасались от зноя в зарослях лопухов. Собаки тяжело дышали, вывалив розовые языки, и ленились брехать на редкие машины. Машины были редки, потому что тоже ленились ехать.
Да и куда ехать по такой-то жаре, зачем?.. Милое дело – возиться под яблоней в трусах и панаме и мечтать о кружке холодного кваса, припрятанного с вечера в погребе.
А в погребе сейчас, должно быть, хорошо, прохладно, сыро!..
До деревни Долгие Бороды Плетнев доехал почти без приключений, пришлось всего пару раз остановиться, сунув перегретое автомобильное рыло в какие-то заросли на обочине.
– Ты ей подышать-то давай время от времени!.. – виновато наставлял Виктор Николаевич, всучивший ему машину. – Погоды такие стоят, что людям дышать нечем, не то что движкам!..
Плетнев глушил мотор, который затихал с таким хрипом, как будто и впрямь находился при последнем издыхании, вытаскивал себя из раскаленного жерла синтетического кресла, кряхтя, как чахоточный двигатель его доходяжной машины, выбирался наружу и некоторое время стоял, выжидая, когда по спине перестанет течь. Переставало не сразу.
Он выколупливал из двери пластмассовую бутылку, глотал почти горячую воду, проливавшуюся на шею, за воротник рубахи, утирался и оглядывался по сторонам.
Стороны были знойными, просторными, июльскими. Холмы до горизонта немного дрожали и плавились, как будто залитые жидким солнцем. Одуревшая от жары рыжая корова валялась на боку в кустах, лишь изредка вяло помахивая хвостом. Пчелы и те ленились летать, ни звука не было слышно вдоль узенькой пустынной шоссейки, лишь в моторе его машины что-то бурчало, как в пузе у ишака.
Пару раз ему доводилось ездить на ишаке, и в животе у того действительно бурчало!..
После деревни Долгие Бороды следовало повернуть направо, но оказалось, что поворачивать некуда – дороги нет, врет все продвинутый и умный навигатор, который его продвинутые и умные сотрудники называют «дивайс»!.. Ему все время казалось, что сотрудники врут тоже.
Пришлось ехать прямо, останавливаться возле палисадников, где цветут желтые и белые лилии и еще какие-то совсем незнакомые ему огородные цветы, а в домишках распахнуты оконца, и белые занавески отдувает горячий ветер, спрашивать, как проехать в деревню Остров, и получать совершенно противоречивые указания.
– Да ты че?! – весело удивился какой-то парень, возившийся с мопедом, когда Плетнев остановился примерно в третий раз. – С дуба рухнул?! Этот самый Остров вообще в другой стороне! Вот гляди! – Он поднялся с корточек, утер мокрый лоб, оставив на нем масляные разводы, и локтем показал куда-то вперед. – Сейчас как возьмешь за деревней направо, так через поля дуй напрямки. Там одна дорога налево пойдет, а вторая прямо, только ты забирай все время правее, мимо фермы брошенной, так и доедешь до Чилухи, но тебе ее надо переехать, а брод еще в прошлом году размыло, и ты тут налево заберешь до кривой березы, только не совсем налево, а так, слегонца, а потом через речку, и на той стороне деревня проглянется, только это еще не Остров, а Косая Пядь. Ты от нее тоже все время правей забирай, а там…
– И чего ты врешь, чего ты врешь, че не знаешь?! – закричали из-за штакетника сердито, и выскочила бабулька в ситцевых трусах до колен, зато по самые глаза повязанная платком по всем деревенским законам. В загорелой жилистой руке у нее болталось несколько морковок, видимо, только что выдернутых. – Где же за Чилухой Остров, когда там вовсе Островцы! Ты меня слушай, я тебе точно скажу, сама с Острова, меня Петька-покойник оттеда замуж брал!..
– Да Островцы-то левее, а ему надо все вправо забирать!..
– Не надо ему забирать! Ты езжай сейчас, как ехал, до самой новой дороги. Нову-то дорогу в шестьдесят втором как открыли, так через поля никто не ездит!.. Нова дорога направо пойдет, и тебе туда. У самого сворота вывеска торчит со стрелкой, не промахнешься – магазин «Эльдорадо»! Ты езжай до самой «Дорады» этой, только ничего у них не бери, уж больно дорого дерут, а хлеб в Острове куда как лучше!.. Там дорожка ухабиста, но ничего, потихоньку-полегоньку прямо до Острова и докатишь. Тут недалече тебе осталось, кило€метров тридцать!
– Да чего ты говоришь, баб Мань, когда по прямой тут всего пять или семь!
– По кривой! – передразнила бабка и взялась за взмыленного и злого Плетнева сухой и сильной рукой. Ладонь она сначала обтерла о свои невиданные штаны. – Ты меня слушай, я сама-то с Острова, а он в Твери родился€, ничего тут не знает! А тебе, может, водички налить холодненькой? Или вот морковочки хочешь? Сахар, а не морковь!
Плетнев отказался и от водички, и от моркови, а заодно и от сахара. Ему очень хотелось доехать хоть куда-нибудь, уже можно и до Островцов, а не до Острова. День клонился к вечеру, и от солнца, валившегося в поля, стало еще жарче. Воздух был неподвижным, раскаленным, красным от бивших прямо в глаза лучей, и доходяжная машина его замучила, и неработающий «дивайс», и собственная самоуверенная глупость – он был абсолютно уверен, что доедет легко и быстро, а получилось, что в дороге целый день, а еще до этой самой «Дорады», где втридорога дерут и хлеб плоховат, не добрался!..
– Далась тебе деревня эта! – утром сказал ему в Москве приятель Павлик и пожал льняными плечами просторной и прохладной летней рубахи. – Что ты там будешь делать, Алексей Александрович? Схимничать, трудничать и анахоретствовать?
Плетнев ответил, что хочет отдохнуть «от всего и от всех», в том числе и от Павлика, но мысль про «схимничанье» и «анахоретство» ему понравилась.
А что?.. Раз уж больше ничего не получается, будет схимником и анахоретом!
За магазином «Эльдорадо», возле которого толпились почти голые подростки с велосипедами и шерстяная коза с пучком клевера во рту – вся компания проводила глазами его машину, разом загоготала и заблеяла вслед, – дорога стала совсем плохая, «ухабиста», как выразилась бабуля в трусах. Он крутил руль, скосив глаза и изо всех сил стараясь не угодить колесом в яму, понимая, что ямы его машине не пережить, а ночевать в лесу не хотелось. Машина кряхтела, скрипела амортизаторами, приседала, хрюкала, но везла, и на том спасибо. Эти последние километры он ехал часа два. На посту – шлагбаум с будкой посреди леса – у него старательно и долго проверяли документы, должно быть, скучно целый день стеречь пустую дорогу, а тут Плетнев на своей тарантайке! Таким образом Алексей Александрович прибыл в деревню, когда вечер уже наступил окончательно – зной спал, небо поголубело, собаки и старики вышли посидеть на лавочках, дачники покатили купаться. Их веселые, странно громкие голоса далеко раздавались по улице.
Плетнев никогда не заезжал с этой стороны и еще покружил по деревне, прежде чем нашел свой дом.
Этот?.. Или не этот?.. Нагнув голову, он немного поизучал дом из-за лобового стекла, прикидывая, угадал или нет, потом заглушил мотор и выбрался из кресельного жерла. По спине текло в три ручья. Он даже представить себе не мог, что у него в спине столько воды!..
– Да что ж ты со мной делаешь, язви твою душу, лапочка моя!.. – закричал на него с другой стороны тихой и узкой улицы, заросшей жасмином и шиповником, жилистый, загорелый до черноты старикашка в белой майке и отвисших тренировочных штанах. Изо рта у него торчала папироса. Он кричал, и папироса описывала круги. – Я тебя с утра дожидаюсь, три раза на пост гонял, а ребята говорят – не было такой машины!.. А я чего, нанимался, что ли, по три раза на день за тобой гонять по такой жарище, а?! Нет, ты мне ответь – нанимался?!
Плетнев, который поначалу ничего не понял ни про душу, ни про лапочку, вдруг сообразил, что старикашка, должно быть, Николай Степанович, сосед, присматривавший за домом.
Так его зовут или не так?.. Плетнев привычно посмотрел на телефон, который привычно вертел в руке, привычно ища в нем ответы на все вопросы, и обнаружил, что тот не работает. Связи нет.
Подвел «дивайс».
– Ты не гляди на него, чего на него без толку глядеть-то! – опять закричал старикашка и неожиданно быстро пошел через дорогу к Плетневу. – У нас связь раз в год по обещанию! Здоров! – Он сунул ему руку и тут же отдернул, Плетнев едва успел пожать. – Какого лешего ты с утра едешь?! У меня, глянь, дерево упало, вчера как ураган налетел, так и повалил, провода зацепило, а я три раза на пост гонял! У меня бензин не казенный, за просто так гонять, я мужикам сказал, чтоб к пяти приходили дерево пилить, а тебя все нет и нет, я опять на пост, язви его душу, а ребята говорят, не было такой машины!..
– Я с Новой Риги свернул и застрял! – Растерянный Плетнев, не привыкший, чтобы с ним так разговаривали, едва смог пробиться сквозь старикашкину скороговорку. – Там какую-то фуру поперек шоссе развернуло, и все переклинило. Пробка стояла мертвая, и я решил в объезд, а как в объезд, не знаю..
– А, язви вас с вашими пробками! – Старикашка вынул изо рта папиросу, деловито плюнул на дорогу и сунул папиросу обратно. – Ну, идем, чего встал-то? Или ишшо не наездился?
Тут он затрясся от мелкого смеха, подбежал к невысокому серому заборчику, нашарил с другой стороны крючок, отомкнул и сделал движение рукой – давай, мол, давай, заходи уже!.. Плетнев постоял секунду, исподлобья глядя на дом, и зашел на участок.
Дом безмолвствовал.
…Как мы с тобой сживемся?.. И сживемся ли?.. Ты совсем чужой мне, и я тебе чужой, и меня никогда не тянуло «в глушь», и тебе было хорошо с прежним хозяином, а как будет с новым – непонятно, непонятно…
– Замок маленько заедает, подмазать бы надо, но ты уж теперь сам, лапочка моя, – без остановки говорил старикашка, налегая на дверь.
Ключ поворачивался туго, и старик наваливался тщедушным тельцем изо всех сил. Плетнев поднялся на крыльцо, уперся ладонью, и ключ повернулся.
– Ишь ты! – удивился Николай Степанович. – Ну, тут все как было, так и осталось, потому я тебя провожать не стану. Или проводить?..
В доме было душно и сильно пахло нагретым деревом. Плотные шторы на окнах задернуты все до единой, и от этого большая комната с висячей лампой и темными балками на потолке казалась пыльной и маленькой.
– Любанька прибиралась с неделю назад, когда ты объявил, что приехать хочешь, и с той поры окна не открывали. – Николай Степанович – так или не так?.. – не собиравшийся его провожать, тем не менее деловито вошел и стал одну за другой отдергивать шторы. Свет как будто падал в полумрак, и проявлялись детали, которых сначала не было видно.
Камин с чугунной решеткой, отделанный серым камнем, круглый обшарпанный стол на толстых слоновьих ногах, вокруг шесть тяжеловесных стульев с потемневшими резными спинками. Два кожаных кресла, изрядно потертых, на стене зеркало с потрескавшейся амальгамой, странно искажавшее изображение. Плетнев в одном углу зеркала получался вытянутый и длинный, а в другом – круглый и короткий. Буфет такой же тяжеловесный и темный, как и вся остальная мебель, одна дверца открыта. Старик на ходу прихлопнул ее, она словно подумала немного, а потом медленно и величественно распахнулась.
В таких домах непременно должны быть спрятаны клады, почему-то подумал Плетнев, не склонный ни к какой романтике.
– Ну, там, стало быть, ванная. Прохор Петрович покойный, когда ванну провел, сказал, что больше ему и не надо ничего, жить можно. Уж больно себя соблюдал, в смысле чистоты. А как провел, так сразу и помер, упокой Господи душу грешную…
Плетнев мечтал только, чтоб старикашка убрался поскорее, ему хотелось вымыться – хоть немного соблюсти себя в смысле чистоты, – выпить вина или чаю, завалиться спать и ни о чем не думать, особенно о покойном Прохоре Петровиче, но не тут-то было.
– Насос исправно качает, хоть и не новый совсем, ты, лапочка моя, на него поглядывай, чтоб не залило и верхом не поперло, а то в прошлом году такой паводок был, что матушки родные!.. Там дверь на терраску, только ключа от нее нету уж лет десять как, так ты на щеколду запирай. Если чего, кричи, я подбегу. Только по делу кричи, а чтоб за просто так бегать я не нанимался!.. Яблоня-то, когда падала, провода зацепила, ветки-то я попилил, а ствол как лежал, так и лежит, недосуг мне…
Ухо Плетнева, настроенное на московскую жизненную волну, уловило только словосочетание «за просто так».
Ну да, конечно. «За просто так» ничего не делается, как это я сразу не догадался?..
– Сколько я вам должен, Николай Степанович, за ваши труды?..
Старик замолчал и глянул на Плетнева.
– За труды мои заплачено, – сказал он, пожалуй, с достоинством. – Ты мне каждый месяц деньги присылал, ни разу не обманул, я за домом смотрел, все честь по чести. Я и при покойнике смотрел!.. Он любил жизнь вольготную, спокойную и чтоб с удобствами. Ни огорода ему не надо, ни яблок, ничего!.. Ты, я гляжу, тоже человек умственный. – Плетнев усмехнулся. Он никогда не думал о себе как о «человеке умственном», да еще в некоем… уничижительном смысле. – Я свою работу делаю, ты мне за нее платишь, так что в расчете мы, лапочка моя, язви твою душу!.. А если угостить захочешь, от угощенья не откажусь!.. Угоститься никогда не вредно!..
Плетнев, ругая себя, что не догадался купить водки, вышел к машине, порывшись, достал из багажника почти горячую бутылку виски, упаковку испанского хамона и неувядающий белый батон в пакетике.
Николай Степанович – по крайней мере, старик на это имя откликался – поджидал его на крыльце, «гостинцы» принял с удовольствием, а на хамон взглянул недоуменно и повертел туда-сюда.
– Ну, если чего не разберешься, кричи мне! Я всегда тут рядышком. Напротив. – Деловито сошел с крыльца, привычно закинул крючок на калитке и зашагал через дорогу.
Плетнев посмотрел ему вслед.
Какой-то мальчишка пролетел на велосипеде, затормозил так, что из-под заднего колеса взметнулась белая пыль, остановился, скособочил велосипед на одну сторону и прокричал бодро:
– Здравствуйте!
– Здрасти, – буркнул Плетнев, которому в эту секунду до смерти надоели все люди на свете, молодые и старые, и вознамерился зайти в дом.
– Вы теперь в доме дяди Прохора Петровича живете, да?
– Да, – подтвердил Плетнев, не оборачиваясь.
– Моя мама к нему убираться ходила, а теперь к вам будет ходить, да?
– Да, – сказал Плетнев уже из-за двери.
– А вы теперь всегда здесь будете жить, да?
– Мальчик, езжай отсюда, а?.. – попросил Плетнев. – Завтра поговорим.
Куда-то подевались ключи, которыми Николай… как его… Степанович тряс у него перед носом.
– Так я поеду, да?
– Да, да!
Куда же он их сунул? В двери нет, на подоконнике нет, на вешалке с пристроенным кое-как пыльным зимним треухом тоже нет. Покуда Плетнев тыкался туда-сюда в тесном тамбуре, перед его забором проплыли еще какие-то велосипедисты, вернее, велосипедистки, и тоже поздоровались громко и приветливо:
– Добрый вечер!
А-а-а, чтоб вас всех!..
Не найдя ключей, он захлопнул тяжелую створку – должно быть, покойный Прохор Петрович любил все тяжелое и основательное, – задвинул щеколду, как будто оставил за дверью весь окружающий мир.
Схимничать так схимничать. Анахоретствовать так анахоретствовать. Ну и что?..
Он обошел огромную квадратную комнату, распахивая окна, выходившие на три стороны. Дверь «на терраску» Плетнев решил не открывать, опасаясь, что еще кто-нибудь из приветливых соседей полезет к нему с вопросами и приветствиями. Осмотр владений, упиравшихся дальним краем в узенький ручей, вполне можно отложить до завтра.
Солнца в квадратной комнате, несмотря на вечер, было так много, как будто его плеснули из ведра. Плетнев еще походил – в зеркале отражалось нечто несусветное, то длинное, то круглое, – сел за стол и положил перед собой руки.
…Значит, вот как, да?.. Теперь, значит, так.
Мысль «удалиться от мира» хотя бы на короткое время, просто чтобы подумать и привести в порядок голову, казавшаяся такой соблазнительной еще сегодня утром, когда он излагал ее приятелю Павлику, теперь – в чужом доме, среди незнакомых вещей и запахов – представлялась ему дикой.
Как он собирался тут жить?! Картинок себе напридумывал в духе комсомольской прозы шестидесятых – вот он, Алексей Александрович Плетнев, встает утром и в любую погоду бежит на речку, сигает с мостков, фыркает, плавает, одним словом, наливается здоровьем. Потом, отдуваясь, пьет чай со смородиновым листом, а потом возится на участке, подвязывает огурцы, рассматривает на свет плоды земляники садовой, вытаскивает корни, изучает, не побил ли их «червь мучной», вбивает в гряды металлические палки «от кротов»…
И дальше что-то смутное: деревенские ребятишки потянутся к нему, чтоб выучиться грамоте и всякой алгебраической премудрости, бабы будут обращаться с жалобами на пьющих мужиков, мужики же с вопросами про агротехнику. Он станет частью жизни народа, и крестьяне со временем признают его своим, хотя, разумеется, неизмеримо выше себя!..
Тут Плетнев вдруг засмеялся, тоскливо и ненатурально, по кривому зеркалу пошла волна – должно быть, от тоски, – и дрогнули занавески на окнах.
Он ничего не понимает в загородной жизни, и уж тем более в деревенской! Он покупает воду в пластмассовых бутылках, а «землянику садовую» в деревянных туесках. И туески, и земляника произведены далеко от Тверской губернии, в Израиле или Испании, где-то там. В этой деревне нет никаких крестьян, одни только состоятельные московские дачники – земля в этих местах стоит недешево, ох, недешево!.. Учить кого бы то ни было чему бы то ни было он не способен в принципе, дети его раздражают. Да и потом…
Откуда на его участке возьмутся огурцы, которые он станет подвязывать?!
Он ничего и никогда не делал руками, только головой, как человек… умственный!..
Впрочем, до завтра он в любом случае не уедет, а дом-то как раз его собственный, а вовсе не чужой.
Плетнев купил его «по случаю» года три назад, когда умер этот самый Прохор Петрович, старый хозяин.
– Хорошая земля продается, – сказал ему приятель Павлик, – хотя участок маловат, всего соток сорок, что ли!.. Ну, с домом, конечно. Я бы сам купил, но далековато и возни много! Дом сносить придется, заново строиться, а там не слишком удобно. На каждую машину пропуск надо выписывать – заказник же! Может, поедешь, глянешь?.. Знаю, знаю, ты не любитель дачной жизни, но всем нам запасной аэродром рано или поздно потребуется!..
Плетнев, который тогда еще не задавал себе актуальный, новый и очень простой вопрос, в чем смысл жизни, тем не менее подумал про «запасной аэродром», поехал, посмотрел и тут же купил.
Осень стояла, за заборами горели костры. Серые тучи с хмурыми снеговыми днищами висели над полями и мутной всклокоченной рекой. Мокрая грустная собака на соседнем участке бродила на своем кольце, гремела цепью.
Дом, про который приятель сказал, что его придется сносить, оказался таким же хмурым и мрачным, как все вокруг и как плетневское настроение. Он был из серого камня, темные рамы, с крыльца отбита плитка. Соседский старик, этот самый Николай Степанович, заявил, что «все в полной исправности», наследники из него «ничего брать не изволят», а он, Николай Степанович, забрал бы холодильник, тем более Прохор Петрович ему давно обещал и отдал бы, если бы не помер скоропостижно.
Плетнев, которому было наплевать на холодильник, рассеянно разрешил забрать, и пока старик бегал за веревкой и соседом Ванькой, прошелся по комнатам, полным от дождя и гераний на окнах какой-то аквариумной тишины.
…Вот сюда я буду приезжать, когда станет совсем невмоготу.
Невмоготу стало через три года, и вот он приехал.
Ну? Когда обратно, в мир? Завтра? Или до понедельника все же дотянешь, схимник?..
Плетнев долго сидел, слушал, как дом вздыхает, как сквозняк перебирает занавески на окнах и допотопные деревянные кольца приятно позвякивают.
Он ушел спать очень рано, в двенадцатом часу, долго и бестолково выдвигал ящики комодов на втором этаже, искал постельное белье. И белье, и новый холодильник, и вода в пластмассовых канистрах были закуплены и отправлены заранее – к предстоящему схимничеству и анахоретству Плетнев готовился основательно.
Он нашел белье, совершенно новое и жесткое, в пластиковых мешках, сопя от непривычной работы, путаясь руками и углами пододеяльника, ругаясь себе под нос, кое-как заправил постель, лег и не спал полночи – от тишины.
Тишина не давала ему спать.
…Сперва он ничего не понял.
Было очень жарко, так жарко, что Плетнев решил сквозь дремоту: я на Мальдивах и почему-то забыл включить кондиционер. Вот сейчас встану, включу и…
Вставать и включать не хотелось страшно.
Была еще одна причина, по которой непременно требовалось встать, и через некоторое время выяснилось, что это такая причина, игнорировать которую уж никак невозможно.
Нужно вставать, идти в сортир, а потом искать, где включается этот проклятый кондиционер. А потом опять спать, спать…
Что вчера было? Сидели в баре до рассвета? Романтически гуляли вдоль прибоя с Мариной? Ничего не помню…
Он открыл глаза и какое-то время смотрел в деревянную стену с обрывком черного кабеля посередине.
Нет, не Мальдивы. Там не бывает таких стен. Там вообще никаких стен не бывает. Там кругом бунгало, со всех сторон открытые океану, в этом весь смысл Мальдивов!..
Тут произошло нечто совсем странное. У него над ухом, так близко, что он даже вскочил, заблеяла коза, раздались сигналы точного времени, очень бодрый и определенный голос сказал очень по-радийному:
– Московское время тринадцать часов.
В распахнутое окно врывалось солнце. Его оказалось так много, что жаром исходили деревянные стены. Внизу – Плетнев выглянул – был какой-то луг, совсем незнакомый, а за ним деревья, а что дальше – он не успел разглядеть. Посреди луга торчала коза, трясла головой и совалась мордой в клумбу с какими-то цветами. Когда морда появлялась из клумбы, изо рта у нее свешивался цветок, исчезавший с поразительной быстротой.
– Машка, зараза, пошла! Пошла вон, кому говорят!
Коза вдруг взбрыкнула задними ногами и понеслась, а за ней пролетела какая-то тетка в лифчике и подвернутых тренировочных штанах, и все скрылось.
Только цветы качались на объеденной клумбе.
Плетнев по пояс высунулся из окна, покрутил головой и осознал себя в деревне Остров Тверской губернии.
– И по традиции в конце выпуска новостей прогноз погоды! В Москве установилась настоящая летняя жара! Днем воздух прогреется до двадцати восьми, а по области до тридцати двух градусов выше нуля, ветер юго-восточный, умеренный. Ночью столбик термометра…
Не дослушав про столбик, Плетнев, как давешняя коза, ринулся по своим делам и, отыскав ванную, провел там некоторое время.
Тут к нему вернулась способность соображать.
…Я проспал, что ли? Да нет, быть такого не может! У меня бессонница, многолетняя, неизлечимая, я сплю по два часа, а потом просыпаюсь – и все. Меня лечили лучшие врачи лучшими препаратами, но так и не вылечили, и я в одночасье решил, что хватит уже препаратов!.. На новом месте я не сплю никогда. Я точно это знаю. У меня бессонница.
Ау, бессонница, где ты?.. Московское время тринадцать часов, столбик термометра установился на отметке…
Плетнев наскоро умылся – вода из крана шла плоховато, что там вчерашний старикан говорил про насос? – глянул на себя в зеркало и ничего не понял. Зеркало, такое же старое, как и в гостиной, отразило чужую физиономию, вверху узкую, зато широкую книзу, в пятнах то ли пролезшей щетины, то ли потрескавшейся амальгамы.
Нужно найти зубную щетку, полотенце, бритву, вернуть себе человеческий вид и собираться потихоньку в Москву. Нечего здесь делать совершенно. Идея схимничества провалилась.
Тут Плетнев отчетливо услышал, как внизу стукнула рама и кто-то прыгнул в дом, довольно мягко, но ощутимо.
Он замер, опершись двумя руками о раковину. Раковина была фарфоровая с нарисованным синим цветком посередине. Цветок оказался весь в потеках ржавчины, похоже, его тоже пожевала коза Машка.
Внизу кто-то ходил, двигал вещи.
Нужно взять топор, спуститься и посмотреть.
…Откуда у меня топор? Нет никакого топора!..
Надо просто так, без топора, спуститься и посмотреть.
Тут Плетнев понял, что ему страшно. Он боится идти смотреть.
Он сто лет ничего не боялся и даже забыл, как это бывает, когда боишься не абстрактных понятий – вроде цен на нефть или изменения котировок на бирже, а человека, забравшегося к тебе в дом.
И топора нет!.. Откуда у него топор, он городской человек, городской во всех отношениях, в пятом поколении, а может, даже и в шестом, он ничего не знает о топорах, козах и прочих радостях сельской жизни! Понесло его схимничать и анахоретствовать!
Хорошо в деревне летом.
Очень осторожно, касаясь рукой деревянных нагретых солнцем перил, стараясь ступать как можно тише босыми ногами, Плетнев спустился по лестнице. Зеркало на противоположной стене отражало, как обычно, невесть что, но одно было совершенно понятно – в большой квадратной комнате со столом посередине кто-то есть, и этот кто-то ходит, появляясь и пропадая в растрескавшейся амальгаме.
Плетнев перевел дух. Оказывается, он почти не дышал, спускаясь по лестнице. Он бросился вперед и схватил обеими руками ближайший к нему стул с резной спинкой. Стул оказался непомерно тяжелым, к чему приготовившийся защищаться Плетнев был совсем не готов.
Вырвавшийся из рук стул грохнул о пол, раздался пронзительный визг, Плетнев опять схватил его и занес над головой. Чертов стул потянул его назад, так что Алексей чуть не повалился на спину.
– Вы что?! Вы кто?! Мамочки!!!
Плетнев перехватил поудобнее свое орудие, и тут в окне возникла голова соседа Николая Степановича, которая покрутилась из стороны в сторону и деловито осведомилась:
– Женька, ты чего орешь на всю Ивановскую, язви твою!.. Ничего толком сделать не может, надо ж, какая девка никчемушная! – Тут он заметил Плетнева в трусах и со стулом над головой. – Здоров! Как спалось на новом месте?
Плетнев с грохотом обрушил стул себе под ноги.
– Я уж думал, ты на рыбаловку укатил, лапочка моя! – Голова Николая Степановича разинула рот и захохотала. – Велосипед спроворил с утра пораньше да и поехал зорьку посидеть, машина-то твоя запертая стоит! Велел вон Женьке цветков нарезать и тебе поставить, чтоб для удовольствия. Вы, городские, цветки в банках все любите!
– Он меня чуть не убил, – пожаловалась никчемушная девка Женька, шмыгая носом. – Стулом замахивался!
– А ты не дрейфь, Женька! – громовым голосом велел Николай Степанович. – Городские, они все отчаянные!
– Дверь-то заперта, так я в окно пролезла! А тут он со стулом! Хорошо, не шарахнул!
– А ты бы его тогда тоже… того! Шарахнула! – И Николай Степанович вновь захохотал, очень довольный своей шуткой. – Ну, поставила, и давай, давай, дуй оттуда! Нечего у человека под ногами путаться, язви твою душу!..
Фигуристая девица в немыслимо коротких шортах и обтягивающей маечке похлопала на Плетнева глазами и сказала тихонько:
– Дядь Коля просил вам цветов поставить, я и поставила. А вы на меня стулом…
– Прошу прощения, – выдавил Плетнев. Ему вдруг стало так неловко, что он даже задышал с трудом. – Я подумал… Не знаю, что я подумал…
– А вы вчера приехали, да?
– Да. Извините меня, пожалуйста.
– А как вас зовут?
– Алексей… Александрович.
– А я Женя. Мы с вами соседи. Вы заходите к нам, если что понадобится. Мы вон с той стороны, – и она махнула рукой куда-то на солнце. – А вы один приехали, да?..
– Женька! – прокричал с улицы Николай Степанович. – Дуй оттуда, кому сказал!..
– Вы спортсмен, да? С Олимпийских игр?
– С чего вы взяли?!
– А у вас фигура такая!.. Как у спортсмена! – и девица захихикала.
Плетнев осознал, что стоит перед ней в одних трусах, как будто сцену играет из дешевого водевиля, и разозлился.
…Ну что вам от меня нужно, а?! Цветы в банках, козы в клумбах, девицы в шортах!.. Я уеду сегодня вечером или завтра утром.
Всем спасибо, все свободны.
– Вам, может, к завтраку чего принести? Мы по вторникам в магазин ездим, так у нас все есть!..
– Спасибо, ничего не нужно.
– Ну, я тогда пойду, да? – и Женя ему улыбнулась. Плетнев улыбаться не стал, только кивнул.
Девица взобралась на подоконник, немыслимые шорты задрались еще выше, но потом вдруг передумала и спрыгнула обратно в комнату.
– А можно я через дверь выйду?
– Пожалуйста, – проскрежетал Плетнев и посторонился, пропуская ее.
Она с ног до головы окинула его оценивающим взглядом – он мог поклясться, что взгляд был именно оценивающим, женским, манким.
Еще не хватает мне деревенских сильфид!..
– Так вы к нам приходите! У нас все есть! – Она отодвинула щеколду и шагнула на крыльцо, окунулась в солнечный океан. – Только к блаженным не ходите, ну их! Я боюсь. Их у нас все боятся! Мы с девчонками однажды к ним на двор забежали, а старуха в доме одна и зелье варит! Страшно нам стало до жути! А она ка-ак повернется, ка-ак на нас глянет, у меня аж сердце в пятки ушло, мы побежали, а старуха с крыльца грозится, что всех проклянет!..
– Проклянет? – машинально переспросил Плетнев.
– И к Вальке не ходите, она злющая! Любка воровка, где убирается, оттуда вещи пропадают! Ей Прохор Петрович сколько раз предупреждения предупреждал! А Федор вообще, тюрьма по нему плачет…
– Женька, язви твою душу, что ты врешь?! – закричал откуда-то неугомонный Николай Степанович. – Сказано тебе, вали оттуда! Сколько ты в чужом доме прохлаждаться будешь?!
– А дом этот не чужой, а Прохора Петровича, – уже с улицы заговорила девица. – Его мой батя своими руками строить помогал!
– Батя-то твой помогал, только ты-то ни при чем!
– При чем!
– Женька!
Девица растворилась в солнечном свете, пропала из глаз, и на ее месте возник Николай Степанович в белой майке-алкоголичке и обвисших тренировочных штанах. Все как вчера.
– Ты ее не слушай, – приказал он Плетневу деловито. – Все она врет. От скуки девка мается, вот и врет. Никудышная такая. У ней родители работящие, а сама-а-а! Ну, как есть современная молодежь, одним словом. Все в Москву мечтает удрать или, на худой конец, в Тверь и там в модельеры поступить. Ну, которых по ящику показывают, они там в разных нарядах туда-сюда без дела шастают. А родители ни в какую! Вот она и крутит хвостом-то, и брешет! А отцу с матерью, думаешь, это приятно?..
Плетневу было решительно все равно, что приятно, а что неприятно отцу с матерью фигуристой Женьки.
– Может, тебе к завтраку чего принесть?
Плетнев чуть не завыл.
– Мне ничего не нужно.
– Ну, – вдруг заторопился Николай Степанович, – ты отдыхай, отдыхай. Если чего надо, кричи, я тут близко. Напротив. Речка знаешь в какой стороне?
Плетнев молча смотрел на него. Старикашка смешался, стал отступать, чуть не упал и вскоре тоже пропал в солнечном мареве.
Плетнев закрыл дверь, задвинул щеколду и обошел вокруг стола, косясь на трехлитровую банку с желтыми и белыми цветами.
Сегодня у нас, выходит, суббота. Уезжать сейчас бессмысленно, а завтра тем более. Попадешь в такие пробки, что в Москву въедешь как раз к концу следующей недели.
Значит, поеду в понедельник, не слишком рано, часов в одиннадцать. Решено.
А до понедельника нужно как-то дожить.
Значит… Что это значит?..
Плетнев поднялся на второй этаж, аккуратно застелил разгромленный диван, где он совершенно непонятным образом спал – почему так вышло, что спал, у него же бессонница, которую лучшие доктора лечили лучшими препаратами, да так и не вылечили! – напялил джинсы и с сомнением посмотрел на футболку. Вчерашний пот давно высох, но футболка так просолилась, что стояла колом. Нужно свежую в сумке искать, хоть и неохота!
Он по очереди заглянул в каждую комнату второго этажа – жарко, пыльно. Должно быть, Любанька поленилась здесь как следует помыть. В комнатах стояли старомодные комоды и старомодные кровати, накрытые старомодными покрывалами. Кое-где из стен торчали провода, видимо, предназначенные для светильников, но без всяких светильников. Покойный Прохор Петрович на самом деле не слишком утруждал себя хозяйственными делами!..
В самой большой комнате, справа от той, где ночевал Плетнев, размещалась библиотека – шкафы до потолка, полные книг. Алексей Александрович подошел и вытащил одну наугад.
Книга называлась «Угол белой стены», печаталась в серии «Военные приключения» и была издана в семьдесят третьем году. Том оказался изрядно потрепанным. Плетнев засунул «приключения» обратно и вытащил еще одну книгу, вовсе из другого места.
«Тайны абвера», том третий. На первой странице «Тайн» имелась фиолетовая печать с надписью в овале «Домашняя библиотека П. П. Усачева». Плетнев усмехнулся и вернул «абвер» на место.
Также присутствовали «Библиотека приключений», занимавшая две полки подряд, Александр Дюма в изобилии, «Антология советской фантастики», «Зарубежный детектив», серии «Великие разведки мира» и «Загадки прошлого».
По всей видимости, Прохор Петрович – покойный – не любил себя утруждать не только хозяйственной деятельностью, но и, так сказать, умственной. Серьезной литературы не признавал.
Зато мебель была серьезной, кабинетной, вовсе не деревенской, а, пожалуй, даже казенной: кожаный диван, широкие кресла с прямыми спинками, письменный стол с тумбами.
Плетнев задумчиво подергал ящики – все заперты. Должно быть, и не открывались никогда.
Ну, что ж, хоть на два дня, а придется обживаться – доставать из машины барахло, варить кофе, придумывать себе занятия.
Вот вопрос: как именно следует одиночествовать и искать смысл жизни вдали, так сказать, «от шума городского»? То есть теоретически понятно, а практически? Что нужно делать в момент переосмысления и трудных раздумий? Просто так сидеть?
Или читать нечто из «Библиотеки военных приключений»? Или строить глазки фигуристой Жене, которая все время врет от скуки? Или подглядывать за «ведьмой» с соседнего участка? Или базарить со сторожем Николаем Степановичем?
Или это все не годится для одиночества и раздумий и искать смысл жизни следует как-то по-другому?..
А и правда – в какой стороне речка?
Плетнев вяло сварил кофе и вяло его проглотил. Много лет он не мог ни есть, ни пить по утрам, и хотя сегодня так получилось, что утро началось днем, все равно по привычке он ничего этого не хотел. Подумал спросить у Николая Степановича про велосипед, потом решил, что разговоров и причитаний – «лапочка моя, язви твою душу!» – будет до вечера, осторожно открыл заднюю дверь и босиком вышел на просторную квадратную террасу.
Здесь была тень, лишь на перилах лежало солнце сочными ломтями. Плетнев подошел и потрогал перила, теплые, гладкие. Участок заканчивался где-то за деревьями, отсюда не видно, но Плетнев знал, что там есть решетка, а в решетке калитка, а за калиткой березы, лужайка и мостки.
Он с сомнением посмотрел на собственные босые ноги. А если он дойдет босиком до калитки? Можно или нельзя?
Фу-ты, черт! Ему вдруг стало неловко, как перед девушкой Женей. Нет, он, конечно, городской человек, кто же спорит, но даже он способен дойти до калитки босиком! Или… не способен?
Сердитыми пятками он затопал по дощатому полу, прошагал по нагретой плитке и оказался в постриженной щекотной траве. Кто же ее тут стрижет? Должно быть, Николай Степанович, больше некому.
Плетнев дошел до кустов черной смородины, увешанных гроздьями ягод. Смородина была старая, коренастая, листьев маловато, зато ягод много. Можно варенья наварить. Или наливку сделать.
Мама любила какую-то хитрую смородину, называла ее «бланшированная», как-то так. И маленький Плетнев эту смородину обожал. Не было лучшего лакомства в его жизни, чем свежий творог, политый «бланшированной» смородиной!.. На свету она была рубиновая, яркая, потом он видел такой цвет только у самых лучших итальянских вин.
Плетнев задумчиво сорвал гроздь и стал по одной объедать ягоды. Помыть бы не мешало, но один раз можно и так.
– Сосед! – закричали из-за забора. – Ну-к, подь сюда! Подь сюда, сосед!
Плетнев, к которому эти призывы, конечно же, не могли иметь никакого отношения, продолжал по одной ягоде класть в рот смородину и думать о маме.
– Кому говорю, подь сюда-то! Или ты оглох, сосед?!
Над высоким сплошным забором с правой стороны вдруг возникла круглая голова в панаме, так близко, что Плетнев отшатнулся и рассыпал все ягоды.
– Ты чего? Не слышишь, что ли?
– Слышу, – пробормотал Плетнев. Присел и принялся собирать смородину в горсть. Ему так жалко стало, что она пропадет!..
– Подь ко мне, у меня чегой-то шланг сорвало и никак не прикручивается! Ты в шлангах понимаешь?
– Нет.
– Ну, зайди, зайди, хоть подержи, я сама прикручу!..
Плетнев вздохнул и оглядел забор, в котором не было ни малейшего намека на дверь или калитку. Голова между тем скрылась, и с той стороны забора доносились неясные звуки.
– Да чтоб тебя взяло! От сволочь такая!.. Да я тебя!.. Ну, где ты там, сосед? До завтра ждать, что ль, я буду?!
– Как к вам попасть?
– Чего попасть?!
Алексей Александрович пожал плечами и пошел по своим делам. В конце концов, он тут только до послезавтра и нет никакой необходимости устанавливать дипломатические отношения с соседями.
Он вдруг вспомнил, как их устанавливала Марина – всегда лучше всех, всегда и во всем виртуозно, и ему стало так жалко себя и ушедшей жизни, которая сейчас казалась ему прекрасной!..
– Правильно идешь! – вдруг грянуло с забора. – Прям до мостков и дуй, а там перелезешь – и вот наша калиточка!.. Я ж ведь и забыла, что ты в первый раз-то!
Плетнев, толкнув калитку, вышел со своего участка, который вдруг показался ему очень большим, дом маячил за деревьями, как будто очень далеко, и очутился внутри картины кого-то из импрессионистов. Он перевидал их множество и никогда не мог запомнить имен!..
Березы шелестели в вышине, как могут шелестеть только березы и только в июле – тоненьким, быстрым, немного металлическим звуком. Солнечные пятна лежали на чистой и очень зеленой траве. За березами были ручей и мостки, надежные, выкрашенные надежной коричневой краской. Плетнев вышел на мостки, доедая из горсти смородину, и зачем-то на них попрыгал, как будто проверял. Мостки не шелохнулись.
В проточной воде полоскались длинные ветки каких-то подводных растений, а в крохотной заводи цвела кувшинка или лилия, шут их знает, большой желтый раскрытый цветок – тут уж начался Васнецов!..
Сюда бы кресло полосатое приволочь – такое специальное дачное кресло под названием шезлонг, – улечься в нем, надвинув на глаза кепку, вытянуть ноги и дремать. Вполне в духе всех бездельников и тунеядцев, начало которым положил Обломов, герой великого русского писателя Гончарова. В детстве Плетнев ненавидел обоих, и писателя, и его героя.
Прозрачная слюдяная стрекоза вдруг приземлилась на лилию или кувшинку, шут их разберет, чтобы довершить, так сказать, идиллию.
Плетнев ненавидел идиллии. Ему казалось, что любая идиллия – вранье.
– Ну, где ты там пропал, сосед? В ручье, что ль, утоп?
Он оглянулся.
С правой стороны затрещали ветки, раздвинулись кусты то ли малины, то ли еще чего-то, и показалась давешняя круглая голова в панаме.
– Иди скорей, у меня там заливает все!
Плетнев полез в кусты, сильно укололся, охнул, поджал ногу, выскочил и запрыгал.
– Чего ты? – недовольно спросила тетка. – Ничего у нас там нету, ни стекляшек, ни железок! Чего скочешь-то?!
…Зачем я все это делаю? Что со мной такое? Или так полагается, когда приезжаешь в деревню, чтобы подумать о смысле жизни и о том, что дальше?..
Следом за теткой, стараясь не ступать на наколотую пятку, он проковылял на соседский участок, длинный и узкий, как тоннель. Впечатление тоннеля дополняли еще бесконечные крыши бесконечных теплиц, поднятые и откинутые рамы, и от этого казалось, что идешь по коридору, заставленному шкафами с давно не мытыми стеклами.
– Вот здесь, глянь!.. Сорвало и хлещет!
Плетнев прошел еще немного, вдруг под ногой плюхнуло, плеснулось, и он погрузился по щиколотку то ли в жидкий навоз, то ли еще в какую-то дрянь.
На дорожке между теплицами стояла лужа, присыпанная сверху щепой и опилками.
Джинсы сразу залило, и брезгливый Плетнев, морщась, стал выбираться, но выбраться было некуда – лужа простиралась, похоже, на весь участок.
– Да ты чего? Ну, говорю же, текет! Вишь, сколько натекло! Но ничего, все впитается, лето нынче жаркое, даже хорошо, что мне дорожку полило! Вон, гляди!
И перед носом у Плетнева возникла обширная задница, обтянутая чем-то фиолетовым.
Куда глядеть-то, мрачно подумал он, жалея джинсы и себя.
Из железной трубы, под которую были подложены кирпичи, широкой струей летела вода. Толстый зеленый шланг валялся рядом. Тетка подхватила шланг, стала натягивать его на трубу, вода брызнула веером, застучала по крышам и окнам теплиц, облила тетку и самого Плетнева с головы до ног.
– Мой-то с утра в гараж укатил, – перекрывая шум воды, закричала тетка. – В гараж ему надо! А что у меня помидоры горят, на это ему наплевать!..
Она все пыталась натянуть шланг, вода все била в разные стороны, Плетнев пытался прикрыться от струи рукой, но где там!..
Алексей Александрович понял, что придется покориться, и покорился. В конце концов, он сам во всем виноват. Понесло его в деревню, схимничать и анахоретствовать!
Он сделал блестящую карьеру – все поздравлявшие его с сорокалетием напирали именно на то, что карьера блестящая! – не может быть, чтоб он не справился с каким-то там шлангом!
Тетка все кричала, вода все била, с глухим стуком обрушиваясь на стекла теплиц и на мокрую ткань джинсов, а Плетнев оглядел трубу, обнаружил за парником кран, вылез из лужи, высоко, как цапля, поднимая ноги, подошел и завернул его.
Вода перестала хлестать.
– Ах ты, окаянная сволочь! Сколько раз просила, чтоб мне как следует привернули, так нету их никого! В гараж им надо! На работу им надо! Одной мне ничего не…
Тут тетка обнаружила, что вода больше не идет, бросила шланг, встала на корточки прямо в воду и заглянула в трубу.
– Вот те на!.. Никак насос заклинило! Еще беда!
– Ничего не заклинило. Я выключил.
– Чего?!
– Я выключил воду.
– Как?! – поразилась тетка, вылезла из лужи и встала, широко расставив руки, с которых текло и капало. – Зачем?
– Чтобы шланг прикрутить.
Плетнев уже много лет ничего не делал… сам. Для всяких таких дел – поменять колесо, прочистить трубу, вытряхнуть пылесос – имелся целый штат людей. С некоторой гордостью и превосходством Плетнев называл штат «специально обученные люди». Эти люди худо ли, хорошо ли, делали за него… все. Он понятия не имел, как надо прикручивать шланги на трубы, и гордился этим!..
Впрочем, он же сделал блестящую карьеру. Вряд ли прикрутить шланг сложнее, чем сделать карьеру.
А, пропади оно все пропадом!..
Он плюхнулся на колени в лужу – то ли навозная, то ли опилочная жижа моментально вышла из берегов – и внимательно осмотрел сначала трубу, а потом шланг. Он знал совершенно точно, что в любом случае сначала стоит подумать. Подумать и посмотреть, а уж потом действовать.
Тетка в панаме отчетливо фыркнула. Должно быть, с ее точки зрения, он действовал неправильно.
– У вас есть проволока и какие-нибудь гайки? Мне нужна одна, но большого диаметра!
– Дак… в сараюшке все есть! На верстаке.
И подбородком показала, где именно сараюшка.
Через две минуты Плетнев прикрутил шланг так, что его не оторвала бы от трубы даже сборная по перетягиванию каната.
Он выбрался из лужи и повернул вентиль. Шланг затрясся, наполняясь водой, свернутые кольца заходили вверх-вниз, где-то в отдалении зашипело, плюнуло и полилось.
– Вот спасибо тебе, сосед! – прочувствованно сказала тетка. – Вот спасибо! Глянь, как справил! А мой-то! В гараж укатил! Щас, погоди, только переложу его, чтоб хоть под яблоню лило!..
Плетневу от ее благодарности вдруг стало так приятно, что он даже слегка покраснел от удовольствия.
Его сто лет никто ни за что не хвалил.
Нет, хвалили, конечно! Вот на сорокалетии за «блестящую карьеру», но все ему казалось, что хвалят не его, а именно карьеру, это она, карьера, молодец, что получилась такой блестящей!
А вот просто так, за ерундовое, пустяковое дело – пожалуй, нет. Пожалуй, сейчас уже даже не припомнить, когда именно его хвалили.
– Ты туда не ходи! – закричала на него тетка, когда он двинул в обратную сторону к мосткам. – Ты по улице иди, а то опять ногу наколешь! Тебя как звать-то?
– Алексей. – И не стал добавлять «Александрович».
– Ты, Леша, Прохору Петровичу покойному родственник?
– Нет.
– До чего мужик был понимающий! Ну? А ты чего?
Плетнев молча смотрел на нее. Он умел смотреть вопросительно.
– Ты вчера, что ль, приехал?
Он кивнул. Он умел отвечать без слов.
– Вот и хорошо! А то что за дело, дом столько годов без хозяина! На нашей улице твой самый приличный дом! Только, может, у блаженных лучше будет, да бог с ними! А тебе ничего не надо?
– Спасибо.
– Да чего там спасибо, все свои люди! Мы с Прохором Петровичем покойным…
Плетнев покивал и пошел в другую сторону.
– Леша, Леша!
Он обернулся. Тетка смотрела ему вслед, козырьком приставив ладонь к глазам, солнце било ей в лицо.
– Может, кваску хватишь?! Мой-то квасок хорош!
– Спасибо.
– Заладил! А морковочки! Выдернуть тебе морковочки? Сахар чистый, а не морковь!
Плетнев отрицательно покачал головой и двинул к калитке. Он уже вышел было, когда тетка догнала его и сунула в руку три мокрые морковки с длинными волокнистыми хвостами, похожими на толстые грязные белые нитки.
– Я ополоснула. Покушай, Леша! И приходи, если чего надо! Меня Валентиной звать. В молодости Валюшкой, а сейчас все больше тетей Валей!
Плетнев, чувствуя себя очень глупо с тремя мокрыми морковками в руке, потянул калитку и вышел.
– Только крючок-то, крючок накидывай! – велела из-за редкого штакетника Валюшка. – Коза забредет, все цветы объест! Это Артемка, внук, все забывает!
Плетнев накинул крючок, чувствуя себя почти деревенским жителем, посмотрел на улицу и вдруг спросил тетку, которая все еще не уходила к своим парникам:
– А здесь… одни дачники?
– Да разные! – охотно ответила та. – Всякие, и дачники, и не дачники! Дачники-неудачники!.. Дядя Коля, Николай Степанович, что за твоим домом доглядывает, егерь местный, круглые сутки здесь живет. Мы с Москвы катаемся, никак не накатаемся, чтоб ей провалиться куда-нибудь совсем!.. У меня папанька-то на ЗИЛе работал, хотя они обое с маманей отсюда, с Острова. Я тут, считай, только и живу, а в Москве чего? Одна беготня и столпотворение. Мы с Витюшкой чуть минута свободная – сразу сюда едем. Мне еще Прохор Петрович покойный говорил, ежели ты, Валюшка, этот участок продашь, миллионершей станешь! И сам ладился купить, только я ни за что продавать не желаю! Пока жива, маманин дом стоять будет! Ну, Федор с той стороны, за тобой который, он из лесничества тоже, и тоже все время тут сидит, хотя иногда до города мотается. Дядь Паша с теть Нюрой и девчонки ихние – местные, а уж за ними москвичи какие-то богатые-знаменитые, мы их тут промеж собой «газпромом» зовем!
– Как? – не понял Плетнев.
– А мать ихняя все время талдычит: у нас в Газпроме, у нас в Газпроме. И то у них в Газпроме, и се! Птичьего молока захочешь, в Газпроме имеется! Ну, блаженные тоже с Москвы…
– Кто такие блаженные?
– А две дуры-то эти, не знаешь? – удивилась Валюшка. – Хотя ты ж только приехал! Ихний участок к лесу самый крайний. Вот они-то, если б продали, так уж точно миллионщицами стали, больно участок здоровенный! Так ведь не продают! И не сажают ничего. Папаша ихний какой-то знатный академик был или директор! Помер давно, лет десять как. От сердечного приступа вроде бы, а может, еще от какой болезни. Все по заграницам скакал, вот и доскакался! Чего там хорошего, в заграницах этих? Только участок они до сих пор не продали, видать, оставил им наследство папаша-то! И не растят ведь ничего, ничегошеньки! Старшая мне говорит: не люблю я, Валюша, когда перед глазами грядки, а люблю я, Валюша, когда перед глазами лес! Лесу им мало, понимаешь ты? Вышла вон за калитку, вот и лес тебе! Я, может, тоже лес люблю, только у меня внуки должны все самое свеженькое есть, прямо с грядочки, вот этими ручками для них специально выращенное! А лес мне зачем?!
– Спасибо вам большое, – поблагодарил Плетнев, вдруг сильно устав от ее трескотни. Да и солнце жарило так, что хотелось чем-то прикрыть голые беззащитные плечи.
– Да тебе спасибо, Лешенька! Я пирог спеку, тебе крикну, со своей стороны подам, а ты через забор примешь!
Алексей Александрович, который никогда никаких пирогов не ел, употреблял пищу исключительно здоровую и правильную, моментально решил, что, если Валюшка станет ему кричать, ни за что не отзовется, и быстро пошел по улице налево. Его дом был с правой стороны.
Мокрые джинсы липли к ногам, и наколотая ступня сильно болела.
Хорошо в деревне летом!..
Впрочем, ничего особенно плохого тоже пока не произошло, и еще ему почему-то очень нравилось, что он починил кран.
Значит, пока на что-то способен?..
Почему на «что-то»?! Он способен на все, недаром сделал блестящую карьеру! Эта карьера своим блеском затмила даже его сорокалетие и…
– Здасти, дядь Леш!..
Мимо промчался загорелый, как негр, мальчишка на велосипеде, и Алексей Александрович узнал – это Любанин сын. Который вчера вечером допрашивал его, Плетнева, с пристрастием.
Плетнев покивал ему вслед, как бы здороваясь, хотя мальчишка давно укатил, и вдруг обнаружил в своей руке три морковки.
Съесть, что ли?..
Или не есть?..
Он выбрал морковку побольше, откусил, захрустел и зажмурился от удовольствия. Сахар, а не морковь!..
Непривычным ногам было больно, наколотой пяткой он, как нарочно, все время наступал на мелкие камушки и в конце концов сошел на травку. В воздухе густо пахло цветами, ни один листок не шевелился, только толстый шмель качался на ветках, перелетал с одной на другую, развлекался так, должно быть.
Плетнев доел одну морковь и принялся за следующую. Что-то есть хочется! Он посмотрел на часы. Ну, конечно!.. Через десять минут ему подадут обед: салат из рукколы с камчатским крабом, протертый суп из спаржи, паровые биточки и крохотную чашку кофе без кофеина.
Плетнев посмотрел сначала на шмеля, а потом на собственные грязные босые ноги.
Никто ничего тебе не подаст. Ты в деревне Остров, сто двадцать километров от Москвы, шестьдесят от Твери, за Владыкиной Горой сразу направо, не путать с деревней Островцы, что за речкой Чилухой, а за Долгими Бородами поворота нет!
Ты сам этого хотел. Правда?..
Суп из спаржи и паровые битки!..
Плетнев выплюнул горький морковный хвост и принялся за последнюю, как вдруг за кустом громко сказали:
– Я тебя предупредила! Не хочешь по-хорошему, значит, будет по-плохому!
Плетнев вздрогнул и воззрился на куст. Ничего не видно, кроме плотных листьев, зарослей буйных цветов и шмеля, который все качался.
Другой голос что-то прогудел в ответ, он не расслышал, и первый, напористый, сердитый, женский продолжал:
– Я тебя в покое не оставлю! А будешь кочевряжиться, посажу на фиг! Ты со мной шутки вздумал шутить?!
Ах, как знал Плетнев эти напористые, сердитые, определенные женские голоса! У него вдруг зашумело в голове, кровь бросилась в лицо, как будто невидимая женщина за кустами разговаривала именно с ним, и он быстро зашагал прочь, стараясь не слушать, но все-таки расслышал еще:
– Кишка у тебя тонка! Ты мне-то не грозись, не грозись! Мужик ты или нет?! Все равно по-моему будет! А ты думай!..
Мужик ты или нет – так спрашивала у него, Плетнева, Оксана, и глаза у нее сверкали. Впрочем, сверкали не только глаза, но и шея. Она любила бриллианты, и на ее шее они лежали широкой полосой всегда, даже на пляже!
Мужик ты или нет, в конце концов?! Ты что, не видишь, что происходит?! Ты, ты во всем виноват!
Плетнев зашвырнул морковку, потерявшую всякий вкус, и почти побежал вдоль дороги, только чтоб не слышать ясный и обвиняющий женский голос, с разгону влетел в какие-то колкие ветки, больно хлестнувшие по лицу, и только тут остановился.
…Что за нервические припадки?! Этот голос в зарослях уж точно не имеет к тебе отношения! Ты заплатил за все, счета закрыты. Никто больше не посмеет так разговаривать с тобой.
Он вытер пот со лба и глубоко вздохнул.
Прошлого нет, кончилось. Правда, настоящее все никак не начнется, а будущего, кажется, и вовсе…
Тут у него перед глазами вдруг что-то мелькнуло, он даже отшатнуться не успел, как будто свистнуло, дернулись ветки, раздался рык, голова треснула надвое со странным арбузным звуком, и Плетнев подумал отчетливо: надо же, а я так и не понял, как именно следует начинать жизнь заново. Наверное, как-то можно было начать, а я не успел.
– …Да не могла я его убить, ну что ты!.. Я совсем легонько палочкой тюкнула!
– Он же не дышит!
– Дышит, дышит, ты просто не слышишь.
– А ты слышишь?! Сто раз я тебе говорила!
– Ну, водичкой, водичкой полей еще!
Раздался плеск, потом какой-то то ли вздох, то ли стон, и в лицо ему полетела вода. Плетнев замотал головой, замычал и сел, не открывая глаз.
– Говорю же, все в порядке! Дай я сама!
Снова плеск, вздох, снова вода, только теперь так много, как будто слон дунул из хобота. Он видел в Индии, как слоны обливаются в жару – очень много воды, водопады, потоки! А может, опять сорвало Валюшкин шланг.
– Сейчас я еще…
– Хватит! – хриплым голосом приказал Плетнев и закашлялся. – Хватит уже!..
– Господи боже мой!..
– А ты говорила, помер!..
Он открыл глаза и в первую секунду ничего не понял.
Во вторую тоже не понял ничего.
Никаких слонов и никакого шланга. На него смотрели два инопланетянина в круглых зеленых шлемах и странных одеждах. У них были плоские белые лица, занавешеные какими-то сетками. Должно быть, инопланетными.
Алексей Александрович застонал и взялся руками за голову. Волосы мокрые, в ушах вода, и вообще ему казалось, что это чья-то чужая голова.
– Как вы себя чувствуете, молодой человек? – заботливо спросил один из инопланетян, и вопрос показался Плетневу странным.
– Прекрасно, спасибо.
– Вы нас извините, пожалуйста, мы не нарочно…
– Нелечка, какое это сейчас имеет значение? Нужно помочь молодому человеку подняться и посмотреть, что у него с головой.
– С головой плохо, – пробормотал Плетнев, пытаясь руками удержать эту самую голову на плечах.
– Ну, ну, не преувеличивайте! На первый взгляд все довольно прилично. Нелечка, давай его возьмем и понесем. Ты за руки, я за ноги.
– Мы не донесем.
– Но ведь бросить его мы не можем!
– Господи, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты…
– Нелечка, какое это сейчас имеет значение! Давай попробуем. Бери его за плечи, а я возьму…
Плетнев понял, что его действительно собираются куда-то нести, отпустил голову, которая моментально отвалилась и покатилась по траве – в глазах замелькали синие, зеленые, разноцветные точки, – кое-как встал на колени и с трудом поднялся, ухватившись за ближайшего инопланетянина.
Тот покачнулся, но Плетнев его удержал. При этом тот еще заглядывал ему в лицо и громко сопел. Плетнев протянул руку и подвинул инопланетянина так, чтобы он сопел в другую сторону.
– Что случилось?.. У меня… инфаркт?
Его французский доктор всегда предупреждал об опасности инфаркта именно в сорокалетнем возрасте. Кажется, недавно Плетневу исполнилось сорок. А доктору сколько исполнилось? Сто сорок?
– Боже избави, что вы такое говорите, какой инфаркт? Нелечка, посчитай ему пульс, или давай я сама посчитаю!
– Мама, отстань ты от него, дай ему в себя прийти.
– У него бред. Он думает, что у него инфаркт.
– Мама, давай попробуем довести его до скамейки и уложить.
– А ты уверена, что ему уже можно ходить?..
Алексей Александрович замычал, пощупал голову, невесть как опять воздвигнувшуюся на плечи, пошел куда-то, только чтоб их не слышать.
Инопланетяне заботливо поддерживали его под руки.
– Давай сюда! Поворачивай его, поворачивай!
– Нет, лучше в тенек, чтоб не напекло.
– Далеко он не дойдет! Поведем туда!
Плетнев, который неожиданно и как-то в одну секунду начал соображать, остановился, стряхнул с себя инопланетян и сказал громким неприятным голосом:
– Так. Я прошу вас оставить меня в покое. Не надо меня никуда вести.
Они испуганно примолкли, он дошагал до какой-то лавочки, плюхнулся на нее, пощупал голову и посмотрел на свои пальцы.
Крови никакой не было, только иголки и еще какая-то дрянь.
…Что со мной могло случиться? Солнечный удар?..
Тут у него перед носом появилась какая-то замотанная тряпка, которая тут же исчезла, зато голове стало холодно и приятно. Он снова пощупал. Один из инопланетян держал ледяную тряпку у него на макушке.
– Мама, ему нужно дать обезболивающее. Сильное!.. Посмотри в аптечке, там есть. И сними ты, ради бога, этот накомарник дурацкий!..
Голове легчало, зеленые и синие искры перестали вспыхивать перед глазами, Плетнев глубоко вздохнул и осторожно посмотрел вверх.
Какая-то встревоженная тетка со странной прической осторожно прижимала тряпку к его голове и наскоро ему улыбнулась.
– Я лед в нее завернула. И вам хорошо бы умыться. У вас на щеке немного крови. Вы, когда падали, за шиповник зацепились. Сможете умыться? Подставляйте руки!
Плетнев покорно сложил ладони ковшиком, и в них откуда-то полилась вода, ледяная, чистая. Он сначала попил – ему вдруг очень захотелось пить, – а потом умылся, и правда полегчало!
– Сейчас мама таблеточку принесет, вы выпейте, и станет совсем хорошо.
Плетнев кивнул.
Тетка шумно вздохнула, приткнулась рядом с ним на лавочку, попила из кувшина, сильно запрокидывая голову, а потом стянула с волос некое сооружение.
Оказывается, это у нее не прическа! Оказывается, это шляпа такая.
– Испугалась я, – пожаловалась она, наклонилась вперед и поплескала из кувшина себе в лицо, потом утерлась. – Как я испугалась!..
Плетнев подумал немного.
– А что со мной случилось?
Тетка искоса посмотрела на него.
– Да это все мама, – сказала она с досадой. – Вечная с ней история!
– Нелечка, вот зачем ты говоришь о маме плохо?! Мама знает, что делает! Ну, подумаешь, немного ошиблась, с кем не бывает, я же не нарочно!.. Вот таблеточка, молодой человек. Сейчас у вас все моментально пройдет. Выпейте, выпейте!..
Плетнев покорно выпил «таблеточку», а вторая тетка, которую первая называла мамой, вдруг принялась изо всех сил махать на него своей диковинной шляпой, чуть не задевая по носу, так что Плетневу приходилось то и дело отшатываться.
– Мама, что ты делаешь?!
– Как что? Вентилирую!
– Перестань. Ну, что ты, ей-богу!
– Ему необходим кислород.
– Отстань от него.
Плетнев нащупал у себя на голове тряпку со льдом, перехватил и передвинул немного. Стало так хорошо, что он даже глаза закрыл.
– Что такое?! Вам опять плохо?!
– Мам, наверное, придется в город ехать. А если у него сотрясение мозга?
– Нет у меня сотрясения мозга, – громко сказал Плетнев, который понятия не имел, есть оно или нет, и открыл глаза. – Объясните мне, что произошло.
– Ах, да ничего особенного, просто маленькое недоразумение, малюсенькое, но достаточно неприятное, чтобы…
– Я хотел бы знать, что случилось. – И он посмотрел на тетку, которая сидела рядом. Ему казалось, что установить с ней контакт будет проще, она хотя бы понимает человеческую речь. Или делает вид, что понимает. – Я упал? Ударился?
Что скажет на это его французский доктор?! Упечет в клинику на полное обследование, включая компьютерную томографию всего!..
– Мы вас ударили, – покаянным голосом сказала тетка и шмыгнула хищным носом. – И вы упали. То есть сначала мы вас ударили, а потом вы упали.
– Вы меня ударили?! – поразился Алексей Александрович.
– Нелечка, зачем ты ему все это рассказываешь? Молодой человек явно плохо себя чувствует, до того ли ему сейчас…
– Мама, угомонись.
Тетка рядом с ним махнула рукой, отгоняя муху. Плетнев смотрел на нее во все глаза.
– Вы… простите нас. – Она отвела взгляд и, кажется, всхлипнула. – Если хотите, мы можем заплатить за ущерб…
– Нелечка, что ты говоришь, девочка, какой еще ущерб, если молодой человек жив и здоров…
– Почему вы меня ударили?! Я что, на вас напал?! Вы защищались?!
– Ох, ну нет, конечно! Мама была в малиннике на той стороне. – Тетка опять махнула рукой. – И так получилось…
– Что получилось?!
– У нас медведи! – объявила вторая или первая торжественно. – У нас пропасть медведей!
– Мама, подожди, дай я…
– Нет уж, я сама, а молодой человек пусть рассудит. Очень, очень много медведей! Три года назад они приходили почти под окна. Я сама не видела, но так сказал Николай Степанович. То есть не Гумилев, конечно, а наш Николай Степанович, егерь. Он утверждает, что медведи очень опасны, они страшные хищники и нужно соблюдать осторожность. Я соблюдаю! И потом, у меня на попечении девочка, вы же понимаете! А я мать! Какая же мать не защитит своего ребенка?! Если она не может защитить, значит, она никудышная мать!
Плетнев взял из рук сидевшей рядом тетки кувшин и немного полил себе на голову.
История о медведях произвела в ней, пожалуй, такие же разрушительные действия, как и удар.
– Так, – сказал он, слизнув с губ вкусную воду. – Значит, вы просто стукнули меня. Чем?
– Палочкой, – жалобно проблеяла тетка.
Плетнев посмотрел на свою соседку, и та хмуро показала на суковатый березовый дрын, валявшийся в траве.
Дрын был сломан, щепки торчали.
– Давайте уточним. Вы увидели в кустах меня, решили, что это медведь, и стукнули по моей голове во-он той… палочкой.
Тетка сокрушенно вздохнула.
– Ну… да.
– Надо было на помощь позвать, а не лупить по голове, мама! – укорила ее вторая.
– Кого же я позову? Мне некого звать! И, понимаете, Нелечка ведь тоже была в этов время на участке! Я же должна ее защитить! Я бы стала кричать, а медведь тем временем напал на нее?! Что тогда? Это очень опасный хищник, мне Николай Степанович, не Гумилев, а наш егерь, такие ужасные истории рассказывал! Вот, например, в прошлом году, как раз когда ягоды пошли…
– Хорошо, что вы сидели в кустах без дробовика, – протянул Плетнев. – Пропал бы я тогда!..
Тут он взялся за голову и захохотал так, что с забора кубарем скатилась сорока, расправила крылья и понеслась прочь, кажется, поминутно оглядываясь.
Хохот отдавался в голове, как будто бильярдные шары разлетались и изнутри били в черепную коробку, но ему было так смешно, что он не мог остановиться.
Еще неделю… нет, три дня назад… нет, еще вчера невозможно было представить, что какая-то сумасшедшая тетка даст ему поленом по голове, приняв за медведя!.. Когда минувшей зимой он, катаясь на лыжах, повредил ногу, об этом сообщили все ведущие телеканалы, а начальник службы безопасности моментально уволил охранника, который был с ним на склоне, за то, что тот допустил чрезвычайное происшествие, практически провалил задание, не обеспечил!..
Обе тетки хохотали вместе с ним, одна басом, а та, что сидела рядом, потоньше. Она даже закрылась руками – так зашлась.
Плетнев хохотал довольно долго, потом перестал и удивленно посмотрел на теток. Он не смеялся так много лет, разве что на разного рода юмористических премьерах, где положено смеяться.
– Спасибо вам большое, – искренне сказал он. – Вы меня повеселили.
– А голова? – тут же спросила та, что сидела рядом. – Полегче?
Он пожал плечами. Это не имело никакого значения.
– Вы все же нас простите, пожалуйста! Я сейчас вам дам таблетку, надо обязательно выпить на ночь, а по-хорошему, конечно, к врачу сходить. Вы когда в город собираетесь?
Почему-то Плетнев не смог сообразить, когда именно он собирается в город, и сказал противоположное:
– Я только вчера приехал.
– Так вы наш сосед! – возликовала старшая. – Вы, должно быть, сейчас занимаете дом покойного Прохора Петровича! Я так и знала! Нелечка, он наш сосед!
– Я поняла, мама.
– Может быть, хотите квасу? У нас очень вкусный квас! Ледяной, совершенно ледяной! У нас, знаете ли, такой погреб, что даже в самую жару…
– Вы к нам зачем-то шли? – Это младшая спросила, и Плетнев взглянул на нее. – Мы вас оглушили, но ведь вы как-то оказались у нас в малиннике!
– Я просто гулял.
– Босиком и в мокрых брюках?
– Нелечка, не приставай к молодому человеку. Он сейчас не в состоянии отвечать на твои…
Плетнев встал. В глазах потемнело, но он справился с собой. Похоже, младшая заметила, что ему нехорошо.
– Хотите, я отвезу вас в Тверь?
– Зачем?
– В больницу.
Алексей Александрович усмехнулся.
Что скажет его французский доктор, если он сообщит, что находится в травмопункте в Твери? А служба безопасности? А приятель Павлик? А Марина?.. И еще Оксана!
Настроение у него вдруг испортилось, как будто задернули пыльный занавес и все, что было за ним – весело освещенная сцена с нарисованным пейзажем и речкой, – оказалось просто декорацией.
Никаких чудес.
– Мне нужно идти.
– Я вас провожу.
Плетневу было все равно, проводит его одна из теток или нет, и спорить не хотелось.
– Нелечка, непременно дай ему с собой обезболивающего!
– Я помню, мама.
– И еще раз извините меня, молодой… Простите, как вас зовут?
– Алексей, – он хотел добавить «Александрович», но сказал: – Плетнев.
– Очень, очень приятно. Я Нателла Георгиевна! А это моя дочка Нелечка!
– Я уже понял.
– Неля, надень панаму, там такой солнцепек!..
– Мама.
– Приходите к нам на обед! Мы вас позовем, непременно позовем!.. А когда вы собираетесь в город?..
– Мама.
Плетнев решительно не знал, куда идти, и младшая из теток пошла впереди, показывая дорогу. Участок был такой просторный, что ни дома, ни забора он не видел.
Какое-то время они шли между деревьями по желтой дорожке, потом тетка остановилась, пошарила рукой, распахнула калитку и пропустила его.
Впереди была короткая тенистая аллейка, а за ней деревенская улица, белая пыльная дорога, солнцепек.
– Простите нас, – хмуро сказала тетка. – Ради бога, простите!.. Я вас просто умоляю. Мама… бдительная очень. И всего боится. Особенно змей и медведей. Я маленькая все лето ходила в резиновых сапогах, представляете? Чтобы меня случайно не укусила гадюка!
Плетнев молчал.
– Ей Николай Степанович голову заморочил! Он же егерь, все про зверье знает. А здесь, правда, года три назад было много медведей. Нас специально предупреждали, чтоб в лесу шумели сильно, когда за ягодами идем. Они шума не любят. И людей не боятся! А охотиться нельзя, заказник здесь…
Плетнев вышел на солнцепек, прищурился и посмотрел вдоль совершенно пустой улицы.
– Ну, правда, простите! Мы не хотели! Мама не хотела, ей-богу! Ей плохо стало, когда она увидела, что вас ударила, на самом деле!.. Простите?..
– Для чего вам мое прощение? – вдруг спросил Плетнев, остановился и посмотрел ей в лицо. – Вы знаете ответ на этот вопрос?
Тетка моргнула.
– Я не стану подавать на вас в суд, и мне не нужна компенсация ущерба. Вы это уже поняли. Прощение мое вам зачем?
Она как-то странно пожала одним плечом.
– Вот именно, – сказал Плетнев, обошел ее, но остановился. – Оно вам не требуется. Вам нет до меня дела, и мне нет дела до вас и вашей мамы, кого она там боится!.. Мы с вами больше и не увидимся никогда! Зачем вы умоляете меня о прощении?.. К чему вам оно?..
Он дошел до колючего куста с пышными белыми цветами, где давеча гудел шмель, и все же обернулся.
Никого не было на пыльной белой дороге, ни единой живой души.
– Лапочка ты моя, – закричал на него Николай Степанович не Гумилев, а егерь, когда он заходил в свою калитку. – Где это ты извозился так, язви твою душу!.. Дверь-то все захлобучена, я думал, ты на велосипеде укатил! Ты через терраску, что ль, вышел?
Плетнев прикрыл за собой калитку и накинул крючок.
– Я тебе там огурчиков приволок, с грядки прямо! На терраске поставил! И морковки! Сахар чистый, а не морковь! Ты погрызи! Слышь?..
– Спасибо, – себе под нос пробормотал Плетнев.
Ему вдруг стало стыдно, что он говорил чужой тетке на дороге какие-то глупые слова о прощении.
– И на рыбаловку если наладишься, у меня прежде спроси! Я тебе место укажу! Да у нас и не везде ловить можно, я за этим доглядываю!.. А лучше погоди до завтрева, зять мой Виталя приедет, так с ним вместе сходишь!
– Хорошо, – сквозь зубы пообещал Плетнев.
До вечера он просидел в качалке, лелея головную боль, которая разгоралась с каждым часом. Потом зной вдруг начал быстро спадать, налетел ветер, тревожный и резкий, и стал сильно в одну сторону нагибать яблони и рябины, странно оголяя стволы и ветки. С качалки унесло покрывало. Плетнев догнал его почти у самого забора и приволок обратно, нагибаясь и преодолевая ветер. Стремительно и угрожающе потемнело, зашумело, и из полей надвинулся проливной отвесный белый дождь.
Он разом ударил по железной крыше, из водостоков полило, и в момент образовались лужи на плитке и в траве. Некоторое время Плетнев удивленно смотрел на дождь, как будто впервые его видел, потом ушел в дом.
Делать было совершенно нечего, он послонялся немного и завалился спать, ни на что не надеясь. Один раз этот номер со сном еще мог пройти, но не каждый же раз так везет!..
Он проспал до утра и проснулся от солнца, ломившегося к нему в комнату.
Плетнев встал в прекрасном настроении, несмотря на то что голова не поворачивалась и странно сидела на плечах. Ему вдруг страшно захотелось есть, и он вспомнил, что вчера съел всего три морковки с грядки соседки Валюшки!..
Он долго и с удовольствием завтракал на террасе, а потом ему показалось, что по участку кто-то ходит.
Должно быть, Николай Степанович – язви его душу – приволок карасей. Или парного молока.
С недопитой чашкой кофе в руке Плетнев сбежал с заднего крыльца, обошел дом и нос к носу столкнулся с человеком в форме, ходившим возле его машины.
От этого человека Плетнев узнал, что егерь нынешней ночью был убит ударом по голове.
– Вы ничего не слыхали? – спросил человек. – Подозрительного, к примеру?
– Мне нужно позвонить, – сказал Плетнев растерянно.
– Всем нужно! – воскликнул форменный почти весело. – Да как звонить-то, когда связи нет!..
Алексей Александрович собирался уехать в тот же день, и черт с ним, с воскресеньем, уж как-нибудь в пробках перестрадает, но не получилось. Человек в форме – как выяснилось, участковый – явился снова и попросил дождаться опергруппу.
Он так и выразился – опергруппа, и Плетнев какое-то время соображал, что это за группа такая. Детективов он никогда не читал, телевизор не смотрел, об убийствах представление имел самое смутное.
Возле дома Николая Степановича толпился народ, люди входили, выходили, громко переговаривались, и улица, еще совсем недавно тихая, разморенная солнцем и жарой, была полна тревожных голосов. От этих голосов, от разноцветной толпы, в которой, разинув рты, стояли ребята с велосипедами, всхлипывающие тетки в сарафанах и панамах и мужики в шортах и кепках, Плетнев ушел на террасу и сидел до тех пор, пока не явился пожилой отдувающийся дядька в мокрой на спине рубахе. Обмахиваясь привядшим лопухом, он поднялся по ступенькам, спросил квасу и страшно удивился, когда выяснилось, что никакого кваса нету.
Старательно и совершенно равнодушно он, сверяясь по паспорту, записал «данные» Плетнева, спросил, где тот был минувшей ночью, и так же старательно и равнодушно записал, что Алексей Александрович был на диване в своей комнате на втором этаже.
Не слыхал ли он чего-нибудь подозрительного?.. Нет, не слыхал. Может, машина подъезжала? Может, и подъезжала, но Алексей Александрович в это время спал и никакого шума не слышал. А хорошо был знаком с убитым? Да нет, почти не знаком. В первый раз увиделись три года назад при покупке вот этого самого дома, а второй позавчера вечером, когда он, Плетнев, приехал отдохнуть.
Впрочем, все три года он ежемесячно Николаю Степановичу пересылал некоторые суммы, очень скромные, – вознаграждение за то, что егерь «присматривает за домом».
Эти «суммы», как и сам Плетнев, дядьку нисколько не интересовали, ему хотелось как можно скорее закончить скучную и ненужную процедуру, а когда Алексей Александрович, поколебавшись, все же спросил, за что могли убить такого безобидного человека, махнул рукой и встал, собирая бумажки:
– Да хоть за что! За кабана, к примеру. Он браконьеров этих на дух не переносил и гонял страшно. Он же… шумливый мужик такой, да и не боялся ничего. Тут же заказник, у егерей власть особая. Кто без лицензии набегает, егерь вполне может и срок впаять, если поймает, конечно! А то, бывает, большие люди наезжают, ну, развлечься. В баньку там, ушицы наварить, поддать как следует, ну и пострелять, конечно. А как у них лицензии проверять, если они на самом деле большие?! И из Твери, и из Москвы, само собой! С соседом Степаныч не ладил опять же! Вроде егерь у него по осени собаку застрелил, а сосед собачник знатный, и зверюга была дорогих кровей. Так они тогда сцепились, еле растащили их! Опять же квасил он вчера с кем-то крепко! А с кем он мог квасить, когда зять только сегодня приехал и его на автобусной остановке все видели? Со своими только, а соседи все по участкам сидели, и жены ихние это подтверждают, да и лило как из ведра! А посторонние машины через посты не заезжали, у них там муха не пролетит! Да и питье какое-то странное – целый литр вискаря!.. Это сколько ж за него денег пришлось отвалить?!
Плетнев сказал, что виски его. Он по приезде угостил егеря. Дядька как будто удивился, глянул на Плетнева оценивающе и ушел, предупредив, что «могут вызвать».
Уходя, он, должно быть, позабыл закрыть калитку, потому что вскоре Алексей Александрович, задумчиво качавшийся в качалке, обнаружил в кусте лилий и роз козу, которая будто бы ухмылялась – морда была скособочена на одну сторону, изо рта торчал букет, который она смачно жевала.
– Пошла вон, – сказал Плетнев козе не слишком уверенно. Та продолжала жевать. – Пошла вон, кому говорю!
Коза, не обращая на него внимания, сунулась в куст и вынырнула с новым букетом в пасти.
Плетнев понятия не имел, как следует обращаться с козами, он даже побаивался немного, все же у нее рога, и внушительные, и снова закричал на козу и замахал руками, и тут его – и клумбу! – спасла Валюшка, прибежавшая с улицы на шум.
Она очень ловко, пинками, выгнала козу, утираясь крепкой загорелой рукой, немного поплакала перед Плетневым, повторяя, что «такого смертоубийства тут сроду не бывало, а до чего хороший был человек-то, до чего хороший!», и убралась за ворота стоять в толпе перед домом егеря, рыдать и на все лады повторять все то же самое, про смертоубийство и хорошего человека.
Эту ночь Плетнев не спал и уехал очень рано, часов в шесть. Он старательно запер обе двери – ту, что на террасу, на щеколду, а ту, что на крылечко, на замок, – и долго не мог понять, что делать с тяжелой связкой длинных заржавленных ключей на красной капроновой перекрученной ленте.
Отдать их было некому – егерь Николай Степанович, всю жизнь присматривавший за домом, никак не мог принять у него ключи!
Плетнев сунул связку в «бардачок» своей немыслимой машины, чувствуя вину и перед домом, и перед егерем, замотал цепью ворота и уехал, уверенный, что не вернется никогда.
Он вернулся через три дня.
В Москве ему было решительно нечего делать, никто не мог знать, что он «в городе», а звонить и оповещать он никого не стал.
В просторных, свежих и очень удобных комнатах его квартиры, глядевших окнами на Кремль, в прохладе кондиционированного воздуха, в привычном и продуманном уюте он не находил себе места. Этот мир – его прежней бодрой жизни, деловых и карьерных интересов, умных и нужных людей, стройных мыслей, четких расписаний на много дней вперед – перестал существовать, а никакого другого у него не было.
Миры не создаются в одночасье. Прошло слишком мало времени с тех пор, как не стало прежнего, откуда же взяться новому?..
Можно попробовать жить по-старому, но для этого нужно приложить слишком много усилий – звонить секретарше, заказывать самолет в Монте-Карло или Ниццу, собирать чемодан, лететь, а там, куда прилетишь, разбирать чемодан, находить знакомых, «вливаться» в круг их интересов и формировать свой – чтобы на их гостеприимство и любезности отвечать собственным гостеприимством и любезностями, все по правилам.
Или «погружаться» в прежний график светских мероприятий, до которых он и в прошлой жизни был не слишком большой охотник, а для этого опять звонить секретарше, чтобы она везла приглашения, коих по летнему времени не могло быть слишком много – все приличные люди разъехались по своим виллам в Сен-Тропе или Кап-Ферре, да и нет ничего скучнее на свете, чем летние светские мероприятия!
Немногочисленные оставшиеся в Москве «свои» до смерти надоели друг другу, мечтают поскорее отбыть хоть куда-нибудь, лишь бы подальше отсюда, раз от разу забывая, что там, куда они уедут, будет все то же самое – те же московские знакомые, те же льняные платья и греческие сандалии у дам, те же льняные костюмы у мужчин, тот же апельсиновый спритц, те же надушенные собачки, тот же флирт, намеки, сплетни, непременно чей-нибудь громкий и неожиданный развод – почему-то громкие и неожиданные разводы непременно случаются на летних морских курортах!..
От одной мысли, что все это сейчас придется проделывать, ему становилось нехорошо. Проделывать сразу же, начиная с той секунды, как он позвонит секретарше и объявит, что «летит», и уж обязательно кто-нибудь доложит Оксане и Марине, и они обе явятся, где бы он ни находился, потому что «точки еще не поставлены», как объясняла ему Оксана, и при этом бриллиантовые реки стекали у нее по шее прямо в декольте, и все объяснения еще впереди.
Потрудитесь дать, голубчик!
Пожалуй, только в деревню Остров ни одна, ни другая явиться не могут по определению – уж такое это особое место.
Побыв дома два дня, Плетнев с изумлением констатировал, что деваться ему, в общем, некуда. Никакой свободы выбора у него нет – а может, и не было никогда?..
И почему-то смутно представился ему серый и влажный осенний день, гул подходящей электрички, толпа на загородном перроне, нейлоновая куртешка с «молнией», которую вечно заедало, и мать носила ее в магазин «менять», да так и не поменяла, веселые лица, хохот и обрывки разговоров, резиновые сапоги, которые уже в Москве на Сухаревке натерли ему пятку так, что ступить было больно. Мать говорила, что у него «не ноги, а одно горе», он и вправду то и дело стирал их до кровавых мозолей. Нищее серо-желтое поле, упиравшееся в горизонт, куча мешков и ящиков, возле которых студенты навалили свои рюкзаки и телогрейки, баба в теплом платке, сказавшая язвительно, что «картошку копать – это тебе не книжку читать, понимание нужно!». И девчонка из третьей группы, попавшая к нему «в пару», они все работали «парами» – один копает, другой собирает, – которая, весело блестя глазами, объявила, что они непременно должны вон тех дураков обогнать и он, Плетнев, за это отвечает.
Девчонка то и дело перекликалась с теми двумя «дураками», на Плетнева не обращала никакого внимания, и потом, вернувшись в институт, он исподтишка наблюдал за ней, все мечтал поближе познакомиться, но очень быстро она выскочила замуж за одного из тех двоих, которых непременно нужно было опередить на картошке!
Может, это и была свобода, только он тогда ее не узнал?
Два дня Плетнев просидел в квартире почти безвылазно, лишь съездил в магазин. И повар, и домработница были отпущены, вернутся не скоро, а есть хотелось уже сейчас. Еда показалась ему невкусной, как будто он по ошибке купил муляжи из папье-маше. Вроде все похоже на настоящее, и даже краше настоящего, но вкуса никакого не имеет.
В середине своей третьей московской ночи Плетнев встал, потому что лежать надоело, включил было телевизор, но сразу выключил – показывали какой-то замшелый американский фильм, выдавая его за новый, и перевод был ужасным, слушать тошно. Лучше бы не переводили.
Он походил по комнатам, закинув на шею руки, потом поприседал немного – просто так – и опять стал ходить.
…Ну, что ты ходишь? Если ты ходишь потому, что жизнь твоя не удалась и богатые тоже плачут, так это вранье. В четыре утра врать самому себе нельзя, и не ври.
Если ты ходишь потому, что устал от всего на свете, а главным образом от самого себя, так придумай, как отдохнуть, соберись с мыслями и начинай все заново.
Да, но как можно отдохнуть от самого себя? Куда деть себя на время этого самого отдыха? Погрузиться в летаргию, в анабиоз, в наркоз? Тогда, во времена студенческо-картошечной свободы, он очень любил фантастические романы, и там время от времени все погружались в анабиоз.
Если ты ходишь потому, что тебе сорок лет и все дела поделаны, а те, что впереди, не вызывают ничего, кроме отвращения, скуки и усталости – уже заранее усталости, – то это тоже вранье, ведь «кризис среднего возраста» бывает у всех и всегда, и твой французский доктор предупреждал тебя об этом еще три года назад. Перенапряжение нервной системы, месье Плетнев, говорил доктор наставительно, обязательно проявит себя, и нам с вами придется иметь дело с последствиями, каковы бы они ни были. Вам надо научиться переключаться, месье Плетнев. Это очень важно.
Егерь Николай Степанович наверняка не страдал никаким перенапряжением нервной системы, а если и страдал, то ничего об этом не знал, у него же не было французского доктора, который предупредил бы его. У него была машина «Волга» с вечно раззявленным багажником, в который егерь то и дело нырял и деловито громыхал чем-то, стремянка, прислоненная к забору, с привешенным ведром, из которого торчала малярная кисть, несколько гряд с чесноком и укропом – Плетнев видел все это, когда прогуливался по сонной и жаркой деревенской улице.
И кто-то просто так взял и убил его.
«Из-за кабана», как выразился тот дядька в потной рубахе. Записывая за Плетневым, дядька аккуратно положил привядший лопух, которым обмахивался, на стол, а уходя, забрал его с собой – лопух был ему еще нужен, жарко ведь!..
Плетнев вдруг стал думать именно в эту сторону – про егеря, убийство и деревню Остров, потому что думать об этом было проще и интересней, чем о том, что делать с самим собой и собственной жизнью.
С кем мог Николай Степанович среди ночи пить виски, если все соседи сидели по своим участкам? Что за разговор Плетнев случайно подслушал в кустах? Кто и с кем разговаривал и, главное, о чем? Там были какие-то окончательные слова, в которых содержался приговор: ты за все заплатишь, я этого так не оставлю!.. А может, ему, Плетневу, везде и всюду слышится приговор?
Как егерь мог застрелить чужую собаку? Он же не полоумная бабка в костюме инопланетянина и перепутать собаку, скажем, с медведем, волком или кенгуру уж точно не мог!
Между прочим, Плетнев был совершенно уверен, что старикашка, выпросив у него «гостинец», нынче же вечером его и прикончит под луковицу и краюху черного хлеба с солью, а тот вытерпел аж целые сутки! Значит, на самом деле ждал кого-то в гости, и это был гость, с которым стоило поделиться таким деликатным и дорогим напитком, как виски!
Или не ждал, а просто так случайно получилось?
Что Николай Степанович – язви его душу – имел в виду, когда говорил уверенно, что фигуристая девушка Женька, собиравшаяся в Твери поступить в модели, все время врет?
Что имела в виду сама Женька, когда говорила, что Любаня таскает вещи из домов, где убирает, а «блаженные» на самом деле ведьмы и варят зелье? Какое зелье они могут варить? Самогон?
На самогонщиц две старухи, ударившие его по голове поленом – тут Плетнев потрогал шишку и с удовольствием засмеялся в тишине и темноте своей квартиры, выходящей окнами на Кремль, – были не похожи.
А егеря-то убили как раз ударом по голове…
В эту секунду зазвонил телефон, и трели его на все лады отозвались и на кухне, и в кабинете, и на площадке второго этажа, куда вела дубовая лестница «с поворотом», вывезенная им из Англии из самого настоящего дворца. Плетнев ни за что не стал бы подходить – он никогда сам не брал трубку, – да и не мог никто звонить в четыре утра в его городскую квартиру!.. Но он думал о Николае Степановиче, и в голове у него была каша, сваренная наполовину из деревенского детектива, наполовину из Сен-Тропе и мыслей о грядущем, поэтому он взял трубку и сказал рассеянно:
– Плетнев, слушаю вас.
В трубке помолчали, а потом протянули удовлетворенно:
– Так ты дома, голубчик! Марина, зайка, он дома! Господи, как скучно быть умнее всех.
В голове моментально набухло и отозвалось, как будто старухи-ведьмы ударили его еще раз, посильнее прежнего.
…Я до смерти боюсь медведей и гадюк, просто ужасно!..
– Я знала, что никуда ты не уехал, милый мой! Я так и сказала Маришке! Но раз уж ты решил от нас прятаться, зачем ты трубку взял, а?..
– Случайно. – От ее голоса, тона, такого определенного, такого знакомого, всегдашнего, его как будто парализовало.
– Значит, так. Во-первых, не вздумай бросить трубку. Во-вторых, чего бы ты там ни выделывал, тебе придется, слышишь, придется встретиться и поговорить. Я этого так не оставлю.
Плетнев молчал, и она осведомилась, слышит ли он ее.
– Оксана, послушайте, – начал парализованный Плетнев. – Вы же… взрослый человек. Зачем вы устраиваете… балаган? О чем мы станем разговаривать с вами?
– Не со мной, – быстро сказала плетневская теща. – Со мной тебе разговаривать действительно не о чем. Но ты просто обязан поговорить с Маринкой! Она твоя жена, и она страдает.
Это тоже было сказано совершенно определенным тоном, как будто она обедает.
– Я ничем не могу ей помочь.
– Алексей, это глупости.
– Оксана, я правда не понимаю, чего вы от меня хотите.
– Ты должен простить Марину.
Плетнев с размаху сел на диван. Роскошный меховой плед дрогнул, не удержался и съехал со спинки, Плетнев выдрал его из-под себя и швырнул на пол.
– Зачем ей мое прощение? Вы знаете ответ на этот вопрос?
– Как зачем? – удивилась теща. – Разумеется, чтобы начать все сначала.
Плетнев поддал плед ногой.
– Я не стану ничего начинать, Оксана. Кажется, мы с вами это уже обсуждали. Никакого начала не будет. Финал состоялся.
– Тебе только так кажется, дорогой мой! Тебе придется встретиться, или я подключу…
Тут Плетнев вдруг засмеялся.
– Насчет подключения вы подумайте хорошенько, Оксана Степановна! Ко мне на самом деле трудно применить санкции… в смысле подключения.
– Это мы еще посмотрим. В конце концов, есть же телевидение, журналы, Интернет. Я не хотела, но если ты упираешься… Репутацию испортить ничего не стоит, восстановить ее невозможно, это ты знаешь лучше меня. А то, что ты бросил, нагло, скотски, беременную жену, да еще безо всякого объяснения причин, разрушит какую угодно репутацию. Ты подумай.
Плетнев кивнул, как будто она могла его видеть.
– И вот что, – решительно продолжала теща. – Мы сейчас к тебе выезжаем. И не вздумай удрать! Я-то всегда знала, что ты трус, но Маринке это демонстрировать совершенно необязательно. Она и так вся извелась, в ее-то положении! Ты нас дождешься, и мы поговорим. Все, я собираюсь.
Плетнев аккуратно пристроил трубку обратно в гнездо, откинулся так, что голова коснулась спинки дивана, потерся макушкой и некоторое время смотрел в потолок.
Потолок был очень красивый. Люстра была очень красивой. Вся обстановка его дома была очень красивой.
Потом он встал, поднял меховой невесомый плед и стал застилать диван. Плед все время съезжал, и застелить никак не удавалось.
Тогда Плетнев, дернув, разорвал плед пополам, швырнул куски по обе стороны дивана и стал собираться.
Он трус, права Оксана. Трус всегда первым удирает с тонущего корабля.
Впрочем, корабль давно утонул, конница разбита, армия бежит.
В очереди на КПП, несмотря на ранний час, оказалось несколько машин и мопедов, а молодой и внимательный солдатик у шлагбаума проверял документы уж очень дотошно, и Плетнев понял, что это все надолго.
Нужно было поворачивать через лес и Владыкину Гору, как в тот раз, там никто не ездит и очереди нет, подумал Плетнев и развеселился. Он уже, считай, местный житель, все пути-дороги ему известны!
В машине он думал о том, как в его пустой московской квартире Оксана втолковывает дочери, что «так и знала, ничего другого от него не ждала», и было ему от этих мыслей тошно до невозможности.
Всякие штуки вроде того, что он ни в чем не виноват, не помогали, впрочем, они никогда не помогали.
Я струсил. Я струсил тогда, давно, и эта трусость породила следующую, и следующую, и мне теперь придется жить, зная, что я трус!.. И в этом ничего нельзя изменить, как нельзя отменить ту первую трусость, за которой последовали все остальные.
Очередь продвинулась на одну машину и опять замерла.
Плетнев вытащил себя из автомобильного кресла – на этот раз оно почему-то стало заваливаться вправо, и приходилось все время балансировать, чтобы не упираться коленкой в рычаг переключения передач.
Слава богу, теперь уж немного осталось.
Он постоял возле машины, потянулся и огляделся. Кругом был лес, уже почти настоящий. Самый настоящий начнется за шлагбаумом. Плетнев перепрыгнул небольшой ров, заросший репейником, незабудками и еще какими-то цветами, желтыми и фиолетовыми. Тут росли березы, которые стояли просторно, как в парке, а под ними мох и кусты черники с маленькими темно-зелеными глянцевыми листочками очень правильной формы. Мама когда-то приносила ему из леса именно кустик с ягодками, чтобы он его объел.
Он рос болезненным ребенком, и в лес его не брали, у него там делалась то ли астма, то ли удушье, и этими веточками мама его развлекала. Это считалось приветом из другой, настоящей жизни, которая была ему недоступна.
Плетнев нагнулся, стал по одной обрывать черные крупные ягоды и класть в рот. Это называлось «пастись».
Пойди попасись, говорили мать, и он шел объедать малину или крыжовник. Он мог только «пастись», собирать не умел – вечно накалывался на иголки, и пальцы потом нарывали так, что приходилось обращаться к хирургу, или обжигался крапивой, и у него начиналась аллергия, или…
– Значит, слушай меня, зараза! – громко и отчетливо сказали за кустами, и на тропинке показался здоровенный угрюмый мужик, одной рукой кативший мотоцикл легко, как будто это был детский велосипедик. Другой он прижимал к уху телефон. – Я твоих дел не знаю, но только если ты еще раз посмеешь подойти, я тебе шею сверну! Вот это я тебе с полной серьезностью обещаю, а слово у меня кремень. Степаныча-то кто? Раз, и нет его! Всего и делов! Так что помни слова мои!
Мужик сунул телефон в карман, коротко и злобно выматерился и уперся взглядом в растерянного Плетнева, стоявшего в двух шагах.
– Здрасти, – пробормотал мужик и прокатил мимо свой мотоцикл.
Плетнев кивнул ему вслед, перепрыгнул канаву и вернулся в машину – сзади уже сигналили.
– Ты чего, за грибами наладился?! Пост бы сначала проехал, а потом!.. Ой, Леша, здорово!.. А мы думаем – куда ты девался? Сбежал от всех наших происшествий!
Плетнев оглянулся.
Соседка Валюшка махала ему рукой и улыбалась радостно, как лучшему другу.
– Проезжай, проезжай, Леша, не задерживай народ, видишь, сколько нас тут!..
Плетнев пожал плечами, раздумывая над тем, что сейчас услышал, подъехал к шлагбауму, показал солдатику паспорт и права – тот прочитал, шевеля губами от усердия, – потом обошел машину и посмотрел номера.
– Проезжайте! – махнул рукой. Лоб у него влажно блестел, становилось жарко, хотя день только начинался.
Плетнев проехал пятьдесят метров, притормозил у обочины, вылез из машины и дождался, когда подкатит Валюшка.
– Леш, в сам деле, что ль, за грибами?! – Она покрутила головой, как бы удивляясь дурости городских жителей. – Чего ты тута встал-то?! Да, знакомься, это Витюшка, муж мой! А это Леша, сосед наш, который в доме покойного Прохора Петровича…
– Да что ты все стрекочешь, стрекоза? – весело спросил лысый и загорелый Витюшка, перегибаясь через супругу и в окно просовывая руку. Плетнев тоже просунул свою и пожал его.
Надо же. Какие у них у всех крепкие, жилистые загорелые руки. У всех до одного, и у женщин, и у мужчин. И рукопожатие… приятное.
В том кругу, где вращался Плетнев, принято было пожимать пальцы, да и то едва-едва, как будто чуть насмешливо отдавая дань дурацкой, но устойчивой традиции.
– А мы, глянь, в Тверь за трубами ездили! – сообщил Витюшка. Он был абсолютно уверен, что Плетневу интересно знать, куда и зачем он ездил, и сообщение о трубах его обрадует. – Давно собирались, вот собрались насилу! Тоже хочу насос наладить, как у Прохора покойного, ну, стало быть, теперь у тебя, а только в этом году…
– Да если б не я, ты всю жизнь прособирался бы! Уж лето щас закончится, а ты все только собираешься!
– Ну, куда мне без твоих советов! Ты ж у нас как есть американский советник!..
– А вон тот мужик на мотоцикле – видите? – Плетнев оперся руками о крышу Витюшкиной машины и показал глазами за шлагбаум. Супруги разом обернулись и посмотрели, чуть не столкнувшись носами.
– Федя-то? – переспросил Витюшка и удивленно взглянул вверх на Плетнева. – А чего он?
– А кто такой… Федя?..
– Ну, наш, с Острова! Федя Еременко, который собачник-то! На нашей улице живет, подале от тебя. А чего он тебе?..
– У которого Николай Степанович собаку убил?
Витюшка промолчал, а Валюшка выпалила, что говорят, мол, всякое, может, и убил, только они с Витюшкой сами не видали, а чего не видали, того врать не станут.
– А чего тебе Федя-то?!
– Да мотоцикл хочу попросить, – брякнул Плетнев первое, что пришло в голову.
– Не даст! – уверенно сказала Валюшка. – Он на нем только в сортир не ездиет, а может, и туда тоже!
И оба супруга захохотали.
– Да поехали, поехали, мужики! На самом солнцепеке встали! А ты, Леша, завтракать приходи! Я щас быстренько картошечки нажарю, сарделечек отварю, вон, в Твери купила, дорогих, хороших! Ты ж с дороги!
Плетнев подумал, что жареной картошки с сардельками на завтрак он не ел никогда и его французский доктор пришел бы в неистовство, если б узнал о таком его рационе.
…Какие-то тайны. Этот Федор угрожал кому-то… всерьез. Плетнев знал, что истинный, настоящий гнев отличается от пустозвонства! Дело не в словах. Дело в том, как именно произносят эти самые слова, а говорились они со спокойным, холодным, сдержанным бешенством.
Такое бешенство очень опасно.
И Николай Степанович был помянут. При чем здесь Николай Степанович?..
Он заехал в свои ворота, привычно размотав цепь, замкнутую на замок, который не закрывался. Странно было, что никто не окликает его с той стороны улицы, не называет «лапочка моя» и не предлагает огурцов и простокваши. Всего только один раз так и было, а он, Плетнев, как будто уже… привык.
Впрочем, ворота на участок егеря были распахнуты, и старая «Волга» стояла с раззявленным багажником, и кто-то там ходил за штакетником – должно быть, наследники уже объявились.
Плетнев вошел в большую душную комнату с обшарпанным столом, встретился глазами с собственным странным отражением в зеркале и улыбнулся ему, как старому знакомому. То, что там отражалось, никак не могло быть Плетневым, но он все равно был рад его видеть.
Он распахнул все окна и перетаскал из багажника сумки, так и не вынимавшиеся оттуда с первого приезда. На улице застрекотал и смолк мотор, и Плетнев, сам не зная зачем, быстро подошел к окну и встал так, чтобы снаружи его не было видно.
Какая-то женщина, совсем незнакомая, соскочила с велосипеда, помедлила и подошла к мотоциклу, на котором восседал давешний мужик Федор. Шлем болтался на руле.
– Выходит, это правда? – строго и громко спросила женщина у Федора, и он как будто подался от нее назад.
– Чего правда?
– Ты… Степаныча?..
– С чего ты взяла, Люб?!
– Люди говорят, вот с чего.
– Мало ли чего они говорят.
– Да я своими ушами слышала, как той зимой ты его пристрелить грозился!
Федор сдернул шлем и взвесил в руке. Плетневу показалось, что он сейчас ударит им женщину.
…А если ударит, что тогда? Бежать? Кричать? Вступать в бой? Я не способен на такой поступок. Я трус и знаю об этом. Моя трусость уже погубила…
– Мало ли чего той зимой было, – сказал Федор совершенно спокойно и снова пристроил шлем на руль, только с другой стороны. – А ты больше всяких брехунов слушай.
– Не все люди брешут, Федя.
– Те, которые тебе в уши дуют, брешут! Ты б лучше подумала, чего я тебе сказал.
– Не стану я ни о чем думать, Федя! Степаныча только схоронили, а ты!.. И как это тебя в тюрьму не забрали, ума я не приложу… Вся деревня слышала, как вы тогда лаялись!
– Да что ты выдумала, Люба?!
Тут, к изумлению Плетнева, который как будто кино смотрел, женщина вдруг заплакала, всерьез, навзрыд, и Федор подался к ней, но тут издалека закричали:
– Мам, стой! Мама! – И подлетел на велосипеде мальчишка, тот самый, с которым Плетнев беседовал в первый свой приезд. Значит, женщина, должно быть, Любаня, которая убирала в доме покойного Прохора Петровича, то есть в его, плетневском, доме, и ленилась мыть на втором этаже!
Она быстро и аккуратно вытерла глаза.
– Мам, ты куда? Здрасть, дядь Федь! Мам, ты что, плакала?
– Нет, сынок, ну что ты! В глаз попало чего-то.
– А ты в магазин, что ли?
– Я на работу, Игорек.
– Мам, а в магазин когда? У нас мороженого нету!
– Каждый день мороженое есть вредно.
– Полезно.
– У меня денег нет каждый божий день мороженое покупать!
Федор полез за пазуху брезентовой куртки, и женщина, увидев это его движение, крикнула сыну:
– Не смей у него ничего брать! Я тебе сколько раз говорила, чтоб не смел!
– Да я и не беру…
– Он не берет, – в один голос сказали Федор с мальчишкой, как показалось Плетневу, растерянно и огорченно.
– А ты не смей давать! И не лезь к нему, – приказала напоследок Любаня неизвестно кому, то ли мужику, то ли сыну, взобралась на велосипед и нажала на педаль. Колесо вильнуло так, что Плетнев решил, будто Люба сейчас упадет, но она выровнялась и покатила по пустынной улице.
Федор посмотрел на мальчишку, а мальчишка на него.
– Не возьмешь теперь? – привычно спросил Федор, как будто спрашивал так сто раз.
– Не-а, – мальчишка помотал головой. – Я бы взял, да сердится она.
– Сам вижу. Ну, бывай.
– Бывай, дядь Федь.
Паренек уже отъехал на приличное расстояние и даже прозвенел в звонок, когда Федор вдруг закричал:
– Стой, стой!
– Чего?!
– А чего, в этот дом жилец опять приехал? – И кивнул на Плетнева, прятавшегося за шторой. – Машина-то стоит!
– Стало быть, приехал, – издалека прокричал обстоятельный мальчишка. – Я сам не видел! Я только в тот раз видел!
– Ну, значит, мы поглядим, – под нос себе пробурчал Федор, слез с мотоцикла и покатил его к плетневским воротам, замотанным цепью. – Эй, есть кто дома?!
Алексей Александрович вздохнул, вытер о джинсы внезапно вспотевшие ладони, помедлил, вышел на крыльцо и прищурился от солнца.
Федор с той стороны забора завалил мотоцикл набок, ударом сапога вытолкнул подножку и взглянул на Плетнева.
– Здорово, – сказал он как будто с удивлением. – Мы с тобой сегодня виделись.
– Виделись, – согласился Плетнев.
– Так я зайду?
Плетнев пожал плечами.
Привычно откинув крючок, Федор зашел на участок, и Плетневу вдруг показалось, что на него надвигается нечто первобытное – мамонт, ураган, ледниковый период.
Он никогда не имел дела ни с чем первобытным.
Цивилизация и гуманизм. Гуманизм и цивилизация.
– Ты чего уставился? На мне узоров нету, – сказал Федор.
Так они стояли, один на крыльце, другой на дорожке, а потом Федору надоело стоять, и он не торопясь пошел за дом. Плетнев ничего не понял, сбежал с крыльца и двинул за ним.
А что ему еще было делать?..
Федор поднялся на террасу, оглядел плетеные кресла, венские стулья, деревянный стол, чему-то усмехнулся и уселся на перила, которые скрипнули под его весом.
Плетнев считал себя большим специалистом в ведении всякого рода переговоров. Позиция противоположной стороны была безупречной. Федор на перилах в любом случае получался выше Плетнева, куда бы тот ни сел, в кресло или на стул. Значит, нужно или стоять, или сесть, признав тем самым свое подчиненное положение.
Я трус – о да, права Оксана с ее бриллиантовыми реками на шее. Но я, черт побери, умею вести любые переговоры!
Поэтому подниматься на террасу Плетнев не стал, а сделал все наоборот. Вышел на лужайку, опустился в качалку и положил руку на спинку.
Таким образом, Федор оказался теперь спиной к нему, и, чтобы разговаривать, ему придется пересесть и свесить ноги наружу, что было бы глупо. Или слезть с перил и выйти на лужайку, а сидеть тут негде, качалка-то занята! Значит, придется стоять.
Цивилизация или первобытность? Первобытность или цивилизация?
Федор на перилах покрутил башкой, ничего не понял, развернулся и спрыгнул на лужайку. Подошел к Плетневу, вольготно разместившемуся в качалке, и сказал как ни в чем не бывало:
– Ну-к, подвинься.
Один – один.
Некоторое время они просто качались – качалка натужно подрагивала от непривычной тяжести, потом Федор наклонился, сорвал цветок клевера и сунул его в зубы.
– Надолго?
– Что?
– Приехал надолго, спрашиваю?
– Как пойдет.
– А чего это ты столько лет не ездил, а тут – на€ тебе! Нарисовался. Тебя уж тут и не ждал никто. Все гадали, кому ты дом-то продашь.
Плетнев на это ничего не ответил.
– Собираешься?
– Что?
– Продавать?
Тут Плетнев, большой специалист в ведении всякого рода переговоров, оттолкнулся ногой, качалка заскрипела и затряслась пуще прежнего, и спросил:
– А ты купить хочешь?
Его собеседник вдруг засмеялся, сверкнули белые ровные зубы – любой американский стоматолог удавился бы с горя при виде таких зубов, лишающих его всякой надежды на заработок, – и сунул руку Плетневу в бок.
– Федор.
– Алексей.
– Вишь, чего у нас творится.
– А что у вас творится?
– Степаныча порешили.
– Кто его порешил?
Федор пожевал стебелек, от чего цветок во рту описал круг, и пожал плечами:
– Разное говорят. Может, браконьеры. – И взглянул внимательно.
Плетнев промолчал.
Он уже слышал эту глупость про браконьеров и не понимал, зачем Федор ее повторяет. Проверяет его реакцию? И достаточно ли у него ума, чтобы вот так проверять реакцию? И к чему деревенскому мужику Федору его, плетневская, реакция?
– А ты чего думаешь?
Плетнев, прищурив глаза, посмотрел сначала на солнце, потом на собеседника.
– О чем? О браконьерах?
– Ну, кто мог Степаныча порешить! Как-никак сосед твой! За домом столько лет ходил, – он так и выразился «ходил». – Его здесь каждая собака знает!
И осекся.
Вот именно, подумал Плетнев. Собака-то была. И у вас с этим самым Степанычем из-за собаки неприятная история вышла.
– Я ничего не могу сказать. – Плетнев проводил глазами шмеля. У него была страшная аллергия на всевозможные укусы, и шмель представлял собой серьезную угрозу. – Я тут человек новый.
– Вот именно, – вдруг с жаром подхватил Федор. – Ты всякой брехне не верь! Мало ли чего наговорят по деревенской привычке!..
– Какой брехне?
– А всякой! – Его собеседник вдруг выхватил изо рта стебелек и зашвырнул в траву. – Брешут, будто я Степаныча порешил, слыхал?! Мать твою так и эдак и еще разэдак! В следствие уже тягали! У вас, говорят, вражда была, и вся деревня об этом в курсе дела! Какая у нас вражда, твою мать!..
– Из-за собаки, – подсказал хорошо осведомленный в деревенских делах Плетнев.
– А ты не вякай, чего не знаешь!
Странное дело, почему-то Плетнев его совсем не боялся. Вот так, сидя в качалке за домом, в деревне Остров, без всякой охраны под предводительством начальника службы безопасности, и понимая, что если Федору придет в голову пырнуть его ножом или ударить по голове, он ничего не сможет с этим поделать! Не боялся, и все тут.
Свою тещу он боялся гораздо больше.
Бывшую тещу, любительницу бриллиантовых рек и платиновых берегов.
– Не убивал Степаныч Волка, ясно тебе? Я уж сто раз всем талдычил – не убивал! Мне тогда сгоряча показалось, что он, так я его за грудки и тряхнул хорошенько!
– Какого волка? – не понял Плетнев.
– Волк, кличка такая! Какой кобель был, человек, а не собака, да и не всякий человек такого ума бывает, как Волк! Я на Степаныча-то попер, шум поднял, он мне по морде засветил, и справедливо, между прочим! Я ему тоже засветил, а он мне и шумит: все, мол, Федор, в расчете, а теперь слушай!.. Ну, я послушал. Не ходил он в тот день в лес. По-честному не ходил! И все мне показал – и валенки, и лыжи, и «Буран»…
– Какой буран? – опять не понял Плетнев.
– Снегоход, какой, какой! Обыкновенный! Или ты думаешь, я не отличу, сегодня «Буран» в лес гоняли или третьего дня?!
Плетнев понятия не имел, как можно определить по снегоходу, когда именно он был в лесу, но на всякий случай сказал, что это всякому понятно.
– Кто-то там еще шатался, в лесу-то! Только я особенно не смотрел, уверен был, что Степаныч это! И малахай вроде его, и зипун! Далеко мелькнул, на взгорке, да и, говорю же, я уверен был, что Степаныч, и не приглядывался! А Волка я вообще не видал, он всегда так по лесу шарился, сам по себе. А потом – раз, выстрел. Из карабина, не из двустволки! Я подбежал, а Волк не дышит уже…
И Федор замолчал.
– Жалко Волка, – сказал он тяжело. – Такой кобель был. Так и не дознался я, кто та паскуда, которая его пристрелила!
И Плетнев понял, что Федор Еременко до сих пор тоскует по своему Волку, тоскует, жалеет и не может забыть, и гнетет его, что так он и не понял, кто именно застрелил в лесу собаку! В лесу ведь все просто и ясно, и каждый след рассказывает Федору, кто именно, когда и куда шел, а убийцу он так и не нашел.
Федор вдруг оторвал от качалки зад, нагнулся, подобрал выброшенный цветок и опять сунул в зубы.
– Вот я и думаю, кто Степаныча-то убил! Может, та самая сволочь, что и Волка! А нашел бы я ее тогда, может, и Степаныч был бы жив!
Он сбоку глянул на Плетнева, потом на солнце и продолжил:
– Брешут-то всякое! А ты здесь человек новый, не всякому слову верь.
Плетнев кивнул. Он был совершенно уверен, что все это «просто так». Этот мужик точно знает, что егерь не убивал его собаку, а он сам не убивал егеря и никаких вопросов не боится, и сейчас начнется главное, именно то, зачем он затеял весь разговор.
Пожалуй, Алексей Александрович догадывался, о какой именно «брехне» его собирается предупредить этот самый Федор. Если бы не подсмотренный и подслушанный разговор на дороге, не догадался бы!..
Проверяя себя, он поднялся с качалки, по привычке закинул руки за голову – вот нисколько он в своей цивилизации не боялся Федоровой первобытности, – прижмурился на солнце и спросил:
– А я слышал, что Люба, которая здесь убирала, какие-то вещи подворовывала, правда это?..
– Вот это как есть брехня, – тяжело и упорно глядя на него, произнес Федор медленно. – Вот самая распоследняя, гнусная брехня! А тем, кто на нее брешет, я ноги оторву и спички вставлю, ясно тебе? И кто повторять станет…
– Что ж до сих пор не оторвал?
– Не твое собачье дело! – вдруг тихо и грозно сказал Федор, и Алексей Александрович руки опустил – на всякий случай. – Я со своими делами сам разберусь, ты лучше за своими гляди!..
Сам того не зная, Федор попал в точку. За своими делами Плетнев действительно смотрел плохо. Пришлось даже в спешке бежать из Москвы, чтобы они, эти дела, не настигли его и не растоптали остатки… чего? Гордости? Достоинства?.. Прежней прекрасной жизни?..
– Ты Любаньку куска хлеба не лишай, – продолжал Федор так же тихо и грозно. – У нее пацаненок, а у нас тут фиг заработаешь!.. Сроду она ничего ни у кого не брала!
Плетнев хотел сказать, что брать-то, может, и не брала, но чистоту наводит из рук вон плохо, но не стал.
Все же он был трусоват, а Федор грозен.
– Небось, сам полы мыть не станешь, ты вон какой… холеный!
Плетнев уставился на него, а Федор усмехнулся.
– А чего такое? Слово не нравится? У завидовского егеря жеребец был, Алмаз. Чистых кровей и тоже навроде тебя, холеный! Работать ничего не работал, красовался только. Как какая комиссия из города приедет, ну, проверяльщики вроде, так давай жеребца по кругу гонять, и любуются на него. Ну, он три круга сделает, потом его обратно в стойло, и там моют, скребут, мажут чем-то. Целый штат держали, чтоб за жеребцом ухаживать, о как!..
Федор поднялся, пристроил изжеванный цветок себе за ухо, сплюнул в клумбу и сказал без всякой угрозы:
– Так что, если узнаю, что ты на Любаньку брешешь, кастрирую, как того жеребца. Его потом кастрировать пришлось, уж больно прыткий был! Как проверяльщика какого-то сбросил, так и кастрировали! А то знатный был жеребец, чистых кровей! Ну, бывай.
И ушел, а Плетнев остался. Железным голосом проскрипела калитка, брякнула цепь, завелся мотоцикл, поревел немного, и все стихло.
…Что я должен сейчас сделать? Опять дать деру в Москву? Позвонить в службу безопасности, вызвать подмогу? Они приедут и живо растолкуют деревенскому мужику Федору как-там-его-фамилия, как можно, а как нельзя разговаривать с Алексеем Александровичем Плетневым. Позвонить нотариусу, если только он не в Сен-Тропе по летнему времени, отдать необходимые указания по продаже этого чертова дома в деревне Остров, а самому улететь в Монте-Карло?
Вариантов масса, и все очень в духе… холеного жеребца Алмаза, впоследствии кастрированного!..
Какое отвратительное, круглое, гадкое слово – холеный! Сговорились они все оскорблять его так больно, как только возможно! И Оксана с ее бриллиантовыми реками, и Маринка, и вот теперь это чучело огородное!..
– Я больше так не могу, – пробормотал себе под нос Алексей Александрович. – Ну, не могу я!..
– Чегой-то ты там не можешь, Леша?
Озверев, он повернулся на голос, и вот, ей-богу, так и дал бы спросившему по морде, даже кулаки сжал вроде – как-то неубедительно сжал, по-ребячьи, – но ничего из этого дела не вышло. Над забором с той стороны торчала развеселая Валюшка.
– Леш, давай, завтрак на столе, дуй к нам! Мы не садимся, тебя ждем.
– Спасибо, я не хочу, – сквозь зубы пробормотал Плетнев. Руки у него дрожали.
– Да чего там не хочу, я ж тебя не в загс приглашаю, я замужняя! – И тут Валюшка кокетливо захохотала, но вдруг как-то странно перекосилась, ойкнула и пропала с глаз. Послышался какой-то шум и ругательства.
– Я тут на поленнице стояла, – раздалось уже из-за забора, – так она, зараза, возьми и рассыпься! И кто это так поленницу кладет, не руками, а одним местом! Витюш, Витюш, глянь, все развалилось! Леша, ты тут не лезь, в обход иди!
Как будто Плетнев собирался лезть к соседям через забор!
– Леш, давай, шевелись!
Алексей Александрович, специалист в ведении разного рода переговоров, в одну секунду очень отчетливо и раз и навсегда понял, что спорить с Валюшкой не имеет никакого смысла. Она будет приставать до тех пор, пока он не сойдет с ума или не придет завтракать, – и Плетнев пошел завтракать.
В сердцах он чуть не оторвал цепь с калитки, саданул по ней, но звука никакого не вышло, калитка лишь жалобно заскрипела.
– Добрый день.
– Здрасти, – не глядя буркнул Плетнев. Ему некогда было рассусоливать, его ждала Валюшка и сардельки, купленные в Твери задорого!
– Меня Виталий зовут, я Степаныча зять.
Плетнев приостановился.
Молодой мужик, вытирая руки о джинсовые шорты, шел к нему через дорогу.
– Я вас в тот раз не застал, – заговорил он издалека, – вы уехали сразу! А я поговорить хотел.
Плетнев молча смотрел на него. У этого человека вид был вполне городской – плечи и живот абсолютно белые, зато нос и щеки красные, прихваченные солнцем, на ногах вьетнамки. Никто из местных жителей не носил вьетнамок!..
– Вон, в машине копаюсь, – и Виталий подбородком указал на «Волгу», торчавшую задом из распахнутых ворот. – Чего теперь с ней делать, ума не приложу! Говорил ему в тот раз, давай я тебе иномарочку справлю, пусть не новую, зато ездить будет! А он ни в какую! Я, говорит, Витька, всю жизнь на «Волге» отъездил, мне привычнее! Да и запчастей целый воз, куда я их дену? В твою, говорит, иномарку не воткнешь! Так и не купили! А эта три дня ездит, неделю чинится. Три дня ездит…
Плетнев молча слушал.
– А вы… в отпуск, да?
Плетнев пожал плечами.
После холеного жеребца Алмаза все разговоры с жителями и гостями деревни Остров казались ему оскорбительными.
– Я вот что у вас спросить хотел… Да, может, в тень пойдем? У меня от этого солнца вся кожа слезла, и чешусь, как порося…
Следом за Виталием Плетнев зашел на участок Николая Степановича. Первый раз зашел!..
Дом, обыкновенный деревенский, не то что плетневские каменные хоромы, был ухоженным и веселым, и какие-то цветы вовсю цвели в палисаднике, и толстые шмели качались в них, гудели довольными голосами. За домом ровные гряды с зеленью, довольно много, и парник, всего один, никакого коридора, как у его подруги Валюшки. Гамак между старыми яблонями, садовые инструменты составлены возле сарая, все в полном порядке.
Какая-то мысль вдруг пришла Плетневу в голову, некое несоответствие было во всем этом с образом егеря – язви его душу, – что-то показалось ему странным, но что именно, он не смог определить.
– Вы присаживайтесь, – предложил Виталий.
Скамейка возле дома была как будто украдена из парка, с гнутой спинкой, досточка к досточке, на устойчивых ногах, крашена в кастрюльный синий цвет.
– Это все Степаныч плотничал. – И зять вздохнул. – На все руки мастер был! И мужик отменный. А-а, чего там!..
– Лешааа! – заголосили с улицы. – Да что за наказанье! Где ты есть-то?!
– Вас Алексеем зовут?
Плетнев кивнул.
– Что вы хотели спросить?
– Я все понимаю, и менты вас наверняка спрашивали, но я так, на всякий случай… Вы той ночью…
– Я ничего не видел и не слышал, – перебил Плетнев, рассердившись. – Шел сильный дождь, а у меня крыша железная, дождь по ней очень шумит! Я не слышал ни-че-го. И ничего не видел.
Виталий покивал, довольно горестно. Он все вытирал о шорты большие волосатые руки, и вид у него был растерянный.
– Как бы мне этого гада… И, словно назло, ну никто ничего не видел, блин! Будто ослепли и оглохли все! Один он у меня был, понимаете? Никого из родни нет больше.
Плетнев точно помнил, что Виталий сказал – зять.
– А дочь где же? Дочь Николая Степановича? Если я правильно понял…
– Умерла давно, – Виталий перестал вытирать руки и колупнул скамейку. – Одни мы были с дедом, а теперь и его не стало! Мне бы только этого гада…
– Вы бы лучше в правоохранительные органы обратились, – дал ценный совет холеный жеребец Алмаз, и мужик махнул на него рукой.
– Да это понятно все! Только кто там чего искать будет, в органах этих! Невелика потеря – деревенский дед! И главное, ведь порешил из своих кто-то, больше некому! Ну, некому больше! Тут никаких чужих сроду не было, откуда им взяться-то?! Чтоб сюда проехать, нужно пропуск получить, а это все непросто…