Охотники за камнями. Дорога в недра бесплатное чтение
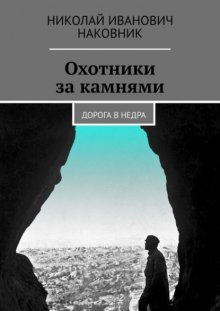
Редактор Анастасия Паловна Вознесенская
Оформление обложки: Анна Стафеева
© Николай Иванович Наковник, 2023
ISBN 978-5-0060-3695-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие к первому изданию
Доктор геолого-минералогических наук профессор Николай Иванович Наковник – один из старейших разведчиков недр. В мае 1965 г. исполнилось 70 лет до дня рождения и 40 лет его научной деятельности. С именем Н. И. Наковника связано открытие ряда промышленных месторождений полезных ископаемых.
Очерки, вошедшие в книгу «Охотники за камнями» написаны по экспедиционным дневникам. Они отражают трудности, которые преодолевали «охотники за камнями», в том числе проникнутом духом приключений периоде первых советских геологических экспедиций, когда по долинам и сопкам Казахстана еще бродили шайки басмачей и баранты, вносившие напряженность в мирную работу геологов.
Те, кто интересуются историей открытий месторождений и жизнью геологов, читая эту книгу, пройдут вместе с автором по первым его геологическим тропам, узнают, как была найдена одна из жемчужин Казахстана – месторождение Семиз-Бугу, как проложенный в 1930 г. маршрут на Саяк привел к медным рудникам, которые в 1970 г. станут крупнейшим центром по добыче меди в Казахстане.
ЭКСПЕДИЦИЯ В ВЕРХОВЬЯ САРЫСУ
Светлой памяти безвременно угасшей дочери Катюши посвящаю
Автор
Это была одна из первых геологических экспедиций, направленных молодой советской властью в Центральный Казахстан – «Киргизскую степь», как тогда говорили, где до революции и еще при Колчаке действовали горные предприятия английских концессионеров, выросшие на богатых рудах, дешевом местном топливе и труде казахской бедноты.
Я попал в нее благодаря счастливому стечению обстоятельств, потому что в начале нэпа трудно было получить работу; к тому же я был студентом Географического института1, а не геологического вуза, заканчивал первый курс и только лишь прошел основы географии, геодезии и общей геологии, да сдал практикум по глазомерной съемке.
Начальника экспедиции, когда я пришёл наниматься на работу, подкупили не столько мои успехи в географических науках, сколько моя выправка и автобиография, в которой значилось, что я служил радистом в кавалерийской рации. Узнав, что я на практике знаком с уходом за лошадьми, начальник – молодой флегматичный инженер-геолог Яговкин – предложил мне должность рабочего при конях, намекнув, что, поскольку я географ, постольку буду и топографом, и фотографом, и коллектором, и «вообще всем тем, чего потребуют интересы экспедиции».
– Придется поручить вам, – добавил он, – и самостоятельные маршруты и обязанности доверенного лица в мое отсутствие по делам разведки. Предстоит огромная работа, а средств на нее отпустили так мало, что я не могу оплачивать коллектора. Это продолжение моих геологических исследований на юге Киргизской складчатой страны, не законченных в 1921 г. из-за басмачества в верховьях Сарысу.
Несмотря на предложенные мне по должности рабочего 30 рублей в месяц, я вышел от инженера с большим подъемом, потому что 30 рублей – не 6 рублей студенческой стипендии, а главное – экспедиция в неизведанные земли, о которых я мечтал в детстве и которые представлял то девственными прериями Майн-Рида, то дикими пустынями Свен-Гедина. Орлы, тарантулы, мустанги, руины мертвых городов в песках, заброшенные серебряные копи, золотые жилы и, наконец, чем черт не шутит, – стычки с басмачами! Так рисовалась мне Киргизская степь за параллелью законсервированного Успенского рудника, ограничивавшей с севера район исследований, порученный Геологическим комитетом моему начальнику, – район, переходивший к югу в полупустыню Северо-Западного Прибалхашья, за которой простиралась Голодная степь – пустыня Бед-Пак-Дала.
Экспедиции поручено было пройти по следам концессий, осмотреть архивы с документами, если таковые сохранились, разведать медно-серебро-свинцовую залежь на речке Кайракты, вскрытую английскими геологами, и обследовать или, как выразился инженер, «заснять» территорию района, примыкавшую к 48-й пустынной параллели – территорию четырех двухверстных топографических планшетов площадью в 5000 квадратных верст. По теперешнему времени начальнику дали бы для такой работы двух коллекторов, прораба-техника да еще завхоза.
Начальник вел обстоятельный полевой дневник экспедиции с начала и до конца исследований, потом, помню, переписывал его, а в 1930 г. перепечатывал на машинке, видимо, готовил к публикации. Но в 1942 г. дневник вместе с другими документами сгорел при блокаде Ленинграда, и я рассказываю дальше о нашем путешествии и приключениях по сохранившемуся моему дневнику 1924 г., менее обстоятельному, но зато и менее геологическому.
ПЕРЕД ДОРОГОЙ
2 мая
Вернувшись от начальника, я рассказал ребятам в общежитии о своем успехе. Они выразили такой восторг, будто сами отправлялись в экспедицию; потом бросились меня качать, но ввиду того, что качание не предвещало ничего хорошего, я пообещал поставить каждому по бутылке пива, как только получу аванс в дорогу.
3 мая
Оказывается, только мне одному из первого и второго курса удалось устроиться в экспедицию. Я вдруг стал предметом общего внимания.
15 мая
Приступил к работе. Вечером копирую в Геолкоме старые двухверстные карты Успенского района. Не знаю, как будем пользоваться ими. На картах больше белых пятен, чем элементов географии, а горизонтали так накручены, что сопки кажутся блинами, брошенными на большую сковороду. Неудивительно! Они снимались пятьдесят лет тому назад и притом не военными топографами, а геодезистами-межевиками Переселенческого управления.
25 и 30 мая
Готовимся к отъезду. Купил себе на толкучке по дешевке гимнастерку, галифе, суконную буденовку с большой звездой, фуражку, потертую красногвардейскую шинель и солдатские ботинки «АРА»2. Вместо краг я пристроил обрезы старых голенищ.
Начальник одобрил мою покупку и сказал, что по современной ситуации в степи в военной экипировке будет повнушительней и безопаснее – подумают, что красноармеец, а то и комиссар.
Геолком выдал нам на вооружение одноствольную «джонсонку»3, новенький наган, а еще мы прикупили охотничий короткоствольный карабин.
3 июня
Выехали сибирским поездом. Едва успели сдать багаж. Какие-то нахальные смуглые типы завалили сундуками подступы к приемщику и все подтягивали и клали на весы, отпихивая прочих пассажиров. До отхода поезда оставались считанные минуты, и я решил действовать по методу «клин клином вышибают». Напялив на глаза буденовку, я крикнул: «Посторонись! Военный груз!» – и, врезавшись в толпу, стал кидать на весы тюки с палатками, вьючные ящики, связки горного инструмента, которые мне подавал начальник и которые в самом деле смахивали на военный груз. Когда поезд отошел от Ленинграда и мы пришли в себя, начальник сказал, что очень доволен инженером-географом, т. е. мной. Почему он так назвал меня – не объяснил, но мне это польстило.
8 июня
Начальник высадился в Омске, так как в Павлодар поедет пароходом по Иртышу. Оттуда будем снаряжаться в степь. Меня же направили в Семипалатинск за недостающими листами двухверстной карты, так что я поехал дальше.
12 июня
Вот я и в Семипалатинске – впервые в настоящей Азии! За рекой – Киргизская степь и на горизонте – синие вершины далеких гор.
Остановился над Иртышом у мещанина-огородника, который, приняв меня за представителя центральной военной власти, стал жаловаться на прижимки со стороны «националов», как он называл казахов – хозяев края.
Город похож на огромную сибирскую деревню с той лишь разницей, что на улице скорее встретишь козу и верблюда, нежели корову и свинью. Широкие немощеные улицы, обставленные саманными и деревянными домами, редкие прохожие, казахи в малахаях, песок, в котором вязнут ноги, и пыль, пыль и пыль… Проходя через базар, увидел «шалманы»4 с кумысом и, так как было очень жарко, зашел попробовать напиток, о котором шла такая слава.
Когда юркий купец-татарин подал мне расписную фарфоровую чашку (кисе по-местному) объемом больше, чем пол-литра, я было запротестовал, что это очень много.
– Это же совершеннейший пустяк! – возразил с обворожительной улыбкой купец-татарин. – Сразу видно, что товарищ командир из центра! Полюбуйтесь-ка на этих почтенных молодцов!
Я оглянулся и увидел на полу за низким круглым столиком четырех стариков-казахов в огромных малахаях, начинавших новую бутыль; три порожних четверти стояли рядом.
Я приободрился и, хотя принялся за кумыс с брезгливой осторожностью, все же выпил кисе до дна, правда, с передышками. Напиток оказался холодным, приятным, кислым и чуть хмельным. Мне стало сразу веселее.
В «шалмане» было вообще не скучно. За другим столиком налево расположилась еще четверка не то татар, не то казахов в европейском платье. На полу стояли порожние бутыли, а на столе красовалась деревянная золотистая лакированная миска обглоданных костей. В стороне, откинувшись к прилавку, сидел на корточках старик и, закрыв глаза от наслаждения, вытягивал высоким голосом восточную мелодию, дергая за струны домбры.
На стенке (напротив входа висел) портрет Ленина на середине большого пестрого ковра.
Мозолили глаза два белых плаката. На одном стояла надпись, выведенная кривыми буквами: «кредета нет», подкрепленная тремя восклицательными знаками, а на другом – надпись по-казахски, но без восклицаний.
Потом я убедился, что такие плакаты украшали все «шалманы», куда я заходил. К удивлению своему я заметил, что почти везде купцы отпускали «в кредет», но, по-видимому, надежным кредиторам, так что надпись вывешивалась скорее для пущей важности, в качестве патента на солидность предприятия.
16 июня
Приехал в Павлодар, спустившись пароходом по Иртышу. Начальник уже заготовил муку, овес, масло, купил веревок, хомуты, старенькую сбрую и старую развихлястую телегу с лозовым коробом для пассажиров, которую по дешевке всучил павлодарский мещанин. Когда я навел критику на дряхлость и деревянные оси экипажа, несоответствующие предстоящей большой дороге, начальник утешил меня дешевизной и удобством путешествия в лозовом коробе.
Покупку лошадей он отложил до моего приезда, полагаясь в этом деле на мой кавалерийский опыт.
18 июня
Вчера купили на базаре сибирский ходок5 на железных осях и пятерку лошадей: Игреня, Чалого, Гнедого, Серого и Вороного. Игрень – молодой, красивый, рослый сибирский конь редкой игреневой масти, прочие же – местные, малорослые и почти необъезженные степнячки.
Я приступил к должности рабочего при конях, но одновременно выполняю и все, что, по выражению начальника, «требуется интересами возложенных на экспедицию задач». Объезжаю степнячков, не бывавших еще в упряжке, гоняю всю пятерку на водопой к Иртышу, купаю, задаю овса, сена, подгоняю сбрую, чиню седла, перетягиваю шины на колесах, сколачиваю ящики для камней, бегаю на базар за дегтем и чего только не делаю!.. А на ночь укладываюсь около коней в короб на телегу и лежу, насторожив ухо, потому что только и слышишь, что кругом воруют лошадей: на базаре, во дворах и даже из-под замка – с конюшен.
19 июня
Вчера выдался особенно горячий день и по температуре воздуха – днем было 30° С в тени – и по работе. Вечером едва добрался до телеги и улегся в коробе, прикрывшись старенькой шинелью. Заснул так крепко, что не услышал, как начальник выходил ночью на поверку караула. Разбудил меня чуть свет сильный холод. Я дрожал – зуб на зуб не попадал. Стал натягивать шинель, приподнял голову, и что же!.. Кругом бело! На крышах, на телегах, на лошадях, на всех предметах – густой иней! Зарылся в сено, но уже не мог уснуть, да и кони не дали спать: Игрень кусал «мустангов», а те лягались.
Днем почувствовал жар, но подумал, что от беготни, от солнца. Вечером, когда подымался с лошадьми на крутой берег, заметил, что подкашиваются ноги и стучит в висках. Спать в телеге не решился и попросил разрешения начальника постелиться в комнате.
– А что случилось?
– Как будто ничего… – ответил я. – Вот только лихорадит, да кружится голова.
– А ну, давайте поставим градусник.
Поставили… Оказалось 39° С с хвостиком. Хозяйка квартиры напоила меня чаем с водкой, потом какой-то травкой, которую вытащила из-за иконы, и уложила на кошме у печки, прикрыв тулупом.
Ночь была кошмарной. Вокруг меня дрались «мустанги», кричали верблюды, а казахи швыряли малахаями и грозили плетками. Я весь пылал. Казалось, разваливается голова.
Утром температура спала и днем я уже взялся за работу, в которой мне помогал нанятый начальником молодой и малоопытный, но зато «мало-мало» говоривший по-русски казах из городских джатаков6 – Джуматай.
ДОРОГА
21 июня
Солнце стояло уже высоко над Иртышем, когда после долгой канители с укладкой груза мы двинулись к паромной переправе.
Река еще выступала из берегов, заливая на той стороне низкие места. Народу было много. Переправлялись долго.
Переполненный паром подошел к берегу, тюкнулся о мостик и, покачнувшись, оживился вдруг толчеей и криками. Кричали верблюды, выплевывая фонтаны зеленой зловонной жидкости, кричали возчики, изощряясь в художественной ругани, ржали кони, ревели пучеглазые рогатые волы. И где-то на краю парома трещало дерево.
Джуматай растерялся на своем возу. Коренник Игрень хрипел, пугливо озираясь, пристяжки рвались вбок, вальки цеплялись за соседние колеса, а тут ещё под ноги лошадей выскользнули вожжи. Я собрался было опередить приятеля, но дорогу загородила бричка, запряженная волами. Здоровенный, подсадистый подводчик-украинец – эдакий живописный Салопий Черевик из «Сорочинской ярмарки» – стегнул моих дрожащих степнячков. Те, бросившись на Джуматая, протаранили оглоблей лозовый короб. Я хотел было смачно вытянуть по спине Салопия Черевика, но кнута, прекрасного ременного кнута, который подарил мне начальник за усердие по службе, под рукой не оказалось.
Начальник проскользнул вперед. Потом он, сидя на берегу в стороне от потока подвод, верховых и пеших, стремившихся с парома па дорогу, лущил семечки и поглядывал на нас, иронически качая головой.
Едва ли не последними съехали и мы. Стали подниматься по откосу. Первой двинулась подвода Джуматая, которую облюбовал себе начальник, погрузив в лозовый короб самый деликатный груз: палатки, чемоданы, печеный хлеб, ящик с гастрономией. Я потянулся следом. На мой ходок положили самый тяжелый и по сочетанию предметов самый неудобный груз: муку, овес, мешок сушеной воблы, бидон с бараньим салом, лагушку дегтя, казан для баурсаков7, проволоку, горный инструмент, палаточные колья. Все это, перевязанное наспех, звенело, бренчало, грохотало, пугая моих «мустангов». Они то кидались в сторону, то становились. Требовался кнут. Я стал шарить на возу, заглянул под ходок, осмотрел дорогу – нет кнута!
– Стегните их, как следует! – послышался нетерпеливый окрик инженера.
– Чем стегать?! Кнут украли!
Начальник рассердился и в первый раз наговорил мне обидных комплиментов, припомнив и пробитый кузов. Обиднее всего было то, что Джуматай подал мне подобранную с дороги уродливую хворостину, растянув при этом свое широкое прыщеватое лицо не то в сочувственную, не то в насмешливую улыбку.
Поднявшись на дорогу, мы увидели перед собой море луж и грязи недавнего разлива, развернувшееся на добрый десяток верст. Нечего было и думать садиться на возы. Потащились около телег, хлюпая по жиже. Сухая хворостина скоро обломалась, так что я вырезал из придорожного куста свежую, большую. Но, когда я пробирался к тальнику, набрал воды в ботинки.
На 12-й версте, уже перед самым выездом из разлива, воз Джуматая странно замер на ровном месте, покосившись набок. Начальник с Джуматаем засуетились у задка кузова: первый размахивал руками, а второй приседал на корточки и ковырялся под телегой. Когда я подтянулся к ним, начальник кипятился, а Джуматай водил черным от дегтя пальцем по свежему разлому лопнувшей оси и качал головой, прищелкивая языком.
– Ось сломалась? – участливо спросил я, присев у кузова.
– Ломался!.. – вздохнул Джуматай. – Совсем ломался! – и понес скороговоркой: – Дорога тижыло, телега тижыло, ось диривьянный… Совсем джаман! Железный надо! Зачим купил диривьянный?
– Не твое дело, – буркнул начальник. – Какая есть, на такой и езжай, а не ломай. Что теперь делать?!
– Мастер надо, поселка айда! – махнул Джуматай на низенькие хаты далекого поселка, видневшиеся из-за кустов.
Выпрягли лошадей и отпустили на траву. Джуматай остался караулить, а мы отправились в поселок.
За ось в поселке заломили такую цену, что начальник крякнул. Проезжие инженеры! Редкий случай!
Через три часа ось была готова. Я взвалил ее на плечи и мы потопали назад.
– Слава богу! – облегченно вздохнул начальник, когда покинули поселок. – Дешево отделались!.. Придем, напьемся чаю и покатим так, что пыль закрутится!
Пришли… Возы на месте, над тлеющим костром – горячий чайник, а коней и Джуматая нет. Глянули на степь, поднимавшуюся на горизонте низкими увалами – и вот картинка! По ярко-зеленому полю молодой пшеницы мечется пятерка лошадей, за которой гоняются две фигурки конников. Начальник схватился за бинокль и ахнул: – Это же наши кони! Крестьяне гонят их в поселок!
Вскоре, звеня и лязгая путами, подскакала наша бойкая пятерка, а следом – пара верховых.
– Что же это такое господа-товарищи! Как же это получается! Где же видано коней пускать в пшеницу! – кричали разъяренные поселяне. – Сколько хлеба потравили!.. Страсть! Хлеб вить трудовой! Жалованья нам не платят!
Кричали поселяне, кричал начальник, кричал красный, мокрый Джуматай, который приплелся следом.
– Это все Игреня! – оправдывался Джуматай. – Мы телега караулим, лошадь караулим, шай варим… Смотрим – нет лошадь! Куда пошел, язви его! Смотрим, Игреня пшеницам ходит, пирод ходит! А все конь задом ходит! Ай шшай-тан, паршивый шорт!
Потом Джуматай признался мне, что он «мало-мало» спал под телегой, а когда заметил лошадей в пшенице, было уже поздно – из поселка мчались верховые.
Поселяне расходились: требовали уплаты 25 рублей, грозили понятыми, задержкой лошадей, судом.
Время шло… Начальник не давал 25 рублей – да и за что давать!.. – грозил жаловаться на самоуправство, на задержку важной экспедиции, показывал мандат.
Меня вдруг осенило…
– Знаете что, землячки? Давайте сперва чайку попьем! Потому, как вы умаялись, гоняючись за конями, да и мы с утра ничего не ели, а тут еще на вашей же дороге… гляньте, – указал я на осевший воз, – несчастье получилось. Десятку уплатили вашему Семену – за что? Давайте слазьте!.. Чай у нас первый сорт – кирпичный, опять же калачи, сахар, масло… Живее, Джуматай!..
Сначала земляки упирались. Но, заметив на возу красногвардейскую шинель и дуло карабина, выглядывавшее из-под сиденья, стали мяться, а когда Джуматай, разостлав брезент, поставил чайник, насыпал сахару и положил три свежих румяных калача, слезли с коней. Трудно было устоять против сахара и чая, самого дефицитного теперь товара во всей республике.
За чаем земляки отмякли; оказались в самом деле земляками – выходцами из той же, что и я, Виленской губернии. С 25 рублей они спустили до 10 и даже помогли поставить ось и увязать возы. При расставании просили непременно завернуть в поселок в гости, когда поедем обратно в Павлодар.
На заходе солнца тронулись в дальнейший путь, захватив с собой на топливо обломки старой оси. Решили наверстать потерянное время и ехать, пока не устанут кони, хоть бы и до утра.
За увалом развернулась безграничная, пустынная зеленовато-серая равнина, оживленная извилинами тракта, по которому катили наши две подводы, и бежавшими вдоль тракта телеграфными столбами. И ни живой души кругом, кроме черного большого хищника, вероятно, коршуна, тяжело перелетавшего с переднего столба на дальний, по мере того как подводы подвигались. И никаких звуков, кроме топота коней, гортанных выкриков Джуматая, подбадривавшего тройку, да заунывного гудения проволоки. Передо мной открылась степь, которая подавляла своим простором и безмолвием. Я глядел на нее широко открытыми глазами и думал, какой тесный, душный мир остался позади.
А между тем свежело… Я стащил промокшие ботинки, завернул ноги в кошму, застегнул шинель и, закурив трубку, стал глядеть, как за темный край глухой степи спускался большой оранжево-красноватый диск. Монотонно-переливчатое гуденье проволоки становилось заунывнее и громче. Какие-то странные, неопределенной формы существа, вероятно, земляные зайцы, беззвучно прыгали около телеги, бросаясь под колеса, под ноги лошадей.
Так началось путешествие к верховьям Сарысу, до которых предстоит сделать около 600 верст.
22 июня
Измученный бессонной ночью, я оживился на восходе солнца, увидев впереди невиданное зрелище: налево от дороги светилось розовое озеро, а направо – голубое. Протер глаза – цвета остались прежними. Что за феномен!
– Калкаманский пикет!8 Соленые озера! – крикнул начальник.
На низких голых берегах белели пирамиды соли, а в стороне, повыше, чернела одинокая саманная постройка, похожая на домик. Это и был пикет Калкаман – первая почтовая станция на тракте, за которой мы привалили передохнуть и подкрепиться в часы дневного зноя.
Как объяснил начальник, различные цвета озер обязаны различной микрофауне воды. Озера славятся целебными свойствами грязей – отсюда и название «Калкаман», т. е. «Народ здоров». Каждый год их навещают десятки больных, но ныне эти озера совсем безлюдны.
24 июня
Утром минули пикет Джамантуз. За нами – уже 100 верст. Едем днем и ночью. Начальник понуждает Джуматая, который гонит тройку «в хвост и в гриву» так, что я еле поспеваю.
Дорога по-прежнему пуста – никто не попадается навстречу, но степь переменила облик – это уже не равнина; она заволновалась, заиграла тенями, и телеграфные столбы то взбегают на перевалы, то ныряют в мелкосопочник.
Сколько на пути всяких приключений… да некогда записывать. Вот, к примеру, такой досадный случай. Собрались после передышки за Джамантузом смазать оси и оказалось, что нет лагушки, в которой везли полпуда дегтя. Куда девалась! Сорвалась с проволоки, на которую я подвешивал под ходок, а может, что вероятнее всего, осталась в кустах чия на остановке за Калкаманом?
– Чем будем мазать? – встревожился начальник.
– Бараньим салом… – ответил я спокойно.
Когда отъезжали, послышалось потрескивание кузова, в котором ворочался рассерженный начальник и сыпались комплименты в мой и Джуматаев адрес: «Раззявы, ротозеи, шляпы!..».
26 июня
Полдень. Над головой – ни облачка. Солнце льет потоки ослепительного света. Походный термометр показывает 54° С. Измеряю на солнце, потому что редко приходится бывать в тени – в тени телег, когда едим.
Стоим в густой траве, в логу перед пикетом – Кара-Сор. Прибыли час тому назад, проделав ночной тяжелый переезд в 40 верст. Около возов – толпа ребятишек, баб и мужиков, сбежавшихся из соседнего аула (надо сказать, первого аула, который встретили по тракту). Глядят во все глаза, смеются, заглядывают под брезенты. Можно подумать, что впервые видят русских на дороге. Джуматай осаживает их, но это мало помогает. Смельчаки прорываются даже к самому начальнику, сидящему в короткой тени короба. Они ощупывают подошвы его сапог, усаженные толстыми блестящими гвоздями.
Степь совсем гористая. Перед нами в 20 верстах простирается голубовато-серый, как в дыму, гранитный гребень Баян-Аульских гор, закрывший весь мелкосопочник на юго-западе. Я испытываю чувство радости и гордости при виде настоящих гор. Это – не гранитные возвышенности Фридрихсгамма9, по которым я маршировал восемь лет тому назад в запасном батальоне!
Я набрасываю эти строчки, прислонившись к возу. Джуматай поит коней у колодца, а начальник строчит в клеенчатой тетради – «неофициальном дневнике», поглядывая, как мы справляемся с работой. Пишу в минуты передышек на привале, а то и в дороге – на возу, оттого дневник мой краток.
Только что пережили неприятную историю.
Джуматай возился с конями, а я пошел сооружать костер. Порубил черные, пропитанные дегтем концы злополучной оси, подбросил кизяку, зажег и только повернулся за водой, как позади вдруг затрещало, зашумело, загудело…
– Горим! Воды! Скорее!.. – кричал начальник.
Я оглянулся. От костра бежал по ветерку, заливая пышный лог, поток огня – бежал от обоза вниз и краями уже облизывал оглобли.
На помощь бросились казахи. Одни помогали оттаскивать возы, другие, похватав кошмы и брезенты и помочив их в колодце, шлепали ими по языкам огня. Поток огня двигался по руслу лога, потом, поднявшись по склону сопки, разлился ручейками и замер у вершины. Чуть в стороне стояли два стога сена, и, если бы не помощь казахов, огонь добрался бы до сена – и тогда нам не миновать серьезных осложнений с хозяином пикета.
Пожар произошел по моей неосторожности, по неопытности. Надо было сначала подготовить место для костра – обвести его канавой и убрать поблизости траву, потому что сухие степные травы вспыхивают даже от окурка, спички. Пожары гуляют потом по степи неделями. Но откуда было знать об этом мне, выходцу из районов влажного умеренного климата Европейской части СССР?!
Казенное имущество не пострадало. Пострадал лишь я один, когда с босыми ногами сунулся в огонь спасать свои ботинки.
И вот теперь я смазываю бараньим салом волдыри на пальцах ног, а начальник держит бинт и читает мне нотации.
27 июня
Вчера вечером приехали в Баян-Аул и стали на окраине станицы, разбросанной у подножия гранитного хребта. Стоим, будто в оазисе среди пустыни. Контраст с дорогой, утомившей за 4 дня зноем, пылью и голым мелкосопочни-ком, резкий. Глаза отдыхают на коренастых соснах, поднимающихся прямо из расщелин гранитных скал, на озере, уходящем в темное ущелье, на зубчатой линии залесенного хребта.
Вот где пополню свой дневник: здесь, на 200-й версте от Павлодара, будем отдыхать два дня. Раскинули палатку, а начальник даже развернул походную кровать. Утром он отправился в станицу, захватив Джуматая, а я остался караулить стан. Перед отходом он бросил мне, подавая зеркальце: «Побрейтесь!.. А то вас примут за бандита, когда поедем через станицу».
Я взглянул на себя впервые со дня выезда из Семипалатинска – чудеса!.. На меня глядел загорелый дядя, заросший до ушей черной, густой щетиной в рыжих пятнах. Из щетины выставлялся темный нос, на котором светились розовые крапинки новой молодой кожи. Над пестрым носом висела крыша козырька, отбрасывавшая густую тень на подозрительно блестевшие глаза. Я посмотрел на черные, потрескавшиеся пальцы, на вымазанные дегтем шаровары, на марлевую повязку на ноге. Действительно, передо мной был, мягко выражаясь, «субчик», не вызывавший к себе особого доверия.
И вот я бреюсь у телеги, поглядывая на лошадей. Вспоминаю оставленную позади дорогу – мое первое экспедиционное крещение, потребовавшее напряжения сил, о котором мало что говорят рассказанные выше 2—3 инцидента, да «минули», «привалили», «оставили за собой 100 верст» и прочие общие слова, записанные в дневнике.
Вот глухая ночь, глухие сопки под мерцающими звездами и наши две подводы, да телеграфные столбы на глухой дороге. Я клюю носом и вздрагиваю от толчка, подхватывая на лету фуражку. В узком кузове негде лечь, разве только с риском свалиться на дорогу. Это – не лозовый короб, в котором начальник спит, как в люльке. Куда прислонить голову, которую неудержимо тянет вниз! Я наматываю вожжи на руку, опускаюсь на казан10 и отдаю себя на волю лошадей, которые трусят за Джуматаем, подбадриваемые топотом и фырканьем передних коней.
– Го-го-го!.. – доносится издалека.
– Го-го-го!.. – бросаю я в потемки, в которых вспыхивает бледный свет фонарика. Он плывет ко мне и слышатся сердитые выкрики начальника:
– Ну и Джуматай! Опять проворонил столбы, раззява!..
– У вас столбы?! – бросает он, раскачивая снопик света над головами лошадей.
Сонный Джуматай снова пропустил телеграфные столбы, которые отскочили в сторону от тракта и покатил по «свертку».
Я соскакиваю с воза и мы бредем, ощупывая фонариками пыльную дорогу, степь, перепуганных тушканчиков. Опускаемся на корточки, не мелькнет ли над горизонтом линия столбов, прислушиваемся, не загудит ли проволока.
Еще полверсты – и под ногами ровная широкая дорога, которая круто поворачивает в гору. Тракт! Сейчас столбы!
Подымаемся на перевал, шагаем бодро вниз и… Что за наваждение!.. Перед нами на дороге воз – мой воз, от которого пошли искать столбы!
Я свечу фонариком, а начальник визирует компас на перевал, на небо, на голос Джуматая.
– Это – совсем не тракт, а «сверток», который идет черт знает в какую сторону, может быть на Экибастуз или на Майкаин! Тракт должно быть вон где! – показывает начальник на юго-запад. – Давайте, дернем прямо наперерез столбам!
Кричим Джуматаю. Тот поворачивает, и мы «дергаем» по целине.
Возы скрипят, качаются, коренники тяжело вздыхают, пристяжки дергаются в сторону. Лозовый короб вдруг оседает влево. Тройка топчется на месте – Джуматай попал задним колесом в колдобину.
Начальник подводит плечо под правый угол экипажа, я – под левый, а Джуматай, соскочив с воза, замахивает длиннющий кнут: – Раз! Два!.. – Мы нажимаем… – Три!.. – И колесо выдергивается, но одновременно раздается треск – лопается валек под левой пристяжной.
Я забираюсь на ходок и, уронив голову на казан, вздыхаю с облегчением: «Слава богу!.. Теперь хватит Джуматаю канители на добрый час…».
Кажется, не проходит и пяти минут, как уже кричат над ухом, дергая меня за ногу:
– Товарищ географ!.. А, инженер-географ!.. Поехали!
Я поднимаю сонную тяжелую голову и первое, что попадает в поле зрения, – это цепь столбов над волнистым горизонтом в бледном небе, но не на юго-западе, куда мы «дергали», а на востоке.
Вот и тракт, около которого и на котором мы крутились. Подводы тянутся по дороге в гору, а мы плетемся рядом.
Я шагаю, поклевывая носом. Чувствую, что из моих рук выскальзывают вожжи. Подбодриться, что ли! Закладываю вожжи за рукоятку кирки, высунувшейся из ходка. Берусь за трубку, но бодрости хватает только на время перекура. Сон одолевает так, что хоть падай на дорогу. «В самом деле, может, лечь в траву, а там, покуда хватятся да прискачет Джуматай, посплю? Третья ночь без сна!..»
Покачиваясь, я засыпаю на ходу и вижу, будто балансирую на проволоке, подвигаясь к телеграфному столбу, на котором сидит босой Салопий Черевик, уцепившись одной рукой за изолятор, а другой – замахивается на меня огромным чоботом.
– Подходи, подходи!.. – кричит он. – Сейчас как стукну!.. Будешь знать, чертяка! – и швыряет чобот.
Я теряю равновесие и падаю с провода на степь… падаю к телеге. Инстинктивный взмах руки спасает меня от падения, и я передвигаюсь в тыл подводы, чтобы не оказаться под колесами.
– Го-го-го!.. – доносится издалека.
– Го-го-го!.. – отвечаю я, застегивая шинель, раздуваемую порывами холодного предутреннего ветра, шумящего в щетине ковыля.
Над восточным горизонтом белеет небо. Скоро полдень, а мы все тянемся под ярким солнцем в клубах дорожной пыли. Пристяжки ожесточенно хватают на ходу ковыль, коренники тяжело вздыхают. Босой Джуматай ковыляет впереди, подстегивая коней. Вот он оборачивается (в который раз!) – и восклицает, показывая на свой живот:
– Ай, курсак пропал! Совсем пропал!11
– Не ной! – огрызается начальник, выплевывая шелуху подсолнечника. – Думаешь, только у тебя пропал!..
Начальник набил в Павлодаре полные карманы семечками и лущит их всю дорогу даже тогда, когда спит, как уверяет Джуматай.
Наконец-то перед нами – речка. За ней виднеется пикет в ложку. Кони прибавляют шагу, но начинают фыркать, кусаться, лягать себя по животу. Это рои слепней ринулись с долины на свеженькую жертву.
Мы с Джуматаем распрягаем коней, а начальник садится в тень от короба, вытаскивает из полевой сумки клеенчатую тетрадь и строчит, строчит, поглядывая ушедшими в самого себя глазами на коней, на небо, на пикет. Можно подумать, что он пишет трактат по философии.
Солнце жжет, звенят слепни, спутанные кони трутся около ходка, мотают головами, тыкаются мордами.
– Гоните в степь! – кричит начальник.
Я берусь за Джуматаев кнут – и пятерка скачет в степь, но Игрень, каким-то чудом скинув путы, несется к сопкам.
– Держи, держи! – вопит начальник. – Это ж пикет! Сейчас своруют!
Говорят, на пикетах процветает отчаянное воровство: «Только конь за сопку, а там, цап его… и ваших нету!»
Хватаю первую попавшуюся под руки уздечку, ключ от пут и бегу за Вороным. Не так легко поймать этого быстроногого, горячего коня.
Подхожу, спрятав за спину уздечку, но Вороной круто поворачивается задом и готовится лягнуть. После третьей-четвертой попытки удается схватить коня за челку, но тут Вороной пускает в ход зубы. Пока накидываю уздечку да снимаю путы, Игрень оказывается уже на вершине сопки, в тени, под скалистым гребнем.
Вся эта канитель занимает много времени, потому что, когда я возвращаюсь с Игренем, начальник уже уписывает пшенную размазню, а Джуматай – подогревает чай.
Я выдуваю черпак воды и, усевшись возле экипажа, вытираю фуражкой обильный пот, а потом набрасываюсь на размазню.
После чая поим коней, задаем овса, подмазываем оси и, наконец, – какое счастье! – забираемся с Джуматаем под ходок (под экипажем лежит начальник). Затем – сразу засыпаем.
Кажется, не проходит и десяти минут, а кто-то уже дергает меня за плечи и кричит будто издалека: «Товарищ географ!.. А, инженер-географ!.. Поехали!».
29 июня
Отдых вышел далеко не полный. Ночью чередовались с Джуматаем, карауля коней, а днем ремонтировали телеги, сбрую и ездили в станицу к казакам за хлебом и овсом на дальнюю дорогу.
Дни накаляются. Вчера термометр показывал в палатке 36° С. Выехали на заходе солнца. Окраина станицы встретила нас песней. Она приближалась откуда-то со стороны, вероятно, с озера. Мужской голос запевал, а женский хор подхватывал торжественно-печальную мелодию, которую я слышал где-то давным-давно.
Из-за кустов вынырнула на дорогу группа баян-аульских казаков в старых форменных фуражках с алыми околышами, в гимнастерках, в синих шароварах без лампас. Станичники шли с покоса с граблями на плечах – шли неторопливо, в такт песне, в ногу. И уже различались отдельные слова:
- Поедешь по Дону…
- Я выстрою мост —
- Широкий, огромный,
- На тысячу верст.
Казаки козырнули, поравнявшись с нами. А потом пошли дальше, продолжая песню:
- Я стражу поставлю
- Донских казаков…
Дальнейшие слова затихли за поворотом. Мне вдруг припомнился Рижский фронт, полуосвещённый вагон 3-го класса, чёрные, глухие шторы, затягивающие окно, а за ними снег, мороз… Скоро Ассерн12 – немцы близко. Я еду по назначению радистом на крайний правый фланг 12-й армии. В моем купе донские казаки поют, а в соседнем – аккомпанируют на гитаре:
- Я стражу поставлю
- Донских казаков…
Песня глохнет и опять гремит:
- Вот тронулся поезд
- И рушится мост…
За станицей дорога пошла вниз, закрутилась по залесенному ущелью, а потом поднялась на край гранитов. Выехали из оазиса, когда солнце закатывалось за Мурза-Чеку – сторожевую сопку южной окраины Баян-Аульских гор. Сосны, купание в озере, кавардак из свежей баранины, кумыс, которым угощали нас казаки, – все это осталось позади, а впереди – снова голый мелкосопочник, ковыль, дорога без столбов (столбовой тракт покинули перед Баян-Аулом), пыль и осточертевшая пшенная размазня на остановках.
НА ВОДОРАЗДЕЛЕ
4—8 июля
Спасский завод. 250-верстный путь от Баян-Аула оказался более интересным, но и более тяжелым, чем до Баян-Аула. Поднялся выше мелкосопочник, показались синие вершины гор, появились аулы и русские поселки.
Тащились шестеро суток, когда по накатанной дороге, когда по проселку, а когда – и по целине. С большим сожалением вспоминали Павлодарский тракт. По ночам плутали, ложились спать не евши, без воды. На третий день вышел хлеб.
Посёлки, в которых останавливались по дороге, когда-то богатейшие, на сотни хат, представляли грустную картину безлюдья и запустения. Некоторые хаты стояли без стекол и дверей, зияя черными отверстиями. Повсюду одни и те же разговоры: «Богатеи выезжают за Урал – в Расею, а беднякам не на что подняться». «Раньше засевали 30—40 десятин, а теперь 1,5—2». «Пахать не на чем, волов побрали… да и ни к чему!» «Везде прижимки!». «Скотину в степь не выгнать – сейчас своруют». Когда спросили хлеба, поселяне засмеялись, замахав руками: «Что вы! Что вы! какой там хлеб! С самой Пасхи нету!»
Живем в заводской конторе, которую нам уступил управляющий заводом В. Н. Миловидов, вернее, управляющий охраной законсервированного медного завода. Наслаждаемся отдыхом, копаясь днем в архиве. Вечерами – распиваем чай и слушаем увлекательные рассказы управляющего – старого степного волка, рассказы о деятельности англичан, у которых он работал, о былых порядках на заводе, Успенском руднике, нравах населения и современной ситуации в степи.
Вот краткие данные из истории завода, почерпнутые из архивных документов:
В 1852 г. компания русских предприимчивых купцов (Рязанов, Ушаков и др.) купила у казахов участок нынешнего завода площадью 100 квадратных верст за 228 рублей, а в 1902 г. продала его с заводскими сооружениями и рудником французскому горному инженеру за 776 тысяч. Три года спустя инженер продал предприятие английской акционерной компании за еще большую сумму. Компания построила в 1907 г. новый завод, который, по словам Миловидова, давал огромные дивиденды и кормил на сотни верст казахскую бедноту. Главный заработок составляла перевозка руды с Успенского рудника за 115 верст и угля с Карагандинских копей за 45 верст, до которых англичане провели узкоколейную железную дорогу, сохранившуюся и поныне.
Теперь все это огромное предприятие гниет, ржавеет, рассыпается и разворовывается. Охрана, управляемая Миловидовым, не в состоянии бороться с воровством, несмотря на пребывание на заводе отряда ЧОН13.
И Миловидов, и все, с кем приходилось сталкиваться на заводе, говорят о неспокойной ситуации на 48-й пустынной параллели – южной границе нашего района, куда заходят вооруженные шайки Баранкула в 300 сабель, оперирующие на стыке Акмолинской, Тургайской и Сырдарьинской областей.
Сам командир ЧОН признался, когда мы пришли к нему за сведениями, что воровство лошадей и грабежи – нередкое явление даже в окрестностях завода. В конце беседы он заявил, что не пустит нас в дорогу без конвоира и двух винтовок.
9 июля
Утро. Выезжаем со Спасского завода впятером. Добавились конвоир Баймуханов и горный десятник Парфенов, которого рекомендовал Миловидов для разведочных работ на Кайракты.
10 июля
Вечером приехали на Сарысуйский завод, обогащавший успенскую руду на речке Джаксы Сарысу, что в 15 верстах от рудника. Завод сгорел в 1919 г. От него остались две трубы да стенки корпуса, зияющие черными проломами. Немногочисленная охрана тщетно борется с расхищением казенного имущества.
11 июля
Наконец-то Успенский медный рудник! Здесь та же печальная картина запустения, что и в Караганде, на Спасском заводе и в Сарысу. Две черные трубы мертвой шахты, горы добытой руды, обшарпанная саманная казарма, контора, в которой мы устроились, наполовину пустые склады, да дырявые закопченные юрты охранников.
Рабочие-казахи, оставшиеся не у дел, живут впроголодь, питаясь айраном14, разбавленным водой. Кумыс и хлеб – дорогое лакомство на руднике.
Кочевые казахи обеднели. Говорят, за последние 5 лет скотины стало меньше втрое против прежнего и таких богачей, как Асанбек, у которого 150 лошадей, 200 верблюдов и 5000 баранов, единицы от Павлодара до Балхаша.
Кто-то на Спасском заводе пустил по дороге слух, что два инженера едут на Успенку «пускать завод», как здесь казахи называют рудник, и к нам повалил народ просить работы.
12—13 июля
С самого Баян-Аула меня принимают кто за инженера, а кто – за помощника инженера. И здесь на руднике казахи ходят следом и просят устроить на завод.
15 июля
Полдень, зной, в тени – 36° С. Перед конторой, фронтом к югу – наш обоз из трех подвод. Прибавилась телега с упряжкой из волов, на которую погрузили походную кузницу, уголь, ворот, бадью, крепежный лес, горный инструмент. Прибавилось семеро забойщиков-казахов – самых лучших забойщиков на руднике.
Около подвод – всё население от мала до велика. Рваные халаты, грубые потрескавшиеся сапоги на войлочном подкладе, бараньи малахаи, крытые цветным ситцем, бабы в кожаных штанах, полуголые ребятишки, остромордые скелеты голодных псов…
Баймуханов вошел уже в роль охранника. Вооруженный до зубов, он гарцует на Вороном, осаживая любопытных и поправляя на себе то шашку, то винтовку, то увесистый «вессон»15.
Ждем, когда принесут взрывчатку, и тогда – в дорогу на Кайракты, вернее, в бездорогу, потому что за Успенкой нет дорог. Прощай, последний населенный пункт в степи!
16 июля
Двигаемся прямым путем через Тагалы. Остановились в верховье ручья Айса, в дебрях Тагалинских гор, куда приехали глубокой ночью.
Ехали, вернее, плелись около возов со скоростью 3 версты в час. Светила яркая луна, блестели каменные ребра Тагалы, и я, пошатываясь, тянулся сзади, скидывая на ходу сны, один другого фантастичнее, один другого слаще.
Вот когда сказался на нашем транспорте 600-верстный знойный путь! Расшатались спицы в колесах телеги Джуматая, и пострадали кони от несоразмерных хомутов и дрянных седелок, купленных начальником по дешевке в Павлодаре.
После завтрака десятник с Джуматаем взялись за ремонт колес – иначе не дотянуть до Кайракты.
– Пока ремонтируемся, давайте дернем на Конус-Бай, – сказал начальник, указав на гору, под которой мы стояли. – Пожалуй, это самая высокая вершина Тагалы и самая выдающаяся гора в районе. Посмотрим с птичьего полета, что там перед пустынной параллелью, определим высоту над станом, познакомимся по дороге с горными породами, да и потренируемся перед предстоящими маршрутами. Вот вам, инженер-географ, первый практикум по географии. Забирайте компас, барометр, фотокамеру.
Баймуханов вскинул карабин, а я навесил на себя приборы. Вооружившись молотками, потянулись на гору.
По дороге встречались одни порфиры и туфовые лавы, да изредка – дайки гранит-порфиров. Впервые в жизни я шагал по конусу пусть не современного, но все же – настоящего вулкана, извергавшего откуда-то вблизи, может быть, из Конус-Бая, огненную лаву.
Чем выше поднимались, тем сильнее становился ветер, дувший с юга на горячие порфиры. Несмотря па ветер, пекло вовсю – походный термометр показывал на солнце 56° С.
На одном из выступов перед вершиной Баймуханов замер, устремившись на ребристый южный склон, подымавшийся из глубокого тальвега.
– Шшш!.. – прошипел он, осаживая высунувшегося вперед начальника, а потом
– вскинул карабин.
Я глянул на ребристый перевал и чуть не вскрикнул от неожиданности и восхищения. Над скалистой гривой, вероятно, дайкой гранит-порфира, показалась голова, украшенная запрокинутыми назад рогами, которые чуть расходились кверху.
Раздался выстрел, отдавшийся в ущельях многоголосым эхом – и мгновенное виденье исчезло. Баймуханов бросился по склону в обход глубокого тальвега.
– Тау-теке! Тау-теке!16 – кричал охотник, прыгая по камням. Потом побежал по осыпи, спускавшейся на дно тальвега, зашумел щебенкой и перемахнул за гриву.
Мы подождали с полчаса, рисуя себе знатную добычу и, потеряв терпение, полезли на вершину.
Велико было разочарование, когда мы увидели перед собой подымающегося с южной стороны охотника, вытирающего мокрое лицо сиреневым верхом своей татарской шапочки, отороченной лисьим мехом.
– Промазал? – иронически-участливо спросил начальник.
Баймуханов разразился упреками в мой адрес: зачем я уговорил его взять с собой «паршивый карабин», а не привычную трехлинейную «пентопку», из которой «Баймуханов никогда не мазал».
Я пишу эти строки на 300-метровой порфировой вершине Конус-Бая, на выступе одного из гребней Иртыш-Балхашского водораздела, который подымается к северо-востоку и опускается к юго-западу. Нас обдувает ветер с долины Джаман Сарысу – «Плохой Сарысу», струящейся в низком мелкосопочнике южной окраины Тагалинского массива.
На севере и северо-западе громоздятся сопки, синеют вершины высоких гор, а на юге, за Сарысу – желтовато-серая равнинная пустыня, окутанная мглой.
Остывший Баймуханов водит пальцем по южным секторам района, называя речушки, могилы, сопки, родники, а начальник следит за ним, сверяясь с картой, которую я копировал.
– Кайракты! Шоуль-Адыр! Кень-казган!17 Могила Султангазы! Карабчи-караул!18 – выкликает Баймуханов.
– Постой! Постой!. – теряется начальник. – Кайракты и Шоуль-Адыр помечены, а кень-казгана, могилы и караула нет на юге! Что за кень-казган такой?
– Старинный! Золотой! Калмак копал!19
– И могилы нету…
– Могилы Султангазы?! – ужасается Баймуханов. – И карабчи-караула нет?!..
– И караула нет… Откуда ты приплел его?
– Зачем приплел! Всё казах знает, Успенка знает, только твой план не знает!
Конус-Бай стоит на окраине Тагалинских гор, которые тянутся от него на северо-восток насколько позволяет охватить бинокль – на десятки верст.
– И все это огромнейшее поле – из лав и туфов! И только там, где нагромождение матрацевидных глыб, смотрите! – указал начальник на верховье ключа Айса-Там – выходы гранитов.
– А где же самый кратер? – спросил я, заинтригованный местоположением вулкана.
– По рельефу нелегко сказать, потому что это – древние породы. За сотни миллионов лет размыв затушевал черты конуса и кратера. Только детальная, а не наша рекогносцировочная съёмка или счастливый случай покажут их следы. Вот учитесь геологии и разыскивайте корешки вулканов. Благодарнейшее поле деятельности! Половина Иртыш-Балхашского водораздела залита лавами, но где, в каких местах работали вулканы, никто еще не показал.
Мы набрали образцов с вершины, полюбовались на зеленые лога, заросшие осинником и березнячком, сфотографировали гребень Тагалы и потянулись к стану.
19 июля
Позавчера приехали на речку Кайракты – место разведочных работ и исходный пункт наших геологических исследований. Добирались с Павлодара чуть ли не месяц!
Я забыл сказать, что за околицей Успенки к нам пристал черный кудлатый пес Буян, который, говорят, сторожил контору рудника при англичанах. Теперь он караулит палатку, в которой помещаюсь я с начальником, и подпускает к ней только Джуматая и Баймуханова. Отчасти это хорошо, а отчасти – плохо, потому что нас навещают гости. Казахи из тех немногочисленных аулов, которые кочуют по юго-восточной окраине Тагалинских гор, приезжают к нам, кто просто посмотреть на инженеров, кто в гости, а кто – наниматься на завод. При этом они путают, принимая меня за «бас англичан джинджинер», а небольшого ростом начальника – за младшего инженера. Начальник взыскивает за это с Баймуханова, которому поручена не только охрана экспедиции, но и вверены обязанности проводника и драгомана20 в сношениях с коренными обитателями края.
Казахи привозят в дар кумыс, айран, овечий сыр. Сначала мы отдаривали хлебом, чаем, сахаром, но сегодня прикатила кавалькада человек в 20 – где же всех одарить! Лагерь превратился в ярмарку! Баймуханов сбился с ног, наводя порядок, а Буян совсем охрип от лая, потому что визитеры крайне любопытны. Это уже вторая партия гостей; первая – послы-джигиты Асанбека – приезжала утром, привезла турсук21 прекрасного кумыса и просьбу навестить Асанбека на его кочевке по ручью Сюн-баю.
Вчера начальник осмотрел медно-серебросвинцовую залежь и приказал десятнику расчистить английский шурф и проходить новый, а мне – снимать полуинструментальный план месторождения.
Сегодня я снимал, волновался и оскандалился. Уже перед концом работы положил буссоль Шмалькальдера на землю и, зазевавшись, наступил на неё со всего размаху. Стекло рассыпалось на мелкие кусочки, а костяшка с агатовым гнездом лопнула на остром стержне. К моим промахам по дороге прибавился еще один чувствительный: выведена буссоль из строя – шутка ли!.. Меня обдало жаром, потом – холодом! Я продолжал съемку с помощью горного компаса, обдумывая план и доморощенные средства реставрации прибора.
Вернувшись в лагерь, я отпилил кусочек костяной ручки зубочистки, потом взял коробку негативов, планшет, циркуль и, захватив напильник и обломок кварца, отправился под обрыв на речку. И там, вдали от пытливых глаз начальника, которые, казалось, спрашивали: «А что же вы, товарищ инженер-географ, опять устроили?» – я вырезал кварцем круглое стекло, испортив четыре негатива, обточил костяшку, выскреб гнездышко и поставил все на место.
На первый взгляд буссоль как буссоль, но достаточно было приглядеться, как вылезали все дефекты: зазубрины по краям костяшки и стекла и подозрительно неровный ход магнитной стрелки.
Когда я в сумерках подходил к палаткам, начальник, ухмыляясь, спросил меня:
– Снимали Кайракты? Покажите, как выглядит на плане речка!
26 июля
Со дня приезда на Кайракты у нас много визитеров с соблазнительными предложениями показать места заявок на руду. Некоторые привозят для убедительности образцы зеленого «кок-таса»22, бурого железняка, каменного угля, а то и простого камня. Такие предложения оценивают на предмет серьезности и добросовестности сначала горный десятник и Баймуханов и, если заподозривают обман или легковесность, то не допускают к начальнику и даже выставляют за пределы лагеря.
Конец пшенной размазне! Перешли на мясные блюда, если так можно называть дымящий паром бараний суп, который мы вчетвером дружно хлебаем из ведра. Добыванием баранов – мы их вымениваем у казахов на чай и ситец – занимается Баймуханов и, надо сказать, занимается с отменным удовольствием, потому что начальник отдает ему все шкурки.
20-го приступили к геологической съемке, которую ведем с Кайрактинского лагеря в бассейне Кайрацты, берущей начало из многочисленных ключей по юго-восточной окраине Тагалинского порфирового поля.
Рабочий день начинаем в шесть утра. Подымает всех начальник – сначала будит десятника и забойщиков, а потом – нас.
Джуматай теоретически караулит ночью лошадей, а днем – отсыпается, потому что Баймуханов сопровождает нас в маршруты. Практически же он спит и днем и ночью, за исключением часов, когда варит пищу.
– Опять забрался под телегу! Где кони? – слышится сердитый голос начальника.
Я одеваюсь и через широко раскрытый вход в палатку вижу обычную картину: на краю лагеря лицом к речке – на восток – семеро забойщиков совершают утренний намаз.
– Смотри! Смотри! – показывает Баймуханов на склоненные к земле фигуры, обращенные к нам задом. – Какой мортирный артиллерий заимелся! Прямо целый батарей!
Баймуханов – коммунист, религиозных обрядов не выполняет и подтрунивает над забойщиками.
Я отправляюсь за водой, а босой Баймуханов, накинув халат на плечи, присаживается около потухшего костра и начинает разводить огонь. Это одно из его любимейших занятий. Разводит сосредоточенно, методично, молча и так искусно, что костер вспыхивает от первой спички даже в сильный ветер.
Когда я возвращаюсь с речки, огонь уже пылает. Баймуханов макает тряпочку в мою коробку зубного порошка и надраивает эфес шашки. Он – аккуратист и чистюля. Начищает до сияния все, что относится к оружию, и даже пустые гильзы от патронов, которых у него – целая коллекция.
– Сейчас! Сейчас!.. – сердится он, сплёвывая на тряпочку, когда начальник выкликает к завтраку. – Последний грязный гильз остался.
Мы завтракаем, а солнце только лишь показывается из-за Биш-Чеку. Длинные тени, пересекающие Кайракты, подтягиваются к руслу. Пора в маршрут…
Джуматай седлает коней, я рассовываю по переметным сумам мешочки, бумагу для образцов, Баймуханов навешивает на себя оружие, рисуясь перед забойщиками и придираясь к Джуматаю. Начальник строчит в клеенчатой тетради, отхлебывая остывший чай, заправленный клюквенным экстрактом – вода из Кайракты худая.
Ранние часы маршрута проходят оживлённо. Мы бодро взбираемся на сопки, оставляя Баймуханова внизу, при конях. Я с непривычки выдыхаюсь на полпути к вершине, обливаясь потом, а натренированный начальник прет вперед, словно у него в груди не сердце, а мотор, работающий на очищенном бензине. Я часто останавливаюсь, задыхаясь, приглядываюсь к обнажению, будто передо мной необыкновенная горная порода, и начинаю демонстрировать признаки высокого интереса к камню: отбиваю образец, рассматриваю в лупу, царапаю по нему концом финского ножа, прикладываю компас и… тем временем – передыхаю.
– Можно подумать, что вы алмаз нашли – покажите! – кричит начальник сверху.
– Это же обыкновенный жильный порфирит!.. – разочаровывается он, когда я, подтянувшись, показываю темно-зеленый камень с вкрапленными белыми кристаллами, потом бросает мне: – Из вас, инженер-географ, вижу, выйдет толк! Переходите-ка лучше на геологию!
Случаются, как, например, сегодня, особенно горячие и притом почти безветренные дни, и тогда полуденные часы мучительны. Куда деваться от ослепительных лучей! В логах душно, а на вершинах, в коротких тенях нависших скал, нет прохлады. Латунный диск компаса сияет так, что больно смотреть на цифры румбов. Баймуханов топчется внизу, скинув с себя тяжелую винтовку, а мы с начальником ползаем по голым склонам, обтирая обильный пот, глотая тягучую липкую слюну. Пить!.. Вода преследует меня своей соблазнительной прохладой, мерещится в степных речушках, родниках, графинах, покрытых жемчужными росинками.
Мы ощупываем биноклями мелкосопочник, такой живой, рельефный утром и такой мертвый, плоский в полдень. Кажется, он тает в полупрозрачной розоватой знойной мгле. Простор, безмолвие!.. Далекие горы плавают над горизонтом в молочном мареве, над щетиной ковыля дрожит, струится горячий воздух…
Мы пересекаем лога, долины, гряды сопок. К заходу солнца переметные сумы вздуваются от камней и жесткость седла становится непереносимой. Рубцы вчерашнего маршрута так чувствительны, что я, стиснув зубы, ерзаю на седле. Начальник корчится в седле, оглядываясь на конвоира, а тот трусит себе на Вороном, будто сидит на подушках.
– Какой ты кавалерий есть! – зубоскалит он, сплёвывая через плечо зеленовато-бурую табачную слюну. – Тибя армейский пихот ходить, а не джигитский кавалерий ездить!
29 июля
Перебрались к Тагалинскому массиву. На разведке остались одни забойщики да пароконная подвода на всякий случай.
Стоим у прекрасного ключа на северо-восточной окраине Кызылджальской гранит-порфировой гряды. Съемку ведем пешком, потому что за неделю верховых маршрутов разбередились ссадины у коней.
Вчера начальник дал мне самостоятельный маршрут на 30 верст, который оказался интересным совсем не в геологическом отношении. Мне посчастливилось наткнуться на воровскую башню, убить орла и найти загадочный патрон с полустертой английской надписью, о чем расскажу потом.
3 августа
Заканчиваем съемку юго-восточной окраины Тагалин-ского массива и, слава Богу, второй день не видим ослепительного солнца и отдыхаем от изнурительной жары. Но небу ходят тяжелые синие тучи, которые задевают вершины гор и даже спускаются на склоны. Видневшийся вчера на севере пик Сарджала совсем исчез.
Прохладно, перепадают редкие дожди.
4 августа
Сегодня утром перевалили через Тагалы на север, и, когда спускались в бассейн Джаксы Сарысу – «Хорошей Сарысу», выглянуло солнце. К полудню небо совсем очистилось, и перед нами развернулась шириной в 10 верст мелкогорная депрессия, сложенная сплошь гранитами. И вот мы пересекаем эту розовато-серую каменистую ложбину, всю в белесовато-желтых пасмах щетинистого ковыля.
Ведём маршрут на север, подтягиваясь к Асанбеку. Баймуханов и Джуматай в телеге, а мы с начальником – опять в седле. Я разглядываю окрестности, прислушиваясь к шуршанью под колесом дресвы гранитов – характерному мягкому шуршанью, которое я уже научился отличать от жесткого сухого хруста порфировой дресвы.
Мы двигаемся вверх по речке, поросшей тальником. Вода отражает безоблачное голубое небо. Она вкусна и так прозрачна, что на метровой глубине видна порфировая галька. Бледно-зеленая лента низкорослых кустиков бежит к зубчатому гранитному хребту, путаясь в мелкосопочнике. Поблёскивают зеркала тихих плесов, окруженные пышными метелками камыша.
Пейзаж похож на акварель – так нежны краски неба, камня, травы, кустов и так мягки переходы одной в другую.
Вот и подножие хребта. Какой резко подчёркнутый рельеф, какое причудливое нагромождение обточенных гранитных плит и какая тщательность в отделке камня! Можно подумать, что его вырезывал искусный скульптор, а не резец природы – выветривание. Перед нами – ощерившиеся зубцами гребни, сложенные из матрацевидных плит, из-за которых выглядывают колонны, башни, и кажется, что это средневековый замок, обнесенный рядами стен с бойницами. За гребнями крутая лестница уступов, зажатая между балюстрад и перил из даек гранит-порфира – лестница, покрытая темно-зеленым ковром арчи. Над лестницей ребристые усеченные и островерхие конуса и пирамиды, перемежаемые 5—10-метровыми столбами из караваеобразных глыб, неизвестно как удерживающихся друг на друге. И всё это пестрит прихотливой пещеристо-ячеистой резьбой, в которой мерещатся очертания неведомых зверей, чудовищ и непонятных знаков.
Когда поднялись к истокам речки, оставив за собой хребет и Джуматая с Баймухановым, увидели невдалеке пик Кос-Чеку, к которому и направились, чтобы поглядеть с вершины на северную границу Успенского района и подправить карту.
Восхождение на Кос-Чеку предстояло далеко нелегкое, и мы, покинув коней у подошвы, отправились пешком.
Хотя высота вершины оказалась по анероиду всего 350 метров над подножием, на подъём ушло более двух часов. Еще ни разу не приходилось одолевать таких крутых склонов – они доходили до 50—60° С.
Как я ни пыхтел, нагруженный рюкзаком с камнями, карабином и анероидом, все же начальник опередил меня. Когда, пошатываясь и обливаясь потом, я взобрался на вершину, он уже сидел на ней и строчил в клеенчатой тетради, поглядывая на панораму северного мелкогорья, исчерченного тенями. От Кос-Чеку тянулся высокий пузатый массив Бугалинских гор, похожий на слона или мастодонта. Назвали его так потому, что воображению казахов он рисовался «бугу» – маралом, или потому, что в старину сюда заходил марал.
Мы опять попали в полосу лав и туфов. Вулканические породы начались от Кос-Чеку и, судя по рельефу, слагают Бугалы и все северное и северо-западное мелкогорье. Мы долго разглядывали северный рубеж района, сверяясь с картой, и убедились, что напутаны горизонтали и смещены главные высоты. После засечек Кос-Чеку оказалась ближе к рамке карты, а могилы у подножия – дальше к югу.
Потом стали ощупывать биноклями лога, спускавшиеся к Сарысу, верховье речки, по которой вели маршрут, и здесь заметили большой аул, джигитов, суетившихся около белых юрт, верблюдов, баранов, жеребят… Вот где Асанбек! Вот где напьемся кумыса!
Так думал я, спускаясь с пика, не подозревая, что Вороной готовит мне сюрприз и, если бы не счастливый случай, то не видать мне ни Асанбека, ни кумыса.
Гнедой и Вороной – мы их стреножили поводами от уздечек – бродили у подножия, пощипывая травку. Они растреножились, и повода тянулись между ног. Усталый, я подошел к Вороному, надо сказать, привыкшему и благоволившему ко мне. Только я наклонился за концом уздечки, как мелькнули задние копыта, вооруженные блестящими подковами… Удар пришелся по левому бедру. Одновременно под левым ухом лязгнула разболтавшаяся левая подкова, но рассекла не лицо, а воздух. Так я и не поднял конца уздечки, «зашедшись» от удара.
Начальник сам справлялся с лошадьми, погрузив на Вороного карабин, рюкзак с камнями, анероид – я не мог подняться на седло.
И вот потянулись к истокам речки я, долговязый Дон Кихот, ковылявший за Россинантом и флегматичный коренастый Санчо на Гнедом – благоразумный Санчо, который всю дорогу наставлял меня в благоразумии и осторожности.
Подводы оказались недалеко от Кос-Чеку и. когда мы втянулись в лог главного истока, там уже блестел огонь костра и белели две палатки, раскинутые Джуматаем и Баймухановым.
Я пошёл к ручью, вытекавшему из родника под сопкой. Здесь я стал накладывать холодный бинт на темно-синий след подковы – к счастью, удар пришелся с левой стороны четырехглавой мышцы. У родника оказался Джуматай, набиравший воду в ведра. Когда я рассказал о приключении, приятель поглядел на чёткий темный отпечаток, потрогал рану корявым черным пальцем и проронил: «Я думаю, Ваныч, это за то, что ты стрелял беркута».
Возвращаясь в лагерь, я заметил, как со склона сопки скатился джигит на рыжем степнячке и помчался в нашу сторону. Подъехав к Баймуханову, он лихо изогнулся над шеей лошади и, проговорив что-то скороговоркой, полетел к устью лога.
Баймуханов бросился к начальнику, раскладывавшему за палаткой камни, потом сунулся к телеге, и, схвативши шашку, револьвер, винтовку, стал лихорадочно вооружаться.
– Куда ты? Что случилось?! – крикнул я.
– Асанбек идет!.. – отрезал конвоир и, показав на лог, повернул затвор винтовки.
В самом деле, по логу двигались десять верховых в сопровождении худых рыжеватых борзых.
«Если Баймуханов хочет показать, что он важная персона при русских инженерах, или, как это заведено степным церемониалом, задумал оказать особое почтение первому богачу Акмолинской области, то какого чёрта он зарядил винтовку?» – недоумевал я.
Группа приближалась, верховые перешли на шаг. Впереди выдавался рослый грузный человек в черном длиннополом, с длинными рукавами ватнике и черном малахае, подбитом рыжим мехом. В отличие от прочих всадников на нем были не азиатские сапоги с байпаками, а русские с блестящими новыми калошами. «Не иначе как Асанбек…» – подумал я.
Левее Асанбека гарцевал джигит на рыжем степнячке, а правее перебирал тонкими ногами, вздергивая красивой головой, серый породистый жеребчик, которого горячил франтоватый парень в серой «тройке». Из-за жеребчика выставлялось оцинкованное новое ведро, придерживаемое на весу последним всадником.
Начальник шагнул навстречу, а Баймуханов, отскочив от меня налево, приподнял винтовку. Асанбек, сдержав коня, махнул рукой свите. В тот же миг раздался гулкий выстрел, от которого у меня зазвенело в левом ухе.
Всадники порхнули в стороны, как воробьи, встревоженные кошкой. Начальник яростно замахал на Байму-ханова, потому что конвоир готовился пальнуть еще раз.
Когда Асанбеку разъяснили, что стреляли в честь его прибытия, высокий гость, сияя, заявил, что приехал к нам с визитом дружбы и просьбой навестить его аул, который сочтёт за большую честь визит английских горных инженеров. Потом взял оцинкованное ведро из рук джигита и передал начальнику.
– Шампан!23 Кароший! Первый сортный! – аттестовал Асанбек, коверкая русские слова.
На три четверти ведро было наполнено кумысом, оказавшимся, как потом мы убедились, действительно отличным: холодным, чистым и в меру кислым и хмельным. Как он не расплескался во время суматохи!
Разговор велся через Баймуханова и парня в сером, хорошо говорившего по-русски. Парень отрекомендовался сыном Асанбека – «комсомольцем и гимназистом».
Начальник ответил Асанбеку, что мы не англичане, а советские русские горные инженеры и даже показал мандат, в котором было обозначено по-русски и по-казахски, кто мы и зачем приехали. Гость живо возразил, что это даже лучше, что «советско-русские», потому что англичане – чужаки.
Дар пришлось отдаривать и, чтобы не портить добрососедских отношений, начальник, скрепя сердцем, отвалил по совету Баймуханова полкирпича чая – царский дар по тому времени, потому что за полкирпича мы выменивали на Кайракты «тохтушку» – годовалого барашка.
Вопреки ожиданиям, визитеры не задержались и через какие-нибудь полчаса отправились назад. Мы дали слово Асанбеку навестить его завтра утром.
5 августа
«Завтра» началось безоблачным, безветренным прекрасным утром. Погода, видимо, установилась надолго, если не до конца сезона.
Отправились с визитом втроем: начальник, Баймуханов и я. Джуматая оставили караулить лагерь. Несмотря на близость Асанбека, двинулись верхами, так как Баймуханов категорически был против пешего хождения.
– Никакой казах пихотом гостям не ходит! Верхам идет! Пихотом только до ветра ходит! – горячился конвоир, седлая коней.
– Мы же не казахи! – сердился начальник. – Зачем лошади, если до аула полторы версты, не больше! И потом не забывай, что мы – геологи.
– Какой ты умный есть! Казах подумает, что ты джатак!
Я предложил комбинированный способ передвижения: конвоир едет верхом, а мы – пешком…
– Придумал тоже!.. – фыркнул начальник. – Хотите походить на арестантов, которых конвоирует охранник!?
Пришлось пойти на уступки, потому что Баймуханов заявил решительно, что иначе не пойдет. Потом возникла проблема экипировки конвоира, который пожелал явиться непременно при полной форме и требовал винтовку, а начальник говорил, что винтовка ни к чему. «Асанбек подумает, что мы не доверяем такому почтенному лицу. И потом, какой же хороший человек ходит с винтовкой в гости к хорошему приятелю!» доказывал начальник.
Баймуханов сдался и, пристегнув «вессон», навесил шашку, начищенную до сияния.
За перевалом, отделявшим наш лог от соседнего, показались кучки баранов, пастухи с сойлами, кобылы с жеребятами, казашки с вёдрами. С вершины второго перевала развернулся овальный лог, в котором мы увидели аул из десятка юрт: трех больших белых, стоявших кучкой посредине, и семи – поменьше, посерее и победнее, разбросанных вокруг.
Аул казался оживленным больше, чем это я наблюдал в других местах. Около юрт топтались привязанные к кереге24 оседланные кони, а между юрт шныряли верховые, бабы в шароварах и белых паранджах, полуголые ребятишки, рыжие борзые. Из-под больших чугунных казанов вились дымки, затягивавшие голубым прозрачным флером юрты, вершину лога, склоны сопок. Нос приятно щекотал терпкий кизячий дым, к которому я уже привык, как к «дыму своего отечества». Потом мне показалось, что понесло бараньим варевом – показалось, вероятно, потому что пять дней мы сидели на затирухе, подправленной сушеной воблой.
Как только мы поднялись на перевал, по борту лога покатился вниз лихой джигит на рыжем степнячке (видимо, дозорный) и полетел в аул.
Перед большой юртой из новых кошм, украшенной под конусом красно-чёрной вязью восточного узора, нас встретил Асанбек с чадами и домочадцами и вчерашней свитой. На этот раз он был эффектен в своём костюме. На голове красовалась тюбетейка из золотой парчи, а из-под черного широкого халата выглядывала розоватая пестрая рубаха, спускавшаяся на широченные, как у Тараса Бульбы, шаровары из голубого ситца, разукрашенного красными пионами. Шаровары нависали над ичигами канареечного цвета, а ичиги кончались новыми галошами, сиявшими на солнце.
Вокруг толпились и шумели ребятишки, бабы, мужики, глазевшие на нас и, как мне тогда показалось, главным образом на меня и Баймуханова, ехавших позади начальника. Конвоир привлекал народ блестящей шашкой, а я – биноклем и фотокамерой, которые болтались на груди.
Когда нас ввели в юрту, первое, что я заметил, это большой красивый беркут, сидевший неподвижно на беёзовой суковатой стойке правее входа. Голову орла прикрывал конусообразный чёрный колпачок, из-за которого неподвижный орел казался мрачным, мёртвым, скорее музейным чучелом, чем живой птицей.
Нас усадили на войлочном ковре у сундуков, украшенных полосками блестящей белой жести. Как только все уселись, Асанбек выразил желание посмотреть бинокль – «волшебную турбу», через которую, как ему говорили, можно видеть за версту дрофу, лисицу, зайца и даже каратургая25 в небе.
Асанбек долго манипулировал «турбой», приспособляя ее с далека то к одному, то к другому глазу, будто целился из револьвера. Пришлось продемонстрировать бинокль за юртой и после долгих упражнений владетельный хозяин навел бинокль на вершину лога, в котором бродили аульные коровы.
– Сиир, сиир! – завопил он, засмеявшись, будто увидел своих коров, которых считал давно пропавшими.
Во время упражнений сбежалось почти все население аула – и все просили показать «турбу», и каждый протягивал к ней руку.
После демонстрации бинокля сын Асанбека пригласил меня к себе познакомиться с его молодой супругой, которая хотела посмотреть не только на бинокль, но и на аппарат, «снимающий людей на карточки».
– Уже женаты? – удивился я, посмотрев па него.
– Думаете, я хотел? – поднял брови юноша. – Нисколько! Отец заставил! Такой закон… Вот и юрта, подаренная мне отцом, заходите.
В глубине юрты мне бросился в глаза балдахин из оранжевого шелка, расшитый парчой и блестками. Поверху тянулся карниз ястребиных перьев. Под балдахином на возвышении из цветных ковров сидела бледнолицая и совсем юная красавица, похожая из-за узкого разреза глаз на китаянку – «дунганская княжна», как мне шепнул за юртой Баймуханов. С головы княжны спускался, прикрывая плечи, халат-накидка из сиреневого бархата. На руках блестело серебро многочисленных браслетов.
Правее балдахина возвышалась никелированная кровать с горой подушек, а левее стояли в ряд сундуки, покрытые узорчатыми одеялами. На одном из них лежала стопка книг, и на верхней книжке я прочел – «Анна Каренина».
Княжна заинтересовалась больше фотокамерой, чем биноклем, и попросила снять ее с супругом. Когда я фотографировал молодую пару, супруг беспокоился, выйдет ли на снимке его перстень с большой печаткой, на которой можно было разобрать буквы витиеватой восточной надписи.
Вернувшись в юрту Асанбека, я увидел аксакалов и джигитов свиты, сидящих вокруг низенького азиатского стола с объемистыми расписанными фарфоровыми чашками, а перед входом – большой казан с бараньим варевом, распространявшим аппетитный дух.
Асанбек засучил рукава рубахи и пробормотал хвалу Аллаху, поглаживая лицо и реденькую бороденку. Затем он стал вытаскивать руками куски баранины и подавать присутствовавшим: сначала начальнику, потом мне и Баймуханову, а потом – и остальным (в порядке старшинства и знатности). Это был Лукуллов пир, если не по числу, то по объему блюд и по той жадности, с которой гости накинулись на мясо.
Но вот раздалось бульканье у стенки юрты – это лихой джигит перемешивал кумыс в огромном, повыше метра, турсуке, выдергивая и вталкивая длинную деревянную болтушку. Он наливал, а старшая супруга Асанбека подавала гостям литровые кисе, которые опорожнялись без задержки. И только я один оказался позорным исключением, так как второе кисе вытянул с полным равнодушием, а третье – с передышками и отвращением. Когда я оставил кисе недопитое наполовину, Баймуханов шепнул мне на ухо, что такое не годится – хозяин сочтет за оскорбление. Пересилив отвращение, я дотянул до дна и пожалел…
Меня вдруг потянуло вон из юрты. Пошатываясь, я добрел до вершины лога, в котором бродили аульные коровы, а затем опустился в чашу чия.
– Какой ты баба есть!.. – услышал я над ухом знакомый голос и, повернув голову, увидел вдалеке юрты, которые уже отбрасывали тени, а над собой – Баймуханова.
– Давай вставай! Начальник приказал – пора домой, по палаткам!
7 августа
Вечером вернулся Баймуханов, отвозивший сыну Асанбека фотокарточку. Он привез барашка и дурные вести.
Джигиты Асанбека сообщили, что на Кайракты неблагополучно: рабочие бросили работу и ждут начальника. Мука, которую мы везли из Павлодара, кончилась, а новую, вопреки обещаниям Миловидова, еще не привезли с Успенки. Джигиты передали, что если бы и привезли, то все равно рабочие не работали бы, так как и в новый шурф, и в старую английскую разведочную шахту по-наползало так много змей, что даже сам Парфенов не решается сунуться под землю.
– Коп! Джуван! Улькун Узун26!.. – плевался Баймуханов и, раскинув руки на весь размах, добавил:
– Такой! Три аршин! Джигит все видел!
Хотя это «видел», несомненно, сгущало краски, все же пришлось задуматься. Решили сократить съемку в северо-западном углу и торопиться на разведку, до которой напрямки оставалось 30 верст, а с заездом на восточный конец гранитной полосы – и все 40, если не 50.
Пора уже выбираться с кочевок Асанбека, так как в логах появились тучи оводов, слепней и мошек, от которых звенит, дрожит весь воздух. Мы спасаемся в дыму костра, а кони забираются на сопки и, сбившись в кучу, трутся, мотают головами, кусаются, лягают себя по животу, а потом, разлетевшись, носятся по склонам и опять сбегаются друг к другу. Тяжело смотреть на когда-то здоровенного, а теперь – сильно сдавшего широкогрудого Игреня, к тряской рыси которого я привык после вероломства Вороного.
11 августа
Голодные, тянемся мы второй день на разведку. Вчера вышла вся мука, крупа, баранина. Добрую половину мяса растащили асанбековские псы, когда мы занимались съемкой. Джуматай и Баймуханов развесили на оглоблях провялить куски баранины и, надо полагать, заснули под телегой. Но как пробрались псы к веревке и как их прозевал Буян – уму непостижимо!
Тянемся по целине, скорость наша – 3—4 версты в час. Джуматай на возу, а мы втроем плетемся сзади.
Я слышу, как надрывающе противно скрипят колеса, как тяжело вздыхает, фыркает Игрень. Бедняга почти один везет по целине тридцатипудовый груз, налегая кровоточащей грудью на хомут. Видимо, он понимает, что на него вся надежда, еще бы, коренник! Пристяжки больше путаются, дергаются да хватают по пути ковыль.
Воз утяжелился камнями, заполнившими ящик. Мы наложили их еще и в короб. Джуматай в который раз предлагает начальнику выкинуть все камни, уверяя, что на Кайракты наберет таких же, если не лучше.
– Баймуханов!.. – кричит усталый, голодный, разгневанный начальник. – Объясни, наконец, этой рыжей шляпе, что нам нужны не просто камни, а именно – с тех сопок, по которым ходим!
Я забыл сказать, что перед отъездом из Павлодара Джуматай купил себе рыжий шапокляк – нечто среднее между старинным гречневиком среднерусской полосы и западноевропейской модной шляпой. Джуматай никогда не снимает его с головы и даже спит в нем.
12 августа
Только на заходе солнца добрались до Кайракты и с облегчением узнали, что сегодня утром привезли муку с Успенки. На разведке – ликование.
Парфенов сообщил, что руда появилась на четвертом метре, а на пятом стала подтекать грунтовая вода. Он подтвердил, что из-за змей забойщики действительно отказываются спускаться в шурф.
– На первых метрах не примечали, – рассказывал десятник, – на третьем, слышим, зашипели, на четвертом, глядим, кидаются из щелей, а на пятом пошло такое, что прямо, как кипяток в котле!.. Сами увидите! И откуда лезут! Не иначе, как снутри. И динамит не действует!.. Проклятые!
13 августа
Утром отправились знакомиться с результатами разведки. Около шурфа, над которым возвышался старый вороток, нас уже поджидали десятник и забойщики.
Начальник приказал отцепить бадью и спустить кирку. Парфенов развернул барабан и когда подтянул веревку, у рукоятки кирки показалась пестрая гадюка, которая скользнула в темноту. Раздался плеск…
Вода поднялась уже на целый метр. Дальнейшая проходка представлялась затруднительной даже помимо змей. Оставалось только осмотреть стенки выработки, да зарисовать, где руда.
Начальник нахлобучил на уши фуражку и, подняв воротник куртки, показал Парфенову на тяжелую бадью.
– Плюньте, товарищ инженер! Не лазьте! Я и без рисованья покажу, как идет руда. А то неровен час…
– Бадью! Фонарик!.. – приказал начальник.
Я подал электрический фонарик и мы, столпившись у шурфа, глядели, как он шагнул в бадью и как, сжавши рукоятку молотка, стал опускаться в сырую темную квадратную дыру.
Вот белый верх фуражки уже над третьим метром…
– Стоп! Держи!.. – услышали мы глуховатый голос и вслед – брань и стук по дереву, по камню.
Я нагнулся над отверстием и увидел яркий сноп фонарика, скользивший по деревянной редкой крепи, мелькание омерзительных жгутов между пластин, молниеносные взмахи молотка, стремительные повороты головы сражавшегося… Кто ожидал от начальника такой прыткости и смелости!
– Ай, шшай-тан! – изумлялись старые забойщики, прищелкивая языками и перескакивая с одной стороны шурфа на другую.
– Ну и вертлявый!.. Язви его!.. Гляди, гляди, как щёлкает! – восхищался старый горный волк Парфенов.
Однако на четвертом метре, еще не закрепленном деревом, начальник запросил пардона, крикнув: «Подавай!» Когда его извлекли на свет божий, мы увидели бледное лицо, оживлённое блестящими глазами, а потом – молоток и куртку в кровавых брызгах.
– Ну что?! Как?! Не укусили? – набросились мы на храбреца.
– Да ничего! Как видите… Не съели… И, кажется, не укусили.
Он опустился на копок и попросил папиросу. Я удивился, потому что помню, начальник говорил, что бросил курить при поступлении на службу в Геолком, т. е. три года тому назад.
В глазах казахов, столпившихся около инженера, я видел такое любопытство и такую пугливую почтительность, будто перед ними сидел не он, а Магомет, пришедший из Медины.
Начальник зарисовал шурф по образцам пород в отвалах и по указанию десятника, а потом приказал закрыть дыру и проходить канавы, пока мы будем обследовать южную пустынную часть района.
14 августа
Готовимся к отъезду. Южные маршруты представляются нелегкими. Район, транспорт, продовольствие и даже карты – всё худое.
– Рази это транспорт!.. – восклицает Парфенов, постукивая молотком по кузову телеги с коробом, распростертой на земле, по рассохшимся колесам, лежащим около. Он недоволен – начальник поручил ему отремонтировать телеги. – Это же не транспорт!.. – Тра-та-та, тра-та-та – выстукивает молоток по шинам, отставшим от ободьев… – Настоящий губтрамот27.
Начальник поднимает голову от клеенчатой тетради и минуту глядит, задумавшись, на колеса, телегу, на Парфенова. Потом переводит взор на Джуматая, на Баймуханова, которые, бранясь, топчутся около коней, первый с жестянкой дегтя, а второй с палкой, обмотанной тряпицей. Баймуханов макает тряпку в деготь и мажет по гноящимся припухшим ссадинам на груди Игреня и на хребтах Чалого и Вороного.
– Говорил, хорошо смотри хомутам седелкам! А ты какой смотрел! – кипятится Баймуханов, переходя с казахского языка на русский, что делает всякий раз, когда пробирает Джуматая поблизости начальника. – Пачиму не давал кашомка?
Надо сказать, что мы хватились смягчать хомуты, седла и седелки, подкладкой из кошмы, когда добрались до Успенки, когда уже появились ссадины. Виноват в этом был не только Джуматай, но и я, и сам начальник, купивший хомуты, седелки раньше, а лошадей – потом.
Не лучше обстоят дела с фуражом и продовольствием. Овса осталось всего два мешка, а надо – минимум четыре, потому что за Сарысу трава худая. Муки осталось треть мешка, а до 10 сентября – до конца работ – надо по меньшей мере полмешка. Крупа, консервы кончились ещё до Асанбека. Барашка, которого Баймуханов выменял вчера с большим трудом, начальник поделил с забойщиками, и меньшей части, пришедшейся на нашу долю, хватит только на неделю. На барашков в будущем нет надежд, так как впереди безлюдье – глухой пустынный мелкосопочник. Начальник подбадривает нас слабыми надеждами на уток, на дудаков.
– Какой ты ничего не понимаешь есть! – сердится Баймуханов. – Никакой дудак за Сарысу не ходит!
– Ну, подстрелим архара или горного козла, и тогда мяса на целый месяц!
– Подстреляй лучше змея, фаланга! – смеется Баймуханов.
Ко всему прочему я обнаружил отсутствие в продовольственном ящике сахара и урюка, хранившихся в беленьких мешочках. Куда они девались! Когда стал искать в других ящиках, подошел смущенный Джуматай и, оглянувшись на начальника, сказал тихонько: «Не искай, Ваныч!.. Джащик запирал…»
– Кто запирал, какой ящик? – удивился я.
– Начальник… Свой джащик… Сегодня палаткам ставил. Сам видел.
Можно было поверить Джуматаю, потому что за начальником уже давно замечалась слабость к сладкому, которого оставалось не больше, чем на десять дней. И потом сегодня утром я увидел на никогда не запиравшемся вьючном ящике начальника новенький замочек. Может быть, инженер задался целью растянуть сладкое до конца маршрутов? Посмотрим!..
Единственное, что нас подбадривает по части продовольствия, так это – старый добрый мешок воблы, которого при экономном пользовании хватит до конца работ.
Я пишу при свете оплывающей свечи, напротив гармонично всхрапывает начальник, уронив клеенчатую тетрадь на вьючный ящик с навешенным замочком, в палатку заглядывает Буян в надежде на подачку, а за палаткой разговоры, прерываемые плевками и лязганьем металла. Это Баймуханов надраивает шашку, рассказывая Парфенову и забойщикам что-то очень интересное, вероятно, свои похождения в отряде ЧОН, потому что время от времени, кто-нибудь из слушателей вскрикивает: «Тамаша!» «Удивительно!»
Луна висит над речкой, свет пробивает верх палатки. И мне придется перекрыть ее одеялами, шинелью, кошмами, чтобы проявить пластинки, заснятые по дороге на Кайракты. Легко сказать – проявить пластинки, когда эта возня в примитивных палаточных условиях продлится до самого рассвета, а там уже – подъём. «Вставайте, инженер-географ! Подымайтесь!» Сборы, запряжка, сутолока, перебранка Джуматая с Баймухановым, окрики начальника и дорога по маршруту на «Плохую Сарысу».
НА ПУСТЫННОМ СКЛОНЕ
15 августа
Утром двинулись вниз по речке, но от могилы Байтала, где соленая Караганда впадает в Кайракты и начинается Джаман Сарысу, повернули на верблюжью тропу, которая прихотливыми зигзагами повела нас в юго-восточный сектор.
Открылась пустая выжженная желтовато-серая равнина, тянувшаяся до горизонта – до узенькой полоски синих гор. По сторонам чуть обозначались низенькие грядки унылых голых сопок.
Из-за дефектов транспорта, скверной карты и плохих опорных точек двинулись, не разделяясь, пешью. Баймуханов с Джуматаем при подводах, а мы с начальником – по сторонам обоза, не выпуская его из вида.
Несмотря на то, что въехали в район действий Баранкула, Баймуханов удивительно беспечен. Он при одном «вессоне». Винтовку, шашку сунул под веревку, опоясывающую воз, и рассуждает так: «Баранкул теперь на Чу, сидит комиссиям28, шампан пьет, биш-бармак кушает. Зачем пойдет на Джаман-Шоуль? Какой ему тут дело есть!»
Солнце поливает убогую потрескавшуюся землю горячим светом. Мы без рубах. Начальник скинул даже шаровары и шагает по равнине с томиком Ахматовой. Он то вскидывает книжку, отстраняя ее далеко от глаз, то опускает, шевеля губами и размахивая молотком в такт размашистого шага.
– Ваныч! – подзывает меня Джуматай и, когда я подхожу к подводе, спрашивает, понизив голос: – Скажи, паджалуста, начальник молится?
Джуматай заметил, как хозяин квартиры в Павлодаре молился по молитвеннику, отставляя его далеко от глаз.
– Молится.
– Зачем?
– Чтобы Аллах послал нам хороший кень-казган.
Тропа подкручивает к восточным грядам. Мы поднимаемся на низкий перевал и левее далеких гор видим столбы дыма, подпирающие небо. Раз, два, три, четыре… не перечесть! На рубеже района большой пожар.
Трава сухая и жёлтая. Кажется, стоит бросить спичку – и равнина вспыхнет, будто стог сена. Баймуханов следит за мной, единственным курильщиком в отряде, заплевываю ли я окурок и не роняю ли его.
Начальник оглядывает горизонт мечтательными глазами. Потом, стряхнув стихи Ахматовой, бросает мне профессиональный призыв: «Товарищ географ! Обнажение!»
Я ищу на плоском взгорье обнажение – выходы коренных пород, но нахожу щебенку зеленовато-серых сланцев. Из чего складывать копок, да и стоит ли, раз заметна только вершина Конус-Бая, а прочие ориентиры стушевались или попадают в створу Конус-Бая.
Начальник визирует на Тагалы, на Сарысу, разглядывая пустую карту, на которой по западному краю ползёт наискосок единственная надпись, очерченная одной горизонталью: Шоуль-Адыр – Голодные сопки.
– Как думаешь, сколько мы проехали? – спрашивает начальник конвоира.
– Может, десять, может, двадцать верст!.. – отвечает сердито Баймуханов. – Все равно воды нет и камень нет. Говорил тебе, зачем идешь такой паршивой Джаман-Шоуль?
Я засекаю начало Джаман-Шоуля, но косые засечки отбрасывают его от Сарысу на пятнадцать, на тридцать километров.
Столбы дыма становятся чернее, выше, гуще. Фронт огня движется, по-видимому, наперерез нашему пути.
Мы долго крутимся на перевале в поисках коренных пород, ощупываем биноклями безводный Джаман-Шоуль, охваченный на юго-востоке большим пожаром, потом подаемся к югу. И после четырехчасового перехода по краю кочковатой щетинистой равнины замечаем зимовки, приткнувшиеся к низенькому мелкосопочнику, повыше – куполообразную могилу, а пониже – зеленую лужайку. Вода?..
Когда подтянулись, увидели три полуразваленные казахские зимовки, запущенный колодец, остатки недавнего костра, сооруженного из выдернутых из зимовок палок, и свежеобглоданные бараньи кости.
Баймуханов, с «вессоном» наготове, обегал могилу, зимовки, заглянул внутрь каждой и стал шарить по земле, утоптанной копытами.
– Смотри! Смотри! – крикнул он. – Железный! Кованый!
Земля около колодца была покрыта следами кованых коней, но… чьих? Милиционеров или бандитов? Ответ нашли в кустах чия. Я вытащил оттуда старую войлочную шляпу с разрезом, отороченную вдоль и поперек черным кантом, какую носят забалхашские киргизы да басмачи из шайки Баранкула. Из шляпы выскользнула обойма пустых винтовочных патронов.
Мы поднялись с начальником на сопку, осмотрели все окрестности до горизонта, но, кроме передвинувшихся к северу дымовых столбов, ничего подозрительного не обнаружили. Глухая знойная пустыня, на которой уже лежали тени, была по-прежнему безжизненной.
Начальник приказал не разводить костра. Мы пожевали сушеной воблы, баурсаков, запили плохой водой, которой не хватило напоить коней, и улеглись около возов, не раздеваясь. Баймуханов взялся караулить до рассвета. Когда я пришел на смену, он крепко спал в чие29, навалившись на винтовку.
17 августа
Вчерашний день принёс нам испытания, каких не приходилось переживать с начала экспедиции.
Уже на рассвете запахло гарью. Солнце поднялось в полупрозрачной серой мгле, которая к 9 часам заволокла окрестности, закрыв единственный ориентир на севере – вершину Конус-Бая.
Судя по вчерашней косой засечке, мы ночевали на западной окраине Джаман-Шоуля, где-то посредине между его началом у Сарысу и концом на юге. Решили обследовать сначала край Голодных сопок, а потом прихватить южную окраину Джаман-Шоуля, насколько позволит мгла, вода и фронт пожара. Нельзя было сказать, куда он двигался, потому что ветра не было.
Начальник долго записывал в дневник соображения о геологическом строении Джаман-Шоуля, потому мы выехали поздно. Пекло вовсю.
Несмотря на сильный жар, Баймуханов не скидывал рубахи. Он ехал впереди вооруженный, в полной форме, весь превращенный в слух и зрение. Я заменял его при подводе, а начальник вёл в стороне маршрут.
Плелись по компасу, пересекая гребешки мелких выходов песчаников и сланцев, лавируя по кочковатым извилистым логам, в которых было душно от кара-джу-сана – степной полыни, появившейся от Джаман-Шоуля. Томила такая жажда, что к полудню высосали всю мутную противную сладковатую воду, захваченную в чайник на крайний случай. Голодные, непоенные кони вихлялись в стороны за редким ковылем, подолгу передыхали, понурив головы. Начальник уже не вытаскивал из сумки стихи Ахматовой. Он то удалялся от возов, насколько позволяла мгла, а то брал с собой Баймуханова и тогда уходил далеко, подавая сигналы криками, а мы с Джуматаем надсаживались, отвечая тем же.
К трём часам кони выбились из сил и в ответ на энергичные настегивания вздрагивали мокрыми опавшими боками, не прибавляя шагу. В другое время Игрень шарахнулся бы от змеи, а теперь даже не вздрогнул, когда под самой его мордой переползла дорогу пёстрая гадюка.
Остановились посовещаться, что предпринимать, стали прикидывать и тут, на втором экземпляре карты, в южном конце Шоуль-Адыра заметили кружочек с неразборчивой надписью. Вероятно, я пропустил его при копировке. Начальник уцепился за кружочек, как за непременный признак ключа или колодца и приказал не отступать – идти на юг.
К пяти часам мгла поредела. Обрисовался горизонт на юге, но сколько ни разглядывали в бинокль окрестности, никаких признаков воды не обнаружили. Баймуханов вызвался отправиться один на поиски колодца и поскакал на Вороном, лязгая шашкой и винтовкой. Перед отъездом условились, что если наткнётся на бандитов, то стреляет раз за разом, без интервалов; оставшиеся будут поступать аналогичным образом.
И вот потянулись минуты томительного ожидания. Горячий язык шевелит липкую слюну. Когда облизываешь губы, он кажется холодным. Вода мерещится в колодцах, родниках, речушках, стаканах, ведрах… Зачем ведро! Хватит и стакана!
Мы топчемся по перевалу, вскидывая бинокли, – не покажется ли фигурка верхового, прислушиваемся, не прозвучит ли далёкий выстрел. Но кроме желтовато-серых сопок, откидывающих тени, да синих гор на горизонте – ничего не видно. Ни живой души! Даже не заметно птицы в воздухе. И тишина кругом. Разве только прошуршит щебёнкой ящерица да звякнет кольцо уздечки.
Джуматай, переминаясь, в который раз прикладывается к горячему пустому чайнику, поглядывает на меня, на начальника. Видимо, хочет заявить, что у него «совсем курсак пропал», но не решается, молчит. И так все ясно… «А ну, как вернется Баймуханов и объявит: – Нет воды, – думал я, разглядывая карту. – Что тогда? Плестись на юг, где синеют горы? Или возвращаться на Сарысу? Дотянем ли? А может, бросить телеги с грузом и всем искать воду на Шоуль-Адыре? Или тащиться к вчерашнему колодцу?»
Мне стало ясно, что в южные маршруты при такой скверной карте надо было отправляться с проводником, знающим, где вода, и притом – на верблюдах, а не на конях.
– А вдруг наткнулся на Баранкула!.. – тревожится начальник.
Проходит ещё напряженный час… И вдруг – с запада доносится протяжный гортанный крик… другой, третий. Из мелкосопочника выныривает всадник на вороном коне. Чёрная рубаха, сиреневая шапка… Баймуханов!
Конвоир несется во весь дух, будто за ним погоня.
– Вода!.. – орёт он, размахивая над головой нагайкой. Баймуханов нашел колодец, но не на юге, а к юго-западу от нас.
Солнце заходило за волнистый горизонт Голодных сопок. Приободрившиеся кони подтянули возы к большому логу, где в солонцеватом пухлом суглинке торчали кусты реденького чия, зеленоватые клочки травы и чернело отверстие колодца.
Я кинулся к воде и с маху зачерпнул полную фуражку зеленовато-мутной жижи.
– Не пей! Сначала чистим! – крикнул Баймуханов, но я глотал и ничего не соображал… И только на пятом или шестом глотке почувствовал противный запах тухлого яйца.
– За вёдра, за лопаты! – скомандовал начальник, выдернув у меня фуражку.
Джуматай и Баймуханов принялись за чистку. Первое ведро принесло внутренности какого-то животного, второе – дохлых полевых мышей, третье – обрывки кошм, четвёртое… Каждое ведро приносило какую-либо дрянь, от которой морщились даже привычные Джуматай и Баймуханов. Я равнодушно глядел на эту дрянь и думал, когда мне разрешат напиться вволю.
После чистки долго ждали, пока наберется свежая вода. И всё же пришлось опять вычерпывать, потому что кони отворачивались и от этой воды.
Мы долго пили, потом сварили двухдневный рацион вяленой баранины и, когда наелись, снова пили.
Утомлённые и опившиеся так, что булькало в желудках, улеглись, плюнув на караулы, спали крепко и проснулись от ярких солнечных лучей, бивших прямо в голову.
Зеленая лужайка в амфитеатре серых сопок, безоблачное небо, плеск воды, которую черпал Джуматай. И вот уже забыты переживания последних дней, усталость, сковывающая ноги, а тут ещё призыв из-под телеги с коробом: «А ну, товарищ инженер-географ, давайте определим, где стоим и что за камни на вершине»!
Схватив бинокль, полевую сумку, молоток, я зашагал к скалистому обрыву на вершине сопки. Баймуханов потянулся следом.
За обрывом оказалась сопка ещё повыше. Поднявшись, увидели на юге массу серых высоких гор, изображенную на карте фантастическими горизонталями с блиноподобными фигурами, обозначившими отдельные массивы.
– Кийкпай, Кзыл-Карган, Кара-Чеку, Алтнай… – называл их Баймуханов от востока к западу, а я проверял по карте, визировал и засекался хорошими прямоугольными засечками. Какой сюрприз! Одна вершина угодила в кружочек с неразборчивой надписью.
– Картабай, Ташкентский тракт… – указал Баймуханов на высокую гряду на краю большой равнины, лежавшей перед нами к западу.
Перед грядой тянулась старая караванная дорога из Акмолы в Ташкент. Баймуханов шёл по ней три года тому назад за анненковцами, уходившими на Балхаш, стоял на Кара-Чеку и потому запомнил все эти места.
Я набросал на карту горизонтали отрогов Шоуль-Адыра, на котором мы стояли, а Баймуханов сложил на сопке саженный копок из порфиритов.
Когда, вернувшись на стоянку, мы доложили результаты рекогносцировки, начальник приказал немедленно сниматься и переходить скорее на Кийкпай к хорошим травам и родникам.
По дороге на Кийкпай пересекли граниты массива Кзыл-Карган. С вершины, на которую я поднялся зарисовать эскиз массива, увидел… Невероятно! Почерневшие лога, долины, сопки! Контраст севера и юга, светлого – веселого и траурного – черного – был крайне неприятный.
И только приглядевшись, я разобрал на фоне мрачного пейзажа серые изгибающиеся полосы и пятна, обойдённые пламенем. Вчера здесь бушевал огонь. Он шел с Кийкпая и, добравшись до редких трав Шоуль-Адыра и Джаман-Шоуля, затих, лишенный пищи, а может быть, и переменился ветер.
Я задержался на Кзыл-Каргане, увлекшись коренными выходами невиданного камня (оказавшегося, как потом определил начальник, габбро) – пёстрого, зернистого, красивого, в котором большие белые кристаллы перемежались с черными.
Закончив съемку, я пошёл по следам обоза в глубокий лог Кийкпая. Здесь, в полуцирке черных сопок, увидел уцелевший зеленый островок с родником, блестевшим узкой струйкой, Джуматая, склонившегося над костром, начальника с клеенчатой тетрадью на глыбе порфирита и Баймуханова, нарезавшего на сковороде баранину.
Мы заложили двойную порцию кавардака и, подкрепив лошадей овсом, отправились на запад с расчетом заночевать перед Картабаем, где окажется вода. Я шел впереди по сопкам, а начальник – сзади, низом. За перевалом, в пустынной равнине, простиравшейся к западу, бросилось в глаза красноватое голое пятно, освещенное косыми лучами солнца, спускавшегося за Картабай. Через пятно навстречу нам тянулся караван, окруженный пешими и конными.
Я кинулся назад, подавая сигнал тревоги отставшему обозу. Подводы стали. Баймуханов выдернул винтовку и, вскочив на Вороного, помчался к перевалу. Я с карабином пустился на другой пристяжке вслед.
Когда выкатили на перевал, караван уже был в панике: верблюды то сбирались в кучки, то расходились, а конники метались около по красной лысине.
Я обернулся и увидел, как к перевалу тяжело бежал с «джонсонкой» начальник в кальсонах, без фуражки, спотыкаясь и закладывая в ружье патрон.
– Вперёд! – крикнул Баймуханов и, подняв винтовку, рванулся к красной лысине.
Что за чудеса!.. На верблюдах – домашний скарб, женщины в белых паранджах, ребятишки… Верховые слезают с коней, пешие становятся на колени.
Оказалось, что это мирный большой аул, перекочевывавший с Чу на Кзыл-Карган. Он пострадал в горах Аиртау, синевших на горизонте за южной рамкой карты. Бандиты отняли скотину, оставив верблюдов и четырёх коней как средства передвижения и трёх коз – на молоко детишкам. Казахи приняли нас за бандитов, а Баймуханова – за Баранкула и собирались умолять не отнимать последнюю скотину.
Мы раздали ребятишкам остатки баурсаков, угостили мужчин папиросами, насваем и, распростившись, повернули к остроконечной высокой сопке Кара-Чеку на Ташкентско-Акмолинском тракте.
21 августа
Вот мы и на Джаман Сарысу – Плохой Сарысу. Вода здесь действительно худая, и мы сдабриваем чай клюквенным экстрактом – чай, который пьем без сахара уже восемь дней, потому что начальник не даёт, да ещё делает вид, будто ничего особенного не случилось.
Притащились в полдень, не закончив съёмку сектора: осталось пустынное пространство от Картабая до Сарысу на севере и до Джаман-Шоуля на востоке – почти весь Шоуль-Адыр до тухлого колодца, который обнаружил Баймуханов. Прошли по Картабаю, потом повели маршрут через сопки Ирек, Сопы, Караджал и от сухого русла Талды-Эспе повернули к коническим могилам Аманбая на Сарысу. В полуверсте от них по течению реки раскинули палатки.
Мы похудели и оборвались. Начальник отправляется в маршрут в кальсонах не из-за одной жары, но и потому, что шаровары в дырах. Хотя стесняться как будто некого – пустыня. Но всё же при встрече с Баранкулом надо бы держать фасон. Горные ботинки, которым, казалось, не будет сноса, сдали. Баймуханов скрепляет их гвоздями, проволокой и сыромятными ремнями от конской сбруи.
Больше всего досталось транспорту. Колеса на телеге с коробом поразболтались. Перед дорогой мы замачивали их в роднике, перекрутив спицы в несколько рядов веревками. Ссадины на конях не заживают, кровоточат, гноятся.
Вчера уже питались сушеной воблой да затирухой, потому что поначалу закладывали в котел двойную порцию баранины.
За шесть дней набралось так много камней, что пришлось трудиться над приведением их в порядок до потемок. После ужина начальник приказал проявить накопившиеся негативы. Вот так отдых! Я испытывал крайнюю усталость, когда разводил химикалии, разложив походную фотолабораторию на вьючном ящике, прикрытом топографическим планшетом. Напротив, на походной койке похрапывал начальник, а во второй палатке, рядом, лилась беседа Джуматая с Баймухановым.
Я укрепил свечу в фонарь, задвинул красное стекло и только приготовился окунуть негатив в кювету с проявителем, как за палаткой чиркнули спичкой и послышался сердитый голос Баймуханова. Мне показалось, что на стенке входа, освещенной тусклым красным светом, шевельнулась уродливая тень, а по коробке негативов поползло живое существо. Я потянул коробку к фонарю и в этот миг в кювету шлепнулся длинноногий волосатый паучище.
Знобящий холодок испуга и отвращения откинул меня назад. И все полетело к черту: фонарь, растворы, стекла… Вероятно, я толкнул коленями планшет.
– Кто там? – встревожился проснувшийся начальник.
– Фаланги! – крикнул я.
Яркий сноп фонарика, вспыхнувший в руке начальника, осветил палатку, и мы увидели фаланг, которые передвигались по потолку, прыгали по стенкам, бросались вниз…
За палаткой вопил Джуматай, ругался Баймуханов – видимо, там тоже были непрошеные гости.
Нашествие фаланг обошлось нам дорого. Во-первых, пропали негативы с ценными сюжетами, а во-вторых, пришлось вытряхивать все вещи из палаток и переставляться на другое место, ближе к речке.
Уже светало, когда я, широко откинув полог, улёгся на кошму у ног начальника.
Я глядел на бледно-зеленоватый треугольник входа, в котором чернели могилы Аманбая, прислушивался к журчанью речки на мелком перекате, дремал и вздрагивал, приходя в себя.
Кто-то тяжело вздохнул перед палаткой. Я открыл глаза. В золотисто-розоватом треугольнике стоял отец в старой форменной фуражке, опершись на желтовато-белое сосновое весло…
– Отец! – крикнул я, не веря своим глазам. – Откуда ты?
Не знаю, спал ли я, а может, бодрствовал, но мираж покинутой далекой родины был так отчетлив, так реален, что позади отца увидел лодку, на которой мы рыбачили по Западной Двине, сети на скамейке и на корме – отцовскую жестяную коробку из-под «Ландрина» с самосадом.
22 августа
Вооруженный Баймуханов придерживал оседланных коней, а я выслушивал перед палаткой последние наставления начальника.
– Вот эту скверную двухвёрстку, – продолжал он, развернув потрепанную кальку, – придётся подысправить за мое отсутствие соответственно рельефу и горным породам местности. Не суйтесь только за Шоуль-Адыр и, когда поедете в маршрут, прикажите Джуматаю зарядить ружье и караулить лагерь, а то он дрыхнет под телегой.
И, обернувшись, крикнул конвоиру: – Может, обойдемся винтовкой и «вессоном»? Как думаешь, Баймуханов?!
– Тибя, начальник, лучше знать! Моя думаешь не годится, – уклончиво ответил конвоир, поправив на спине винтовку, а потом – потрогав шашку сбоку и увесистый «вессон».
Начальник снял с пояса наган и, глядя в дырки барабана, повернул его на полный оборот.
– Семь… И вот еще четырнадцать запасных в кармашке при кобуре – возьмите, – сказал он, подавая новый револьвер, отливавший воронёной сталью.
Разговор происходил на мелком плесе Джаман Сарысу, катившем струйку голубой водицы в серых сопках, ощетинившихся жёлтым ковылем. Начальник отправлялся с конвоиром разыскивать заброшенный серебросвинцовый рудник, а мы с Джуматаем оставались одни в пустой долине, окаймлённой с севера насторожившимися глухими сопками.
– Да!.. Чуть не позабыл! – спохватился он уже в седле. – В крайнем случае зажигайте степь за речкой и скачите на Успенку, а мы уж догадаемся, в чем дело.
Когда всадники скрылись в сопках, я пересчитал патроны и, пристегнув к поясу наган, велел Джуматаю седлать коня.
– Игреня пойдешь?
– Игреня…
– Смотри, опять будешь назад кончал, – проворчал недовольный Джуматай.
Я забыл сказать, что Игрень приносит мне большие огорчения. Это конь на редкость тряской рыси. Всякий раз, когда я возвращаюсь из далекого маршрута, Баймуханов натирает мне мягкие места какой-то травкой, а потом мажет бараньим салом. К утру рубцы затягиваются. Ни инженер, ни конвоир не берут Игреня, поэтому он ходит больше в упряжке.
Игрень не выразил ни малейшего желания отправиться в маршрут. Завидев Джуматая, он долго бегал около Гнедого, уклоняясь от уздечки, а потом крутился около телеги, не позволяя накинуть на себя седло. Пришлось вмешаться мне – и тогда Игрень понял, что едет не Джуматай, с которым у него были свои счеты.
Я положил в перемётную суму мешочки для образцов, кружку, горсть закаменелых баурсаков и, вскочив в седло, приказал Джуматаю держать карабин около себя, поглядывать на степь и варить обед к заходу солнца. Смешно сказать, какой обед!.. Мучную затируху с сушеной воблой!
Игрень понёс меня неторопливой тряской рысью к Голодным сопкам, с которыми я решил разделаться в начале маршрута.
Солнце стояло высоко над сопками и жарило вовсю. С северо-востока задувал ветер, шумевший в щетине ковыля. По голубому небу тянулись пасмы прозрачных нежных облаков, сгущавшихся на далеком западе. Там, под белым сводом, вероятно, по руслу Сарысу, маячили конуса старинных заброшенных могил.
Перед Шоуль-Адыром показались коренные выходы вулканических пород, а потом пошли сопки из однообразных зелёных сланцев, тянувшиеся на восток и на запад.
Я с жаром взялся за работу. Колотил по камням, засекался на Тагалинские высоты и подправлял рельеф на карте. Игрень топтался рядом на коротком поводу, пощипывая чахлые метелки. Когда каменные брызги попадали ему в лоб. Он косился на меня, не поднимая головы: «Брось дурака валять!» – говорили его большие сердитые глаза.
В полдень добрался до середины Голодных сопок и повернул к востоку, потому что дальше шли всё те же сланцы. Свежий ветер дул теперь почти в лицо. Через час я пересек широкую долину и очутился перед низким мелкосопочником. Я пошел на ближайшую вершину, ведя коня на поводу. Когда поднялся, увидел вершину еще повыше, заслонявшую горизонт к востоку и… Нет, это не копок и не обман зрения, а каменный баран! Архар стоял на скалистом выступе не далее полутораста метров, гордо выпрямившись и раскинув большие крученые рога. Застыл ли он от неожиданности, завидев коня и человека, или караулил стадо, вглядываясь в пустую степь, по которой разгулялся ветер?
Не помню, как я выдернул наган, но помню, как наводил его на цель, пониже морды. «Нагановская пуля пробивает доску на 300 метров и еще опасна на 500…» – припомнились слова начальника, когда я нажимал на спуск.
Раздались гулкий выстрел и совсем короткий свист пули. Игрень шарахнулся, едва не оборвав уздечку, а баран подпрыгнул боком влево, словно его подкинула пружина – и тут же пропал за выступом. Конец мучной затирухе и сушеной вобле!
Я вскочил на Игреня и помчался через лог к добыче, рисуя себе растянувшегося на земле большого зверя. Игрень вынес меня на вершину. За скалистым выступом никого не оказалось. Что-то промелькнуло впереди в далёких складках мелкосопочника, а может, мне только показалось. Я кинулся в погоню и, когда выкатил на перевал, увидел пузатую вершину, на которой стоял… архар! Живой и невредимый! Стоял, подавшись весь назад, а над вершиной выставлялась голова с рогами, четко выделявшимися на голубом небе.
Я слышал от Баймуханова о любопытстве каменных баранов, но одно дело слышать, а другое – видеть! Невероятно! Архар заинтригован всадником, который по нему стрелял! Ветер приглушил выстрел, что ли?
Я выхватил наган и, пальнув, почти не целясь, помчался на вершину, потом – галопом дальше, подымаясь на каждую выдающуюся сопку, увы!.. Архар исчез. Еще две-три неудачные попытки – и я остановился, поняв, что гонюсь за мечтой. Тут только почувствовал последствия тряского аллюра, усталость, жажду. Пора передохнуть!
Когда стал ощупывать биноклем мелкосопочник, из-за перевала показалась коническая верхушка могилы. Игрень, почуяв воду, понесся резвой рысью.
С перевала открылся большой пологий лог. Вверху он переходил в скалистое ущелье, перед которым зеленел островок травы с пучками тростника. Внизу этот лог впадал в огромную долину. В широком устье лога красовался пятиступенчатый куполообразный конус на низкой шестигранной призме.
Я спустился к островку, и… какое счастье! Блеснула струйка ручейка, а повыше – поверхность водоёмчика на ступени крутого обрыва. Водоёмчик оказался настолько мал, что предстояло пить по очереди, но зато с удобством – как из ведра, поставленного на колоду. Я соскочил на землю и сунулся к источнику, но не тут-то было. Игрень бесцеремонно отпихнул меня, наступив при этом на ногу. Пришлось зачерпнуть воды фуражкой и пить, зажав в ней дыры пальцами.
После водопоя Игрень с ожесточением принялся за траву, а я, пожевав баурсаков, пошел поглядеть на необычайную могилу, да кстати и сориентироваться, куда меня занесла охота, потому что на карте не значилось никаких могил и родников.
Могила была сильно повреждена людьми и временем. Зубцы на стенах призмы округлились, рёбра сгладились, а в проеме входа, заложенного сырцовым кирпичом, зияла брешь, через которую я пролез в могилу. Благодаря солнечным лучам, проникавшим через отверстие верхней части конуса, внутри было светло. Посредине возвышалось глинобитное надгробие в виде четырёхгранной плоской призмы. На длинном боку ее, от земли до крыши, чернела дыра, ощерившаяся остатками каркаса из тонких березовых стволов.
Я швырнул вглубь обломок кирпича. В ответ раздался глухой стук, потом послышалось шипение, щёлканье… Гадюка, а может, ночная птица пряталась в потемках. Копаться в могиле из пустого любопытства я не решился и поворотил назад. Какой знатный человек успокоился под этим монументом и почему похоронен здесь в пустынном мелкосопочнике?
Могила стояла на площадке над руслом лога, по которому тянулись узкие промоины – овражки. Чтобы засечь могилу, надо было подняться на борт лога и разглядеть в бинокль ориентиры. Я махнул через овражек, но сорвался и сполз на дно. В обсыпавшемся светло-буроватом суглинке мое внимание привлекло белое пятно. «Не иначе, как обломок мрамора» – подумал я, склонившись, и поднял… полированный предмет, напоминавший двояковыпуклую линзу, побольше спичечной коробки. Противоположные сегменты были срезаны. На одном из срезов виднелся овальный контур, прочерченный тончайшей темной линией, а в центре торчал неровный выступ-шейка. С этой шейки, видимо, сорвали головку. Похоже было, что это – крышка, тщательно притертая к стенкам пустотелой линзы. Предмет казался легковатым для сплошного камня. Что за штука? И тут я вспомнил овальную роговую табакерку, которую когда-то стащил у деда, потом – чиханье, слезы и взбучку за рассыпанный табак. В самом деле, каменная табакерка! Я потряс ее, но никакого звука! Пустая, а может быть, доверху набита табаком?
Открыть коробочку не представлялось никакой возможности. Попробовал концом ножа. Ничего не вышло – осталась лишь царапина. Острый край шейки чуть-чуть просвечивал зелёным цветом. Что в табакерке и кто, когда и при каких обстоятельствах обронил её у подножия могилы – вот вопросы, которые я задавал себе, когда возвращался к роднику.
Игрень встретил меня тихим ржанием, но стриг ушами, подняв голову, словно кого-то чуял в сопках. Я подтянул подпруги и, когда вскочил в седло, конь опять насторожился. Что за чертовщина!
Я повернул на север – к Сарысу. Солнце стояло уже над краем Шоуль-Адыра и ветер заметно стих. На мелкосопочнике лежали причудливые тени. Копки на западе – на вершинах сопок – выдавались резко. Казалось, это не столбы из камня, поставленные неизвестно чьей рукой, а люди – всадники, следившие за моим маршрутом.
Вот на гребне длинной сопки – четверка странно сближенных копков. «Зачем поставили их в ряд?» – подумал я и провел биноклем, ощупал склоны. Что за наваждение! Никаких копков! Куда они девались?
Когда подъехал к пустому гребню, меня словно кто-то дернул в сторону. Здравствуйте! Направо рядом – два копка, которых раньше не было! Я посмотрел налево и там… два копка, но ближе, – не далее полукилометра! Один зашевелился… Ба! Верховые! Я прильнул к биноклю.
Это были казахи в малахаях и чёрных ватниках. Они глядели на меня, приподнявшись на стременах, и выставляли ружья. «Наконец-то, баранкуловские молодцы!.. – кольнуло в голову. – Следят за мной…»
Я посмотрел на дальних всадников – вершина была пустой. Вернулся к левым и… левые исчезли. Мне стало горячо. «Чесать в лагерь? Бесполезно! Что мой красивый русский конь против выносливых киргизских степняков! А может, мирные казахи? Но какого черта они двигаются из района Баранкула?» Пока я лихорадочно соображал, из-за ближайшей сопки высунулись две конные фигуры, за ними – ещё две. Неизвестность, игра в прятки стали нестерпимыми. Я выдернул наган и, хлестнув коня, помчался к верховым – будь, что будет! Игрень понес меня тряским раскидистым галопом.
Передние конники скользнули вниз, потом махнули задним, дескать: «Подождите!» – и, вскинув ружья, покатили по подножию, чуть наискосок, ко мне – по-видимому, охватывали с фланга.
Вот уже хорошо видны фигуры. Я различаю лица, снаряжение, одежду. Слева – высокий, черноусый, хищный. Справа – низкорослый, белокурый, круглолицый. Ружья наготове…
Еще пять-шесть десятков метров – и казахи осадили коней. Потом закричали, перебивая один другого – и я скорее догадался, чем понял, что верховые спрашивают, что я за человек, откуда и куда еду.
– Кто вы такие?! – гаркнул я, остановившись.
Из ответных криков и энергичного махания на вершину сопки, где стояли два верховых, можно было догадаться, что там начальник, который разберёт, что и как.
– Аксакал30! Толмач! Айда! – понуждали меня казахи, наставляя ружья, – вероятно, не замечая револьвера, который я прижимал к луке седла.
А ружья были дрянь – я хорошо рассмотрел их, когда казахи кипятились. Обшарпанная короткоствольная «джонсонка» и перевязанный ремешками дряхлый дробовик, из которого, надо полагать, стреляли еще при Кенесары Касымове31. Можно было соглашаться на конвой с винтовками, но – с подобной дрянью!..
– Айда! – решительно скомандовал я, подняв наган и выразительно мотнув головой на дальних верховых.
Казахи круто повернули коней и, не оглядываясь, помчались к сопке. Потом, распивая чай в палатке, они признались, что их смутил, как только я подъехал, не один наган, но и мой военный облик, бинокль и красивый рослый конь. Подумали – «бас-урус-комиссар»32.
«Чем кончится вся эта история?» – напряженно думал я, поглядывая на вершину, с которой уже спускались два конника.
Когда мы подкатили к сопке, я увидел юношу-казаха на сером степняке с двумя тюками по бокам и седобородого старика в лисьем малахае и русской «тройке» на чалом иноходце. Новые сапоги с широкими раструбами голенищ, доходивших до живота, серебряный убор уздечки, седла и камчика, осанка старика, конь – все говорило, что это важная персона, начальник всей компании.
– Аман! Здравствуйте! – бросил он, ощупав меня с головы до ног пытливым властным взглядом.
– Здравствуйте! – ответил я, проведя наганом по гриве Игреня.
– Кто вы такой?
– Инженер… руду ищу, – указал я на молоток, висевший у седла.
– А мы думали вор, бандит!.. Потому что непонятно, зачем одинокий верховой путается в Голодных сопках!
Я узнал (аксакал с акцентом, но свободно говорил по-русски), что казахи заметили меня давно, очевидно, когда я гонялся за архаром. Они проследили «вора» до могилы и решили накрыть его у родника.
Оказалось, что это – «комиссия», которая спешит на Чу, на пограничный съезд по разбору баранты33 между Сыр-Дарьинской, Акмолинской и Тургайской областями.
– И не боитесь нарваться на шайку Баранкула?
– Султан Алтынов не боится Баранкула!.. – вспыхнул аксакал. – А на всякий случай… – и выдернул из-за голенища длинноствольный маузер, блеснувший темно-синей сталью, – гостинец, почище вашего нагана да, пожалуй, и баранкуловских обрезов. «Экс-султан с маузером! Вот так фокус!» Я успокоил собеседника, согласившись, что маузер действительно «почище» – почти винтовка.
Когда аксакал узнал, что я возвращаюсь к палаткам на Сарысу, он, просиявши, заявил, что было бы с его стороны большой бестактностью ехать мимо лагеря и не нанести визит русским инженерам. Я было заикнулся, что это совсем не по пути – надо делать крюк в 10—15 километров. «Четыре гостя! Самим жрать нечего!» Но аксакал возразил с очаровательной улыбкой, что какие-нибудь 10—15 километров в сторону – это такие пустяки для степных казахов, что и говорить не стоит.
«Езжайте! Веселей будет по дороге в лагерь. Бывшие султаны не так уж часты в глухой степи!» – утешил я себя.
Беседа по дороге в лагерь вертелась сначала вокруг съезда и похождений Баранкула. Съезд, как я узнал, привлекал казахов не столько разбором претензий пострадавших, сколько последеловой шумихой и весельем: пирами, скачками, борьбой, за которыми забывались взаимные обиды. После съезда всё начиналось сызнова.
Потом разговор перекинулся на наши поиски и старинные разработки руд. Аксакал проявил необычайную осведомлённость в металлах и минералах и даже употребил несколько специальных терминов. На моё недоумение султан ответил, что он прошел курс гимназии, долго путешествовал и на своем веку прочел немало книг.
Когда мы подъезжали к лагерю, послышалось радостное ржанье Гнедого, соскучившегося по Игреню. Джуматай спал под телегой с коробом, раскинув руки, рядом лежал мой карабин, а у потухшего костра стояло ведро с холодной затирухой.
Я усадил гостя в глубине палатки и старик, сняв роскошный малахай, надел феску из белого сукна, украшенную красной кисточкой.
– Это в знак того, что я посетил Мекку, – сказал он, заметив мой удивленный взгляд.
Джигиты аксакала пошли бродить по лагерю, ощупывая горный инструмент, телеги, сбрую, заглядывая внутрь палаток, в ведро с варевом.
Джуматай так обрадовался землякам, что через полчаса уже наливал горячую затируху в деревянное кисе, которое подхватил «черноусый» и передал мне, а я поднес султану. Потом я подсовывал ему самые крупные и наименее грязные баурсаки и выуживал из ведра наилучшие экземпляры воблы – словом, все шло по степному этикету.
Вероятно, казахи ехали со скудными запасами, потому что ели так, что «трещало за ушами» и, опорожнив ведро, принялись за чай, за которым кончили последний мешочек баурсаков, который Джуматай припрятал для начальника и Баймуханова.
После чая старик вытащил из жилетного кармашка маленький флакончик с зеленоватым порошком и предложил мне заложить насвай34. И тут я вспомнил про находку.
– Вот где замечательный насвай! – предложил я гостю полированную линзу. – Если откроете, то так и быть, заложим вместе.
– Белокаменная табакерка!.. – удивился гость – Откуда раздобыли?!
– Нашел у подножия могилы, где вы собирались меня накрыть…
– Могилы?!.. – изумился аксакал. – Не может быть!
И тут я рассказал историю находки.
– А что, если не табак внутри? – спросил старик, понизив голос.
– А что же больше?
– Золото или, скажем… драгоценный камень… – прошептал султан, как будто могли услышать джигиты, беседовавшие за палаткой с Джуматаем.
– Драгоценный камень? Вы шутите!
– Нисколько! Слыхали об Амурасане?
– Джунгарский хан, который воевал с Китаем за независимость?
– Который после разгрома бежал к сибирским казакам, с чего и начинается история табакерки… Рассказать?
– Сказки?
– Зачем сказки!.. – обиделся старик. – Правдивая история, отец рассказывал. Когда Амурасан бежал, то перед Сарысу его настигли киргизы Абулхайра35. Если бы не русские казаки, случившиеся на Сарысу, пропала бы голова Амурасана и рубиновый перстень, который уже не приносил ему удачи, перешел бы на палец Абулхайра.
– А табакерка?
– Про табакерку дальше. Прошло много-много лет. И вдруг пронесся слух, что красный талисман Амурасана объявился на руке Султангазы – внука первого джигита Абулхайра, того самого джигита, который настиг Амурасана на Сарысу. Как попал перстень в род Султангазы, осталось тайной. Одни говорили, что Амурасан подарил рубин командиру казачьей сотни, который полюбил сестру деда Султангазы, другие же – что первый джигит Абулхайра продал совесть за драгоценный камень и пропустил Амурасана к казакам. Перстень объявился, когда хан Кенесары поднимал народ против русских, надвигавшихся с Иртышской линии, а Султангазы сделался любимцем хана. Вот тогда дед мой, кочевавший под Бугалами, и повстречался с Султангазы и угощался из его белокаменной табакерки.
Кенесары уходили в забалхашские пески, за обладателем рубина была наряжена погоня из его врагов. Султангазы бежал мимо могилы предков, где вы подняли табакерку, и спустился в лог проститься с дедами, как слышит сверху – кричат аскеры, оставшиеся на карауле. «Погоня!» Тогда он, сдернув перстень с пальца, сунул его в табакерку под насвай и бросился из лога – так рассказывал его товарищ, который остался цел. Султангазы исчез без следа. Куда девалась табакерка с перстнем? Бросил ее в могилу или сунул за голенище и потерял потом? И вот теперь…
Рассказ султана распалил мое воображение. «А вдруг на самом деле рубин внутри? Чем чёрт не шутит! Не все же – сказки!»
– Думаете, теперь нашлась?.. Ну что же, давайте вскроем,. А что окажется внутри, поделим пополам!
Я попытался еще раз поддеть крышку концом ножа – напрасно!.. Нагрел свечой наружный край линзы – не помогло. Решили разбить табакерку. Я положил ее на десятифунтовую железную балду, которой разбивали большие камни и, направив острие зубила на верхний край коробочки – нижний край придерживал аксакал, – тюкнул молотком. Видимо, я не рассчитал удара. Табакерка, хрустнув, развалилась на куски. Увы!.. Ни золота и ни рубина… Только – какое-то коричневое ноздревато-губчатое вещество на стенках, которое, когда мы соскребли ножом, даже не запахло табаком.
Султан смутился и, высунувшись из палатки и взглянув на солнце, крикнул джигитам седлать коней.
Солнце заходило за Джаман-Тагалинские порфировые сопки, ветра не было. На степи лежали непомерно вытянутые тени. Возле иноходца почтительно стояли Джуматай и «черноусый».
Когда высокий гость поднёс ногу к посеребрённому стремени, я поддержал его под левое, а «черноусый» – под правое плечо. Легко поднявшись на седло, старик тронул повод, но потом, пригнувшись к гриве Чалого, повернулся в мою сторону.
– Дайте мне на память осколок табакерки… – попросил он тихим голосом.
К ночи вернулись голодные начальник и Баймуханов, которых мы ожидали к вечеру завтрашнего дня. И тут-то мне здорово влетело за съеденные баурсаки.
Утром я рассказал о происшествиях, утаив про табакерку. Баймуханов заявил, что о султане Алтынове никто в районе не слыхал и аксакала, подобного описанному мной, никогда не видывал. Тут мне еще раз влетело за привечивание «бог знает каких людей, может быть, бандитов, которые, наконец, ограбят лагерь».
После завтрака начальник чуть-чуть отмяк и я, показав ему осколок табакерки, спросил, из какого камня она вырезана.
Начальник повертел, попробовал ножом, посмотрел на свет прозрачный край обломка.
– Монгольский пагодит! – удивился он. – Самый лучший фигурный камень в мире! Где нашли?!
И я рассказал начальнику всю историю белой табакерки, которую поведал мне Алтынов.
23 августа
Сегодня свалились нежданные гостинцы.
Проезжавшие по тракту на двух подводах русские поселенцы со Спасского завода заметили палатки на Сарысу и, хотя до нас не менее 5 верст, завернули покалякать с инженерами.
– Уж больно скучаем по Расее… – признались они.
Мы этому легко поверили, потому что земляки, развязав большой мешок, вытащили оттуда два спелых арбуза и десяток свежих огурцов и поднесли нам.
– А разве не Россия здесь? – спросили мы.
– Какая ж тут Расея!? Ни кустика, ни настоящей травки, ни воды!
И пошли, пошли…
Начальник велел напоить гостей чаем и, вытащив из-под заветного замочка мешочек с сахаром, дал всем по кусочку, в том числе мне и Баймуханову.
Чего только мы ни наслушались от земляков за два часа их пребывания. Вот, к примеру, такой, как они выразились, «хвакт». Шел по тракту прошлым летом большой обоз переселенцев из Акмолы в Верный. И вот, на спуске к Моинты выскочила из-за сопок шайка в 40 человек. Переселенцы стали защищаться. В результате перестрелки барантачи потеряли двух убитыми. Наутро прискакал дозорный и сообщил, что движется целая орда. Переселенцев вскоре окружило кольцо вооруженных верховых, человек 200, которые потребовали за убитых 200 голов крупного скота. Переселенцы отказали, потому что такого количества скота в обозе не было. Тогда, согласно своему закону, барантачи потребовали за двух убитых двух русских. Долго торговались. К вечеру второго дня переселенцы сдались. Куда деваться! Кругом – глухие сопки на сотни верст! И выдали двух дедов: одного слепого, а другого – немого. Киргизы забрали их и тут же скрылись.
24 августа
Я – на вершине высокой сопки Быр-Назар. Намечаю базис и опорные точки предстоящей съемки юго-западного сектора. Далеко внизу на зеленом островке белеют два квадратика. Два муравья шевелятся около сизого дымка – Джуматай и Баймуханов стряпают в дорогу баурсаки. Через час двинемся в последние маршруты – маршруты по пересеченной местности на колченогом транспорте и со скудными запасами муки, сала, воблы, которых едва ли хватит на восемь дней.
У меня в руках, с позволения сказать, карта – голубовато-серый лист помятой кальки, на которой показано пять кружков – пять главнейших сопок – и больше ничего: ни горизонталей, ни речушек, ни могил. Какой простор для глазомерной съемки!
Я разглядываю пустую кальку и соображаю, как мы справимся в такой короткий срок со съемкой раскинувшегося на 30—40 верст нагромождения пустынных сопок, ощерившихся на горизонте гранитными зубцами хребта Ортау.
Восемь лагерных стоянок, два пересечения с северо-востока на юго-запад по 40 верст и ежедневные двадцативерстные маршруты – я по одной, а начальник – по другой стороне обоза. Баймуханов охраняет и направляет движение подвод, выбирает места лагерных стоянок, а когда стемнеет, сигнализирует нам с сопок криком, огнём, а то и выстрелами из винтовки. Таков план съемки в последнем секторе.
Ночи уже становятся прохладными, хотя днем по-прежнему печет немилосердно. Я зябну под тощим одеялом – приходится накидывать на себя еще шинель и полушубок.
28 августа
Стоим в восьми верстах от южной границы сектора в предгорье Аюлы у ручейка, впадающего в Талды-Эспе, – притока Сарысу. Кругом граниты. По руслу лога —
густая высокая трава, в которой пасутся наши кони, а по ущельям – осинник, березнячок и густые заросли шиповника, о который мы совсем изорвались.
Стоим и чинимся. Баймуханов в роли дядьки. Он изрезал на куски старый полубрезент, вымазанный дегтем, залатал ими шаровары начальника, а теперь пристраивает жалкие остатки к моим галифе и гимнастёрке – другого материала нет. На смену нечего одеть. Я сижу в палатке в чем мать родила и записываю переживания последних дней. Если бы не слепни и оводы в логах, которые кусают больно, накидываясь на голые места, мы не чинились бы, потому что в дырах вольготнее – сквозит и продувает.
Баймуханов чинит и ворчит.
– Какой ты джиндженер есть! Таким шароваром сопкам ходишь!.. – встряхивает он связку лент цвета хаки. – Джиндженер два шаровар, два сапог берет – все два берет!
Мы пересекли сектор. Легко сказать, пересекли! Оттопали с начальником от Быр-Назара по 100 с лишним верст за четыре дня.
Рабочий день начинаем на рассвете.
– Вставайте, инженер-географ, подымайтесь! – будит глухой назойливо-настойчивый призыв, который, кажется, несётся из-под телеги с коробом.
Я слышу бренчание ведер и перебранку за палаткой – это начальник, растолкав Джуматая и Баймуханова, отправляется с ведром принимать душ. Он плещется и фыркает у родника, как бегемот в бассейне зоологического сада.
После душа начальник выправляет контуры пород на карте, проверяя камни моего маршрута, а я вычерчиваю тушью карандашные наброски вчерашней глазомерной съемки. Баймуханов с жестянкой дегтя крутится около коней, ковыряется в колесах и покрикивает на Джуматая, который варит затируху с сушеной воблой.
Завтрак проходит молча, быстро, дружно. Солнце катится где-то по Джаман-Шоулю, поднимается на сопки Шоуль-Адыра, а мы уже навешиваем амуницию. Я закидываю за плечи карабин, начальник пристёгивает к поясу наган – и мы расходимся до сумерек, а то и до потемок, оставляя Джуматая и Баймуханова увязывать возы и запрягать.
Мы пересекаем верблюжьи тропы, лога, долины, сопки. Натыкаемся на родники, убогие зимовки из камня и земли, старинные могилы, выбеленные солнцем черепа и кости; и странно, аулов нет, людей не видно и не заметно никакой жизни. Разве только поднимется над скалистым зубом беркут, да шмыгнет под ногами зазевавшаяся ящерица, или скользнет пестрая гадюка. И ничего не слышно, кроме стука молотка, шуршания подошв по камню и шума осыпающегося щебня, когда спускаешься в тальвег. Баймуханов говорит, что это в прошлом – кочевые места, из которых аулы подались из-за баранты к северу за Тагалы.
Вчера мне выпал большой полукруговой маршрут, вознагражденный начальником по заслугам. Я вышел со стоянки перед сопкой Котур-Оба с целью охватить как можно больший участок сектора и вначале увлекся глазомерной съемкой, но чем дальше продвигался на северо-запад, тем рельеф становился сложнее, а камни – интереснее. Как было не увлечься геологией!
Поднявшись на скалистый гребень, увидел выступы круто поставленных пластов древних конгломерат-песчаников, каких мы еще не встречали, каких я не видел и в геологическом музее. Галька и валуны до полусажени в поперечнике, вросшие в красноватый крупнозернистый песчаник! Стоило подробнее заняться такой редкостью. Я задержался у скалистых обнажений, набивая рюкзак обломками и досадуя, что не могу набрать крупных образцов, – хотелось показать начальнику всю пестроту и красоту структуры камня.
Потом я наткнулся на ступенчатые выходы прихотливо полосатых лиловатых лав с вплавленными обломками стекла и шлака и вспомнил лекции профессора Герасимова36, живо рисовавшего извержения вулканов и движение лавовых потоков.
Затем попались обнажения известняков с красивыми ракушками, которых я счел непременным долгом набрать побольше, чтобы порадовать фауной начальника, который прожужжал мне уши: «Фауну, товарищ инженер-географ! Без фауны не возвращайтесь!»
Когда лога закрылись тенями, до меня дошло, что пора подтягиваться к лагерю, до которого надо было шагать добрых полтора десятка вёрст, да еще засекаться, определять вертикальные углы, рисовать рельеф, отбивать образцы, записывать и прочее. Почувствовались жажда, голод и припомнилась горсть зачерствелых баурсаков, которые Джуматай положил в рюкзак.
Подкрепившись у родника, я облегчил рюкзак, выкинув десяток крупных образцов – выкинул с тяжёлым сердцем. От родника потопал к югу – потопал, переломленный надвое грузом камней, перекинутым за плечи. Признаться, я не ощущал его – так свыкся с ним за долгие часы маршрута.
Сумерки сгущались, контуры сопок расплывались, перспективы искажались, и я оставил съемку.
Уже в потемках наткнулся по руслу лога на белесоватую корягу, которая оказалась, когда ее ощупал, костяком лошади, а может быть, и верблюда. Не прошел и двадцати шагов, как напоролся на другой, побольше, потом на третий, четвертый, пятый… Кто-то зашипел из-под скелета и метнулся в сторону.
Я взобрался на борт лога, перевалил в другой, широкий. И здесь услышал под ногами знакомый мягкий хруст дресвы гранитов, но напрасно задерживал шаги, вглядываясь в глухую темень, в которой чуть обозначались силуэты сопок под сияющими звездами.
«А вдруг Баймуханов сбился и ушел в сторону?» – подумал я с тоской, как позади – на севере – прозвучал далекий выстрел, отдавшийся в груди бодрящим эхом.
Я ответил двумя выстрелами и, поднявшись на ближайшую вершину, увидел огонёк костра. Из лога донеслись звяканье подков, ржанье Игреня, вскрикиванье Баймуханова.
Оказывается, обеспокоенный начальник выслал мне навстречу конвоира с Игренем. Я отдал рюкзак приятелю и плюхнулся в седло. По дороге Баймуханов рассказал, что это – горы Аюлы, что начальник наткнулся в маршруте на след свежего костра, что кончился овес, что спицы совсем порасшатались и прочее, и прочее.
За ужином, который был одновременно и обедом, я показал начальнику образцы пород, фауны, наброски снятого участка.
– Надо отдать справедливость вашему умению быстро схватывать и рисовать рельеф, – сказал он, разглядывая красивые фестоны накрученных горизонталей, которыми я стилизовал рельеф, подражая манере рисования на полуинструментальных военно-топографических двухверстках севера района. – Если так пойдут дела, закончим съемку в 4 дня, – добавил инженер, вытаскивая из кармана куртки кусочек сахара, который сунул мне в кружку чая.
1 сентября
Сентябрь обдал нас холодом. Пишу в палатке, накинув на себя шинель. Начальник и конвоир отправились верхами разыскивать старинный Ильинский рудник, помеченный на карте Козырева за южной границей сектора.
Баймуханов уехал недовольный, предрекая неудачу. Он говорил, что никаких старинных рудников южнее Аюлы нет, карты врут и пускаться в далекую дорогу на порченых некормленых конях может только неразумный человек.
Я на стороне Баймуханова, потому что геологическая карта Козырева37, которой мы руководствуемся, действительно грешит, а что касается лошадей, то надо удивляться тому, что начальник закрывает глаза на будущее – как мы доберемся до Успенки?
Вчера обследовали южную границу сектора. Нас охватил азарт. Мы стараемся один перед другим пройти как можно больше, потому что овса нет, баурсаки съедены, а муки и воблы осталось на три-четыре дня.
Чем ближе конец съемки, тем сильнее тяга на Успенку, в Павлодар, в «Расею». Так хочется наесться досыта, помыться в бане, одеться в чистое. Я даже ловлю себя на том, что смотрю на солнце, когда оно восходит, скорее неприязненно, чем дружелюбно. Не знаешь, куда от него деваться.
Пишу, ощущая непреодолимое желание прилечь. Вернулся из маршрута ночью, едва выбравшись из беды. Маршрут начался при обстоятельствах, не предвещавших ничего худого. День начался с обычного ясного утра. По голубому небу тянулись лёгкие перистые облака. Начальник помахал мне вслед клеенчатой тетрадью, дескать: «Подтянитесь, инженер-географ! Еще два-три маршрута, а там Успенка!».
Перевалив водораздел, я увидал широкую белесовато-желтую долину Кара-Эспе, над которой поднимался ребристо-зубчатый массив Аиртау. Северо-восточный склон его светился розоватым голым камнем, а юго-западный склон чернел густыми тенями. Контраст темного и светлого, заостренность готических зубцов над монолитной массой и вся тяжеловатость геологической постройки сочетались в такую суровую монументально-гармоническую композицию, что я сфотографировал его на память как характерный тип пустынного гранитного пейзажа.
Я потянулся было за образцами к Аиртау, но, пересёкши русло в широком ложе из песка и гальки, увидел длинный ряд гранитных плит, то разъединённых, то по две, три, четыре вместе. Одни лежали, другие – торчали в суглинке. На некоторых выступал рельеф рисунка, напоминавшего фигуру человека. Как потом определил Баймуханов, это были надгробия калмаков, сражавшихся за свой рубеж на Кара-Эспе – «калмак-карган», т. е. «калмацкая резня». Какое привольное кладбище под монументом Аиртау!
Я потюкал молотком древние надгробия, обточенные временем, зарисовал, засек на карту и, когда стал продолжать маршрут, увидел, что ковыль качается под свежим ветром, донесшим запах гари. Через полчаса хребет Аиртау и южный горизонт затянулись серым тюлем и солнце выросло в большой неясный красноватый тусклый шар.
Пришлось оставить съемку, и, повернув на запад, прибавить шагу. Не успел подняться на высоты западного мелкогорья, как все закрылось дымом: долина Кара-Эспе, лога, вершины, ребра сопок.
На Джаман-Шоуле было совсем иначе. Там ветра не было, столбы дыма передвигались за далеким горизонтом, мы были вчетвером на конях и в случае аврала ушли бы в сторону, а здесь!..
Ветер поддувал то с юго-запада и юго-востока, то с южной стороны, то – прямо с запада, куда направился обоз.
Я двинулся на север, где обозначился просвет, но через версту повернул назад – просвет закрылся. Потом почудилось, что прояснились зубцы Аиртау. Но спустившись с мелкогорья, увидел пасмы дыма, клубившиеся над долиной. Догадавшись, что рискованно соваться в ковыльную долину, продуваемую ветром, я поднялся на мелкогорье и подался к западу, рассчитывая напасть на след обоза.
Я долго шел, меняя направление в поисках просвета, продирался по логам, заросшим дикой розой, одолевал крутые сопки, сложенные невиданными полосатыми кварцитами, которых, не удержавшись, набрал в рюкзак.
Мгла окружала меня со всех сторон, то разрежаясь, то сгущаясь. Я выбирал для безопасности каменистые высоты без травы, но после одного подъема повернул назад – открылся широкий черный лог, за которым струились по серым склонам черные ручьи.
Потом я догадался, что сожженные места – наибезопаснейшее убежище, даже если огонь прошел недавно. Спустившись в лог, увидел, что это – следы давнего пожара. Я напился из ключа и, подложив под голову рюкзак, стал ожидать просвета.
Просвет показался незадолго до заката. Дым расходился так же быстро, как и сходился, очистив сначала западный и южный секторы горизонта.
Поднявшись на кварцитовую сопку, я обрадовался, увидев вдалеке верховье Талды-Эспе и куполообразную вершину Аюлы. Я потянул маршрут на запад, оставив за собой пустой, незаснятый кусок от Кара-Эспе.
Как ни приглядывался, но следов обоза не заметил, да и наступили сумерки, напустившие в лога такого холода, какого еще не было от Павлодара. И вот потянулись минуты, а потом – часы настороженно-томительного ожидания крика, выстрела, огня. Я кричал, стрелял, растратив все патроны, но никаких сигналов не дождался.
По-видимому, я бродил по западной границе или за границей сектора, потому что кругом были такие дебри березняка и осинника, какие встречались только перед Ортау.
Я устал за десять часов шатания в сопках, присаживался на несколько минут, курил, обманывая голод, и опять шагал, чтобы согреться. Если бы не холод, опустился бы на землю и не встал бы до рассвета.
Я уже решился развести костер, но перед тем как опуститься в лог нарезать караганника, еще раз оглядел неясный горизонт под темно-синим небом. И тут внимание мое привлекла странная звезда, которая вспыхивала, гасла и снова вспыхивала.
Я перебрался через широкий лог, через кустарник, казавшийся лесною чащей. Когда поднялся на новую вершину, увидел, что мигает не звезда, а огонь костра: вероятно, его время от времени подбадривали караганником.
Я крикнул – и сейчас же ответил знакомый гортанный крик. Через полчаса я подходил к костру, который для меня соорудил на вершине сопки Баймуханов. Внизу горел другой костер, освещавший лагерь.
3 сентября
Сейчас далеко за полдень, точнее – около трех. Говорю «около трех», потому что часы начальника испортились и время мы определяем компасом по солнцу.
Я пишу, поглядывая на начальника, вернувшегося из вчерашнего маршрута час тому назад. Он лежит на койке, закрыв глубоко запавшие глаза, обведенные темными кругами. Джуматай стряпает лепешки из мучного мусора, выметенного со дна продовольственного ящика, а Баймуханов замачивает в роднике колеса, скорее, линзы, так густо они переплетены веревками. Ждем, когда придет в себя начальник, чтобы, подкрепившись, отправиться на Успенский рудник.
Не верится, что завтра наедимся досыта и отоспимся вволю. Конец горячему солнцу, камням, складыванию и раскладыванию, запряжкам и распряжкам! Стараюсь не думать, что впереди долгая дорога к Павлодару – дорога в холод, слякоть, снег, а может быть, и в мороз.
Последний маршрут останется незабываемым. Еще раз благополучно выбрались из переделки. Можно подумать, что экспедиции сопутствует счастливая звезда.
Мы вышли с лагерной стоянки под белоснежным Алабасом около восьми утра. Начальник потянулся на Ортау, а я – через граниты Космуруна к высокой пузатой горе Аба. Обоз направили на север, за Космурун.
Вопреки прогнозам Баймуханова утро было теплым и ясным. Мой оптимистичный начальник вышел, как выходил на юге сектора, без куртки, в нижнем и даже без фуражки.
– Подбодритесь, инженер-географ! – бросил он, когда мы расходились. – Последний – самый интересный участок сектора! Говорят, в Ортау англичане находили аметисты, а перед Космуруном – подбирали вулканические бомбы. Разыщите и зарисуйте кратер, – и помахал мне томиком Ахматовой.
Только в полдень я разделался с дикими окраинами Алабаса. Когда вышел на северные отроги Космуруна, солнце уже висело над Ортау. На обследование протянувшегося от Аба к долине Сарысу мелкосопочника, сложенного, судя по рельефу, вулканическими породами, оставалось не так уже много времени. Бродить же ночь в поисках лагерной стоянки, памятуя прошлые маршруты, совсем не улыбалось, да и рюкзак тянул назад, а тут еще усталость, нестерпимый голод…
Однако кратер с вулканическими бомбами перетянул. Я, махнув рукой на лагерь, отправился на пузатую гору Абу, которая казалась совсем близкой.
Гора оказалась далекой и такой растянутой, что я еще одолевал середину западного склона, а лога уже тонули в сумерках и куполообразная вершина горела в розовом закате.
Я шел, то поднимаясь, то опускаясь по розовым порфирам гофрированного склона, выдергивая остья ковыля, набившиеся в швы залатанных галифе. Потом бежал, грозя светившейся вершине. Когда высота придвинулась настолько, что обозначилась отдельность лавовых покровов, открылся темный глубокий лог. Я выбирался из него уже ползком, подтягивая за собой рюкзак с камнями, карабин и размазывая по лицу обильный, грязный пот.
Я долго отдыхал на куполе, оглядывая склоны, не покажется ли кратер. Увы!.. Сумерки сгущались.
Я набросал эскиз Абы, взял образцы и пустился вниз к долине, где перед Ортау начальник наметил стоянку лагеря.
Рельеф ли стал сложнее и сопки выше или мне только так казалось, но по дороге пошли овраги, глубокие ущелья, заваленные глыбами, густые заросли шиповника.
Я шел, оглядываясь на чуть светившуюся голову Абы, и думал: «А что, если не разыщу лагерь? Опять шататься до утра? Где прилечь, раз холод донимает всюду: в логах, на склонах, на вершинах?..»
Вероятно, я протопал с десяток верст, потому что совсем стемнело и под сверкающими звездами померещился хребет Ортау.
Судьба, наконец, сжалилась надо мной: послышалось фырканье коней и донеслись обрывки оживленного разговора. Это были голоса Джуматая и Баймуханова.
– Джинджинер пропал! – крикнул Баймуханов в ответ на мой сигнал.
– Как пропал?!
– Совсем пропал! Везде искал! Потом тибя искал! Айда скорей палаткам!
В лагере, оказавшемся вблизи, Баймуханов рассказал о том, что когда стемнело, он забеспокоился, не случилось ли чего с начальником, который обещал вернуться к заходу солнца, потому что чувствовал себя разбитым после незадачливой поездки на Ильинский рудник. Баймуханов полез на сопку, кричал, стрелял, жег огни, затем, вернувшись в лагерь, покатил с Джуматаем в сторону моего маршрута.
Мы не сомкнули глаз до самого рассвета, поддерживая на вершине большой огонь, ломая голову над тем, что приключилось с инженером: «Ночует в сопках? В холод? Невероятно! Наткнулся на бандитов? Или сорвался с крутого склона?..»
Но вот загорелись зубцы Ортау, а инженера нет как нет. Тревога нарастала, мы поднимались на вершину, ощупывали подножие хребта, долину, мелкосопочник на юге, – безрезультатно!..
Солнце подошло к зениту, протянулся еще тревожный час,. Мы склонились к мысли, что инженер, сломав ногу, лежит где-нибудь на ортауских кручах или, что вероятнее всего, покоится, простреленный бандитами.
Ответственность за казенное имущество, за геологические материалы ложилась на меня. Я решил отправить Джуматая с депешей на Успенку, а Баймуханова – еще раз пошарить в сопках.
– Смотри!.. – шепнул вдруг Баймуханов. – Зверь не зверь, человек не человек…
Я посмотрел в бинокль, куда показывал приятель, но ничего не разобрал на желтовато-сером фоне пустой долины.
Прошло несколько минут.
– Человек! – вскрикнул Баймуханов.
Я впился в стекла бинокля – и в самом деле увидел человека. Шевельнулась слабая надежда.
Баймуханов схватил винтовку, сел на Вороного и помчался к едва заметной точке, которая то пропадала, появлялась, росла и, наконец… Да это же начальник! Боже! В каком виде подъехал он на Вороном, поддерживаемый Баймухановым, шедшим сбоку! Его одежда была разорвана в клочья. Черты землистого лица заострились, голубовато-серые глаза поблекли. Из-за седла выглядывал рюкзак с камнями.
Далее я записываю так, как кратко и с явной неохотой поведал нам начальник о своих приключениях в маршруте.
– От Аюлы пошел я к южному концу Ортау, – рассказывал начальник, – потом пересек хребет. Тут меня застигли сумерки. Вместо того, чтобы идти на северо-восток, повернул на юг. Почему? Не знаю. Может быть, устал. Когда наткнулся на речушку, смекнул, что, пожалуй, не туда забрался, но поманил огонь – принял за наш костер. Долго шел, а огонь все впереди, все выше. Наконец подошел к гранитам, вероятно, к гранитам Кызылтау, что за границей нашего района. Смотрю – наверху горят три костра, перед которыми мелькают люди. Тихонько поднимаюсь, чтобы разглядеть в бинокль, что за народ, думаю, поем, согреюсь, переночую… Но тут – замечаю людей в малахаях и кожаных рубахах, перетянутых крест-накрест патронташами. Тогда я покатился вниз, и, разглядев Медведицу, давай бог ноги к северу. Шел, грелся, потому что холод не давал садиться. Перед рассветом очутился в дебрях, заросших колючими кустами. Когда продрался, увидел Аюлы и тут почувствовал – подкашиваются ноги. Как дотянулся, спрашиваете, каким путем напал на лагерь? Думаю, что набрел случайно или чутьем, как пес, сами видите, чего рассказывать, да и не припомню…
И вот с изумлением и горечью я смотрю на осунувшегося инженера, который, передохнув не больше двух часов после семидесятиверстного маршрута (я это подсчитал по карте), привстал и, развернув десятиверстку, сказал тихим, но твердым голосом:
– Прикажите Баймуханову седлать Серого и Вороного…
– Как седлать!? – изумился я.
– Дак так… Поеду с конвоиром ликвидировать разведку на Кайракты. Парфенов совсем заждался. А вы с обозом тянитесь на Успенку. По дороге осмотрите мелкосопочник за Джаман Сарысу, что к западу от Тагалы.
И это говорит человек, бродивший в сопках больше суток, проделавший позавчера 70 верст в седле, цепляющийся за койку дрожащими руками!.. Стараюсь подавить в себе горькое сознание того, что Успенка отодвигается, по крайней мере, на 36 часов, и с тяжелым сердцем готовлюсь объявить приказ начальника.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
21 сентября
Пишу в Павлодаре на квартире у доброй тетки, которая вылечила меня от простуды перед отъездом на Успенку.
Пишу по свежей памяти – в дороге было не до этого. Чувствую себя на большом подъеме, потому что завтра садимся в поезд. В ушах еще звенят стаканы, которые мы поднимали на обеде, данном начальником по случаю конца тяжелой экспедиции.
Не буду забегать вперед. Расскажу, как было, по порядку.
Измученные и голодные, мы с Джуматаем притащились на Успенку шестого утром, а начальник с Баймухановым – к вечеру того же дня. Там уже был Миловидов, приехавший со Спасского завода. Он крикнул мне с крыльца конторы, когда подводы завернули за угол:
– Слыхали новость?! Баранкулу крышка!
– Как крышка?
– Поймали под Кызылтау.
– Под которым?
– Да, под вашим – за Ортау!
Оказалось, что Баранкула поймали в ночь нашего последнего маршрута, когда потерялся начальник – поймал отряд семипалатинской милиции под командой председателя Каркаралинского уисполкома.
Управляющий приказал накормить и напоить нас до отвала. Кроме того он, сжалившись над нашим колченогим транспортом, распорядился заменить телегу с коробом на старенький ходок. Порченых коней отдал охране рудника, взамен которых мы получили свежих. Из всей пятерки, так много потрудившейся для целей экспедиции, выдержал один Игрень. Я взял его в свою упряжку, потому что на мой ходок положили самый тяжелый груз – пять ящиков с камнями.
Когда восьмого сентября мы утром покидали рудник, опять собралось все население от мала до велика. Несмотря на то, что день выдался холодный, пасмурный, осенний и по Тагалинским склонам клубился дым и вскидывались языки огня – пожары шли за ними следом, – на душе было так светло, как в праздник или как после сдачи трудного зачета.
На Спасском заводе распрощались с Баймухановым, запаслись хлебом и бодро двинулись к Баян-Аулу. От станицы погода стала портиться. Посыпалась крупа, потом пошел дождь, а под Чакчанским пикетом повалили хлопья снега. В довершение всего перед пикетом лопнула задняя ось у моего ходка.
Стали уговаривать пикетчика заменить пострадавшую телегу на исправную, но продувной старик запросил пять червонцев, доказывая, что ему ни к чему старый поломанный ходок.
Торговались с утра до вечера и наконец сошлись на трех червонцах.
Перед Джаман-Тузом ударил сильный мороз. Как я ни топал около подводы и ни кутался в шинель, а всё же простыл. На пикет я приехал, уже весь охваченный горячкой.
Не помню, как и чем меня лечили; в памяти остались лишь земляные стенки хаты, разбитое окошко, заваленное снегом, рваная кошма, на которой я лежал, зловонная кислятина под низким черным потолком и колючие, как прикосновения иголок, укусы блох.
Утром меня положили на ходок начальника, а на мой уселся Джуматай. Притащились в Павлодар 19-го и приютились у старого хозяина. 20-го ликвидировали транспорт. На продаже лошадей начальник потерпел убыток в семь червонцев. Игреня забрал хозяин, обещая выходить его к весне – к следующей экспедиции.
Сегодня утром начальник объявил, что приглашает меня и Джуматая на обед и выпивку в Дом крестьянина по случаю благополучного окончания экспедиции и отъезда в Ленинград, а что касается моего жалованья за весь сезон, то обещал выплатить его на месте, в Геолкоме.
– Пока возьмите, – добавил он, подавая новенький червонец, – и купите сапоги, рубаху, шаровары, а то так неудобно в общественных местах.
Мы с нетерпением ожидали обеденного часа, рисуя себе пельмени, плов, арбузы, пиво…
И вот желанный час настал. Вымытые, выбритые и приодетые, мы вошли в столовую Дома крестьянина. Здесь начальник погрузился в изучение скудного меню.
– Три порции щей, три порции рагу и бутылку пива! – сказал он так, как будто заказал по паре пива, по курице и по целому арбузу.
Начальник разлил бутылку пива по стаканам, себе – целый, а нам – по половинке. Мы чокнулись со звоном, отпили по глотку, потом чокались опять и пили.
Я поднялся за папиросами в лавчонку, против Дома крестьянина, и на выходе столкнулся в полутемном тамбуре с широкоплечей подсадистой фигурой в кепке и черном пиджаке, которая, дернув меня за козырек буденовки, вскрикнула:
– Колька!.. Фрайер! Ты?!..
– Сашка! Откуда ты свалился?! – изумился я, хлопнув по плечу фигуру, оказавшуюся моим товарищем по батальону, земляком – Ромашкевичем.
Я потянул приятеля назад в столовую, и здесь за парой пива, купленной на занятые у начальника два пятака, посыпался теплый град воспоминаний.
– А помнишь, Сашка, шхеры Фридрихсгамма, в которых мы купались!
– А нары артиллерийского барака, на которых мы лежали!
– А гарнизонное кино!
– А прапорщика Деглера!
– А фрекен Минну, которой ты писал записки?
– А «Соловей, соловей, пташечка»?
На душе стало так тепло, что заказали вторую пару пива.
Мы вышли из столовой, когда все разошлись, поддерживая друг друга под руки. На затихшей улице, упиравшейся в Иртыш, блестевший под золотым закатом, мы затянули, отбивая такты нетвердыми ногами:
– Салавей, салавей, пта-а-а-шечка!
– Канаре-е-е-чка!
– Жалобно поет.
ПАТРОН ВИНЧЕСТЕРА
Первый самостоятельный геологический маршрут, который мне посчастливилось выполнить, будучи еще студентом 2-го курса Географического института, помечен в рабочем дневнике 28 июля 1924 г. Я запомнил его до мелочей благодаря событиям, о которых стоит рассказать подробнее.
Маршрут начался с юго-восточной стороны Тагалинского горного массива, где приткнулись две палатки геологической партии, производившей съемку и ревизию старинных разработок и заявок к югу от законсервированного Успенского рудника.
– Осмотрите южную окраину Тагалинского массива и исправьте рельеф на карте, – инструктировал меня начальник перед маршрутом. – Затем установите контакт с вмещающими поводами, сфотографируйте его и отыщите фауну. Без фауны не возвращайтесь!
«А как и где ее искать?» – подумал я. – «Вот еще морока! Лучше бы искать золото или жилы хрусталя, а не ракушки!»
Надо сказать что я, подобно другим студентам, избравшим себе практическое направление в географии, относился пренебрежительно к поискам окаменелых органических остатков и приятелей своих студентов-палеонтологов – да простят меня уважаемые коллеги – называл «трилобитами», «ракушечниками», за что они, как и подобало представителям чистой геологии, платили высокомерным презрением.
Снаряженный в путь, я подошел к начальнику и доложил, что готов в маршрут.
– Ну прямо настоящий Робинзон! – воскликнул он. – Давайте сниму вас на память для потомства!
И вот теперь я вглядываюсь в эту 36-летней давности пожелтевшую фотокарточку размером 6x9 и думаю: «Не Робинзон ли это?» На меня глядит, насупив брови, загорелый бородатый дядя, обвешанный со всех сторон экспедиционными предметами. Слева находится полевая сумка, справа – барометр-анероид, на поясе – восьмидюймовый финский нож, патронташ и компас. На груди – фотоаппарат, морской бинокль, а за спиной – рюкзак и короткоствольный карабин. На дяде – красноармейская фуражка с переломленным надвое козырьком, залатанная гимнастерка и дырявые штаны, засунутые в рваные обрезы голенищ. В руках – фотографический штатив и молоток. Не хватает только зонта над головой да сбоку – Пятницы.
Я двинулся в 30-километровый утомительный маршрут, поливаемый ослепительно-горячим светом и, помню, не ощущал своей полупудовой амуниции.
Южная окраина вздымавшегося Тагалинского массива окаймлялась волнистым мелкосопочником из осадочных пород, а гряды – волны сопок, казалось, бежали на гранитное подножие и бились об уступы, вскидываясь скалистыми гребнями. Я взбирался на вершины, засекался на пики Тагалы, подправлял рельеф на карте, колотил молотком по камням и записывал в дневник хитроумные названия пород, которые потом, к моему огорчению, начальник обозвал «дурацкими названиями».
Хотя на десятом километре рюкзак стал чувствительным и солнце перевалило за зенит, я бодро шагал вперед, выискивая фауну и эффектные контакты для фотоснимка. Еще пять километров к югу, и впереди – глубокий лог, налево – обрыв из сланцев, налегавших на граниты, а выше – гребень, и на гребне – скала, похожая на башню. «Вот где замечательный контакт!» – подумал я. Только взялся за штатив, как на скале шевельнулась птица. Прильнув к биноклю, разобрал темного большого хищника. «Не беркут ли?» – мелькнуло в голове. Орел сидел, пригнувшись, а у подножия изгибалась пестрая змея, торопившаяся скрыться в груду камней.
Секунда-две… и карабин на прицеле. Тишину ущелья разрывает гулкий выстрел. Орел странно вскинувшись, пропадает за парапетом башни. Карабкаюсь наверх, похваливая себя за меткий глаз и твердую руку. На вершине – ребристая скала из сланцев. Кто-то примостил к ней полукружьем стенки из тех же сланцев, которые уже полуразвалились. Похоже на воровскую башню, о которой говорили охранники на Успенском руднике. Внутри – хворост, камни, кости. Куда девалась птица?
Я оглядел ближайший, а потом – и дальний мелкосопочник, но только черные копки, сложенные на вершинах неизвестно чьей рукой, привлекали глаз. Казалось, они сторожили знойную пустыню, в которой не было видно ни одной живой души.
«Однако, кто там за копком соседней сопки? Ба!.. Да это же мой беркут!» Вот он, подскочив два раза, перелетает на дальнюю вершину. «Плюнуть на ускользавшую добычу и не похвастать в лагере, а потом – не показать ребятам в институте чучело орла?! Дурак я, что ли?!» И, сунув штатив и молоток за пояс, я понесся вниз, потом взобрался на вершину, а когда беркут перемахнул на другую сопку, опять бежал и опять взбирался… И так повторялось, пока я не выбился из сил, взбираясь, не помню, то ли на шестую, то ли седьмую сопку. Амуниция и камни в рюкзаке подпрыгивали и колотили меня со всех сторон, мокрая рубаха липла к телу, глаза заливало потом, томила жажда.
Вот и вершина! Не дальше 50 метров – беркут. Он глядит на меня в упор, прижавшись к подножию копка. Задыхаясь, я прицелился с колена и пальнул в голову. Когда я подтянулся, орел лежал, раскинув правое крыло, уткнувшись крючковатым клювом в землю. Я поднял на весь размах темно-бурое прекрасное крыло и на белоснежном фоне пуха увидел под ключицей красное пятно, от которого по груди тянулся буровато-красный шнур. «Зачем убил орла?» – царапнуло меня вдруг по сердцу, – «Что он тебе сделал? Пусть летал бы в степи вольной птицей».
Я опустился на копок передохнуть и, опершись на карабин, стал разглядывать окрестности – не видать ли где воды. На мелкосопочнике лежали тени, но небо было ярким. Солнце заходило где-то за Тагалы, и дальние ориентиры – гранитный конус, башня, вершины знакомых сопок – исчезли из поля зрения. Лишь за мелкосопочником, простиравшимся к юго-западу, я распознал в бинокль долину Сарысу. Тут только припомнились контакты, фауна, приказ начальника.
«Вот – лучший представитель фауны!» – утешил я себя, глядя на большую птицу. – «Пусть инженер гордится, что его коллектор всадил с 300 метров пулю под крыло орла! Небось, сам не попадает, слаба кишка… В крайнем случае подарю ему чучело, пусть не ругается». И, наклонившись, потрогал беркута.