Год чудес бесплатное чтение
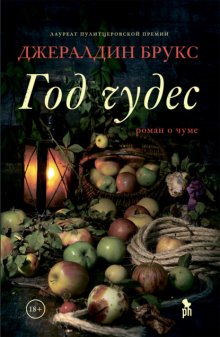
© 2001 by Geraldine Brooks
© Светлана Арестова, перевод, 2021
© „Фантом Пресс”, оформление, издание, 2021
Из поэмы Джона Драйдена Annus mirabilis, «Год чудес», 1666 г.
- Довольно! Ты немало преуспел:
- За каждым поворотом свой конец
- От Черной Смерти ядовитых стрел
- Мог встретить всяк, храбрец или беглец.
- Живые редки, жертвы часты здесь —
- Во гневе Ты наслал сей лютый мор.
- И те, кто в дом свой возвратился днесь,
- Нашли исполненным Твой приговор.
1666, осень
Сезон уборки яблок
Когда-то я любила эту пору. Поленья, сложенные у двери, с густым смолистым духом леса. Сено в стогах, золотое в тусклом вечернем свете. Перестук яблок, что сыплются в корзины в погребе. Запахи, образы, звуки, возвещающие, что год будет добрым и зиму дети проведут в сытости и тепле. Когда-то я любила осенние прогулки в яблоневом саду, мягкий треск под башмаком, когда ступишь на паданец. Тягучие, сладкие ароматы яблочной прели и сырого дерева. В этом году стогов мало, запасы дров скудны, но мне до этого нет дела.
Вчера привезли яблоки для пасторского погреба, полную телегу. Разумеется, снимали их поздно. Многие в коричневых пятнах. Когда я указала на это возчику, он ответил, что повезло раздобыть хоть такие, и, надо полагать, он прав. Для уборки урожая у нас не хватает людей. У нас ни для чего не хватает людей. А те, кто есть, ходят как во сне. Мы все измождены.
Я выбрала яблоко получше да посвежей и нарезала ломтиками, тонкими, как береста, и отнесла в темные покои, где сидит он, безмолвно и бездвижно. Рука на Библии, не открываемой уже давно. Я спросила, не желает ли он, чтобы я почитала оттуда вслух. Он повернулся ко мне, и я вздрогнула. Впервые за много дней он на меня посмотрел. Я уже забыла, на что способны эти глаза – на что способны мы, – когда он взирает на нас с кафедры, задерживая на каждом по очереди взгляд. Глаза все те же, но до чего переменилось лицо, усталое и осунувшееся, с глубокими морщинами. Когда он прибыл сюда, всего три года назад, его мальчишеская наружность стала предметом шуток, и люди смеялись при мысли о том, что проповедовать им будет желторотый птенец. Сегодня он не вызвал бы у них смеха, даже если бы они вспомнили, что это такое.
– Анна, ты же не умеешь читать.
– Еще как умею, ваше преподобие. Меня научила миссис Момпельон.
Он нахмурился и отвернулся, и я тотчас пожалела, что завела о ней речь. Он больше не давал себе труда перевязывать волосы лентой, и за их темной пеленой нельзя было разобрать выражения его лица. Но голос его, когда он вновь заговорил, был спокоен.
– Неужто? Неужто? – пробормотал он. – Что ж, как-нибудь ты мне почитаешь, и мы посмотрим, какой из нее вышел учитель. Но не сегодня, Анна. Не сегодня. А теперь ступай.
Служанка не вправе задерживаться, когда ее отослали. Но я задержалась: взбила подушку, укрыла его одеялом. Мне запрещалось топить камин. Запрещалось доставлять ему даже эту малую радость. В конце концов мои вымышленные хлопоты закончились и я его оставила.
Захватив на кухне порченых яблок, я пошла на конюшню – проведать его лошадь. Двор не подметали уже неделю. Пахло гниющей соломой и лошадиной мочой. Пришлось приподнять юбку, чтобы не перепачкать подол. Не дойдя и до середины двора, я услыхала, как конь с глухим стуком бьется о стенки стойла, вертясь и перебирая копытами в своем заточении, оставляя вмятины в полу, ведь, кроме хозяина, никто не мог с ним управиться.
Мальчишка-конюший, которому поручено было расчищать двор, дремал на полу сарая со сбруями. При виде меня он вскочил и принялся озабоченно искать черенок от косы, выскользнувший у него из пальцев во время сна. Заметив, что лезвие так и лежит на верстаке, я не на шутку рассердилась: косу надо было починить давным-давно, а теперь тимофеевка уже вся осыпалась и косить ее никакого проку. Я хотела выбранить мальчишку и за это, и за неприбранный двор, но при взгляде на его жалкое личико, такое бледное и изможденное, слова застряли в горле.
Я отперла стойло, и в лучах солнца заискрились пылинки. Конь застыл на месте с поднятым копытом, щурясь с непривычки на яркий свет. Затем взвился на дыбы и забил копытами в воздухе, ясно давая понять: «Коли ты не он, убирайся прочь». Не знаю, как давно его не касалась щетка, но на солнце шкура по-прежнему отливала бронзой. Когда мистер Момпельон верхом на этом коне прибыл в нашу деревню, пошли толки, что негоже священнику разъезжать на таком отменном жеребце. К тому же людям не нравилось имя коня – Антерос: один старый пуританин объяснил нам, что так звали языческого божка. Когда я отважилась спросить об этом мистера Момпельона, он лишь рассмеялся и сказал, что даже пуритане должны помнить, что язычники тоже дети Божьи, а их предания – часть его творения.
Я зашла в стойло и, прижавшись спиною к стенке, ласково заговорила с исполинским конем.
– Бедняга, ютишься тут целыми днями. А у меня для тебя гостинец.
Плавно я запустила руку в карман передника и вытащила яблоко. Конь слегка повернул ко мне голову, сверкнув белком глаза. Я продолжала ворковать, как некогда со своими малышами, если им бывало страшно или больно.
– Ты у нас любишь яблочки. Знаю, что любишь. Ну же, бери.
Он стукнул копытом, однако уже не так норовисто. Неспешно – ноздри раздуваются, втягивая запах яблока и моей кожи, – он вытянул мощную шею и обратил ко мне морду. Теплые, мягкие, точно перчатка, губы коснулись моей ладони и захватили яблоко целиком. Я полезла в карман за вторым, но тут конь мотнул головой, брызнул сок. Он снова встал на дыбы, молотя копытами в воздухе, – миг был упущен. Бросив яблоко на пол, я выскользнула из стойла, затворила дверь и прислонилась к ней спиной, затем отерла с лица брызги слюны. Конюший взглянул на меня и возвратился к починке косы.
Право же, подумала я, проще облегчить участь бедному животному, чем его хозяину. Зайдя в дом, я услыхала, как священник меряет шагами комнату у себя наверху. Полы в доме старые и тонкие, и я без труда угадывала его передвижения по скрипу досок. Взад-вперед ходил он, взад-вперед, взад-вперед. Вот бы уговорить его спуститься, и пусть расхаживает себе по саду. Однажды я уже пыталась, но он так посмотрел на меня, будто ему предложили прогуляться по Уайт-Пику[1]. Когда я зашла за тарелкой, яблочные ломтики были на месте, нетронутые, побуревшие. Завтра начну отжимать сок для сидра. Мистер Момпельон, бывает, сделает глоток-другой, сам того не замечая, даже когда его невозможно уговорить поесть. И потом, не пропадать же целому погребу фруктов. Чего я больше не вынесу, так это запаха преющих яблок.
На исходе дня, возвращаясь из дома священника, я всегда иду через яблоневый сад на холме: на главной улице, неровен час, увидишь знакомое лицо. Мы столько пережили вместе, что уже нельзя пройти мимо с любезным «Добрый вечер!». А на большее у меня нет сил. Порой – впрочем, не так уж часто – сад возрождает в памяти иную, светлую пору. Воспоминания эти недолговечны, дробь отражений в ручье, увиденных мельком и унесенных в потоке горя нынешней нашей жизни. Теперь я никогда не чувствую себя как в прежние, счастливые времена. Но изредка что-то да заденет то место, где обитало счастье, легким взмахом, будто крылышко мотылька во тьме.
Летними вечерами, в яблоневом саду, закрыв глаза, я слышу детский лепет, шепот и смех, шуршанье листьев и топот. А по осени вспоминаю Сэма – сильного Сэма Фрита, который как-то схватил меня за талию и усадил на низкую ветку чахлого, узловатого деревца. Мне было всего пятнадцать. «Пойдешь за меня?» – спросил он. И отчего бы не пойти? Жизнь в отцовском доме была безрадостна. Отец любил хмельное больше, чем родных детей, однако это не мешало ему плодить их из года в год. Для мачехи, Эфры, я была прежде всего парой рук, помощницей в заботах о ее малышах. И все же это она встала на мою сторону, это ее слова склонили отца согласиться на брак. Он видел во мне ребенка, а не девицу на выданье. «Разуй глаза, муж мой, и взгляни на нее, – увещевала Эфра. – Во всей деревне ты один на нее не заглядываешься. Пускай лучше сочетается с Фритом, чем сношается с каким-нибудь молодцем, у кого хер тверже, чем характер».
Сэм Фрит был горнорабочим и трудился на собственной выработке. У него был чудесный маленький домик, а вот детей от покойной жены не было. У нас за этим дело не стало. Он подарил мне двоих сыновей за три года. Три славных года. Тут надо заметить, ибо многие чересчур юны, чтобы это помнить, что нас тогда не учили стремиться к счастью. Деревней заправляли пуритане, которых нынче так притесняют, что среди нас их почти не осталось. Все детство мы слушали пуританские проповеди в церквях с голыми стенами, из-за пуританских понятий о языческой скверне утихло веселье в день субботний и смолкли церковные колокола, исчез эль из трактиров и кружева с платьев, ленты с майского дерева и смех с улиц. А потому счастье, что принесли мне сыновья и безбедная замужняя жизнь, застигло меня врасплох, точно весенняя оттепель. Когда на смену ему вновь пришли невзгоды и уныние, я была ничуть не удивлена. Я спокойно отворила дверь той ужасной ночью, когда чадили факелы, воздух прорезаґли крики и лица мужчин были так черны, что казалось, будто у них нет голов. Сад способен оживить и это воспоминание, если не прерывать раздумий. С порога, с младенцем на руках, я наблюдала, как прыгают факелы, вычерчивая среди деревьев странные полосы света. «Не спешите, – шептала я. – Не спешите. Пока я не услышу слов, все это не по-настоящему». И они не спешили, взбирались на этот холм, словно на горную кручу. Но, как бы медленно они ни шли, вскоре все они стояли у моей двери, пихаясь и переминаясь с ноги на ногу. Самого крупного, приятеля Сэма, толкнули вперед. К башмаку у него прилипло месиво гнилого яблока. Странно замечать такое, но я, по видимости, смотрела в землю, чтобы не глядеть ему в лицо.
Сэма откапывали четыре дня. Вместо того чтобы отнести тело в наш дом, его сразу потащили к могильщику. Меня не хотели пускать к Сэму, но я не отступалась. Я была твердо намерена исполнить свой последний долг. Элинор Момпельон это знала. «Скажи им, чтобы пустили ее», – мягко обратилась она к священнику. Стоило ей заговорить, и дело было решенное. Она так редко о чем-либо просила. Майкл Момпельон кивнул, и они расступились, эти большие мужчины, пропуская меня к Сэму.
От него и впрямь мало что осталось. Но что осталось, я омыла. Это было два года назад. Сколько тел мне пришлось омыть за эти два года – и тех, кого я любила, и тех, кого едва знала. Но Сэм был первым. Я принесла его любимое мыло, которое, как он говорил, пахло детьми. Бедный тугодум Сэм. Он так и не уразумел, что это дети пахли мылом. Я купала их каждый вечер перед его приходом. В детское мыло я добавляла цветки вереска, и оно получалось куда нежнее того мыла, что я варила для него. Его мыло сплошь состояло из песка и щелока. Иначе корку из засохшей земли и пота не оттереть. Зарывшись усталым лицом в детские волосы, он вдыхал их свежесть. Лишь так он приближался к продуваемым ветрами холмам. В копи на рассвете, обратно после заката. Жизнь во мраке. И смерть тоже.
А теперь вот Майкл моей дорогой Элинор целыми днями сидит во мраке, ставни плотно затворены. А я пытаюсь ему прислуживать, хоть порой и кажется, будто передо мной еще один покойник в длинной процессии мертвецов. Но я все равно это делаю. Делаю ради нее. Я говорю себе, что ради нее. В конце концов, ради кого же еще?
Вечерами, когда я переступаю порог своего дома, меня толстым одеялом окутывает тишина. Из всех одиноких мгновений, какими наполнен мой день, это самое одинокое. Порой, признаться, потребность услышать человеческий голос так сильна, что я, как безумица, принимаюсь бормотать себе под нос. Не по нраву мне это: черта между мной и безумием и без того тоньше паутинки, а я уже видела, что бывает, когда душа пересекает эту черту, вступая в мир ужаса и мрака. Прежде ловкая и бесшумная, теперь я двигаюсь нарочито неуклюже. Топаю ногами. Лязгаю кочергой. А когда хожу за водой, скребу цепочкой от ведра о каменные плиты колодца – уж лучше слушать рваный скрежет, чем удушливую тишину.
Если найдется огарок сальной свечи, я читаю, пока он не догорит. Миссис Момпельон всегда разрешала мне брать огарки из пасторского дома, и, хотя нынче их совсем немного, не знаю, что бы я без них делала. Час, когда я могу затеряться в чужих мыслях, – лучшая передышка от мрачных воспоминаний. Книги я тоже приношу из пасторского дома – миссис Момпельон настоятельно просила брать любую, какая мне приглянется. Когда гаснет свет, ночи длинны, ведь сплю я дурно, все тянусь руками к маленьким, теплым телам моих малышей, а, нащупав пустоту, рывком пробуждаюсь.
Утренние часы куда милостивее вечерних, полные птичьего пения, куриного квохтанья и простых обещаний, что сулит каждый рассвет. Теперь я держу корову – роскошь, которая была мне не по карману, когда Джейми так требовалось молоко. Я нашла ее прошлой зимой – бедняга изможденно брела по дороге, кожа складками свисала с костлявого зада. В больших глазах было столько пустоты и безнадежности, будто я гляделась в зеркало. Соседский дом стоял заброшенный, окна обвиты плющом, подоконники в серой коросте лишайника. Я отвела корову внутрь, обустроила ей там хлев и всю зиму откармливала ее соседским овсом – его было вдосталь, а мертвым от него все равно никакого проку. Там она и отелилась, в безропотном одиночестве. К моему приходу после отёла прошло часа два – спина и бока у теленка уже обсохли, а за ушами еще было мокро. Я помогла ему сделать первый глоток, сунув пальцы ему в рот и протиснув меж ними ее титьку, прямо на скользкий язык. Взамен – на другой день – я украла у нее немного густого желтого молозива на сладкий пирог для мистера Момпельона и, пока он ел, радовалась, точно мать за сына, представляя, как довольна была бы Элинор. Теперь теленок уже весь лоснится, а телка встречает меня терпеливо-добродушным взглядом карих глаз. Я люблю прижиматься щекой к ее теплому боку и вдыхать ее запах, пока из-под моих пальцев в ведро брызжет пенистое парное молоко. Я отношу молоко в пасторский дом и делаю из него поссет[2], или сладкое масло, или сливки, которые подаю с ежевикой, – лишь бы кушаньем соблазнился мистер Момпельон. Надоив достаточно для наших скромных надобностей, я отвожу корову на луг. С прошлой зимы она так раздобрела, что того и гляди застрянет в дверях.
С ведром в руке я вышла через парадную дверь – утром легче найти в себе силы заговорить со встречным. Деревня наша стоит на склоне плоскогорья Уайт-Пик. Каждый день мы то, согнувшись, бредем в гору, то, раскинув руки в стороны, пытаемся замедлить крутой спуск. Иногда я задумываюсь, каково это – жить в более равнинных краях, где люди ходят прямо, а вдали видна ровная линия горизонта. В нашей деревне даже главная улица идет под уклон, и те, кто стоит в одном ее конце, высятся над теми, кто стоит в другом.
Вся деревня – это тонкая лента построек, разматывающаяся к востоку и западу от церкви. Там и сям от главной улицы ответвляются нити тропинок, ведущих к мельнице, Бредфорд-холлу, домам землевладельцев и уединенным жилищам арендаторов. Мы всегда строили из того, что есть под рукой, поэтому стены наши сделаны из песчаника, а крыши устланы вереском. За домами, по обе стороны дороги, раскинулись пастбища да пашни, а дальше земля резко уходит вверх или вниз: на севере – маячащий вдали отвесный утес, что прочерчивает границу между заселенной землей и вересковыми пустошами; на юге – быстрый, глубокий нырок в долину.
Главная улица нынешней порой представляла собой странную картину. Как мне досаждали ее летняя пыль и зимняя слякоть, зеркальная пленка льда на лужах в колеях – ловушка для опрометчивого путника. Теперь же нет ни льда, ни слякоти, ни пыли – дорога поросла травой, лишь посередке редкие прохожие протоптали узкую тропу. Столетиями местные жители вытесняли природу из ее законных владений. Ей потребовалось меньше года, чтобы вновь заявить о своих правах. В центре улицы лежит скорлупка грецкого ореха, недавно из нее проклюнулся росток, готовый однажды загородить нам путь. Я наблюдаю за ним с тех пор, как распустились первые листки, гадая, когда же кто-нибудь выдернет его из земли. Но никто этого не делает, и побег уже ярд в высоту. Судя по следам, все его обходят. То ли от безразличия, то ли оттого, что остальные, как и я, повидали столько концовок, что не в силах вырвать даже сорный побег, слабо цепляющийся за жизнь.
По дороге к дому священника я не видела ни души. А потому утратила бдительность и оказалась совершенно не готова к встрече, которой желала меньше всего на свете. Когда я прошла во двор и стала запирать за собой калитку, сзади послышался шелест шелка. Я резко обернулась и расплескала молоко из ведра. Одна капля угодила на бордовый подол, и Элизабет Бредфорд сердито нахмурилась.
– Растяпа, – прошипела она.
Она была такой же, как и в последнюю нашу встречу больше года тому назад, – избалованной девицей с кислой миной. Но старые привычки искоренить не так-то легко, и, вопреки твердому намерению не выказывать ей никаких знаков почтения, я невольно присела в поклоне.
Мисс Бредфорд, по своему обыкновению, не стала утруждать себя приветствиями.
– Скажи мне, где Момпельон, – потребовала она. – Я добрую четверть часа стучалась в дверь. Неужто его так рано уже нет дома?
– Мисс Бредфорд, – обратилась я к ней с наигранной любезностью. – Какая неожиданность, какая огромная честь видеть вас в нашей деревне. Вы отбыли в такой спешке и так давно, что мы уж не чаяли вновь быть удостоенными вашим присутствием.
Тщеславие Элизабет Бредфорд было столь велико, а ум столь скуден, что она услышала лишь слова, не обратив внимания на тон.
– Верно, – кивнула она. – Мои родители знали, что наш отъезд обернется для всей деревни невосполнимой утратой. Они всегда чрезвычайно остро сознавали свой долг. Как тебе известно, именно из чувства долга мы и покинули Бредфорд-холл. Только оставаясь в добром здравии, мы смогли бы и дальше исполнять свои обязанности. Момпельон, разумеется, читал прихожанам письмо моего отца?
– О да, – ответила я. Но не прибавила, что за этим последовала одна из самых мятежных проповедей, какие мы от него слышали.
– Так где же он? Меня и так заставили слишком долго ждать, а у меня к нему неотложное дело.
– Мисс Бредфорд, должна сообщить вам, что его преподобие никого не принимает. Недавние несчастья и его собственная тяжкая утрата лишили его последних сил, и забота о приходе стала ему не по плечу.
– Пусть так – во всем, что касается простых прихожан. Однако он не знает, что наша семья возвратилась в деревню. Будь добра, доложи ему, что мне надо срочно с ним повидаться.
Я не видела никакого смысла продолжать разговор. И, признаться, мне было любопытно, пробудят ли мистера Момпельона вести о возвращении Бредфордов, вызовут ли они в нем хоть какие-нибудь чувства. Возможно, гнев сделает с ним то, чего не сделало сострадание. Возможно, как раз этого ему и недоставало – раскаленного клейма.
Я прошествовала к дому и отворила парадную дверь. Мисс Бредфорд скривилась: она не привыкла делить вход с прислугой и явно ожидала, что я зайду через кухню и торжественно впущу ее изнутри. Что ж, в отсутствие Бредфордов здесь многое переменилось, и чем скорее она свыкнется с неприятными новшествами, тем лучше для нее.
Протолкнувшись мимо, она без приглашения прошла в гостиную, стянула перчатки и принялась нетерпеливо похлестывать ими по ладони. Она изрядно удивилась, увидев, какой голой сделалась комната без прежних удобств. Я отправилась на кухню. Каким бы срочным ни было ее дело, ей придется подождать, пока мистер Момпельон не поест, – если он и притрагивался к пище, то именно за завтраком, съедая овсяную лепешку и немного свиного студня. Поднимаясь по лестнице с подносом в руках, я увидела ее в открытую дверь: сама не своя она расхаживала по комнате. Брови ее так сдвинулись, а уголки губ так опустились, что казалось, будто кто-то схватил ее за щеки и потянул кожу вниз. Прежде чем постучать, я немного помедлила, стараясь овладеть собой. Я не желала ни словом, ни взглядом сказать лишнего, когда буду докладывать о гостье.
– Заходи, – раздался голос мистера Момпельона. Он стоял у окна, ко мне спиной, и в кои-то веки ставни были открыты. – Право, Элинор бы страшно огорчилась, увидев, во что превратился ее сад.
Сперва я не знала, что на это ответить. Говорить очевидное – да, огорчилась бы – значило лишь потворствовать его унынию. Возражать ему – значило покривить душой.
– Полагаю, она поняла бы, отчего так вышло, – ответила я, склонившись над столом, чтобы расставить посуду. – Даже будь у нас люди, чтобы полоть сорняки и обрезать сухие ветки, сад все равно не стал бы прежним. Нам всегда будет недоставать ее меткого глаза. Сад носил ее отпечаток: она могла взглянуть на горстку семян бесплодной зимой и представить, какими они будут летом, залитые солнцем и в цвету. Она словно писала картину.
Выпрямившись, я поймала на себе его удивленный взгляд. Этот взгляд снова пронзил меня насквозь.
– Ты знала ее! – произнес он, будто только сейчас это понял.
Пытаясь скрыть смущение, я одним духом выпалила то, что надеялась сообщить как можно мягче.
– В гостиной ждет мисс Бредфорд. Вся семья возвратилась в Бредфорд-холл. Она желает немедленно поговорить с вами.
То, что случилось дальше, так меня поразило, что я чуть не уронила поднос. Он расхохотался. Раскатисто, задорно – давно я не слышала такого смеха и даже забыла, как он звучит.
– Знаю. Я ее видел. Молотила в дверь, как таран. Я уж было подумал, хочет ее снести.
– Что ей передать, сэр?
– Передай, пусть катится к черту.
Заметив выражение моего лица, он снова рассмеялся. Глаза у меня, вероятно, были размером с блюдца. Смахнув слезинку, он взял себя в руки.
– Я вижу. Едва ли можно ожидать, что ты передашь такое послание. Говори что угодно, главное – донеси до мисс Бредфорд, что я ее не приму, и выпроводи ее из этого дома.
Словно бы две разные Анны спускались по ступенькам. Первая была робкой девочкой, прислуживавшей Бредфордам в извечной тревоге, боявшейся их грозных взглядов и суровых слов. Вторая была взрослой женщиной, повидавшей больше ужасов, чем многие солдаты. Элизабет Бредфорд была труслива. Трусливы были ее родители. Войдя в гостиную и почувствовав на себе всю ее ярость, я поняла, что больше ее не страшусь.
– Прошу прощения, мисс, но его преподобие никак не сможет нынче вас принять. – Я старалась говорить спокойно, но, когда у Элизабет Бредфорд заходили желваки, мне вдруг вспомнилась моя корова, озабоченно жующая жвачку, и я почувствовала, что тоже заразилась странным весельем мистера Момпельона. – Как я уже сказала, он не справляет обязанностей священника, а также не появляется в обществе и сам не принимает гостей.
– Да как ты смеешь ухмыляться мне в лицо, дерзкая замухрышка! – вскричала она. – Он мне не откажет, не посмеет. Прочь с дороги!
Она шагнула к двери, но я оказалась проворнее и загородила ей путь, точно колли, готовая приструнить непослушного ягненка. Мгновение мы молча смотрели друг на друга.
– Ах, ну и ладно, – сказала она и взяла с каминной полки перчатки, будто бы собираясь уйти. Как только я сдвинулась с места, чтобы ее проводить, она протиснулась мимо меня и кинулась к лестнице, ведущей в покои мистера Момпельона, однако в этот миг на лестничной площадке появился он сам.
– Мисс Бредфорд, – молвил он, – извольте остаться где стоите.
Голос его был негромок, но так властен, что Элизабет Бредфорд застыла на месте. Он уже не горбился, как в последние месяцы, а держался гордо и прямо. И хотя он сильно осунулся, теперь, когда к нему наконец возвратилась живость, стало видно, что худоба не испортила его черты, а лишь придала им благородства. Прежде, взглянув на его лицо, вы не нашли бы в нем ничего примечательного, за исключением разве что необычайно выразительных глубоко посаженных серых глаз. Теперь же впалые щеки только подчеркивали красоту этих глаз, и от них невозможно было отвести взгляда.
– Буду премного благодарен, если вы воздержитесь от оскорблений в адрес моих домочадцев, когда они исполняют мои поручения, – сказал он. – Будьте так добры, позвольте миссис Фрит проводить вас.
– Вы не можете так со мной поступить! – воскликнула мисс Бредфорд, на этот раз тоном маленькой девочки, которой отказали в игрушке. Священник стоял на несколько ступеней выше, и ей приходилось смотреть на него снизу вверх, как просительница. – Моя мать нуждается в вас…
– Моя дорогая мисс Бредфорд, – холодно прервал ее он. – В этом году многие здесь в чем-то нуждались, и вашей семье было под силу удовлетворить их потребности. Однако вас… тут не было. Теперь же, окажите мне честь, попросите вашу матушку отнестись к моему отсутствию с той же терпимостью, какую ваша семья так долго проявляла к своему.
Она покраснела, лицо – сплошные пятна, точно пестрый лоскуток. И вдруг, подумать только, она заплакала.
– Мой отец больше не… он уже… Дело в матери. Матушка очень больна. Она боится – нет, она уверена, что скоро умрет. Оксфордский хирург ручался, что это опухоль, но теперь никаких сомнений… Прошу, ваше преподобие, у нее уже путаются мысли. Она не успокоится, пока не увидит вас, и ни о чем другом не может говорить. Поэтому мы и возвратились – чтобы вы утешили ее и помогли ей встретить конец.
Мистер Момпельон молчал, и я не сомневалась: вот-вот он велит подать ему сюртук со шляпой и отправится в Бредфорд-холл. Когда он наконец заговорил, лицо его приняло печальное выражение, какое я видела уже не раз. Однако голос звучал грубо и непривычно.
– Если ваша матушка ожидает, что я, подобно паписту, отпущу ее грехи, значит, она проделала долгий, изнурительный путь впустую. Пускай говорит с Богом напрямую и сама просит прощения за свои деяния. Но, боюсь, она не найдет в нем внимательного слушателя, как не нашли и мы.
На этом он повернулся к ней спиной, поднялся в свои покои и плотно затворил дверь.
Элизабет Бредфорд покачнулась и так крепко вцепилась в перила, что побелели костяшки пальцев. Она вся дрожала, плечи ее тряслись от едва сдерживаемых рыданий. Я невольно подошла поближе. И, несмотря на мою давнюю неприязнь к ней и ее давнее отвращение ко мне, она бросилась в мои объятья, как малое дитя. Сперва я хотела проводить ее до двери, но она была в таком состоянии, что мне просто не хватило духу выставить ее за порог, хотя хозяин дома и желал поскорее от нее избавиться. Вместо этого я повела ее на кухню и усадила на скамейку для ведер с водой. Тут уж она потеряла последние остатки самообладания, и вскоре кусочек кружева, служивший ей платком, был весь пропитан слезами. Я протянула ей кухонное полотенце, и, к моему удивлению, она взяла его и высморкалась – шумно и бесцеремонно, точно уличный мальчишка. Я предложила ей воды, и она жадно припала к кружке губами.
– Я сказала, что возвратилась вся семья, – вновь заговорила она, – но на самом деле приехали только мы с матушкой и наша прислуга. Я не знаю, чем ей помочь, так она горюет. Отец видеть ее не желает, с тех пор как раскрылась причина ее недомоганий. Нет у нее никакой опухоли. А то, что есть, в ее годы равно способно ее убить. Но отцу хоть бы что. Он всегда был к ней жесток, а нынче превзошел самого себя. Он наговорил столько гадостей… Назвал свою жену потаскушкой…
Элизабет Бредфорд осеклась. Она сболтнула лишнее. Поведала куда больше, чем следовало. Она поспешно подняла свой благородный зад со скамьи, будто сидела на раскаленных углях, расправила плечи и без единого слова благодарности протянула мне пустую кружку и замаранное полотенце.
– Не провожай, – бросила она и вышла вон, не удостоив меня даже взглядом. Я не последовала за ней, но вскоре об ее уходе возвестил грохот массивной дубовой двери.
Оставшись одна, я с ужасом задумалась над словами мистера Момпельона. Кто знал, что в душе у него такой мрак? Я тревожилась за него. И не знала, чем его утешить. Ступая как можно тише, я поднялась на второй этаж и прислушалась. Из-за двери не доносилось ни звука. Я легонько постучала и, не получив ответа, вошла в комнату. Он сидел за столом, уронив голову в ладони. Рядом, как обычно, лежало нераскрытое Писание. И тут я отчетливо вспомнила, как он сидел в такой же позе в один из самых мрачных дней минувшей зимы. Разница была в том, что тогда возле него сидела Элинор и своим нежным голосом читала Псалтырь. Я словно слышала этот голос, тихое бормотание, такое успокоительное, прерывающееся лишь мягким шелестом страниц. Не спросив дозволения, я взяла Библию, открыла хорошо знакомое мне место и начала читать:
- Благослови, душа моя, Господа
- И не забывай всех благодеяний Его.
- Он прощает все беззакония твои,
- Исцеляет все недуги твои;
- Избавляет от могилы жизнь твою…[3]
Он поднялся со стула и взял у меня книгу. Затем тихо, но резко произнес:
– Замечательно, Анна. Вижу, что моя Элинор может прибавить к перечню своих талантов еще и педагогический дар. Но отчего же ты не выбрала эти строки?
Он перелистнул несколько страниц и прочитал:
- Жена твоя, как плодовитая лоза,
- В доме твоем;
- Сыновья твои, как масличные ветви,
- Вокруг трапезы твоей…[4]
Закончив, он смерил меня пристальным взглядом. Затем медленно, нарочито раскрыл ладонь. Книга выскользнула у него из пальцев. Я кинулась вперед, чтобы поймать ее, но он схватил меня за руку, и Библия с глухим стуком шлепнулась на пол.
Так мы стояли, лицом к лицу, и он все сильнее сжимал мою руку, того и гляди сломает.
– Ваше преподобие… – произнесла я срывающимся голосом.
Он разжал пальцы, точно обжегся каленым железом, и пробежал рукой по волосам. На коже у меня остались следы его пальцев, жаркое покалывание. Глаза защипало, и я отвернулась, чтобы он не увидел моих слез. Я ушла, не спросившись.
1665, весна
Венок из роз[5]
Никогда прежде не знала я столько тягот, как в первую зиму после гибели Сэма в шахте. А потому, когда весной Джордж Викарс постучал в мою дверь и сказал, что желает снять жилье, я подумала, что его послал сам Господь. Впоследствии некоторые говорили, что послал его дьявол.
О его приходе возвестил малыш Джейми. Краснея от удовольствия, путаясь в ногах и в словах, он пролепетал:
– Мама, там дядя! К нам дядя пришел!
При виде меня Джордж Викарс поспешно снял шляпу и почтительно уставился себе под ноги. Совсем не то что другие мужчины, которые разглядывают тебя, точно скотину на торгах. Когда восемнадцати лет от роду ты уже вдова, быстро привыкаешь к таким взглядам и учишься давать отпор.
– Если позволите, миссис Фрит, в доме священника сказали, что у вас, быть может, найдется для меня комната.
Мистер Викарс сообщил мне, что он странствующий портной, и, судя по его простому, добротному платью, свое дело он знал. Несмотря на долгий путь из Кентербери, выглядел он чисто и опрятно, и это меня подкупило. Мистер Викарс уже успел наняться в подмастерья к моему соседу, Александру Хэдфилду, у которого в ту пору отбоя не было от клиентов. Держался мистер Викарс скромно, говорил тихо, но, узнав, что он готов уплачивать по шесть пенсов в неделю за комнату у меня на чердаке, я приняла бы его, будь он даже шумлив, как пьянчуга, и грязен, как свинья. Нам очень недоставало дохода от шахты Сэма. Том был еще грудным младенцем, а мое стадо не давало большой прибыли, и, хотя по утрам я прислуживала в доме священника, а по особым случаям – в Бредфорд-холле, если там не хватало рук, заработки мои были слишком скудны. Шесть пенсов были для нас ощутимой суммой. Однако уже на исходе недели я сама готова была платить своему жильцу. Джордж Викарс возвратил в дом смех. Впоследствии, когда я вновь могла о чем-либо думать, я утешала себя мыслями о тех весенних и летних деньках, когда Джейми смеялся.
Пока я работала, за Джейми и Томом приглядывала юная дочка Мартинов. Она была порядочной девушкой, да и за детьми следила зорко, но из-за пуританского воспитания полагала, что веселье и смех порочны. Такая строгая нянька была Джейми не по душе, и, завидев меня в окно, он всегда бежал мне навстречу и обхватывал мои колени. Однако на другой день после прибытия мистера Викарса Джейми не встречал меня на пороге. Его тоненький смех раздавался из теплого уголка у очага, и я, как сейчас помню, подумала: что это нашло на Джейн Мартин, если она села с ним играть? Но, пройдя в дом, я увидела, что Джейн помешивает похлебку в котелке, губы привычно сжаты в нитку. По комнате на четвереньках ползал мистер Викарс, а верхом на нем, восторженно повизгивая, сидел Джейми.
– Джейми! Ну-ка немедленно слезай с бедного мистера Викарса! – воскликнула я.
Но портной лишь рассмеялся, а затем закинул назад светловолосую голову и по-лошадиному заржал.
– Я его лошадка, миссис Фрит, с вашего позволения. Он отменный наездник и почти никогда не бьет меня хлыстом.
Еще через день, когда я возвратилась домой, Джейми, подобно Арлекину, весь был увешан пестрыми лоскутками из корзинки мистера Викарса. А на третий день они вдвоем привязывали мешки с овсом к стульям, сооружая укрытие.
Я стала благодарить мистера Викарса за его доброту, но он лишь отмахнулся:
– Славный у вас мальчонка. Отец, должно быть, страшно им гордился.
Тогда я постаралась отплатить ему иным способом – накрывала особенно хороший стол, и он щедро нахваливал мою стряпню. В ту пору мистер Хэдфилд был единственным портным на все окрестные города, и работы его подмастерью хватало с лихвой. Мистер Викарс часто засиживался с шитьем допоздна, ловко орудуя иголкой и сжигая за вечер по целой лучине. Если у меня оставались силы, я находила себе какое-нибудь занятие близ очага, чтобы составить ему общество, за что он награждал меня историями о местах, где ему довелось побывать. Для такого молодого человека он многое перевидал и вдобавок был искусным рассказчиком. Как и большинство местных, я никогда не заезжала дальше небольшого городка в семи милях от нашей деревни. До Честерфилда, ближайшего к нам крупного города, добираться вдвое дольше, и у меня еще ни разу не было потребности туда отправиться. Мистеру Викарсу были знакомы величие Лондона и Йорка, кипящая портовая жизнь Плимута и неиссякающий поток паломников Кентербери. Я с удовольствием слушала его рассказы об этих местах и о том, как устроена там жизнь.
У меня никогда не бывало таких вечеров с Сэмом – обо всех событиях в крошечном мирке, что был ему дорог, Сэм узнавал от меня. Ему по нраву было слушать лишь о тех жителях деревни, кого он знал с малых лет; о том, какие мелкие заботы составляли их дни. И я рассказывала, что корова Мартина Хайфилда отелилась бычком, а вдова Хэмилтон обещала приехать за настригом шерсти со своих овец. Сэму довольно было просто сидеть рядом, изможденно, крупное тело свисает по краям стула, столь крошечного в сравнении с ним. Я болтала о делах соседей и похождениях детей, а он неизменно глазел на меня с полуулыбкой, позволяя словам обволакивать себя. Когда поток новостей иссякал, он улыбался шире и протягивал ко мне руки. Руки у него были большие, все в трещинах, с черными обломанными ногтями, а близость для него была кратким сплетением в липкий клубок, а дальше – судорога и сон. После я, бывало, лежала под тяжестью его руки, воображая темные закрома его сознания. Мир Сэма был сырым и мрачным лабиринтом лазов и ходов на глубине тридцати футов под землей. Он знал, как отбивать известняк при помощи воды и огня; знал, сколько можно выручить за блюдо свинца; знал, на чьей выработке до конца года иссякнут запасы руды и кто застолбил чужой отвод на краю утеса. И – насколько ему было ведомо, что такое любовь, – он знал, что любит меня, что полюбил еще крепче с тех пор, как я подарила ему сыновей. Вот чем ограничивалась его жизнь.
Мистера Викарса, казалось, ничто и никогда не ограничивало. Переступив наш порог, он принес с собой целый мир. Родился он здесь, в Скалистом крае, но еще мальчиком его отослали в Плимут, в ученики к портному. В этом портовом городе он видел торговцев шелком, возвратившихся с Востока, и даже водил дружбу с плетельщиками кружева – врагами нашими голландцами. Каких только историй он не рассказывал – о варварийских мореплавателях, меднолицых, в тюрбанах цвета индиго; о мусульманском купце с четырьмя женами, каждая укутана с головы до пят и выглядывает из-за покрывала одним глазом. Окончив обучение, мистер Викарс отправился в Лондон, где после возвращения и восстановления на престоле Карла II процветали ремесла и торговля. Там у него было много заказов на платье для прислуги, работавшей в домах придворных. Впрочем, столица быстро его утомила.
– Лондон – место для очень юных и очень богатых, – пояснил он. – Остальным там не преуспеть.
С улыбкой я отвечала, что, поскольку ему еще нет и двадцати пяти, мне он кажется достаточно молодым, чтобы унести ноги от грабителей и оправиться после бурной ночи в трактире.
– Может, и так, госпожа, – согласился он. – Но мне прискучило упираться взглядом в черные стены и слушать грохот колес. Мне там не хватало простора и свежего воздуха. Язык не повернется назвать воздухом то, чем люди дышат в Лондоне. Камины, что топят углем, распространяют повсюду сажу и запах серы, загрязняют воду и даже дворцы превращают в закоптелые казармы. Этот город стал похож на грузного человека, что пытается втиснуться в колет, который носил ребенком. Столькие переехали туда в поисках заработка, что людям приходится ютиться вдесятером в одной комнате величиной не больше этой. Бедолаги всячески стараются расширить свои убогие жилища, ухватить побольше пространства. Там и сям бесформенные надстройки нависают над головами прохожих и громоздятся на прогнивших крышах, едва способных удерживать их вес. Водосточные трубы и желоба сделаны как придется, и липкая влажность преследует тебя даже спустя много дней после дождя.
Вдобавок, продолжал он, ему до смерти надоело иметь дело с господами, что заказывают ливреи для своих лакеев, а плату по счетам задерживают на целый год.
– К концу этого срока я бывал счастлив получить с них хоть что-то, – сказал мистер Викарс. – Знатные должники разорили уже не одного портного.
Увидев, что чрезмерная набожность мне чужда, он поведал немало историй о кутеже и разврате, которые имел случай наблюдать, когда король после изгнания возвратился с чужбины. Я была уверена, что приукрашивать рассказы для него все равно что вышивать узоры на ткани, и упрекнула его в этом как-то вечером, когда мы уютно устроились у огня: он на полу, длинные ноги скрещены, в руках иголка и льняное полотно, а я за столом, пальцы в муке от овсяных лепешек, которые я раскатывала и развешивала сушиться перед очагом.
– Нет, госпожа. Если я и погрешил против истины, то в пользу скромности, чтобы вас не оскорбить.
На это я со смехом ответила, что не настолько скромна, чтобы гнушаться правды, и желаю знать, как устроен мир. Возможно, я слишком усердно его упрашивала, а может, все дело во второй кружке доброго эля, который я варю сама, только мистер Викарс начал описывать, как король в чужом платье тайно проник в шлюший дом, а там его обобрали до нитки. К его удивлению, я лишь рассмеялась и выразила надежду, что некая дама пировала потом по-королевски, – она, несомненно, заслужила это, ублажив такого гостя и многих похуже.
– Вы не осуждаете ее за то, что она избрала путь похоти и разврата? – вопросил мистер Викарс, с притворной строгостью сдвинув брови.
– Прежде чем осуждать ее, я хотела бы знать, велик ли у нее был выбор в том жестоком мире, который вы обрисовали. Когда барахтаешься в сточной канаве, больше всего тебя заботит, как бы не утонуть, а не чем там пахнет.
Пожалуй, не стоило мне говорить так откровенно, ибо следующий его рассказ, о любимом поэте короля графе Рочестере, так ошеломил меня, что один из приведенных стишков я помню по сей день. Мистер Викарс был превосходным подражателем. Его честное, открытое лицо исказилось в самодовольной ухмылке, а голос, обычно столь кроткий, сделался визглив и гнусав.
- Встаю почти в полдень, обедаю в два.
- К семи я уж пьян, а, напившись, сперва
- Зову свою шлюху. У ней «ветерок»[6].
- Что делать? Имею ее в кулачок…
Не дав ему закончить, я зажала уши и с извинениями заторопилась вон из комнаты. Право, не мне судить других, но как могут аристократы, вечно настаивающие на своем превосходстве над нами, так опуститься, что худшие из нас рядом с ними покажутся сущими ангелами? Позже, лежа на соломенной постели с малышами под боком, я пожалела о своем порыве. Я жаждала узнать как можно больше о местах и людях, которых и не надеялась увидеть своими глазами, а теперь мистер Викарс будет считать меня ханжой и перестанет говорить свободно.
И действительно, на другой день бедняга места себе не находил от смущения, полагая, что нанес мне непоправимую обиду. Тогда я сказала, что, по словам преподобного Момпельона, знание само по себе не есть зло и не погубит душу, если использовать его во имя добра. Я очень благодарна, продолжала я, что он открыл мне истинное положение вещей в самых высших кругах, и с удовольствием послушаю другие стишки такого толка, ибо не в том ли роль подданных его величества, чтобы стараться ему подражать? Так мы свели все к шутке и вскоре, когда весна растворилась в лете, были уже на короткой ноге.
Мистер Хэдфилд ожидал из Лондона посылку с тканями, и когда ее доставили, как бывало со всеми товарами из большого города, она вызвала в деревне настоящий переполох. Многим было любопытно, какие цвета и фасоны носят в столице. Из-за того, что последний отрезок пути посылку везли под дождем в открытой телеге, ткани промокли, и мистер Хэдфилд велел мистеру Викарсу хорошенько их просушить. Мистер Викарс протянул перед нашими домами веревки и развесил на них отрезы материи, предоставив всем желающим возможность разглядывать и обсуждать. Джейми, конечно же, сразу придумал себе забаву – носился между рядами развевающихся полотен, изображая рыцаря на турнире.
У мистера Викарса было столько заказов, что я глазам своим не поверила, когда, возвратившись с работы через несколько дней после прибытия посылки, увидела на своей кровати бережно сложенное платье тонкой шерсти. Оно было золотисто-зеленым, как омытая солнцем листва, фасон скромный, но изящный, манжеты и наплечная косынка оторочены генуэзским кружевом. Я отродясь не носила таких красивых вещей – даже на обручальном обряде была в платье с чужого плеча. А со смерти Сэма и вовсе ходила в одном и том же бесформенном балахоне из грубой шерсти, черном, как у пуританки, и безо всякой отделки. Я полагала, что так будет и дальше, наряжаться мне было не на что и ни к чему. И все же с детским трепетом я приложила мягкую материю к груди и прошлась по комнате, стараясь поймать свое отражение в оконном стекле. В нем-то я и увидела мистера Викарса, стоявшего у меня за спиной. Мне стало стыдно, что меня застали за самолюбованием, и я тотчас опустила руки. Мистер Викарс улыбался, широко и открыто, но, заметив мое смущение, вежливо уставился в пол.
– Простите меня, но при первом же взгляде на эту ткань я сразу подумал о вас, ведь она точно такого оттенка, как ваши глаза.
Я с досадой почувствовала, что краснею, и от этого шея и щеки запылали еще сильней.
– Любезный господин, вы очень добры, но я не могу принять этот подарок. Вы здесь живете, и я несказанно рада иметь такого жильца, как вы. Но вы и сами понимаете, что, когда мужчина и женщина делят кров, они должны быть предельно осторожны. Как бы наши отношения не сделались слишком дружескими…
– На это я и надеюсь, – тихо произнес мистер Викарс, не сводя с меня серьезного взгляда.
Тут я снова залилась краской и не нашлась что ответить. Его щеки тоже тронул румянец, и сперва я подумала, что он и сам смутился, но затем, сделав шаг мне навстречу, он покачнулся и схватился рукой за стену. При мысли, что он тайком прикладывался к кувшину с элем, во мне всколыхнулся гнев. Я приготовилась дать ему отпор, как насосавшимся грога олухам, которые порой докучали мне после смерти Сэма, но мистер Викарс не стал распускать руки, а с силой потер виски, будто у него заболела голова.
– Возьмите платье в любом случае, – пробормотал он. – Я лишь хотел отблагодарить вас за то, что оказали чужаку радушный прием и окружили его уютом.
– Спасибо, сэр, но мне не пристало, – сказала я, складывая платье и протягивая ему.
– Почему бы вам не спросить завтра совета у вашего пастора? – предложил мистер Викарс. – Вы, конечно, примете подарок, если он не усмотрит в этом вреда?
Идея показалась мне разумной, и я согласилась. Если не сам священник – ведь не могла же я обратиться к нему по такому делу, – то миссис Момпельон уж непременно сумеет мне помочь. К тому же я с удивлением обнаружила, что рано похоронила себя как женщину, ибо мне все-таки хотелось надеть это платье.
– Быть может, хотя бы примерите его? Любой мастер желает знать, преуспел ли он в своем ремесле, и если назавтра вы узнаете, что принять такой подарок неприлично, то, по крайней мере, вознаградите мои труды и потешите мою гордость, показав результаты моей работы.
Правильно ли я поступила, поддавшись на его уговоры? Я стояла, поглаживая тонкую материю, и любопытство перевесило всякие представления о пристойности. Выпроводив мистера Викарса за дверь, я скинула свое грубое саржевое платье. Впервые за много месяцев я заметила, как неопрятна моя сорочка – сплошь в пятнах от пота и грудного молока. Негоже было надевать новое платье поверх грязного исподнего, поэтому сорочку я скинула тоже. Несколько мгновений я стояла на месте, разглядывая свое тело. Тяжкий труд и голодная зима иссушили мягкие формы, оставшиеся после рождения Тома. Сэму нравилось, чтобы я была попышнее. Интересно, а что нравится мистеру Викарсу? Эта мысль взволновала меня, щеки вспыхнули, в горле встал ком. Я взяла в руки зеленое платье. Оно мягко заскользило по голой коже. Впервые за долгое время мое тело словно бы ожило, и я прекрасно сознавала, что дело не только в платье. Когда я сделала шаг, юбка качнулась, и мне вдруг тоже захотелось двигаться, танцевать, как в девичестве.
Мистер Викарс стоял ко мне спиной, согревая руки у очага. Заслышав на лестнице мои шаги, он обернулся и ахнул, лицо его расплылось в довольной улыбке. Я закружилась на месте, и юбка красиво всколыхнулась. Он захлопал в ладоши, затем развел руки в стороны.
– Госпожа, я готов сшить вам дюжину подобных платьев, так они подчеркивают вашу красоту! – игриво воскликнул он, а потом вдруг голос его сделался низким и хрипловатым. – Как я мечтаю, чтобы вы сочли меня достойным заботиться о вас во всех ваших нуждах…
Он пересек комнату, обхватил меня за талию, нежно притянул к себе и поцеловал. Не берусь сказать, чем бы все закончилось, не окажись его губы столь горячими, что я невольно отпрянула.
– Да у вас жар! – воскликнула я, по-матерински кладя ладонь ему на лоб. Теперь уже, на беду или на счастье, случай был упущен.
– Вы правы. – Он отпустил меня и снова потер виски. – Весь день я чувствовал приметы зарождающейся лихорадки, и вот кожа моя горит, голова раскалывается, а кости гложет нестерпимая боль.
– Отправляйтесь в постель, – мягко сказала я. – Я дам вам отвар против жара, а обо всем прочем потолкуем завтра, когда оправитесь.
Не знаю, хорошо ли спалось мистеру Викарсу в ту ночь, но мне было не до сна – мешал клубок мыслей и пробужденных чувств, которым я была лишь отчасти рада. Я долго лежала в темноте и слушала тихое, звериное сопение моих малышей. Закрыв глаза, я воображала прикосновение мистера Викарса – как его руки нежно ложатся мне на талию, обхватывают ее покрепче. Я была подобна человеку, который весь день не вспоминал о еде, пока аромат чужого жаркого не пробудил в нем волчий аппетит. Впотьмах я нашарила крохотный, словно бутон, кулачок Тома, и хотя мне милы были прикосновения ручек моих сыновей, тело мое жаждало других прикосновений – грубых и настойчивых.
Наутро я встала до петухов, чтобы управиться с домашними делами, прежде чем мистер Викарс спустится с чердака. Мне не хотелось видеться с ним, не изучив сперва своих желаний. Когда я уходила, дети спали дремотным комком: малютка Том свернулся, будто орешек в скорлупе, а Джейми лежал поперек кровати, раскинув тонкие ручки в стороны. Они так сладко пахли, окутанные ночным теплом. Их головы в тонком светлом пушке, как у их отца, сияли в полумраке. Эти светлые кудряшки были полной противоположностью моим густым темным волосам, однако лицом – насколько можно судить по еще не оформившимся чертам – они, по всеобщему мнению, больше походили на меня. Уткнувшись носом детям в шеи, я вдыхала их дрожжеватый запах. Господь предостерегает, чтобы мы не любили ни одно земное создание сильнее, чем его, и все же в материнское сердце он вкладывает столь пылкую привязанность к ребенку, что я никогда не постигну, как он может так нас испытывать.
Спустившись, я раздула угли и сложила в очаге дрова, затем натаскала воды на весь день и повесила над огнем большой чайник. Налив в лохань воды, чтобы умыться, когда развеется колодезный холод, я принялась драить мощенные песчаником полы. А затем, пока пол сох, я поплотнее закуталась в теплый платок, взяла миску бульона и ломоть хлеба и вышла в светлеющий сад – наблюдать, как на востоке розовеет горизонт, а с двух ручьев, окаймляющих деревню, поднимается туман. С нашего холма открывается дивный вид, а в то утро воздух был напитан глинистым запахом лета. Идеальное утро, чтобы обдумывать новые начинания, и, наблюдая за чеканом, несущим в клюве червяка на корм птенцам, я задалась вопросом, не пора ли и мне найти кого-то, кто помог бы растить моих деток.
Сэм оставил мне дом и овчарню, но его жилу застолбили в тот же день, когда принесли его тело. Я сразу объявила его товарищам, что нет нужды делать новые зарубки на вороте[7] – будь то через три недели, через шесть или девять, потому что сама я не сумею восстановить рухнувшую крепь, а нанимать для этого рабочих мне не по карману. Выработка досталась Джонасу Хоу. Джонас, добрый малый и друг Сэма, корит себя за то, что якобы меня обманул, – ума не приложу отчего, ведь испокон веков у нас тут действует один закон: кто не добудет блюда свинца до третьей зарубки, лишится своего отвода. Он пообещал, что обучит моих мальчиков горному делу наравне со своими, когда подрастут. Я поблагодарила его, но, сказать по правде, я не желала для своих сыновей этой подземной жизни – вгрызаться в камень, вечно боясь воды, огня и обвала. То ли дело работа портного – в это ремесло я бы охотно их отдала. Что до самого мистера Викарса, это был человек достойный и умный. Его общество было мне в радость. Его объятья – приятны. За Сэма я пошла, прельстившись куда меньшим. С другой стороны, мне было уже не пятнадцать и я не питала более радужных надежд.
Подкрепившись, я поискала в кустах яйца на завтрак Джейми и мистеру Викарсу. Мои куры неуправляемы и несут где угодно, только не в курятнике. Я замесила тесто для хлеба, накрыла его и оставила подходить у огня. Отложив все прочие дела до обеда, я поднялась наверх и дала Тому грудь, чтобы к приходу Джейн Мартин он был уже накормлен. Как я и надеялась, когда я взяла Тома на руки, он даже не шелохнулся, лишь смерил меня долгим взглядом и, довольно зажмурившись, принялся сосать.
Благодаря столь раннему подъему к дому священника я пришла задолго до семи, но Элинор Момпельон уже трудилась в саду, а рядом высилась гора отрезанных ветвей. В отличие от большинства дам, миссис Момпельон не гнушалась пачкать руки. Особенно она любила ухаживать за растениями, и нередко лицо у нее было грязным, как у поденщицы, оттого что, копая и пропалывая, она то и дело поправляла упавшие на лоб прядки волос.
В свои двадцать пять лет Элинор Момпельон обладала хрупкой, детской красотой. Она вся была перламутрово-бледная, с облаком тонких белокурых волос и кожей настолько прозрачной, что видны были подрагивающие вены у висков. Даже глаза у нее были бледные, блекло-голубые, цвета зимнего неба. В нашу первую встречу она напомнила мне опушенный одуванчик, такой легкий и воздушный, что не выдержит первого же дуновения ветра. Но тогда я еще не знала ее. Хилая телом, она была натурой увлекающейся, с острым умом и неистощимой энергией, толкающей к действию. Казалось, ее душу поместили не в то тело, ибо она постоянно брала на себя изматывающие, а то и непосильные задачи и из-за этого часто хворала. Было в ней нечто такое, что не могло, не желало видеть различий между сильными и слабыми, мужчинами и женщинами, господами и слугами, – различий, которые проводил остальной мир.
В воздухе разливался аромат лаванды. Умелые руки миссис Момпельон каждый день словно бы одевали сад в новые цвета и узоры: туманная голубизна незабудок таяла в насыщенной синеве шпорника, а тот растворялся в розовых россыпях просвирника. Под окнами она расставляла вазы с гвоздиками и ветвями жасмина, чтобы сладкие запахи наполняли весь дом. Она называла этот сад своим маленьким Эдемом, и, судя по тому, как пышно там цвели самые разные цветы – даже те, что обыкновенно не переносят суровые зимы на горном склоне, – Господь против такого сравнения не возражал.
В то утро она стояла на коленях, обрывая отцветшие ромашки.
– Здравствуй, Анна, – сказала она, завидев меня. – А знаешь ли ты, что отвар из этих невзрачных цветков снимает жар? Тебе, как матери, не помешает быть сведущей в целебных травах – может статься, когда-нибудь от этого будет зависеть благополучие твоих детей.
Миссис Момпельон никогда не упускала случая чему-нибудь меня научить, и обычно я слушала ее с большой охотой. Обнаружив во мне неутолимую жажду знаний, она принялась подпитывать меня разными сведениями с таким же рвением, с каким удобряла свои ненаглядные клумбы.
Я с готовностью принимала все, что она давала мне. Я всегда любила высокий язык. В детстве для меня не было большей радости, чем ходить в церковь, – не из праведности, а чтобы послушать дивные звуки молитв. «Агнец Божий», «Муж скорбей», «И Слово стало плотию». Я растворялась в мелодике этих фраз. И хотя тогдашний наш настоятель, старый пуританин Стэнли, отвергал литании святым и идолопоклоннические молитвы папистов пресвятой Деве Марии, я цеплялась за каждую фразу, которую он осуждал. «Лилия долин», «Роза таинственная», «Звезда морская». «Се, раба Господня; да будет Мне по слову Твоему». Обнаружив, что мне под силу запоминать целые отрывки богослужений, каждое воскресенье я пополняла свои запасы слов, точно фермер, складывающий сено в стога. Подчас, если удавалось ускользнуть от мачехи, я задерживалась на церковном кладбище и срисовывала очертания букв, выгравированных на надгробиях. Я знала, кто покоится в некоторых могилах, и могла соотнести звучание имен с надписями на плитах. Вместо грифеля я использовала палку с заостренным концом, а вместо аспидной доски – клочок разровненной земли.
Как-то раз отец застукал меня за этим занятием, когда вез телегу дров в пасторский дом. При виде него я вздрогнула, палка хрустнула у меня в пальцах, в ладонь впилась заноза. Джосая Бонт не любил тратить слов, разве что на проклятья. Глупо было ожидать, что он поймет мое желание овладеть столь бесполезным, с его точки зрения, навыком. Я уже упоминала, что он любил выпивку. Следует добавить, что выпивка не отвечала ему взаимностью, превращая его в угрюмое, опасное существо. Я со страхом ждала, когда на меня обрушится его кулак. Он был крупным человеком и на тумаки не скупился, даже по пустякам. Однако он не стал бить меня за отлынивание от домашних дел, а лишь взглянул на кривые буквы – результат моих трудов, – поскреб грязной пятерней щетинистый подбородок и пошел по своим делам.
И только на другой день, когда соседские дети стали меня дразнить, я поняла, что отец хвастался моими успехами в «Горняцком дворике» и даже посетовал, что не имеет средств отдать меня в школу. Пустые слова, за которые не придется отвечать, ведь в таких деревнях, как наша, даже для мальчиков не было школ. И все же мне было приятно, и чужие насмешки уже не могли меня задеть. Никогда прежде я не слышала от отца похвалы, а потому, узнав, что он считает меня способной, я и сама начала в это верить. С тех пор я уже не скрытничала и зачастую во время работы, желая усладить свой слух, бормотала отрывки псалмов или фразы из воскресной проповеди – так ненароком я прослыла самой набожной девушкой в деревне. Именно благодаря этой незаслуженной репутации меня и взяли в пасторский дом, где для меня открылись двери к настоящим знаниям.
Всего за год Элинор Момпельон так славно обучила меня грамоте, что, пусть почерк мой оставался непригож и не всегда разборчив, зато я почти без труда читала из любой книги в ее библиотеке. Обыкновенно она заходила к нам после обеда, когда Том уже спал, и, задав мне какой-нибудь урок, отправлялась к другим жителям деревни. Завершив свой обход, она вновь заглядывала ко мне – посмотреть, как я справилась с заданием, и помочь с трудными местами. Иной раз я прерывалась на полуслове и начинала смеяться от удовольствия. Она смеялась вместе со мной, ибо как я любила учиться, так и она любила учить.
Иногда к моему удовольствию примешивалось чувство вины: я знала, что не получала бы столько внимания, если бы ей удалось зачать. Когда они с Майклом Момпельоном приехали в нашу деревню – юные, только из-под венца, – мы все затаили дыхание. Шли месяцы, сменялись времена года, а талия миссис Момпельон оставалась тонкой, как у девочки. От неприютности ее чрева была польза всему приходу: Элинор нянчила детей, обделенных заботой в тесноте многолюдных домов, принимала участие в одаренных юношах, нуждавшихся в покровительстве, наставляла сомневающихся и навещала больных – словом, стала незаменима для всех и каждого.
Но обо всяких снадобьях слушать я не желала: одно дело жене священника быть осведомленной в таких вещах, и совсем другое – бедной вдове вроде меня. В глазах толпы вдова может вмиг превратиться в ведьму, и первое, что вменят ей в вину, – это интерес к врачеванию. У нас в деревне такое уже случалось, когда я была маленькой: в колдовстве обвинили Мем Гоуди, умную женщину, к которой все ходили за отварами, припарками и когда нужна была помощь при родах. Год выдался суровый, неурожайный, и у многих женщин случались выкидыши. После того как одна роженица произвела на свет мертвых близнецов, сросшихся грудиной, стали говаривать о происках дьявола; подозрение тотчас пало на вдову Гоуди, и ее объявили ведьмой. Наш тогдашний священник, пуританин Стэнли, взялся проверить эти обвинения самолично и увел ее в поле. Не знаю, каким он подвергал ее испытаниям, но после долгих часов суда мистер Стэнли объявил, что ни в каких злодеяниях она не повинна, и жестоко упрекнул всех, кто на нее наговаривал. Но у него и для Мем была припасена строгая отповедь – за то, что врачевала людей вопреки Божьей воле своими отварами, мешочками с травами и настоями. Пастор верил, что все недуги ниспосланы Богом, чтобы испытать и покарать тех, кого он потом спасет. Избегая болезней, мы упустим уроки, которые приготовил для нас Господь, ценой куда более страшных мучений после смерти.
Теперь никто не посмел бы сказать и слова против старухи Мем, однако некоторые косо поглядывали на ее молодую племянницу Энис, которая жила при ней, помогала ей принимать роды, выращивать и сушить травы и приготовлять снадобья. Невзлюбила ее и моя мачеха. В неразвитом уме Эфры уживалось множество суеверий, и она с равной охотой верила в небесные знамения, обереги и приворотные зелья. К Энис она относилась со смесью страха и благоговения – а может, и не без зависти. Однажды, когда я была у мачехи в гостях, Энис принесла ей мазь против воспаления глаз, которым страдали в ту пору все малыши. Каково же было мое удивление, когда Эфра незаметно сунула ножницы, раскрытые крестом, в складки подстилки на стуле, куда намеревалась усадить гостью. Когда Энис ушла, я упрекнула ее. Но Эфра лишь отмахнулась, а затем показала мне «куриного бога», спрятанного в детской постели, и пузырек с солью, заткнутый за дверной косяк.
– Что ни говори, а не пристало бедной сироте расхаживать с видом королевы, – заявила моя мачеха. – Эта девица так себя ведет, будто знает больше нашего.
Но ведь так оно и есть, отвечала я. Разве она не смыслит во врачевании и разве все мы от этого не выигрываем? Разве она не принесла сейчас мазь для детей, что снимет боль куда быстрее, чем любые наши средства? Эфра скривилась:
– Ты же видела, как мужики, от мала до велика, волочатся за ней, что кобели за сукой в течке. Называй это врачеванием, но, по-моему, она у себя в хижине варит не только целебные снадобья.
Я возразила, что такой статной, пригожей девушке нет надобности прибегать к колдовству, чтобы пробудить мужской интерес, особенно если у нее нет ни отца, ни братьев, которые не позволяли бы на нее заглядываться. При этих словах Эфра нахмурилась – похоже, я нащупала причину ее неприязни.
Эфра, не славившаяся ни умом, ни особой красотой, пошла за моего беспутного отца, когда ей минуло двадцать шесть и стало ясно, что предложений получше не последует. Эти двое прекрасно спелись, потому как не возлагали друг на друга никаких надежд. Эфра была почти такая же охотница до хмеля, как мой отец, и дни их проходили в пьяных сношениях. Но, сдается мне, в глубине души Эфра не перестала жаждать той власти, какой обладала Энис Гоуди. Чем еще объяснить столь дурное отношение к девушке, от которой Эфра и дети не видели ничего, кроме добра? Да, Энис была своенравна и ее не заботили порядки нашей маленькой, бдительной деревушки, однако у нас водились женщины и поразвязнее, и их никто так не осуждал. Суеверная сплетница Эфра обрела много внимательных слушателей, и порой я боялась, как бы Энис от этого не вышло вреда.
Пока миссис Момпельон толковала о полезных свойствах руты и ромашки, я решила выкорчевать чертополох; дело это требовало больших усилий, а у миссис Момпельон, если она подолгу склонялась над клумбами, кружилась голова. Затем я отправилась на кухню скоблить дощатые полы и начищать оловянную посуду, за этими занятиями и прошли утренние часы. Кому-то работа служанки может показаться скучным, каторжным трудом, но я всегда считала иначе. И в доме священника, и в Бредфорд-холле я с удовольствием ухаживала за красивыми вещами. Если вы росли среди голых стен и ели деревянными ложками из грубой посуды, то найдете тысячу маленьких радостей в скользкой гладкости фарфоровой чашки, которую моете в мыльной воде, или кожаном аромате книжного переплета, который обрабатываете пчелиным воском. Кроме того, эти простые дела занимают лишь руки, позволяя воображению путешествовать куда угодно. Натирая до блеска дамасский сундук Момпельонов, я разглядывала тонкие узоры работы чужеземного мастера и пыталась представить, какова его жизнь – под жарким солнцем и незнакомым богом. У мистера Викарса имелась роскошная ткань, которую он называл «дамаст», и мне даже пришло в голову, что этот самый рулон ткани мог стоять на том же базаре, что и сундук, и проделать тот же долгий путь из пустыни в сырость наших гор. При мысли о мистере Викарсе я вспомнила, что так и не спросила миссис Момпельон о платье. Но близился полдень, малыш Том вот-вот проснется и попросит грудь. Тогда я решила отложить обсуждение до более подходящего случая и заторопилась домой.
Но подходящего случая так и не выдалось. В доме было тихо, как в былые времена, до приезда мистера Викарса. Изнутри не доносилось ни смеха, ни восторженных воплей, а возле очага с детьми сидела лишь угрюмая Джейн Мартин. Она макала палец в крахмал с водой и совала Тому в рот, а Джейми, притихший, в одиночку играл у очага, сооружая башни из вязанок хвороста и усеивая пол обломками веток. В уголке, где обычно работал мистер Викарс, с моего ухода ничего не переменилось, катушки с нитками и аккуратные стопки выкроек лежали там, где он оставил их вечером. Корзинка с яйцами стояла нетронутая. Увидев меня, Том заерзал на руках у Джейн и распахнул беззубый ротик, точно птенец. Приложив его к груди, я справилась о мистере Викарсе.
– Я его не видала, – ответила Джейн. – Я думала, он спозаранку отправился к Хэдфилдам.
– Но он даже не притронулся к пище.
Джейн пожала плечами. Всем своим видом она показывала, что не одобряет присутствия чужого мужчины в доме, но поскольку его прислал к нам сам преподобный Момпельон, ей приходилось помалкивать.
– Мама, он в поссели, – горестно протянул мой малыш Джейми. – Я пришел к нему, а он закричал: «Уходи!»
Должно быть, мистеру Викарсу и впрямь худо, решила я. И хотя мне не терпелось его проведать, сперва надо было закончить кормление. Когда Том насытился, я набрала кувшин воды, отрезала ломоть хлеба и понесла все это на чердак. Едва ступив на приставную лестницу, я услыхала сверху стоны. В тревоге я откинула крышку люка и без стука забралась в комнату с низким потолком.
От ужаса я чуть не выронила кувшин. Моего жильца, еще вчера такого молодого и красивого, было не узнать. Джордж Викарс лежал в постели, вывернув голову набок под тяжестью нароста величиной с новорожденного поросенка, блестящий малиново-желтый комок плоти слегка подрагивал. Лицо его, наполовину скрытое, было багровым – или, вернее, в багровых пятнах, расцветавших под кожей, точно бутоны роз. Волосы, прежде светлые, темной массой липли к голове, подушка вся вымокла от пота. В комнате стоял едкий, сладковатый душок. Запах гнилых яблок.
– Воды… – прошептал он.
Я поднесла кружку к его пересохшим губам, он жадно припал к ней, и черты его исказились от натуги. Он прервался лишь раз, по телу его пробежала дрожь, и он чихнул. Я наливала и наливала, пока кувшин не опустел.
– Спасибо, – прохрипел он. – А теперь, прошу, уходите отсюда, покуда эта мерзость не передалась и вам.
– Что вы, я должна о вас позаботиться.
– Госпожа, теперь уже никто не позаботится обо мне, кроме священника. Прошу, приведите его, если он согласится сюда войти.
– Полноте! – с укором сказала я. – Лихорадка скоро угаснет, и вы пойдете на поправку.
– О нет, госпожа, приметы этой лютой хвори мне знакомы. Убирайтесь скорее – ради своих малышей!
Тогда я ушла, но вскоре возвратилась с одеялом и подушкой со своей постели, чтобы потеплее укутать его и заменить мокрый комок под его уродливой головой. Увидев меня, он застонал. Когда я приподняла его, чтобы убрать подушку, он жалобно вскрикнул, так нестерпимо болел этот огромный нарыв. И вдруг ни с того ни с сего малиновый пузырь лопнул, точно гороховый стручок, и наружу потек густой гной с кусочками мертвой плоти. Дурнотно-сладкий запах яблок сгинул, завоняло тухлой рыбой. Подавляя приступ тошноты, я поскорее стерла месиво с лица и плеча бедного мистера Викарса и промокнула сочащуюся рану.
– Анна, ради всего святого… – Голос его звучал натужно и хрипло, срываясь на мальчишеский писк. Трудно представить, каких усилий ему стоило говорить громче шепота. – Уходи отсюда! Ты мне не поможешь! Позаботься о себе!
Я боялась, что сильное волнение убьет его, а потому сгребла в охапку перепачканное постельное белье и поспешно спустилась. В широко распахнутых глазах Джейми читалось непонимание, а на бледном лице Джейн Мартин – ужас догадки. Она уже сняла передник и как раз собиралась уходить, рука ее лежала на дверном засове.
– Пожалуйста, побудь с детьми, пока я сбегаю за пастором! Боюсь, мистер Викарс совсем плох.
Она застыла, стиснув руки, – девичье сердце боролось с пуританским нравом. Не дожидаясь исхода этой борьбы, я проскользнула мимо, свалила белье в кучу у порога и побежала к дому священника.
Всю дорогу я смотрела себе под ноги и так бы и не заметила мистера Момпельона, возвращавшегося из поселка Хэзерсейдж, если бы он меня не окликнул. Развернув Антероса, он поскакал ко мне легким галопом.
– Боже правый, Анна, что стряслось? – спросил он, спешившись и подхватив меня под локоть, чтобы я могла перевести дух. Между судорожными глотками воздуха я поведала ему о тяжком состоянии моего жильца. – Прискорбно слышать, – сказал он, и лицо его омрачилось. Затем без лишних слов он подсадил меня в седло и запрыгнул следом.
Я помню это так живо – каким человеком он показал себя в тот день. Как естественно взял все в свои руки, успокоив меня, а затем и бедного мистера Викарса; как неустанно дежурил у постели больного и в тот, и на другой день, сражаясь сперва за его тело, а после, когда исход стал очевиден, за его душу. Мистер Викарс бормотал и бредил, сетовал и сквернословил, и стонал от боли. Чаще всего болтовня его была невразумительна. Но время от времени он переставал метаться и, выпучив глаза, хрипел: «Сожгите! Сожгите все! Ради всего святого, сожгите все!» На вторую ночь он уже не вертелся, а лежал неподвижно с открытыми глазами в какой-то немой схватке. Губы его обросли коркой; каждый час я смачивала их влажной тряпкой, а он обращал на меня безмолвный взгляд, силясь вымолвить слова благодарности. Вскоре стало ясно, что долго бедняга не протянет. Мистер Момпельон ни на минуту не отходил от его постели, даже когда под утро он провалился в беспокойный сон – дыхание частое и прерывистое. В чердачное окно лился фиолетовый свет, во дворе пели жаворонки. Хочется верить, что сквозь туман беспамятства эти сладкие звуки принесли мистеру Викарсу хоть какое-то облегчение.
Он скончался, сжимая в руках простыню. Бережно я расправила его длинные, безжизненные пальцы. У него были красивые руки, нежные и мягкие, за исключением одной мозолистой подушечки, огрубевшей за десятилетие булавочных уколов. Стоило вспомнить, как ловко эти руки двигались при свете очага, и на глазах у меня выступили слезы. Я сказала себе, что оплакиваю его талант; пальцы, научившиеся так искусно обращаться с иголкой, больше не смастерят ни одной чудесной вещицы. Говоря по правде, я оплакивала другого рода утрату, гадая, отчего же я только с приходом смерти решилась прикоснуться к этим рукам.
Я сложила руки Джорджа Викарса у него на груди, и мистер Момпельон, накрыв их своей ладонью, прочел последнюю молитву. Удивительно, до чего крупной оказалась рука пастора – грубая лапа работяги, а не безвольная белая ручка церковника. Я не могла найти этому объяснения, ведь, насколько мне было известно, мистер Момпельон был потомственным священником и совсем недавно окончил Кембридж. Между ним и мистером Викарсом не было большой разницы в возрасте, ибо священнику не исполнилось и двадцати девяти. Обликом он был юн, и все же, если приглядеться, можно было увидеть морщины на лбу и гусиные лапки в уголках глаз – приметы подвижного лица, часто хмурившегося в раздумьях и смеявшегося в обществе. Я уже говорила, что черты его могли показаться заурядными, но точнее будет сказать, что при встрече вы обращали внимание не на них, а на его голос. Голос этот был так притягателен, что все ваши мысли устремлялись к словам, а не к говорящему. Его голос был исполнен света и тьмы. Света, что не только сияет, но и слепит. Тьмы, что несет не только страх и холод, но также тень и покой.
Он обратил ко мне взгляд и заговорил бархатным шепотом, теплой завесой окутывающим мою скорбь. Он поблагодарил меня за то, что я помогала ему в эту ночь. Я делала все, что было в моих силах: приготовляла холодные и горячие примочки против жара и озноба; заваривала травы, чтобы очистить смрадный воздух в тесных покоях больного; носила во двор горшки с мочой и желчью и сырые от пота тряпки.
– Тяжело человеку умирать среди чужих людей, вдали от родных, которые могли бы его оплакать, – сказала я.
– Смерть всегда тяжела, где бы она ни застала нас. А преждевременная смерть и того хуже.
Он стал читать нараспев, медленно, будто нашаривая в памяти слова:
Смердят, гноятся раны мои.
Чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей.
Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали[8].
– Ты знаешь этот псалом? (Я покачала головой.) Да, он некрасив, и поют его редко. Ты не отступила от мистера Викарса. Ты не стояла вдали. Думаю, Джордж Викарс счастливо провел свои последние недели в кругу твоей семьи. Ищи утешение в радости, какую доставили ему твои сыновья, и в сострадании, какое выказала ты сама.
Мистер Момпельон сказал, что сам снесет тело мистера Викарса на первый этаж, откуда престарелому могильщику сподручнее будет его забрать. Джордж Викарс был рослым мужчиной и весил, вероятно, под двести фунтов, но священник с легкостью поднял его и, закинув на плечо, спустился по лестнице. Затем бережно положил бездыханное тело на расстеленную на полу простыню, словно отец, укладывающий в колыбель спящего ребенка.
Когда я смотрю на мистера Момпельона сегодня, на эту полую, съеженную скорлупку, мне кажется, что память меня обманывает.
Гром из уст Его[9]
Могильщик пришел за Джорджем Викарсом на заре. Поскольку родни у покойного здесь не было, похоронный обряд обещал быть коротким и простым.
– Чем скорей, тем лучше, а, госпожа? – сказал старик, взгромождая труп на телегу. – Нечего ему здесь задерживаться. Саван себе уже не пошьет.
После ночи труда мистер Момпельон пожелал освободить меня от работы.
– Отдохни лучше, – сказал он, остановившись на пороге в утреннем свете.
Антерос, привязанный во дворе, за ночь изрыл копытами землю и вытоптал всю траву. Я кивнула, хотя отдыха не предвиделось. В тот день меня наняли прислуживать за обедом в Бредфорд-холле, но прежде надо было выскоблить весь дом и решить, как распорядиться имуществом покойного. Словно прочтя мои мысли, мистер Момпельон вынул ногу из стремени, похлопал лошадь по крупу, подошел ко мне и, понизив голос, сказал:
– Хорошо бы исполнить пожелание мистера Викарса относительно его вещей. – В ответ на мой озадаченный взгляд, ибо я не знала точно, что он имеет в виду, священник пояснил: – Он просил все сжечь, и это мудрый совет.
Едва я начала мыть ветхие чердачные половицы, как в дом постучалась первая заказчица мистера Викарса. Еще не отворив, я знала, что это Энис Гоуди. Умело извлекая из растений душистые масла, Энис окропляла ими свое тело, и об ее приходе всегда возвещал легкий приятный аромат летних фруктов и цветов. Хотя в деревне о ней отзывались дурно, я всегда смотрела на нее с тайным восхищением. Резвая умом и острая на язык, любого обидчика она могла поставить на место одной меткой фразой, какие прочим из нас никогда в нужное время не приходят в голову. Как бы ни очерняли ее деревенские кумушки, как бы ни увешивались оберегами перед ее появлением, мало кто мог обойтись без нее, когда наступал срок разрешиться от бремени. С роженицами она была спокойна и ласкова – совсем не то что с уличными зеваками. А при трудных родах ей и вовсе не было равных, и тетка полностью на нее полагалась. Вдобавок ко всему, меня всегда восхищало ее мужество, ведь, чтобы не обращать внимания на пересуды в такой маленькой деревушке, как наша, его требовалось немало.
Энис пришла за платьем, которое заказала несколькими неделями ранее. Услыхав о случившемся, она опечалилась. А затем с присущей ей прямотой стала меня попрекать:
– Надо было позвать нас с тетушкой, а не Момпельона. От хорошего настоя Джорджу вышло бы куда больше проку, чем от бессмысленного бормотания священника.
Я была привычна к выходкам Энис, но в этот раз она превзошла себя, одной фразой ошеломив меня вдвойне. Первое, что так меня поразило, – ее откровенное богохульство. А второе – то, как по-свойски она отозвалась о мистере Викарсе, которого сама я никогда не называла по имени. Как же они были близки, если для нее он просто Джордж? Подозрения мои лишь окрепли, когда мы извлекли из корзинки с заказами платье, сшитое для нее. Все мое детство, когда церковь наша была пуританской, нам дозволено было носить лишь «скорбные цвета» – черный или, на крайний случай, темно-коричневый оттенка чахлой листвы. С возвращением короля в сундуки с одеждой украдкой возвратились и более яркие краски, однако в нашей деревне многие по привычке носили темное. Но не Энис. Новое платье кроваво-красным пятном било в глаза. Я ни разу не видела, чтобы мистер Викарс над ним работал. Уж не нарочно ли он его скрывал? Платье было почти готово, оставалась последняя примерка, чтобы подшить подол, – для этого Энис и пришла. Когда она подняла платье на вытянутых руках, я увидела, что вырез на нем глубокий, как у продажной женщины, и мысли перестали мне подчиняться. Я представила ее в этом платье, высокую и прелестную, медвяно-золотистые волосы спадают на плечи, янтарные глаза прикрыты; представила, как мистер Викарс, на коленях у ее ног, проводит длинными пальцами по мягкой ткани, а затем по ее лодыжке. Неторопливо его умелые руки исследуют ее гладкую ароматную кожу, медленно двигаясь все выше и выше… Вмиг щеки мои запылали ярче проклятого платья.
– Мистер Викарс велел сжечь всю его работу, чтобы никто не заразился, – проговорила я. В горле будто что-то застряло.
– И речи быть не может! – воскликнула Энис.
Тут я начала догадываться, какие трудности уготованы мне в дальнейшем. Если уж Энис Гоуди, человек, сведущий во врачевании, не желает, чтобы сжигали ее заказ, чего же ждать от остальных? Немногие из нас живут в достатке, а переводить добро и вовсе не любит никто. Люди, заплатившие мистеру Викарсу вперед, захотят забрать всё до нитки, и, невзирая на предупреждение священника, я была не вправе им отказать. Энис Гоуди ушла, неся под мышкой свое платье блудницы, и вскоре после этого, когда день перевалил за половину и вести о смерти мистера Викарса, как и следовало ожидать, разлетелись по деревне, ко мне стали наведываться и другие клиенты, требуя свои заказы. Все, что мне оставалось, – это передавать его слова, сказанные в забытье. Ни один из них не согласился, чтобы его заказ – будь то даже порезанное на куски полотно – предали огню. Кончилось тем, что я сожгла лишь одежду покойника. А когда она превратилась в пепел, заставила себя бросить в огонь и платье, которое он сшил для меня, и на моих глазах золотисто-зеленую материю поглотили карминные языки пламени.
Путь до Бредфорд-холла был неблизок и все в гору, я же так утомилась, что едва передвигала ноги. Однако я не пошла прямой дорогой, а свернула на восток – к домику Гоуди. «Джордж» и красное платье никак не шли у меня из головы. Обыкновенно я не охотница до сплетен. Мне нет дела, кто с кем забавляется и где. Вдобавок теперь, когда мистера Викарса не стало, едва ли имело значение, куда он пристраивал свое хозяйство. И все же я должна была разузнать, что связывало его с Энис Гоуди, пусть даже ради того только, чтобы понять, питал ли он ко мне истинные чувства.
Гоуди жили на окраине деревни, за кузницей, в сиротливой хижине на границе с фермерскими угодьями семейства Райли. Жилище их было крошечным – всего две комнаты, одна поверх другой – и таким хлипким, что соломенная кровля сползала набок, подобно шляпе, надвинутой на одну бровь. Хижина словно бы росла из склона, припадая к земле перед зимними ветрами, гулявшими над пустошами. Домик можно было узнать по запаху задолго до того, как его очертания различал глаз. Приторные, а когда и терпкие ароматы травяных настоек и отваров окутывали его плотным кольцом. Потолки в тесных комнатах были низкие. Вечный полумрак защищал собранные растения от солнца. В ту пору Мем и Энис как раз сушили летние травы, и те пышными пучками свисали с потолка, так что уже с порога приходилось сгибаться чуть ли не пополам. Бывая у них в гостях, я всякий раз гадала, не трудно ли такой высокой девушке, как Энис, передвигаться по дому, где нельзя распрямиться в полный рост. Для приготовления лекарственных снадобий в очаге всегда пылал огонь, однако из-за плохой тяги в воздухе вечно висел дым, а стены почернели от копоти. Но и дым тоже был душистый. Гоуди любили жечь розмарин – по их словам, он очищал воздух от хворей, которые могли занести в дом пришедшие за помощью.
Я постучала, но ответа не последовало. Тогда я подошла к каменной ограде, защищавшей от ветра аптекарский сад. Сад этот существовал сколько я себя помнила. Я всегда считала, что его разбила Мем, но как-то раз, когда я обмолвилась об этом, Энис высмеяла мое невежество.
– И дураку понятно, что сад был древним еще до того, как Мем Гоуди появилась на свет. – Она пробежала пальцами по ветви шпалерной сливы, и, приглядевшись к сучковатому, корявому стволу, я убедилась, что дерево и впрямь очень старое. – Мы не знаем даже имени мудрой женщины, посадившей эти культуры, но будь уверена, они росли здесь задолго до нашего появления и будут расти еще много лет после того, как мы уйдем. Мы с тетей – всего лишь звено в длинной цепочке женщин, чьим заботам был вверен этот сад.
За каменной оградой скрывалось богатство растений. Я смогла бы назвать лишь десятую их часть. Некоторые были уже собраны; голые каменные грядки подчинялись строгой планировке, понятной лишь Энис и ее тетке. Стоя на коленях, Энис выкапывала цветы с высокими блестящими ножками и ярко-синими головками. Заметив меня на усыпанной сеном дорожке, она поднялась и отряхнула руки.
– Красивые цветы, – сказала я.
– Красивые и могущественные, – ответила Энис. – Растение это прозвали волкобоем, хотя худо от него не только волкам. Достаточно откусить маленький кусочек от его корня, и к ночи ты уже хладный труп.
– Зачем же вы его здесь держите?
Заметив выражение моего лица, она рассмеялась.
– Уж не для того, чтобы подать тебе на ужин! Из перетертого корня, смешанного с маслами, получается отменная мазь от боли в суставах. В наших краях это частое недомогание суровой зимой. Но едва ли ты пришла сюда полюбоваться цветами. Заходи – выпей со мной.
Когда мы прошли в дом, она положила отрезанные корни на заваленный стол.
– Давай-ка присядем, – сказала она. – А то так недолго и шею свернуть.
Она согнала серого кота с колченогого стула, а себе придвинула табуретку. Я была рада, что застала Энис одну. Если бы ее тетка оказалась дома, пришлось бы сочинять предлог для моего прихода, ведь не могла же я заводить столь щекотливую тему в ее присутствии. Впрочем, я и так не знала, с чего начать. Хотя мы с Энис были ровесницами, воспитывались мы порознь. Она росла в деревне близ Дарк-Пика, а десяти лет от роду, когда у нее умерла мать, ее послали жить с теткой. Я помню день, когда она приехала к нам, – гордая, с прямой спиной, в открытой повозке; на нее собралась поглазеть вся деревня. Помню отчетливо, как спокойно она встречала каждый взгляд, не отворачиваясь, даже когда в нее тыкали пальцем. Я была застенчивым ребенком и на ее месте забилась бы под рогожку и прорыдала всю дорогу.
Она разлила по кружкам пахучее снадобье, и одну протянула мне. Я с сомнением взглянула на жидкость болотного цвета с отталкивающего вида бледно-зеленой пеной.
– Крапивное пиво, – пояснила Энис. – Оно оздоровит твою кровь. Всем женщинам следует употреблять его ежедневно.
Поднеся кружку к губам, я со смущением вспомнила, как в детстве вместе с другими детьми дразнила Энис Гоуди. Та, бывало, остановится у обочины или посреди поля, сорвет какие-то листья и, не сходя с места, начнет их жевать. Стыдно вспоминать, как мы кричали: «Корова! Корова! Жвачная скотина!» Но Энис только смеялась и, оглядев каждого из нас, отвечала: «Зато мой нос не забит соплями, как у тебя, Мег Бейли. А лицо не пестрит прыщами, как у тебя, Джефри Бейн». Так она стояла перед нами – высокая не по годам, пышущая здоровьем от макушки до кончиков крепких ногтей – и перечисляла все наши изъяны. Всего несколько лет спустя, пребывая в тягости, я робко попросила ее научить меня, какие травы добавят мне сил и укрепят здоровье малыша в моей утробе. Поначалу вкус целебных трав казался мне странным, но вскоре я ощутила их пользу.
Крапивное пиво, однако, было мне внове. Мягкое и даже приятное на вкус, оно оказало живительное воздействие на мое усталое тело. Я вновь пригубила пива, медля задать свой неловкий вопрос. Терзалась я напрасно.
– Ты, надо думать, пришла разузнать, ложилась ли я с Джорджем, – заявила Энис тем же тоном, каким сказала бы: «Ты, надо думать, пришла за тысячелистником».
Кружка дрогнула у меня в руке, и зеленая жижа капнула на земляной пол. Энис усмехнулась.
– Ну разумеется, ложилась. Уж слишком он был молод и хорош собой, чтобы тушить свое пламя в одиночку. – Не знаю, что было написано на моем лице, но в глазах Энис заплясали насмешливые огоньки. – Пей. Тебе полегчает. Для каждого из нас это было не больше чем сытный обед для голодного странника.
Она потянулась к большому черному чайнику, стоявшему у огня, и помешала готовящийся в нем настой из листьев.
– Относительно тебя у него были иные намерения. На этот счет можешь быть спокойна. Тебя, Анна Фрит, он хотел в жены, и я сказала ему, что выбор хорош, дело лишь за тем, чтобы тебя к этому склонить. После смерти Сэма Фрита ты переменилась. Ты теперь сама себе хозяйка, и тебе это по нраву. Я сказала ему, что самый верный способ завоевать тебя – через твоих сыновей. Ты, в отличие от меня, должна думать о детях, а не о себе одной.
Я попыталась представить, как они лежат в постели и обсуждают эти предметы.
– Но отчего же, – вырвалось у меня, – если вы были так близки, ты не пошла за него сама?
– Анна, Анна!
Она покачала головой и улыбнулась мне, как бестолковому ребенку. Я вспыхнула. Что в моих словах так ее позабавило? Заметив мою досаду, она перестала улыбаться, взяла кружку из моей руки и смерила меня серьезным взглядом.
– На что мне муж? Я не создана для того, чтобы кому-то принадлежать. У меня есть труд, который я люблю. У меня есть кров – небогатый, но мне довольно. А главное, у меня есть то, чем могут похвастаться лишь немногие женщины, – свобода. И расставаться с ней я не тороплюсь. К тому же, – прибавила она, метнув на меня взгляд из-под опущенных ресниц, – иной раз женщине нужно взбодриться, и тогда она пьет крапивное пиво, а иной раз – успокоиться, и для этого нужна настойка валерианы. Зачем разбивать сад, где будет только одно растение?
Я нерешительно улыбнулась, желая показать, будто оценила шутку. Мне страсть как хотелось заручиться ее добрым мнением: пусть не думает, что я какая-нибудь глупая простушка. Она возвратилась к работе, а я отправилась дальше – в еще большем смятении, чем прежде. Энис Гоуди была необыкновенной девушкой, и, признаться, я восхищалась ею – она слушалась своего сердца и не подчинялась чужим правилам. Мне же предстояло весь вечер подчиняться людям, которых я на дух не переносила. Я побрела к Бредфорд-холлу. Дорога шла опушкой леса, и в лучах яркого солнца тени деревьев полосками ложились поперек тропинки. Темная полоса и светлая, темная и светлая, темная и светлая. Так меня учили смотреть на мир. Пуритане проповедовали, что поступки и помыслы могут быть лишь двух видов: угодные Богу и грешные. Но Энис Гоуди опровергала подобные суждения. Бесспорно, она несла добро: во многом благополучие всей деревни зависело от Энис и ее тетки в куда большей степени, чем от мистера Момпельона. Меж тем, согласно нашему вероучению, за богохульство и блуд ее следовало заклеймить грешницей.
Внезапно деревья кончились, и потянулись золотые поля, которые, как и лес, принадлежали семейству Райли. Весь день в поле трудились косцы – двадцать мужчин на двадцать акров. У Хэнкоков, обрабатывавших землю Райли, было шестеро крепких сыновей, а потому им не требовалось много наемной силы для уборки урожая. Миссис Хэнкок и ее невестки устало брели за мужчинами, подвязывая выпавшие колосья в блестевшие на солнце снопы. В тот день я увидела их глазами Энис: кобылы, запряженные в оглобли.
Либ Хэнкок, жена старшего брата, с детства была моей подругой. С трудом выпрямив спину и заслонив глаза ладонью от солнца, она огляделась по сторонам и у кромки поля заприметила меня. Она помахала и, коротко переговорив со свекровью, двинулась мне навстречу.
– Анна, посиди-ка со мной маленько! – крикнула она. – Мне надобно передохнуть.
Я не особенно спешила к Бредфордам, а потому присела с ней на пригорке. Она с наслаждением плюхнулась на траву и закрыла глаза. Я потерла ей плечи, и она довольно заурчала.
– До чего же скверно вышло с твоим жильцом, – сказала она. – По всему выходит, хороший был человек.
– Очень хороший. А как он был добр к моим малышам! (Либ склонила голову набок и искоса на меня взглянула.) И ко мне, – добавила я. – Впрочем, как и ко всем.
– Сдается мне, свекровь хотела сосватать за него Нелл, – сказала она.
Нелл была единственной дочерью в семье Хэнкоков, и братья так истово берегли ее честь, что мы часто шутили, дескать, она никогда не выйдет замуж, потому как ни один мужчина не сможет приблизиться к ней настолько, чтобы как следует ее разглядеть. Зная о похождениях мистера Викарса, я невольно рассмеялась.
– Найдется в этой деревне хоть одна женщина, чьи мысли не занимала его постель?
Как я уже говорила, мы с Либ тесно дружили, а потому поверяли друг другу все свои девичьи тайны. Вот я и разоткровенничалась по привычке – сперва о своем вожделении, о чем я вправе была поведать, а затем об утехах Энис с моим жильцом, о чем следовало бы умолчать.
– Только не вздумай разносить эти вести по всему дому, – сказала я под конец, нехотя поднимаясь, чтобы продолжить путь.
Хохоча, она толкнула меня в плечо:
– Ой, можно подумать, я стану рассказывать, кто с кем кувыркался, при матушке Хэнкок и полном доме мужчин! Странное же у тебя представление о нашей семье. Если за столом у Хэнкоков и обсуждается нечто подобное, то разве что случка овец!
Тут уж мы обе засмеялись, и на этом, поцеловавшись на прощанье, пошли каждая по своим делам.
Кусты ежевики, растущие у кромки поля, блестели темно-зеленой листвой, налитые ягоды на них уже краснели. Жирные ягнята – шерсть золотится на солнце – щипали сочную траву. Но, несмотря на дивные виды, последние полмили до Бредфорд-холла всегда были неприятны, даже если я не валилась с ног от усталости. Я недолюбливала все семейство, а полковника попросту боялась. И сама себя корила за то, что поддаюсь страху. Все говорили, что полковник Генри Бредфорд был умным и необычайно доблестным командиром. Возможно, военные успехи вскружили ему голову, а может, такому человеку и вовсе не следовало уходить на покой в сельской глуши. Так или иначе, в том, как он командовал в своем доме, не было и намека на мудрость.
Полковник получал извращенное наслаждение, принижая свою жену. Та происходила из богатой, но не родовитой семьи; красивая пустышка, пробудившая в нем бурные чувства, не остывавшие ровно до тех пор, пока он не прикарманил ее приданое. Он никогда не упускал случая пренебрежительно отозваться о ее родне или посмеяться над ее невежеством. Хотя она не утратила красоты, годы такого обращения совершенно расстроили ее нервы. Она жила в постоянном страхе и волнении, никогда не зная, к чему еще придерется муж, и из-за этого не давала покоя прислуге и вечно меняла заведенные в хозяйстве порядки, усложняя простейшие задачи. Сын Бредфордов – пьяница, повеса и фанфарон, – по счастью, почти не покидал Лондона. В тех редких случаях, когда он бывал дома, я под разными предлогами отказывалась от работы, а если не могла себе этого позволить, старалась не попадаться ему на глаза и уж точно никогда не оставаться с ним наедине. Мисс Бредфорд, как я уже сказала, была надменна и неприветлива, и единственной ее добродетелью можно считать искреннюю заботу о матери. Когда полковника не случалось дома, мисс Бредфорд удавалось успокоить мать, и тогда можно было работать, не боясь попреков или истерики. Но стоило ему возвратиться, и все, от миссис Бредфорд и ее дочери до последней судомойки, поджимали хвост, будто провинившиеся дворняги.
Поскольку в Бредфорд-холле держали довольно обширный штат прислуги, меня нанимали, лишь когда в поместье собиралось большое или важное общество. Главный зал, убранный для званых обедов, выглядел превосходно. Две массивные скамьи со шкафами в спинках, обыкновенно стоявшие у стены, придвигали к столу, темный дуб натирали до густого черного блеска. По осени, после того как забивали свиней, от запаха копченых боков, развешанных внутри, кружилась голова. Но к исходу лета, когда бекон давно уже был съеден, оставался лишь приятный запах дыма, едва уловимый за более свежими ароматами лаванды и пчелиного воска. В скупом свете тускло блестело столовое серебро, а в глубоких бокалах сияло канарское вино, от которого даже холодные лица Бредфордов окрашивались румянцем. Разумеется, никто не удосужился сообщить мне, какие гости соберутся нынче за обедом, однако было приятно увидеть среди дюжины приглашенных знакомые лица Момпельонов.
Присутствие Элинор Момпельон очень льстило полковнику. Во-первых, в тот вечер она выглядела особенно изысканно в кремовом платье простого покроя. В бледных волосах поблескивала горстка жемчужин. Но еще больше, чем ее утонченную красоту, полковник ценил ее связи. Ее семья была одной из старейших во всем графстве и владела обширнейшими землями. Говаривали, что ради Момпельона она отвергла другого ухажера, который сделал бы ее герцогиней. Для полковника Бредфорда это было непостижимо. Впрочем, от него ускользали многие ее достоинства. Он понимал лишь одно: знакомство с ней укрепит его положение в обществе, а остальное его не заботило. Когда я потянулась за ее тарелкой из-под супа, Элинор Момпельон, сидевшая по левую руку от полковника, дотронулась до рукава другого своего соседа – лондонского господина, болтавшего без умолку, – и с участливой улыбкой обратилась ко мне:
– Анна, надеюсь, ты оправилась после этой кошмарной ночи?
Полковник со звяканьем опустил нож на тарелку и шумно втянул воздух. Я не поднимала глаз от стопки посуды, которую держала в руках, опасаясь даже мельком взглянуть в его сторону.
– Благодарю вас, мэм, вполне, – проговорила я и перешла к следующему гостю, пока она еще о чем-нибудь не справилась и полковника не хватил удар.
Прислуживая в Бредфорд-холле, я приучила себя не отвлекаться от своих обязанностей, а на светские беседы, обыкновенно весьма заурядные, обращать не больше внимания, чем на щебетанье птиц в далекой роще. В тот день за большим обеденным столом не было общей темы для разговора. Гости обменивались с соседями пустыми любезностями, и голоса их сливались в тихий гул, в котором по временам различим был фальшивый смех мисс Бредфорд. Так было, когда я уносила тарелки из-под мясного. Когда же я подавала десерт, за окном уже сгустилась тьма, в зале горели свечи, а все общество слушало молодого лондонца. Таких господ не часто увидишь в нашей деревне: из-под громоздкого, вычурного парика выглядывало худое напудренное лицо, затерявшееся в массе кудрей. На правой щеке у него чернела мушка. Похоже, слуга Бредфордов, помогавший ему с туалетом, не умел приклеивать эти модные украшения, ибо, когда молодой человек жевал, мушка трепыхалась. С первого же взгляда он показался мне посмешищем, но теперь вид у него сделался мрачный, и, пока он что-то рассказывал, его руки в кружевных манжетах порхали над столом, точно мотыльки, отбрасывая длинные тени. Обращенные к нему лица показались мне бледными и встревоженными.
– Видели бы вы, что творится на дорогах! Всё заполонили всадники, фургоны и телеги со всяким скарбом. Уж поверьте, все, кто способен покинуть город, либо уже сделали это, либо намереваются. Бедняки меж тем разбивают палатки на Хэмпстедской пустоши. Люди, вынужденные куда-либо идти пешком, ступают ровно посередине дороги, чтобы избежать заразных испарений, сочащихся из домов. Те, чей путь лежит через бедные приходы, закрывают лица масками с длинными птичьими клювами, набитыми целебными травами. Люди ходят по улицам, точно пьяные, выписывая зигзаги, чтобы разминуться с другими прохожими. А в наемную карету не сядешь: вдруг там ехал зараженный? – Гость понизил голос и огляделся по сторонам, упиваясь всеобщим вниманием. – Поговаривают, из тех домов, что помечены красным крестом, доносятся крики умирающих, запертых там в одиночестве. Небесные сферы пришли в движение. Ходят слухи, что король намеревается перенести двор в Оксфорд. Сам я не вижу смысла задерживаться в Лондоне. Город так быстро пустеет, что и достойного общества уже не сыскать. На улицах нынче не увидишь ни завитого парика, ни напудренного лица, ибо ни богатство, ни связи не защитят от чумы.
Всех точно обухом по голове ударило это страшное слово. У меня померкло в глазах, будто в ярко освещенной комнате разом задули все свечи. Я сжала в руках блюдо с десертом, чтобы его не уронить, и застыла на месте, пытаясь дышать как можно глубже. Мне не раз доводилось видеть, как болезнь сводит людей в могилу. Мало ли на свете лихорадок, способных отнять жизнь? К тому же Джордж Викарс не был в окрестностях Лондона больше года. Пасть жертвой тамошнего поветрия он никак не мог. И тут мне вспомнились яркие полотна, развевающиеся на ветру перед моим домом.
Полковник Бредфорд кашлянул.
– Полноте, Роберт! Вы напугаете дам. Смотрите, как бы они не отказались от вашего общества из страха подхватить заразу.
– Вот вы шутите, сэр, а на заставе к северу от Лондона нам встретилась разъяренная толпа деревенских мужиков с вилами и мотыгами, не пускавшая в местную гостиницу путников из столицы. Впрочем, место было прескверное, я бы в таком не заночевал даже в дурную погоду и потому спокойно проехал дальше. Но еще немного – и быть лондонцем станет зазорно. Все поголовно начнут выдумывать себе сельские биографии, вот увидите. Вскорости вы узнаете, что последние годы я провел в каком-нибудь Ветванге, а не в Вестминстере.
Эта фраза вызвала некоторое замешательство, поскольку место, которое высмеивал молодой человек, было куда значительнее того, где его принимали сейчас.
– Хорошо, что вы оттуда выбрались, а? – сказал полковник, чтобы сгладить неловкость. – Здесь у нас воздух чистый, никаких вам гнилых горячек[10].
Момпельоны многозначительно переглянулись. Пытаясь унять дрожь в руках, я поставила блюдо на стол, отошла в тень и прислонилась к стене.
– Вы не поверите, – продолжал молодой человек, – есть люди, которые давно могли уехать, но решили этого не делать. Лорд Рэдиссон (полагаю, вы знакомы с его светлостью) неоднократно заявлял, что считает своим долгом остаться и «подать пример» остальным. Пример чего? Мучительной смерти?
– Подумайте, что вы говорите, – вмешался мистер Момпельон.
Едва раздался его голос – низкий, звучный, серьезный, – и беззаботный смех Бредфордов тотчас же оборвался. Полковник обернулся к нему, вздернув бровь, будто услышал грубость. Миссис Бредфорд смущенно закашлялась.
Священник продолжил:
– Если при каждой новой вспышке все, кто могут, будут спасаться бегством, то семена болезни разнесутся по всей стране, пока не останется ни одного безопасного уголка и зараза не увеличится тысячекратно. Раз уж Господь наслал на людей эту кару, полагаю, ему угодно, чтобы каждый встречал ее там, где находится, и своим мужеством сдерживал угрозу.
– Вот как? – надменно произнес полковник. – А что, если Господь нашлет льва, чтобы тот изорвал вашу плоть, вы и тогда не двинетесь с места? Сомневаюсь. Вы убежите от опасности, как любой разумный человек.
– Превосходная аналогия, сэр, – ответил мистер Момпельон звонким, повелительным голосом, какой использовал за кафедрой. – Давайте углубимся в нее. Ибо я уж точно не выберу бегство, если буду знать, что, спасаясь, приведу его к жилищам невинных, нуждающихся в моей защите.
При упоминании о невинных перед глазами у меня мелькнуло личико Джейми. Что, если лондонец прав? Джейми было не оторвать от мистера Викарса. За день до начала болезни Джейми карабкался ему на спину и скакал у его ног.
В наступившей тишине раздался голос лондонского господина:
– Очень смело с вашей стороны, сэр, но должен сказать вам, те, кто хоть что-то смыслит в этом недуге, то есть врачи и хирурги-цирюльники[11], поспешнее всех покинули город. Нынче никто не поставит вам банки против кашля и не пустит кровь при подагре, даже за соверен. Из чего можно заключить, что врачи уже дали свое предписание: лучшее лекарство против чумы – это немедля уезжать прочь. И лично я намерен свято ему следовать.
– Вы говорите «свято», однако, на мой взгляд, это неудачное слово, – заметил мистер Момпельон. – Если уж речь пошла о святом, не будем забывать, что во власти Господа как оберегать человека в беде, так и насылать беду на него, и тут уж никто из нас не спасется, как бы быстро мы ни бежали.
– Разумеется. Однако многие из тех, кто так считал, превратились в гниющие трупы, которые свозят на погребальных телегах к огромным ямам.
Мисс Бредфорд изобразила, что ей дурно, коснувшись лба ладонью, но глаза ее горели любопытством. Заметив, что она жаждет подробностей, молодой человек продолжил:
– Я слышал это от знакомого, чей слуга, тщетно пытавшийся разыскать родственника, видел все своими глазами. По словам этого малого, трупы сваливают в яму столь бесцеремонно, будто это дохлые собаки. Слой тел, горсть-другая земли, а сверху еще слой. Так они и лежат, что коржи в торте.
Он указал на торт, который я чуть раньше поставила на стол. Момпельоны вздрогнули, а молодой человек, довольный своей остротой, вновь обратился к священнику:
– А знаете ли вы, кто первый последовал за врачами? Ну как же, англиканские священники вроде вас самого. Именно поэтому во многих лондонских церквях службы ведут нонконформисты[12].
Майкл Момпельон уставился на свои руки, сложенные на коленях.
– Коли так, сэр, это очень прискорбно. Если то, что вы говорите, правда, мои братья по вере поступили малодушно. – Вздохнув, он взглянул на свою жену. – Быть может, они считают, что Господь сам теперь проповедует всему городу и нет нужды прибавлять свой голос к грому, исходящему из уст его.
Счастье, что той ночью было полнолуние, иначе я бы непременно свалилась в канаву по пути домой. Хотя ноги уже не держали меня, а колючие растения впивались в лодыжки и цеплялись за юбку, я шла без передыху, почти бежала. Когда я зашла в дом, дочка Мартинов, дремавшая у огня, тяжело поднялась на ноги. Не в силах вымолвить ни слова, я скинула плащ и поспешила наверх. В квадрате серебристого света лежали два маленьких тела. Оба малыша дышали ровно. Джейми обнимал брата одной рукой. Я в страхе протянула к нему ладонь. Мои пальцы коснулись нежной кожи. Слава Богу, лоб был прохладен.
– Спасибо, – пробормотала я. – Господи, спасибо.
Крысиный мор
Шли недели, наступила осень – не припомню, чтобы в сентябре хоть раз была такая чудесная погода. Кому-то наш холмистый край покажется унылым, и я могу это понять: земля вся изрыта горняками, среди пустошей, словно виселицы, стоят деревянные вороты, а бледно-розовые заросли вереска рассекают кротовины отвалов. Наша природа не ослепляет. У нас один яркий цвет – зеленый, зато во множестве оттенков: изумрудный бархат мхов, темная блестящая путаница плющей, а по весне сияющая зелень молодой травы. В остальном местность эта соткана из серых лоскутков. Белесо-серая нагота известняка, более теплые, охристо-серые отложения песчаника, из которого выстроены наши дома. Серый купол неба и белогрудые облака, наползающие на взгорья, – кажется, если привстать на цыпочки, можно зарыться руками в их мягкость.
Но те первые недели осени, вопреки обыкновению, были залиты солнечным светом. Дни стояли ясные, воздух был сухой и теплый, ни намека на заморозки. Джейми с Томом не хворали, и я так этому радовалась, что каждый день был как праздник. Джейми, правда, приуныл, тоскуя по своему сердечному другу мистеру Викарсу. Сказать по правде, даже гибель родного отца он перенес легче, ведь обыкновенно, когда Сэм возвращался с выработки, Джейми уже спал, и они проводили вместе не так уж много времени. Что до мистера Викарса, за те короткие месяцы, что он прожил под нашей крышей, он стал незаменим. Его смерть оставила в нашей жизни прореху, которую я старалась заполнить, превращая каждодневные хлопоты в игру, чтобы Джейми не так остро ощущал утрату.
После дневных трудов я ходила на пастбище – убедиться, что ни одна овца не угодила копытом в нору и не запуталась в колючем кустарнике, а ягнята не отстали от маток. Я брала с собой Джейми, и по пути мы останавливались то у груды камней, то у дерева с дуплом, чтобы они поведали нам свои истории. Грибы, карабкавшиеся по упавшей ветке, в нашей сказке становились ступенями, что ведут в жилище фейри, а шляпка от желудя – чашей, оставшейся после пира лесных мышей.
Поголовье у нас небольшое, всего двадцать одна овца. Я сразу взяла за правило пускать на мясо всякую самку, показавшую себя нерадивой матерью, и, если погода была добрая, окот всегда проходил легко. Минувшей весной стадо уже давало приплод, и чего я точно не ожидала увидеть, так это суягную матку. Она лежала на боку, в тени рябины с краснеющей наперекор жаркой погоде листвой. Вывалив язык, матка пыхтела и тужилась. Я уложила Тома на поросшую клевером лужайку и опустилась на колени возле овцы. Джейми стоял у меня за спиной, наблюдая, как я просовываю руку внутрь, чтобы все там немного растянуть. Я нащупала пуговку носа и твердь одного копытца, но хорошенько обхватить его никак не удавалось.
– Мам, дай я тебе помогу! – предложил Джейми.
Взглянув на его крошечные пальчики, я согласилась и усадила его перед собой. Разверстый проход был похож на большой блестящий цветок. Ручки Джейми с легкостью проскользнули в склизкое, влажное лоно. Нашарив шишковатые колени ягненка, вставшего задом, он вскрикнул. Я уперлась пятками в туловище овцы, и вместе мы стали тянуть, Джейми, напрягая все свои детские силенки, – за колени, а я – за копытца. Вдруг с чавкающим хлопком из овечьего нутра вылетел мокрый комок шерсти, и мы повалились на траву. Ягненок родился славный: мелкий, но крепенький – нежданный подарок. Овца была молодая, прежде не ягнившаяся, и я с удовлетворением отметила, что она тотчас принялась облизывать мордочку своего малыша. Вскоре ее старания были вознаграждены громким чихом. Мы засмеялись, глаза у Джейми были круглые от гордости и восторга.
Предоставив матери слизывать со шкуры ягненка остатки желтоватого плодного пузыря, мы спустились к ручью, чтобы смыть с себя слизь и кровь. Вода бежала по сланцу, пенясь и журча. После стольких трудов нам было жарко, да еще и солнце припекало, поэтому я раздела Джейми донага, чтобы он поплескался в ручье, а сама, подобрав юбку и стянув чулки, выстирала его сорочку и свой передник и развесила их сушиться на кусте. Затем, сняв косынку с плеч и развязав чепец, я села на плоский камень, погрузила стопы в воду и дала Тому грудь. Поглаживая его пушистую маковку, я наблюдала, как Джейми играет в прохладной воде. Джейми как раз достиг того возраста, когда, глядя на своего малыша, мать понимает, что он уже не малыш, а оформившееся дитя. Округлости вытянулись в стройные линии: толстенькие, рыхлые ножки стали длинными и упругими, туловище с круглым животиком превратилось в тонкий стан. Лицо стало вдруг способно ко всем чувствам, гладкое, без складочек на подбородке и пухлости щек. Я не могла налюбоваться на его новое тело, на лоск его кожи, на изгиб шеи и наклон золотистой головы, на глаза, вечно с любопытством взирающие на какое-нибудь новое чудо.
Размахивая руками, чтобы удержать равновесие, Джейми скакал с камня на камень в погоне за юркими синими стрекозами. Одна из них села на ветку, валявшуюся возле моей руки. Прозрачные крылышки с прожилками радужно переливались на солнце, точно витражи в нашей церкви. Легонько коснувшись ветки пальцем, я ощутила частые подрагивания, а прислушавшись, уловила слабое жужжание крыльев. Внезапно стрекоза взметнулась в воздух и спикировала на пролетавшую мимо осу. Ноги, с виду хрупкие ниточки, железной хваткой сомкнулись на тельце осы. Мощные челюсти пожрали ее прямо в полете. Вот так, беззаботно подумала я. Рождение и смерть, нежданно-негаданно.
Я откинулась на спину и закрыла глаза. Должно быть, я на минутку задремала, не то я бы уж точно услышала тяжелую поступь с той стороны, где росли деревья. Так или иначе, когда я открыла глаза и поймала его взгляд, поднятый от книги, которую он держал в руках, мистер Викарс уже подошел почти вплотную. Я подскочила на месте и принялась судорожно шнуровать корсет. Том распахнул розовый ротик и завопил от негодования из-за того, что его оторвали от груди.
Священник вскинул руку и ласково улыбнулся.
– Он вправе сетовать на мое вторжение. Прошу, не тревожься, Анна. Я вовсе не хотел застигнуть тебя врасплох. Я так увлекся книгой и прелестью этого дня, что попросту вас не заметил.
От неожиданности и смущения я не нашлась что ответить. К моему изумлению, он не пошел дальше, а уселся на соседнюю глыбу и, стащив сапоги, окунул стопы в ручей. Затем зачерпнул пригоршню прозрачной прохлады, плеснул себе в лицо и пробежал пальцами по длинным черным волосам. Подставив лицо бликам света, он прикрыл глаза.
– Как легко чувствовать благость Божью в такой день! – прошептал он. – Порой я спрашиваю себя: зачем мы запираемся в церквях? Разве может человек создать хоть что-то столь же одухотворяющее, как это местечко?
Я по-прежнему молчала, дура дурой, не в силах овладеть собой и придумать ответ. Том извивался и громко плакал. Мистер Момпельон протянул к нему руки. Я была озадачена, но позволила ему подержать малыша. Каково же было мое удивление, когда он умело взял его на руки, упер подбородком себе в плечо и стал похлопывать по спинке. Том почти тотчас перестал плакать и обильно срыгнул. Преподобный рассмеялся.
– Я многому научился, заботясь о младших сестрах. Мужчине должно держать ребенка прямо, чтобы малыш не искал сосок. – Прочитав изумление на моем лице, мистер Момпельон снова засмеялся и добавил: – Не думай, будто жизнь священника протекает исключительно среди высоких слов, произнесенных с высокой кафедры. – Он кивнул в сторону Джейми, который увлеченно строил плотину из веток ниже по течению, не обращая на нас никакого внимания: – Все мы поначалу голые дети, играющие в грязи.
Сказав это, он отдал мне Тома, поднялся и пошлепал по воде к Джейми. Однако на полпути поскользнулся на мшистом камне и яростно замахал руками, чтобы не упасть. Джейми вскочил на ноги и давай смеяться бесстыжим, безудержным смехом трехлетнего ребенка. Я метнула на него грозный взгляд, но Майкл Момпельон закинул голову и сам расхохотался, а затем, поднимая фонтаны брызг, подбежал к моему визжащему мальчику, подхватил его и подбросил в воздух. Они еще долго так играли. Наконец мистер Момпельон возвратился к нам с Томом и вновь сел на берегу. Он вздохнул и зажмурился, на губах его блуждала легкая улыбка.
– Мне жаль тех, кто живет в городах и не умеет все это любить: сладкий запах водных растений и простые, каждодневные чудеса творения. Именно о подобных чудесах я и читал, когда потревожил вас. Не желаешь послушать отрывок из моего текста?
Я кивнула, и он открыл книгу.
– Это трактат Блаженного Августина, монаха и великого богослова прошлого с Варварийского берега Африки. Августин рассуждает о том, что мы имеем в виду, говоря о чудесах.
Я уже не помню всего, что он читал. Зато помню, как его голос сливался с пением ручья, что придавало словам особую музыкальность.
«Подумайте о смене дня и ночи… о том, как осенью опадает листва, а весною возвращается снова, о бесконечной силе семян… а затем дайте мне человека, который видит и ощущает все это впервые и не лишен дара речи, – чудеса эти восхитят его и потрясут до глубины души»[13].
Мне хотелось послушать еще, и если бы я так не робела при нем, то непременно попросила бы продолжить. Хотя я ежедневно трудилась в его доме, запросто беседовать я могла лишь с его женой. Не то чтобы он был ко мне строг, вовсе нет, однако его так занимали высокие материи, что мелкие домашние события совершенно ускользали от его внимания. Я старалась не путаться у него под ногами и могу с гордостью доложить, что почти не давала ему повода меня замечать. Вот и теперь молчаливо и мечтательно я смотрела в пустоту. Прочтя в моем отрешенном взгляде скуку или непонимание, он поспешно поднялся, взял сапоги и сказал, что не станет долее навязывать мне свое общество и что его ждут дела.
Тут уж я нашла в себе силы поблагодарить его – и от всей души – за то, что он счел возможным поделиться со мной этими великими мыслями.
– Ибо для меня непостижимо, как такой благородный мыслитель мог найти единение с такими простыми вещами, как почва и смена времен года.
Священник ласково улыбнулся.
– Миссис Момпельон говорила, что у тебя живой ум. Полагаю, она не ошиблась.
На этом мистер Момпельон со мной распрощался и отправился домой. Я еще немного посидела с детьми у ручья, размышляя о том, что сказанное про Августина верно также и про нашего священника и до чего же странно, что такой добрый и отзывчивый человек попал в наш приход.
Наконец я кликнула Джейми, и мы тоже направились к дому. Всю дорогу он ласточкой нырял в овраги и возвращался с пригоршнями растрепанных запоздалых цветков шиповника. Когда мы оказались у крыльца, Джейми потребовал, чтобы я ждала снаружи, а сам забежал внутрь.
– Мам, закрой глаза! – взволнованно крикнул он.
Я послушно ждала, закрыв лицо ладонями и гадая, какую игру он затеял на этот раз. Он шумно взобрался по лестнице, двигаясь на четвереньках, точно кутенок, как делал всегда, когда спешил. Вскоре над головой у меня со скрипом отворилось окно.
– Давай, мамочка! Смотри!
Я открыла глаза, и сверху дождем посыпались бархатистые лепестки шиповника. Мягкие, ароматные, они приятно щекотали лицо. Сорвав чепец, я встряхнула головой, и лепестки стали оседать в моих длинных спутанных волосах. Том захлебывался от восторга, его пухлые ручки молотили по кремово-розовым брызгам. Джейми высунулся из окна и вытряхнул последние лепестки из простыни.
«Вот оно, – подумала я, с благодарной улыбкой глядя на Джейми. – Это мгновение – мое чудо».
Так минула наша чудесная передышка, и вскоре уже полным ходом шли приготовления к зиме, которую трудно было вообразить в душные полуденные часы, когда в воздухе жужжали пчелы, а ульи полнились вересковым медом. Из-за яблонь выглядывали приставные лестницы, повсюду в ожидании дня попрохладней стояли треноги для подвешивания свиных туш. Хотя сами мы свиней не держали, каждый год я помогала с заготовкой мяса нашим соседям Хэдфилдам в обмен на запас бекона и студня. Александр Хэдфилд, человек весьма брезгливый, предпочитал кроить платья, а не мясо резать да кости рубить и даже в самом старом своем костюме не взялся бы за столь черную работу. Поэтому убоем и разделкой занимался старший сын Мэри от первого брака. Джонатан Купер был настоящим здоровяком, весь в покойного отца, и работа у него спорилась. Его младший брат Эдвард носился с Джейми по двору, и, какие бы мелкие поручения им ни давали, они непременно находили способ от них увильнуть. Всякий раз, когда их посылали за хворостом, чтобы жарче пылал огонь под большим котлом, мальчишки прятались за поленницей и, завывая от хохота, затевали очередную игру. Наконец Мэри, промывавшая кишки для колбасных оболочек, оторвалась от своего занятия и пошла поглядеть, отчего они так расшумелись. Вскоре она вывела Эдварда за ухо, держа в вытянутой руке веревку, на которой болтался какой-то блестящий черный комок. Когда она подошла ближе, я увидела, что это дохлая крыса – жалкое создание, влажное, с мутными глазками и ярким мазком крови на морде. Следом за Мэри робко плелся Джейми, волоча за собой еще одну крысу, привязанную к веревке за хвост. Мэри швырнула тушку в костер, и Джейми неохотно последовал ее примеру.
– Представь себе, Анна, они играли с этими мерзкими тварями, как с марионетками. Их там, у поленницы, целая тьма. Все дохлые, спасибо хоть на этом.
Прерывать наше занятие было никак нельзя, поэтому с последствиями крысиного мора пришлось разбираться Александру, и мы с Мэри тихонько посмеивались, глядя, как ее супруг, воротивший нос от свиных туш, таскает кровавые трупики грызунов. Наша собственная работа показалась нам чуть более сносной, и мы еще долго трудились в хиреющем свете, вытапливая жир и засаливая бока. Было тяжко и противно, но я думала лишь о том, как приятно пахнет шкворчащий бекон и что Джейми сможет полакомиться им уже через несколько недель.
Когда небо наконец затянулось тучами, это было даже приятно. Туманные, омытые дождем окрестности давали отдых глазам. Однако влажность сразу после жары обернулась худшим нашествием блох на моей памяти. Не странно ли, что одни люди кажутся кровососам лакомее других? В нашем доме блохи набросились на детей, их нежная кожа так и зудела от укусов. Пришлось пожечь всю солому из тюфяков и отправиться к Гоуди за бальзамом. Я втайне надеялась вновь застать Энис одну. Я жаждала поговорить с ней, спросить, как она пришла к такому взгляду на мир. Мне было чему поучиться у нее: как обходиться без мужчины в доме, как примириться с положением одинокой женщины и даже найти в нем источник наслаждения. Она недвусмысленно намекнула, что у нее много любовников, и, сказать по правде, мне не терпелось узнать, как она управляется с ними и какие питает к ним чувства.
Каково же было мое разочарование, когда на крыльце показалась старуха Мем. Она куталась в теплый платок – очевидно, собиралась в деревню – и так спешила, будто ее вызвали к роженице, хотя, насколько я знала, из тех, кто был в тягости, никому еще не пришел срок разрешиться от бремени.
– Зря ты сюда шла, Анна, я как раз к Хэдфилдам. У малыша Эдварда Купера жар, вот несу ему лекарство.
Услыхав эти неприятные вести, я пошла к Хэдфилдам вместе с ней. Мем была очень стара, из-под худого чепца выбивались тонкие седые прядки, и все же стан ее был прям и гибок, точно молодой стебель, а поступь тверда, как у мужчины. Чтобы поспевать за ней, мне пришлось ускорить шаг. Добравшись до места, мы увидели чубарую лошадь, привязанную возле корыта с водой. На крыльце показалась Мэри, она выглядела напуганной и немного смущенной.
– Спасибо, Мем, право, спасибо большое, что пришла, но мистер Хэдфилд послал в Бейквелл за хирургом, и тот уже прибыл. Мы все очень ценим твою мудрость в делах врачевания, но мистер Хэдфилд сказал, что тут негоже скупиться. Счастье, что отец Эдварда, упокой Господь его душу, не оставил меня без гроша.
Мем поджала губы. О хирургах она была столь же невысокого мнения, как сами хирурги – о хитрых старухах вроде нее. И все же Мем помогала нам чем могла, взимая посильную плату за свой труд монетой, продовольствием или чем-нибудь еще, в то время как хирурги и пальцем не пошевелят, пока не набьют карманы шиллингами. Сдержанно поклонившись, Мем развернулась и ушла. Из любопытства я решила остаться, и Мэри знаком пригласила меня войти. Хирург велел снести ребенка на первый этаж, не пожелав работать в тесной комнатке наверху. Эдвард лежал раздетый на рабочем столе мистера Хэдфилда, откуда убрали все швейные принадлежности. Сперва за тучной фигурой хирурга ничего было не разглядеть, но, когда он отошел, чтобы достать что-то из сумки, я невольно вздрогнула. Все тело бедного малыша покрывали пиявки, они пировали, присосавшись к его нежным рукам и шее, их склизкие округлые тельца извивались и подрагивали. Благо в забытьи Эдвард уже не сознавал, что с ним происходит. Мэри озабоченно смотрела на сына, сжимая его безвольную ручку. Мистер Хэдфилд придерживал его за плечи и каждое слово лекаря встречал подобострастным кивком.