Рассказы ночной стражи бесплатное чтение
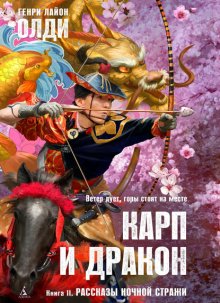
«Великая радость – родиться среди людей. Тело наше слабо, но разве мы предпочли бы звериное? Дом беден, но жилью голодных духов он, уж верно, не уступает! Сердцу горько оттого, что оно тоскует, но со страданиями в аду это не сравнить. Поэтому есть чему радоваться – что родились среди людей.»
Гэнсин, «Проповедь в Ёкава»
Пролог
Небо горело над монахом.
Я умираю, понял он. Небо горит, но я больше не вижу в нем пожара, сожравшего мой монастырь. Просто закат, солнце садится за гору. Да, я умру не сегодня. Это утешение?
Вряд ли.
О, храм Изначального Обета, великий Хонган-дзи в Исияма! Злосчастный Хонган-дзи! Счастливый Хонган-дзи, бессмертная птица фушичо[1], восставшая из пепла! Никогда больше я не увижу тебя. И это, вне сомнений, утешение. Я запомню тебя, моя обитель, такой, какой ты была в счастливые годы.
– Западный храм, – сказал демон. Трубка в его руке дымилась. – Прекрасное место, строительство уже завершается. Весной в Западный Хонган-дзи войдет новый настоятель, и это будете вы, святой Кэннё.
– Это буду не я, – ответил монах.
– Почему же? Вам не нравится место? Только скажите, и я построю еще один Хонган-дзи. Если первый мы назвали Западным, второй мы назовем Восточным.
– Ваше великодушие может соперничать только с вашей щедростью. Мне нравится место, выбранное вами. Я восхищен искусством строителей. Моя признательность безгранична.
– Вы по-прежнему питаете вражду ко мне? Не хотите принять подарок? Десять лет – долгий срок, мне казалось, что наша вражда иссякла.
– В моем сердце нет вражды. Все очень просто, Нобунага-сан. Не ищите сложных причин там, где есть простые. К тому времени, как храм будет завершен, я покину вас. Мертвецы не принимают даров, отказ мертвого – не оскорбление. Но мой дух возрадуется, когда в Западном Хонган-дзи воссядет новый настоятель.
– Вы, святой Кэннё, до сих пор зовете меня демоном. Не вслух, нет! Я читаю это в блеске ваших глаз, движении ваших губ. Ведь так?
Князь Ода Нобунага улыбнулся. Лицо его было лицом Акэти Мицухидэ, предателя и убийцы, чье тело князь носил с момента своей гибели в храме Хонно. Улыбка осталась прежняя, из прошлой жизни. Эта улыбка заставляла трепетать друзей и содрогаться врагов. Сейчас, когда Нобунага обрел титул сёгуна, всякий падал ниц, завидев лишь тень улыбки военного диктатора Чистой Земли.
Всякий, да. Но только не монах, над которым горели небеса.
– Это так.
Чай остыл, но Кэннё сделал глоток. Горло саднило, вчера монах простудился во время медитации. Никогда раньше болезнь не смела приблизиться к Кэннё, когда он медитировал. Все однажды происходит впервые: и жизнь, и смерть.
– Вы правы, я зову вас Демоном-повелителем Шестого неба. Я зову вас так в память о великих годах. Я сам дал вам это имя, мне оно ближе всего.
Демон взял свою чашку. Чайный набор был сделан из пористой, грубо обожженной глины безымянным мастером, рожденным в Кути. На чайнике, если не вглядываться, можно было разобрать контур горы с белой вершиной. Стоило всмотреться пристальней, и гора исчезала, превращаясь в бессмысленный набор черточек и выпуклостей. Люди полагали, что это Фудзияма. Монах знал: это Акаяма, Красная гора, где ему явился будда Амида; знал это и демон.
Случайный человек отдал бы чашки с чайником слугам, побрезговав грубостью работы. Знаток отдал бы за этот набор годовое жалованье самурая среднего ранга.
– Мне тоже, – демон рассмеялся. Лицо его сейчас походило на боевую маску. – Представляете? Это имя напоминает мне о молодости. Проклятый Акэти! Ему стоило убить меня пораньше. Нет, тело пришлось мне впору, жаловаться было бы неприлично. Хорошее, крепкое тело, закаленное в походах. Но он украл у меня шесть лет жизни! Моему духу пятьдесят восемь лет, а телу шестьдесят четыре. Вам знакома эта песня?
Князь вернул чашку на поднос. Пальцы Нобунаги задвигались, отбивая ритм, словно воздух превратился в барабан.
- – Человеку суждено
- Жить под небом лишь полвека,
- Наш бренный мир – сон…
Монах поднял взгляд к пламени заката. Подхватил, стараясь не закашляться:
- – Наш бренный мир – сон,
- Напрасный обман,
- Жизнь дается нам один раз,
- Весь мир подвластен смерти…
Они сидели на склоне, под открытым небом. Настоящие холода еще не наступили, но трава пожухла. Выше росли сосны, скрученные в замысловатые узлы, и молодые клены. В соснах, не желая мешать беседе, прятались телохранители: те, кто пришел с Кэннё, и те, кто явился с князем. Их было легко различить: молодые самураи охраняли жизнь сёгуна, старики сопровождали монаха. Кэннё не менял телохранителей с того дня, когда впервые увидел будду Амиду. Зачем? Кто поднимет руку на святого бодисаттву[2], чьим молитвам внимает будда? Да и вообще, кому взбредет в голову покушаться на обитателя Чистой Земли, зная, что убитый воскреснет в убийце? Собственно, в молодости и боевом умении княжеских самураев тоже было мало проку. Так, дань высокому положению.
Телохранители Кэннё присутствовали при явлении будды. Если монаху временами казалось, что он видел сон, а может, сошел с ума, один взгляд на охрану – на старость, утратившую смысл существования – да, этот взгляд возвращал его в реальный мир.
– Моему духу сорок девять лет, – сказал монах, закончив песню. – Моему телу сорок девять лет. Человеку суждено жить под небом лишь полвека. Я – живое подтверждение этих стихов, Нобунага-сан. Я скоро умру, можете в этом не сомневаться. Вы же проживете еще немало лет.
– Сколько? – быстро спросил демон.
– Не знаю.
– Не знаете или не скажете?
– Не скажу. Могу лишь дать совет: не задерживайтесь с объявлением наследника. Еще лучше, если вы передадите титул сёгуна до конца года. Ваш сын, молодой господин Нобукацу, вполне способен принять бремя правления. Нобунага-сан, вы проживете достаточно, чтобы поддержать его на первых порах мудростью и опытом. После вас рядом с ним останутся смелые полководцы и мудрые советники. Это все, что я открою вам.
– Прекрасное время, – ответил демон, любуясь кленами.
– Вы правы, – согласился Кэннё.
Еще вчера желтые, листья кленов стремительно краснели, тронутые зябким северным ветром. Некоторое время монах и князь молчали, отдавая дань традиции момидзи-гари – охоте за кленовыми листьями. Наслаждение от прекрасного зрелища усиливалось тем, что между кленами тут и там росли высокие рябины, чьи листья тоже были желтого и красного цвета.
– Западный Хонган-дзи, – демон взмахнул рукой, словно указывая направление. – Люди будут приходить к новому храму, чтобы взглянуть на осенние клены. Впрочем, я больше люблю проводить это время года в ущелье Сандан. Зарево из листьев бушует на фоне пяти водопадов, напоминая мне эпоху великих битв. Листва плывет по течению, окрашивает реку кровью. Вам известно, что один из водопадов Сандана зовется Вратами Дракона?
Монах кивнул.
– Если вы и впрямь решили умереть, святой Кэннё, я поставлю настоятелем Хонган-дзи вашего сына. Какого из двух?
– Младшего, – без колебаний ответил монах. – Хочу вас предупредить, Нобунага-сан, что старший не уступит без сопротивления. Полагаю, он захватит место настоятеля, даже если в завещании я укажу младшего. Понадобится ваше вмешательство – ваше или вашего наследника.
– Можете не сомневаться, почтенный бодисаттва. Я исполню вашу волю в точности. Настоятелем Западного Хонган-дзи станет тот, кого вы назвали мне. Как мне поступить со старшим сыном?
– Водопад, – монах откинулся на подушки. Спина болела, сидеть было тяжело. – Врата Дракона, да?
Смех демона был ему ответом.
– От вас ничего не скроешь, святой Кэннё. Да, я учредил службу Карпа-и-Дракона. Ее обязанностью будут дела, связанные с подтверждением фуккацу. Также дознаватели и архивариусы займутся разбирательствами по поводу случаев, заслуживающих особого внимания. Вы видите своего старшего сына во главе этой службы?
– Благодарю вас, Нобунага-сан. Ваша проницательность выше любых похвал.
– Моя проницательность ничто перед вашим прозрением. Люди станут приходить на вашу могилу, возжигать благовония и просить вас снизойти к их просьбам.
– Нет, не станут. Я умру здесь, в Акаяме, мой прах развеют над морем. Только настоятель храма Вакаикуса и его преемники будут знать об этом, да еще вы. В алтаре поставят табличку с моим детским именем Коса. Вряд ли она кого-нибудь заинтересует. Если хотите, сделайте мне ложную могилу в Западном Хонган-дзи. Пусть люди приходят, пусть просят. Мне все равно, мой дух не услышит их просьб. Я хочу покоя, Нобунага-сан. Я знаю, что покой – иллюзия, и все равно хочу. Надеюсь, вы простите мне эту слабость. Вы победили, демон-повелитель. Вы разбили врагов и меня в том числе, вы основали сёгунат и династию. Я ничем не могу вам помешать, не могу и не имею такого желания.
Кэннё наклонился вперед, борясь с болью в спине:
– Это ли не победа? Я признаю свое поражение.
– Вы победили, бодисаттва, – после долгого молчания ответил демон. – Я умер и воскрес в новом теле. Это случилось благодаря дару будды, который был ниспослан вам, не мне. Войны прекратились, убийства прекращаются, и это ваша заслуга. Это ли не победа? Я признаю свое поражение.
– Если мы оба победили, – спросил монах, – откуда взяться поражению?
Князь взял пустую чашку, повертел в руках.
– Вот мы сидим с вами, демон и бодисаттва, – казалось, весь мир сошелся для Оды Нобунаги в этой чашке. – Я вынужден быть демоном, преисполненным силы и гнева. Таково мое положение и обязанности. Вы вынуждены быть бодисаттвой, источником милосердия и сострадания. Таково ваше положение и обязанности.
– Кто же нас вынудил к этому?
– Мы сами, кто еще? Я не знаю никого сильнее нас самих.
Каждую последующую осень, в те дни, когда листва кленов из желтой делается красной, князь Ода приезжал в Акаяму. С малой свитой он шел в храм Вакаикуса, садился у алтаря, где для него заранее выставляли табличку с поминальным именем Коса, и молчал. Намолчавшись вдоволь, бывший сёгун отправлялся туда, где росли сосны, скрученные в узлы, и рябины с двуцветными кронами. Там он пил чай в одиночестве.
– Если мы оба победили, – спрашивал Ода Нобунага, глядя в небо, – откуда взяться поражению?
И отвечал сам себе:
– Да откуда угодно!
Таких поездок ему выпало шесть.
Повесть о стальных мечах и горячих сердцах
В каждом человеке живет зверь. Хищный, беспощадный, далекий от милосердия. Он будет убивать, если голоден, ибо все есть пища. В каждом человеке живет будда. Он оправдает этого зверя, что бы тот ни совершил, ибо все есть иллюзия. В каждом человеке живет судья. Он осудит этого зверя на казнь и муки, если увидит его в другом человеке, ибо все есть преступление, кроме совершенного нами.
Эти трое снятся мне по ночам.
«Записки на облаках»
Содзю Иссэн из храма Вакаикуса.
Глава первая. Мертвец, демон и я
1. «Белые слезы неба»
Редкие снежинки кружились в ночи. Снежинки? Гейши, танцующие перед знатными клиентами. Морозный воздух был прозрачен до звона. Повсюду сверкали искры, дети ущербной луны. На углу Оониси, Большой Западной улицы, и безымянного проулка, стиснутого с обеих сторон глухими заборами, старшина караула Торюмон Хидео задержался, желая полюбоваться изысканным зрелищем. В свете фонаря, что нес стражник Нисимура, возглавлявший караул, снежинки смотрелись иначе. Казалось, масло, горящее в фонаре, вытапливает из них все очарование.
Лисий хвост отсвета, заметавший путь стражников на снегу, втянулся за угол. Стих мерный скрип удаляющихся шагов.
– Хидео-сан?
– Иду.
Старшина испытал легкий укол раздражения и нахмурился, досадуя на самого себя. Это служба. Обязанность патруля – ночной обход квартала. Негоже командиру отвлекаться на всякие глупости, теряя из виду подчиненных. Икэда его окликнул? Икэда прав. А он, Хидео, неправ и раздражение его недостойное.
Вывернув из-за угла, он поднял ладонь, защищая глаза от света.
– Что-то заметили?
– Нет, ничего.
– Идем дальше.
Проулок был узкий – едва-едва двоим разминуться. Протискиваться вперед старшина не стал. Первым, как и раньше, топал Нисимура Керо с фонарем, за ним – Икэда Наоки; Хидео – замыкающий. Холод покусывал нос и щеки, вынуждая кровь приливать к лицу. Холод – и стыд, который преследовал Хидео уже больше месяца. Да, в том, что произошло, нет его вины. Иди речь только о нем, новое назначение его бы нисколько не смутило. Но при чем здесь товарищи по службе?
Конечно, господину Хасимото виднее. На то он и начальник городской стражи.
Переговоры между сенсеем Ясухиро и господином Хасимото успешно завершились в конце осени. Если быть точным, почти завершились. Разумеется, Хидео делал вид, что знать не знает о регулярных встречах двух уважаемых людей, а если и слышал что-то краем уха, то его совершенно не интересуют досужие слухи. Он даже убедил в этом самого себя. Но последняя встреча, которая должна была подвести итог переговорам, долгим и деликатным…
Она не состоялась.
Ясухиро Кэзуо на нее не явился, что было совсем не в духе сенсея. Господин Хасимото проявил достойную всяческого уважения выдержку, ожидая, когда глава школы, принеся подобающие извинения, назначит новую встречу. Извинения от имени отца в итоге принес сын сенсея Цуиёши – похоже, молодой мастер сделал это по собственной инициативе, желая сохранить отцу лицо.
Новую встречу сенсей не назначил.
Ясухиро-старшего как подменили. Внук Хидео… то есть, сын рассказывал… Старшина сморщился от досады. За прошедшие шесть месяцев он приучился думать о себе как о мужчине. О жене он тоже теперь думал правильно, тем более, что для этого имелось обстоятельство, весьма способствующее верному ходу мыслей. А вот с Рэйденом путался, называя парня то сыном, то внуком.
Не вслух, конечно. За своим языком старшина караула следил с особой тщательностью.
Короче, что бы ни происходило с Ясухиро-старшим, господин Хасимото устал ждать. Он принял решение и перевел Торюмона Хидео с заставы на Северном тракте в ночную городскую стражу: патрулировать квартал, примыкающий к порту, через две ночи на третью.
С одной стороны, это был тонкий намек сенсею, если тот одумается. Неужели вы, Ясухиро-сан, так мало цените человека, которого хотели заполучить в свое додзё? Вот, полюбуйтесь, к чему привела ваша необязательность! Бить ноги по ночам в портовых закоулках – это вам не досмотр путников на тракте. С другой стороны, начальник сохранил за Хидео прежнюю должность и жалованье. Это был знак старшине: лично вы, Хидео-сан, ничем передо мной не провинились. И наконец, новый распорядок дежурств позволял с легкостью совмещать службу и занятия в додзё семьи Ясухиро, если переговоры двух высоких сторон в итоге завершатся к общему удовольствию.
Мудрость господина Хасимото смущала старшину караула лишь одним. Вместе с ним в ночную стражу перевели и его сослуживцев по заставе. Да, с сохранением должности, жалованья и выслуги. Но, как уже говорилось, бить ноги по темноте…
Хидео чувствовал себя виноватым. Понимание, что он не в силах повлиять ни на поведение сенсея Ясухиро, ни на решение господина Хасимото, утешало слабо. Слабо? Совсем оно не утешало.
Проулок вывел их к причалам.
Тихо, пусто. Стылое море отблескивает лунным серебром. У пристани качаются на пологой зыби пришвартованные лодки. Шелест волн подчеркивает безмолвие зимней ночи, объявшее мир. Снег тонким слоем припорошил причалы. На девственной белизне темная груда тряпья выглядит особенным уродством.
Почему снег не присыпал эту кучу? Не потому ли, что она появилась здесь совсем недавно?
– За мной!
Хидео решительно направился к подозрительному тряпью. И остановился, не дойдя до цели пары шагов. Сопевший над ухом Нисимура поднял фонарь повыше. В рыжеватом свете груда обрела очертания человеческого тела. Налетел порыв ветра, пламя в фонаре дрогнуло. Хидео на миг почудилось: человек, распростертый на снегу, шевельнулся.
Нет, показалось.
Грубый балахон подпоясан разлохмаченной веревкой. Раскинутые в стороны ноги обмотаны грязными лохмотьями. На одной – ветхая сандалия из соломы. Вторая сандалия валяется рядом. Левая рука безвольно откинута в сторону. Правая вцепилась в балахон на груди, под самой шеей. Пальцы судорожно скрючены.
Взгляд прилип к этой руке. Взгляд не желал подниматься выше. Пришлось сделать над собой усилие. Вокруг шеи и головы покойника растеклась глянцево-бурая лужа. Кровь. Много крови. Горло человека было рассечено надвое: в плоти зияла черная расселина.
Лицо?
Лица у трупа не было. Тряпка, намотанная на голову мертвеца, частично размоталась, открывая взгляду серую морщинистую плоть.
– Каонай! – выдохнул Икэда.
– Да, – подтвердил старшина. – Это безликий.
И с облегчением перевел дух.
Каонай – не человек. Таких убивать дозволено. Никакой ответственности перед законом, а главное, никакого фуккацу. Тем не менее, убивают каонай редко. Брезгуют. Да и зачем? Если что не так, всегда можно отходить безликого палкой или плетью. Пусть знает свое место, выкидыш кармы! Еще руки об такого марать…
Кто-то не побрезговал? Его дело. В любом случае, убийство каонай – не преступление. Ничего не произошло, обход вскоре продолжится.
– Что делать будем, Хидео-сан?
– Сейчас я напишу записку. Нет, две записки.
Хидео подышал на озябшие руки, полез в сумку, где хранил письменные принадлежности. У старшины караула они всегда должны быть при себе.
– Кому? – удивился Икэда.
– Для начала, в службу Карпа-и-Дракона.
– Зачем, Хидео-сан?
Старшина не ответил, занятый письмом. Зимняя, она же «походная» тушь более густая. Ее замешивают на масле с добавлением желе из водорослей, чтобы не замерзала. Писать такой тушью сложнее, чем обычной летней. Тут не до разговоров.
Закончив, Хидео помахал записками в воздухе, а когда тушь застыла, вручил листки сослуживцам.
– Эту оставить при теле.
– Для кого?!
– Для уборщиков трупов.
– Они же неграмотные!
– Отнесут своему старосте, он прочтет. Я написал, чтобы тело не сжигали до часа Лошади[3].
Не скрывая раздражения, Нисимура переводил взгляд с записки на труп и обратно. О брезгливости Нисимуры в страже ходили легенды. Наконец он поставил фонарь на снег и присел на корточки рядом с телом – так, чтобы ни в коем случае не коснуться мертвеца или, того хуже, не замараться в натекшей вокруг крови. Записку, сложенную вдвое, Нисимура ухитрился вставить меж скрюченных пальцев покойника, не дотронувшись до них. Листок накрепко застрял в мертвых пальцах. Порывы ветра, налетая с моря, трепали его, но вырвать не могли. С темного неба продолжали сыпаться снежинки, колкие и сухие.
Не размокнет, решил Хидео.
– Вторую записку на обратном пути отдадим страже у входа в правительственный квартал. Икэда-сан, займитесь. Скажите, пусть передадут чиновнику Карпа-и-Дракона.
– Какому?
– Любому. Первому, кого увидят с утра.
– Слушаюсь, Хидео-сан!
Икэда был рад, как дитя, что ему досталась вторая записка. Оскверниться прикосновением к мертвецу? Лучше вспороть себе живот! Да, ему придется дать изрядный крюк, возвращаясь домой с дежурства, но это лучше, чем иметь дело с дохлым каонай!
Что во второй записке, а главное, при чем тут служба Карпа-и-Дракона, Икэда не спросил. С какой стати достойному стражнику интересоваться чем-то, касающимся безликой падали? Вот еще!
От трупа к портовым складам уходила цепочка следов. Хидео пригляделся. Следы были от деревянных гэта: короткие парные полоски, стежки черных ниток на белом покрывале. Десять шагов, одиннадцать. На двенадцатом шагу убийца остановился, прямо в снегу вывел иероглифы; наверное, палкой.
- Пали на землю
- Белые слезы неба.
- Скрип под ногами.
Хидео махнул рукой:
– Идем. Здесь больше делать нечего.
К складам они не пошли. Там есть свои сторожа, это их территория. Да и зачем? Убийца каонай – не преступник. Не вор, не контрабандист, не мошенник. Может, это один из складских сторожей. Убил, вернулся на свой пост и продолжил нести службу.
Ветер стих, едва ночная стража отдалилась от моря.
2. «Скажут, ваш мертвец или не ваш»
Холодно.
Проснуться зимой – худшее из зол.
«Зимою – раннее утро, – повторял настоятель Иссэн, цитируя записки какой-то придворной дамы. Имелось в виду, что раннее зимнее утро достойно всяческих восторгов. – Свежий снег, нечего и говорить, прекрасен. Белый-белый иней тоже.»
Я удивлялся. Спрашивал у старика, в своем ли уме восхищенная дама. Иссэн пожимал плечами. Отвечал, что не знает, поскольку дама скончалась давным-давно. Замерзла, уверяю вас. Окоченела во дворце, испытывая тонкие чувства. Свежий снег прекрасен, надо же! В моей комнате окон нет, но я чую спиной и ягодицами, что двор замело. Снег подступил к стенам, обложил сугробами доски и камень. Пушистые шапки висят на деревьях.
Бр-р-р! Едва пошевелюсь, кожу стягивает узлами даже под одеялом.
– Но чудесно и морозное утро без снега, – бормочу я синими губами. Восторг дамы въелся в память намертво, помню до последнего слова. – Торопливо зажигают огонь, вносят пылающие угли – так и чувствуешь зиму…
Никто не зажигает, никто не вносит. Так и чувствую зиму!
– К полудню холод отпускает…
Ну да, конечно. До полудня еще дожить надо.
– И огонь в круглой жаровне гаснет под слоем пепла, вот что плохо!
Тут мы с дамой единодушны. Вот что плохо! Дом наш отапливается одним-единственным очагом в комнате родителей, ко мне его тепло если и добирается, то лишь в моем воображении. Дрова жечь нельзя, угорим, приходится жечь древесный уголь, а он дорог. Матушка с отцом, когда он не в патруле, спят, прижавшись друг к другу. Мне прижиматься не к кому, у нас даже кошки нет. Раньше я ставил в ногах переносную жаровню, только сплю я беспокойно. Как-то опрокинул, чуть дом не спалил. Теперь с вечера нагреваю камень в очаге, заворачиваю в старое одеяло, кладу себе под бочок.
Жаль, остывает быстро.
Хорошо сёгуну! У него, болтают, даже в уборной два очага с крышками из металла. Почему два? Так ведь и кабинок две, для большой и малой нужды. Стану сёгуном, поставлю третий очаг. И третью кабинку. Зачем? Прятаться, чтобы просители не докучали.
– Никогда не думала, что буду спать с женщиной…
Это не я. Это матушка. Отец вернулся из патруля, зашел в спальню. Я слышу матушкин голос, он звучит глухо, но вполне отчетливо.
– Я тоже, – отвечает отец.
Я знаю, о чем они. Я не хочу об этом думать. Отец есть отец, у него даже грамота есть. Мало ли, кто когда был бабушкой? Если грамота, значит, отец. И мама от него беременна, уже не скроешь. Живот тыквой торчит. Будет у меня весной братец или сестра.
И кошку заведу, греться.
Сбрасываю одеяло, еле сдерживаясь, чтобы не завизжать. Сажусь рывком, тянусь за ватной накидкой. Сплю я одетым, только все равно не спасает. Ладно, пойду на двор, разгоню кровь.
У колодца умывался отец. Голый до пояса, слово чести! Склонился над лоханью, фыркает, плещет водой в лицо. Хорошо, что у нас есть свой колодец. Иначе пришлось бы идти к общему, за три дома от нашего. Там с утра толкотня: моются, полощут рот, хозяйки сплетничают, тащат ведра с водой. Зазеваешься, обольют на ходу.
Вода во второй лохани, стоявшей рядом с отцом, взялась льдом. Я ударил кулаком, лед брызнул во все стороны. Раздеться, как отец? Нет уж, дураков нет. Осторожно смачивая ладони, я протер щеки, лоб, нос. И заорал, как резаный, потому что отец набрал полные пригоршни воды…
Короче, вы поняли, что он сделал. Всю мою сыновнюю почтительность как ветром сдуло. Так бы и врезал по шее! Хорошо, что у калитки закричали:
– А кому каши? Вкусной бобовой каши?
Это разносчик Фумико. Его и видеть не надо, по запаху узнаешь. Перебродившая каша из бобов пахнет так, что за десять шагов в нос шибает.
– Возьми каши, – велел отец. – И бобового отвара.
И бросил в спину, когда я кинулся к калитке:
– Мать рис варить будет. Принеси сухой растопки.
– Соленья остались? – крикнул я в ответ, расплачиваясь с Фумико.
– Остались, не надо.
– Или взять? Про запас?
– Не надо.
– Тертой редьки?
– Хватит! Мы что, княжеского рода?
И добавил громко, чтобы услышал и я, и разносчик:
– Для человека низкого ранга является большой ошибкой иметь жену и детей…
Цитата, наверное. Мудрость древних. Не мог же он так думать, в самом деле! Он хоть и отец, а все-таки бабушка.
Когда я отнес еду в дом и снабдил матушку растопкой, отец все еще стоял у колодца. Меня ждет, понял я. Хочет поговорить с глазу на глаз.
– Безликого убили, – без обиняков сообщил он, хмурясь. – Сегодня ночью.
Я похолодел. Да, зимой похолодел, на морозе. Чуть в ледышку не обратился.
– Мигеру?!
– Цел твой Мигеру, в сарае сидит. Мог бы, кстати, дров нарубить, раз слуга. Другой безликий, чужой. Мы во время обхода на труп наткнулись. Я Икэду в правительственный квартал отправил, с запиской для вашей службы. Просил выяснить, а дальше как получится.
– Что выяснить? Что получится?
Отпустило. Ф-фух, не Мигеру. До остальных каонай мне дела не было.
– Скажут, ваш мертвец или не ваш.
– В смысле?
– Не из кандидатов ли в слуги?
– А-а… Я сам выясню.
Выяснять не понадобилось. Когда после завтрака я вышел из дому, у забора уже приплясывал мальчишка-посыльный. В записке, которую он принес, секретарь Окада уведомлял моего отца, что убитый каонай не имеет отношения к службе Карпа-и-Дракона.
3. «Да, младший господин!»
– Ваш слуга делает успехи.
Старший писец Шиничи был в хорошем настроении. Когда такое случалось, он всегда подшучивал над Мигеру – я это давно заметил.
– Рад слышать, Шиничи-сан. И каковы они, позвольте узнать?
В кладовке, куда Мигеру отправился за жаровней и запасом угля, воцарилась тишина. Похоже, каонай навострил уши.
– Успехи? О, они потрясают воображение! Он уже пишет быстрее ползущей улитки! Уверен, скоро его варварское перо сможет догнать черепаху. Кстати, ошибок он теперь делает не больше, чем Хитроумный Морио.
Все засмеялись. Я тоже рассмеялся за компанию, хотя понятия не имел, кто этот Хитроумный Морио. Писцы поминали его не впервые, при этом они всякий раз веселились от души. А я стеснялся спросить, о ком речь, и чем этот Морио знаменит.
Подозреваю, тем, что дурак редкостный.
– Вы слишком добры к моему слуге, Шиничи-сан. Вот бы устроить состязания в каллиграфии между ним и Хитроумным Морио…
Мои слова потонули в дружном хохоте.
– Состязания! – стонал от смеха молодой Макото.
– В кха-кха-кхалиграфии! – толстяк Ринджи аж закашлялся.
– С Хитроумным Морио!
– Эту шутку надо запомнить!
– Да вы острослов, Рэйден-сан!
– Весельчак!
Кажется, я прославился.
– Рад, что доставил вам удовольствие. Боюсь, теперь мне пора заняться делами.
– Разумеется, Рэйден-сан!
– Удачного вам дня!
Спрошу про Морио у архивариуса Фудо. Иначе скоро пойдут байки про Хитроумного Рэйдена.
В коридоре я столкнулся с дознавателем Куродой. Ответив на мой поклон, он вихрем унесся прочь в сопровождении своего слуги-каонай. Из-за двери дознавателя Исибаси доносились голоса: один – строгий и властный, другой – растерянный и заискивающий. Похоже, там шел допрос. Все делом заняты, один младший дознаватель Рэйден…
Мигеру разжег жаровню в моем кабинете и вернулся к писцам – догонять черепаху. Я развернул третий из дюжины свитков, выданных мне Фудо: два я уже успел прочесть. Что тут у нас?
«Архив управления службы Карпа-и-Дракона в городе Акаяме. Нетипичные случаи фуккацу. Только для дознавателей.»
Укутав ноги казенным одеялом – двойные носки не спасают от холода, если сидеть без движения – я придвинул жаровню поближе и принялся за чтение. Фудо советовал представлять себя на месте дознавателя, который вел дело. Сопоставлять факты, делать выводы, прикидывать свои дальнейшие действия – и лишь потом читать дальше, узнавая, что в итоге выяснилось.
В первых двух делах я не преуспел. Окажись я на месте дознавателя, я бы их с треском провалил.
Красный О́ни[4] метнулся в сторону с такой резкостью, что я на миг потерял его из виду. Вслепую отмахнулся малой плетью, развернулся – и запястье левой руки обожгло как огнем. Когда бы не перчатка из толстой кожи, я бы не удержал рукоять. Моя большая плеть с басовитым гулом ударила вдогон, завершая круг, но Красный О́ни снова увернулся. Настоящий демон, и тот, наверное, двигался бы не так быстро. Прорези маски сужали обзор, я едва успевал за ним следить.
Случалось, что и не успевал.
С отчаянностью самоубийцы я завертел «ветви ивы». Красный О́ни отступил, не ввязываясь в грубую схватку, скользящим шагом двинулся по кругу. Он вынуждал меня все время поворачиваться, не позволял броситься в атаку. Я уже знал: там, куда я устремлюсь, его не окажется. Ладно, будем махать в перехлест – у моей ивы ветви гибкие, к стволу так запросто не прорваться.
Шаг. Поворот.
Словно передразнивая меня, Красный О́ни накручивал свои плети в той же самой манере, но по малым кругам. Поверить его медлительности мог только глупец. Я следил за каждым движением – и все равно проморгал момент, когда он прекратил играть со мной. Правую руку рвануло так, что я едва не заорал. Плеть Красного О́ни плотно захлестнула запястье, «ветви ивы» беспомощно опали, склонились к воде. Я превратился в рыбачью лодку, игрушку бури. Шторм подхватил меня, понес на скалы. Все, что я мог сделать, это вскинуть левую руку, разворачивая плеть рукоятью вперед.
«Стрела бога грома».
Моя стрела!
Торец рукояти целил в лоб Красному О́ни. Целить-то он целил, да вот незадача – когда лоб был уже близок, «стрела» угодила в железные тиски чужих пальцев. Я рванул плеть обратно, и пол додзё выскользнул у меня из-под ног. Грохот вышел изрядный – казалось, мой небесный покровитель, разгневавшись на земного Рэйдена, ударил в барабан.
Из меня вышибло дух, даже охнуть не получилось.
– Достаточно, – Ясухиро Цуиёши снял маску. – На сегодня хватит.
Я тоже снял маску. Сел на пятки, поклонился, коснувшись лбом досок предательского пола. Спина болела, в голове плясали черти, но я старался не подать виду, что разбит, как дряхлый старикан.
– Это огромная честь для меня, младший господин!
– Что именно? Захват запястья? Бросок?
– Поединок с вами! Я и надеяться не смел…
– Я, в отличие от вас, смел. И до сих пор надеюсь.
– Позвольте спросить, на что?
– На то, что вы извлечете из нашей встречи ряд уроков.
– Благодарю, младший господин! – я снова коснулся лбом пола. – Ваше мастерство делает мои ошибки очевидными!
Вырвать обе плети. Отсушить руку или ногу. Исхлестать, как ему заблагорассудится. Без сомнения, Цуиёши мог сделать все это в любой момент – десятком самых изысканных способов, на выбор. Вместо этого сын сенсея позволил мне проявить мои умения (более чем скромные) и осознать промахи (более чем грубые).
Этот опыт не имел цены.
– Ваша ива посредственна, – бросил Цуиёши, распуская шнуры и стягивая с себя защитный доспех. – Громовая стрела, напротив, весьма недурна. Хотя нет, «весьма» – это слишком. Просто недурна, этого достаточно.
– Вы слишком добры ко мне, младший господин!
Ива посредственна, стрела недурна. Остальное, ясное дело, вообще никуда не годится. Я тоже стащил с себя доспех и шлем. Аккуратно развесил все по местам: свою амуницию и ту, что носил Цуиёши. Услужить сыну сенсея – не позор, а обязанность.
– Погасите лампы, Рэйден-сан.
– Да, младший господин!
В додзё оставались только мы. Всех остальных Цуиёши отпустил: поздно, темень на улице. Мне сын сенсея предложил задержаться для учебного поединка. Что я испытал при этом? А вы как думаете? Я прямо захлебнулся от радости и гордости – так тонет неопытный пловец, упав в бурную реку. Честь, великая честь! Наконец-то мои старания оценили по достоинству! Когда же я вынырнул на поверхность реки, чихая и кашляя, то вдохнул свежий воздух и быстро протрезвел. Торюмон Рэйден! Болван глиняный! Кто ты такой, чтобы Ясухиро-младший, истинный мастер, предлагал тебе поединок без свидетелей? На ночь глядя, в пустом додзё?!
Плыви к берегу, тупица. Думай: зачем все это?
Размышляя над причинами, толкнувшими Цуиёши на сей странный поступок, я надевал доспех и судорожно выбирал: как мне правильно именовать моего внезапного противника в сложившейся ситуации? Так, чтобы соблюсти все приличия? Сенсеем? В школе сенсей – Ясухиро-старший, отец Цуиёши. Не важно, что он уже больше месяца не заходит в зал, а занятия ведет его сын. Мало ли какие дела отвлекают главу школы? Лично со мной Цуиёши весь этот месяц не занимался. Так, сделал мимоходом пару замечаний. Как я ему тогда отвечал? «Да, сенсей! Спасибо, сенсей!» Помнится, я и Кубо-второго сенсеем называл. В отношении меня тут каждый второй – сенсей, а мастер Ясухиро – всем сенсеям сенсей.
И что? Никто из них не изъявлял желания учить меня персонально. Никто из них не считал меня достойным. Цуиёши тоже не считает. На этот счет у меня нет никаких сомнений. Значит, обучение – дело десятое. Первое дело скрыто за ширмой, сидит да помалкивает.
Нет в додзё ученика и сенсея. А кто есть?
Буду звать Цуиёши младшим господином, решил я. Все верно: он и господин в этом доме, и младший. А если умен, как я о нем думаю, значит, поймет намек без лишних слов. Спасибо за науку, младший господин, теперь говорите, зачем я вам понадобился на самом деле.
Гася масляные лампы одну за другой, я ждал первого удара. Сочтите меня излишне самоуверенным, запишите в наглецы, но я полагал, что в новом поединке не уступлю сыну сенсея.
Глава вторая. Смерть на перекрестке
1. «С ним такое уже случалось?»
Ясухиро-младший стоял у дверей. Обуться и покинуть додзё он не спешил. Горела последняя лампа у входа, в ее свете Цуиёши выглядел суровым и задумчивым.
– Вы не слишком торопитесь, Рэйден-сан?
– Мне некуда спешить.
– Тогда я бы попросил вас задержаться.
Сейчас он явственно демонстрировал, что обращается ко мне как самурай к самураю. Отношения учителя и ученика покинули нас. А кто я, если не ученик? Когда Торюмон Рэйден не ученик – он младший дознаватель службы Карпа-и-Дракона, вот кто.
– С радостью, Цуиёши-сан.
Хочет попросить меня об одолжении? О чем-то, имеющем касательство к службе? Если так, наш первый поединок может считаться взяткой или нет? Кстати, против взяток я ничего не имею: получать их приятно, а давать полезно. И законом не запрещено.
Просто интересуюсь.
– Как вы считаете, Рэйден-сан, забота о родителях – это добродетель?
– Без сомнения.
– А если сын проявляет заботу без ведома родителя?
– Думаю, и в этом нет ничего дурного. Чтобы отчистить пятно с отцовского кимоно, не обязательно спрашивать позволения отца.
– Хороший ответ.
Цуиёши кивнул. Похоже, он соглашался не столько со мной, сколько со своими собственными мыслями. На меня он не смотрел. Даже отводя взгляд, делал это не так, как во время поединка, когда следишь за противником краем глаза. Ясухиро-младший пребывал в отчаянных сомнениях: правильно ли он поступает?
– Быть может, это бестактный вопрос…
– Задайте его, Цуиёши-сан. И мы оба узнаем, так ли это.
Я улыбнулся сыну сенсея. На миг я ощутил себя старшим, ободряющим младшего. Приятное чувство, не скрою! Впрочем, оно быстро прошло, сменившись жгучим стыдом. Цуиёши открылся мне, хочет поделиться сокровенным, а я надуваюсь от гордости, как пузырь! Вот оторвет он мне в следующий раз руку – и правильно сделает!
– Скажите, вы сами когда-нибудь так поступали?
– Заботился об отце за его спиной? Против его воли?
– Да.
– Я совершил много худшее, Цуиёши-сан.
– Простите, не верю.
– И зря. Я донес на своего отца властям.
Да, я это сказал. И ничего. В смысле, ничего страшного со мной не произошло. Сердце не разорвалось, язык не отсох. Сделать такое – врагу не пожелаешь! А признаться, поделиться – запросто, как оказалось. Я даже облегчение испытал.
– Донесли?!
– Я считал, что исполняю свой долг. Я до сих пор так считаю. К счастью, все закончилось хорошо.
– А что ваш уважаемый отец? Он не отрекся от вас после этого? Не выгнал из дома?!
– Нет.
– Это воистину чудо! Мне кажется, что я слышу одну из легенд древности.
– Чудо? Легенда? Это чистая правда. Более того, сейчас у нас отношения с отцом лучше, чем были раньше.
– Благодарю за откровенность, Рэйден-сан. Да, обратиться к вам было правильной идеей, теперь я это понимаю.
Цуиёши замолчал. Хотел продолжить, но не знал, как. Я решил ему помочь.
– Вы беспокоитесь о своем отце?
– Да.
Тени бродили по его лицу. Опечаленный демон стоял передо мной. Мне хотелось погасить последнюю лампу, ударить по ней ногой, но это ввергло бы нас в полную тьму.
– Он не желает вас слушать? Вы не решаетесь с ним объясниться?
– И то, и другое. Я пытался, но вскоре прекратил попытки. Он словно стеной отгородился. От меня, от матушки…
– С ним такое уже случалось?
– Нет, никогда! По крайней мере, на моей памяти. Многое вам уже известно, Рэйден-сан.
Цуиёши обвел рукой пустой зал:
– Во-первых, мой отец совсем забросил додзё…
– Да, я заметил.
– Во-вторых, он подвел вашего уважаемого отца: не явился на встречу с господином Хасимото. Я был вынужден принести за него извинения.
– Изменилось ли что-то еще в поведении сенсея?
Я сделал вид, что история с господином Хасимото оставила меня равнодушным. Она касалась нашей семьи, и что бы я ни сказал, это усилило бы вину семьи Ясухиро перед нами.
– Разве этого недостаточно? За день хорошо если парой слов со мной перебросится. С матушкой вообще не разговаривает. Занятия не ведет, превратился в нелюдима…
– Прошу простить мне мою бестактность, – во мне уже пробудился дознаватель, и не без причины, – но я обязан спросить. Быть может, у вашего отца появилась другая женщина? И он разрывается между ней и вашей достопочтенной матушкой? Конечно же, я имею в виду не походы в веселый квартал.
Видите? Я быстро учусь. Еще полгода назад мне бы такое и в голову не пришло.
Цуиёши нахмурился. Видимо, подобная мысль не посещала его. Я вновь ощутил себя старшим, но на этот раз не испытал ни гордости, ни удовольствия. Зато и стыда не было.
– Вряд ли, Рэйден-сан. Мой отец не из тех, кто уделяет женщинам слишком много внимания. Он и женился-то потому, что так велел мой дед. Думаю, дело в другом.
– В чем же, по-вашему?
Он колебался.
– Цуиёши-сан, не будем ходить кругами. Вы обратились ко мне, потому что я представляю службу Карпа-и-Дракона. Но обратились не официально, в частном порядке. Если замахнулись, то бейте.
Я ему завидовал. Будь у меня в свое время такая возможность: обратиться к дознавателю неофициально, поделиться своим грузом, спросить совета… Разве рвали бы меня тогда на части все демоны преисподней? С другой стороны, в таком случае мою спину бы не украсила служебная татуировка.
За все надо платить.
– Вы предполагаете, что произошло фуккацу? В теле вашего отца живет другой человек?
– Да!
– Вы не хотите делать официальное заявление? За недостаточностью оснований?
– Да, именно так! Рэйден-сан, вы все изложили куда лучше, чем это сделал бы я, скудоумный!
Вот только этого мне не хватало. Сегодня он радостно предается самоуничижению, а потом, в додзё, все мне припомнит. Впрочем, мы и сейчас в додзё.
– Я не уверен, – Цуиёши словно прорвало. Он торопился, глотал звуки, слова и слоги, словно боялся не успеть. – Я задавал отцу вопросы. О том, чего не мог знать чужой человек. Но я не дознаватель! Теперь я понимаю: и вопросы были глупые, и отец по большей части не удостаивал меня ответом. Он отворачивался и уходил. Я не знаю, он это или не он! Но одно я знаю точно: если отец кого-то убил, то убил в честном поединке. И поединок этот дался ему нелегко.
– Почему вы так считаете?
Он помедлил, на что-то решаясь.
– Вы сами должны это увидеть, – ответил несчастный демон. – К исходу часа Птицы[5] приходите завтра к нашему дому. Я вам покажу.
2. «Мудрый терпелив»
Лапшичная дядюшки Ючи была забита битком.
Этому немало способствовал очаг и жаровни, на которых что-то булькало, кипело, варилось и жарилось. Пар стоял горой. Раскаленные котлы и сковородки также вносили свою лепту в наплыв посетителей. Ну и надышали знатно, ничего не скажешь! С порога будто в баню вошел. Была зима и нет зимы, чистый тебе летний зной.
Даже сытые платили за еду, чтобы укрыться здесь от мороза. А Ючи и рад стараться, хитрец! Двух новых разносчиков нанял, иначе не поспеть.
– Сюда! Рэйден-сан, сюда!
Лавируя между посетителями, я пробрался в угол, откуда мне махал рукой досин Хизэши. Чуть не потерял сандалии, когда какой-то громила наступил на задники, высвободился, нырнул под руку – в руке была чашка с чаем, пролившимся мне за шиворот – и с размаху плюхнулся на подушку напротив Хизэши. Ухватил рисовый колобок, на котором был прилеплен ломтик тунца, сунул в рот. Неприлично, знаю. Сперва надо было дождаться приглашения, спросить о здоровье, о родственниках, о ценах на ватные плащи…
Гори они, эти плащи! В животе так урчало от голода, что это было вдвое неприличней.
– Рад видеть вас, Хизэши-сан!
– Жуйте, – рассмеялся досин. – Жуйте и молчите, не то подавитесь. По вам заметно, как вы рады…
Смех его был невеселым. Еды перед Хизэши стояло, как перед компанией: лапша гречневая и пшеничная, рыба, моллюски, соленая редька, папоротник-кисляк, сушеные каштаны… Даже для двоих, если он заранее позаботился обо мне, многовато. Ага, чайник с подогретым саке. Похоже, Хизэши заедал-запивал какую-то неприятность.
А я знал, слово чести, знал. Иначе разве прислали бы меня?
Досин не посылал за мной. Вернее, посылал, но не за мной, а за кем-нибудь из дознавателей. Для любого, кто имел представление о нашем тесном знакомстве с Хизэши, это значило: «за кем-нибудь постарше и опытней младшего дознавателя Рэйдена». Намеком пренебрегли, и это тоже говорило о подводных камнях в намечавшемся деле. Предписание в управе мне выдал секретарь Окада. Так, мол, и так, без промедления встретиться с Комацу Хизэши, выслушать самым внимательным образом – и заняться делом, если я сочту показания досина важными для службы.
Заняться, если я сочту дело важным? Для службы Карпа-и-Дракона? Да кто я такой, чтобы оценивать важность или неважность?! Ответственность тяготила меня. Я сунулся к секретарю, желая узнать подробности, но Окада отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. Старший дознаватель Сэки, случайно встреченный в коридоре, также не захотел вступать со мной в беседу.
«Займитесь! – велел господин Сэки. – Больше поручить некому. И нечего меня караулить! Знаем мы ваши случайности…»
Что-то в его голосе показалось мне подозрительным. Поручить некому? Все дознаватели заняты? А может, кроме младшего дознавателя Рэйдена никто не горит желанием заняться этим делом? Таким прикажешь, они и возьмутся тяп-ляп, лишь бы отписаться и сбросить в архив. Младший дознаватель Рэйден тоже, пожалуй, не хочет, да кто его спрашивает? Въедливость моя известна, я на тяп-ляп не соглашусь, я во всех головах дырки прогрызу…
Репутация!
Короче, дали подарочек, да руки болят.
– К делу, Рэйден-сан. Оставим церемонии, ешьте да слушайте. А я выпью, пожалуй. Вам уже известно про убийство каонай?
Я кивнул:
– Известно. Отец вернулся из патруля, сообщил.
– Это был первый безликий, вчерашний. Закончись все на нем, мы бы сейчас пили-ели и болтали о пустяках. Я говорю о втором, сегодняшнем. Перед рассветом меня разбудил осведомитель Тода…
Я слушал. Я так слушал, что не заметил, как подъел треть закуски. Я прямо видел все, будто наяву. Это ко мне, а не к Хизэши, прибежал всклокоченный от быстрого бега цирюльник Тода – осведомитель, как и все цирюльники города. Где стрижка и бритье, там и сплетни с новостями, а уши брадобрея всегда свободны. Каждое утро вместе с другими цирюльниками Тода являлся с докладом в жилище квартального досина. Но в этот раз он прибежал раньше обычного.
– Тода с сыном живут в цирюльне, на втором этаже. Жена умерла прошлой зимой; впрочем, это неважно. Сын вышел на двор по ночной нужде, а вернувшись, разбудил отца и сказал, что перед цирюльней ждет сборщик трупов. Само по себе это было странным: никого из сословия эта в цирюльне не обслужили бы. По словам сына, трупожог умолял о встрече с Тода, причем до того, как Тода отправится с докладом ко мне…
Я выпил саке. Я будто своими ушами слышал, как насмерть перепуганный сборщик трупов просит цирюльника доложить в полицию, что на границе квартала эта обнаружено тело безликого. Будь это обычный каонай, его сожгли бы – и дело с концом. Перед костром обобрали бы, присвоив все мало-мальски ценное. Его и обобрали – эта не слишком брезгливы, когда речь заходит о добыче. Трупожоги и не подумали бы сообщить куда следует о имуществе каонай, но рядом с покойником, спрятанная в холщовый мешок, лежала…
– Маска, Рэйден-сан.
– Маска?
– Служебная маска карпа. Ваш слуга носит такую же.
– Вы уже выяснили, чей это был слуга?
– Ничей.
– Как ничей? Он что, украл маску? Экий мерзавец!
– Это был кандидат в слуги. Он жил в бараке при вашей управе и ждал, пока его выберут. Его с вечера послали в лавку медянщика на улице Отомару – забрать маску, изготовленную по заказу господина Сэки. Маски портятся, теряются, их запас надо возобновлять. Судя по всему, безликий забрал маску, а потом где-то задержался. Квартальные ворота заперли, он пытался пробраться задами, вдоль сточных каналов. По дороге каонай был убит неизвестным.
– Точно убит? Не замерз? Не разорван собаками?!
– Точнее быть не может.
Я выпил еще саке. Доел редьку, бросил себе в миску гречневой лапши. Сейчас я понимал досина. Казалось, надо есть и пить, пить и есть, и истина откроется нам – а может, вся эта нелепая история обернется дурным сном. Второй безликий за два дня? Убиты среди ночи? Кандидат в слуги?!
«…и заняться делом, если я сочту показания досина важными для службы.»
Будь оба каонай слугами дознавателей – или кандидатами в слуги – я бы с уверенностью сказал, что это дело заслуживает самого пристального внимания Карпа-и-Дракона. Но второе убийство могло оказаться случайностью – убийца, вероятно, даже не подозревал о том, что каонай несет с собой служебную маску.
– Предплечье. Живот. Шея.
– О чем вы, Хизэши-сан?
– Так доложил цирюльник со слов трупожога. На теле безликого были обнаружены ранения: предплечье, живот, шея. Кстати, маска покрыта царапинами. Она лежала в мешке, и тем не менее.
– Каонай защищался? Закрывался мешком с маской?
– Похоже на то. Мешок сильно изрезан.
– Вы видели труп?
– За кого вы меня принимаете, Рэйден-сан? Разумеется, нет.
Ну да, конечно. С чего бы квартальному досину глядеть на тело убитого каонай? Он и на живого-то взгляда не бросит. Зато на меня Хизэши бросал взгляды поминутно. И в каждом новом взгляде читалось облегчение – куда большее, чем в предыдущем. Доклад прозвучал, дело безликих спихнули на Торюмона Рэйдена, чье призвание – копаться во всякой грязи. Теперь досин мог забыть о происшествии, которым был вынужден заняться в ущерб своему достоинству и положению.
– Что-то еще, Хизэши-сан?
– Так, пустяки. Не знаю, важно ли это.
– Я слушаю.
– Трупожог, обнаруживший тело, владел грамотой. Он утверждал, что на снегу рядом с телом были начертаны иероглифы. Не доверяя своей грамотности, он перерисовал их, как мог.
– Что там было написано?
– Вот, – Хизэши протянул мне полоску бумаги. – Пусть вас не смутит мой почерк. Я переписал все заново. Трупожог, вне сомнений, старался изо всех сил. Но у меня глаза кровоточили, когда я разбирал его записи.
Это были стихи.
- Мудрый терпелив.
- Каменистое русло
- Ждет первых дождей.
3. «Пока бога не тронешь, он не проклянет[6]»
Сэки Осаму стоял у ворот управы.
Он хмурился, кусал губы, время от времени взмахивал зонтиком, который держал раскрытым. Шел снег, и можно было подумать, что старший дознаватель просто стряхивает пушистую шапку, налипшую на зонтик. Но нет, в движениях его крылось такое подспудное раздражение, что оно даже и не очень-то крылось. Стражники замерли в тени воротных столбов, не рискуя привлечь к себе внимание господина Сэки.
– Рэйден-сан! Подойдите ко мне.
Я подошел. Вернее, подбежал.
– Вы разговаривали с досином Хизэши?
– Да, Сэки-сан.
– Изложите мне содержание вашего разговора.
Я изложил. Кратчайшим образом, чтобы не дразнить тигра. Старший дознаватель – тот еще всезнайка. Итак, безликий, убийство. Маска. Цирюльник, трупожог. Стихи на снегу.
– Стихи?
Взмах зонтика обрушил на мою голову снежный вихрь.
– Простите, Рэйден-сан. Сегодня я особенно неуклюж. Итак, что за стихи?
Я процитировал трехстишие про терпение мудрого. Пока я говорил, я видел сточные каналы и маску карпа в изрубленном мешке. Карп пучил белые глаза, словно из последних сил пытался стать драконом.
– Это уже второй случай, – добавил я. – Рядом с первым убитым каонай также были начертаны стихи.
– Откуда вы знаете?
– Я расспросил своего отца. Он подтвердил, что во время обхода, когда был обнаружен первый труп, видел стихи на снегу.
– Рядом с трупом?
– Да.
– Вам известен текст?
– Да. Отец запомнил стихотворение.
Я процитировал трехстишие про белые слезы неба. Пока я говорил, я видел холодные причалы, груду тряпья и грязную сандалию из соломы. Не знаю, почему сандалия запомнилась мне так остро.
– Это писал один человек?
– Не уверен, Сэки-сан. Я недостаточно сведущ в поэзии, чтобы делать такие выводы. Если позволите, я покажу эти стихи настоятелю Иссэну.
– Хорошо, разрешаю. Почерк один и тот же?
– Нет возможности сравнить. Я побывал в местах, где совершились убийства. Снег смерзся, люди затоптали иероглифы. Не осталось ничего, что я бы смог прочесть.
Сэки Осаму плотнее завернулся в накидку. Хорошую накидку из плотной ткани, на ватной подкладке. Когда я стану старшим дознавателем, куплю себе такую. И шапку куплю, чтобы уши не мерзли.
– Вы полагаете, оба убийства совершил один человек?
– Да.
– Нам следует опасаться за жизнь наших слуг?
– Не думаю. Им достаточно носить маски, чтобы оставаться в безопасности. Похоже, убийца не склонен привлекать к себе лишнее внимание.
– Кандидаты в слуги?
– Их жизнь в опасности. Кто-то убивает безликих, а кандидаты ничем не отличаются от других каонай. Пусть не выходят в город после наступления темноты. Хочу добавить, что убийств могло быть больше, чем два.
– Поясните вашу мысль.
– Если бы не служебное рвение моего досточтимого отца, первый труп сожгли бы без доклада. Если бы не маска в мешке, мы бы ничего не узнали о втором трупе. Из этого я делаю вывод об убийствах, какие были совершены без огласки. Во всяком случае, я допускаю такую возможность.
– Каким образом погибли оба известных нам безликих?
– Свидетели говорят о ранениях, нанесенных лезвиями. Крестьянские орудия труда, такие, как серп, я исключаю. Крестьяне не складывают стихи. Значит, нож, топор, тесак.
– Меч.
– Что?!
– Меч, Рэйден-сан. Стальной меч. Вы слыхали о пробе меча?
– Нет, Сэки-сан.
Брови старшего дознавателя, седые не по годам, сошлись на переносице. В этом не было осуждения или раздражения, как нет их в снеге, налипшем на зонт. Что же здесь было? Беззлобная зависть пожилого мужчины, когда он глядит на юношу и завидует его святой наивности; зависть и сожаление о том, что время летит стрелой.
– Ну да, вы еще так молоды. Не смотрите на меня, как на святого, достигшего бессмертия, я тоже не застал те времена. Никто из ныне живущих не застал. Но я слышал от своего деда, что прежде, до того, как будда Амида осчастливил нас своим даром, самурай мог без причины зарубить крестьянина или бродягу. Просто так, чтобы опробовать на нем свой новый меч. Цудзигири, «смерть на перекрестке».
– Ваш почтенный дед пробовал свой меч таким образом?!
Мне было холодно. Стало жарко.
– Нет. Он тоже был слишком молод для этого. Но отец моего деда практиковал цудзигири, о чем не единожды рассказывал сыну. В нашей семье эта история передается из поколения в поколение. Вы спросите, уверен ли я в правдивости этой истории?
– Разве я осмелился бы?
– На семейном алтаре хранится меч прадеда. На хвостовике клинка стоит число «пять». Это количество людей, убитых прадедом во время «смертей на перекрестке». Дед говорил, что мечи пробовали и на трупах, привязанных к столбу. Но разрубленные трупы и убитые люди по-разному отображались на мечах.
– Каонай – не люди!
Старший дознаватель одарил меня кривой ухмылкой:
– Да, я тоже полагаю, что наш убийца не станет украшать свой меч числом зарубленных безликих. Это, конечно, если у него есть меч и он его действительно пробует, не рискуя нарваться на фуккацу. Вашу версию про топор или нож мы не станем отметать. Сказать по правде, она выглядит разумнее, чем моя.
– Разрешите проверить?
– Каким образом?!
Я рассказал, каким. Господин Сэки задумался.
– Ну что же, – наконец произнес он. – В вашей идее есть здравый смысл. Считайте, что я разрешил. Между нами, Рэйден-сан… Никто в управе не хочет заниматься делом убитых каонай. Я и сам не хочу, но вынужден. Да, я могу приказать. Тем не менее, я уведомляю вас: лучше откажитесь сразу, если вам омерзительна вся эта история. Саботажа я не потерплю. В случае вашего отказа к вам не будет применено никакого наказания.
Я шагнул ближе:
– Кто займется этим делом в случае моего отказа?
– Я, – ответил Сэки Осаму. – Лично я.
– В таком случае я продолжу следствие по этому делу. И приложу все усилия, чтобы раскрыть его в кратчайшие сроки.
Он долго молчал.
– Благодарю вас, Рэйден-сан, – сказал господин Сэки. – Возьмите зонтик, вам далеко идти.
– А как же вы?
– У меня есть второй, в управе. Я вернусь за ним.
Он шагнул от ворот к зданию управы. И тут я отважился на дерзость:
– Прошу прощения, Сэки-сан! Если позволите, я бы хотел спросить о каонай. Зачем нам, дознавателям, нужны безликие слуги? Уверен, это знание помогло бы мне при расследовании.
Зонтик в руке потяжелел. Еще не слыша ответа, я уже понимал, каким он будет.
– Нет, Рэйден-сан. В деле об убийствах безликих это знание вам не понадобится. Вы молоды, а это знание сильно отягощает жизнь дознавателя. Еще больше оно отягощает отношения дознавателя со слугой. Вы узнаете правду, но позже. И поверьте, что я поступаю так из самых добрых побуждений.
И он добавил, прежде чем уйти:
– Существует большая вероятность того, что это знание вам не понадобится вообще никогда. Многие дознаватели так живут, Рэйден-сан. Имейте в виду: пока бога не тронешь, он не проклянет.
Я смотрел ему вслед. Хмурился, кусал губы. Взмахивал зонтиком. Наверное, сейчас я был очень похож на господина Сэки в начале нашего разговора.
Красные столбы ворот. Золоченый герб.
Карп и дракон.
Стражники не спешили выходить из тени.
4. «Записки на облаках», сделанные в разное время монахом Иссэном из Вакаикуса
Пьеса «Битва при Сэкигахаре» с успехом исполняется многими труппами Кабуки. Но только труппа под руководством уважаемого Тинкэна Гокути отважилась исполнить эту пьесу так, как написал ее я, недостойный инок – от начала до конца, включая финал. Остальные исполнители финал опускали, закрывая занавес на ликующей сцене битвы.
Я понимаю их. Когда возбуждение зрителей достигает предела, публику мало интересуют сомнения и двусмысленности. Поэтому я дважды и трижды благодарен уважаемому Тинкэну за его отвагу и преданность.
Позвольте развлечь вас финалом, опуская всю прочую пьесу. Недобрые чувства – позор для монаха, но пусть это будет моя маленькая месть всем тем, кто развлекал вас пьесой без финала.
- Дух Кэннё:
- Я – дух инока Кэннё,
- чей жалкий прах развеян над морем.
- Рад был я спать в неведении,
- рад забыться в покое,
- оставить колесо рождений.
- Что же тревожит меня?
- Что возвращает в суетный мир?!
- Дух меча:
- Я – дух твоего меча,
- твоего верного меча,
- выкованного умельцем Мурамасой
- в стиле хира-дзукури,
- длиной в один сяку, один сун и еще два бу[7].
- Я бы вспорол твой живот,
- Сочтя это за великую честь,
- да будда Амида помешал.
- Я покоюсь на алтаре Вакаикуса
- рядом с твоей поминальной табличкой,
- ложной табличкой с детским именем.
- Я призвал тебя в мир живых,
- чтобы ты знал,
- чтобы ты видел,
- чтобы ты содрогнулся от величия битвы.
- Дух Кэннё:
- О, мой меч!
- Мой верный спутник,
- темная сторона моей души!
- Что за битва грядет,
- если духи следят за ней?
- Дух меча:
- При Сэкигахаре,
- жалкой деревне в горной долине,
- сошлись войска Токугавы Иэясу,
- чья доблесть пугает небеса,
- и молодого сёгуна Оды Нобукацу,
- наследника грозного Оды Нобунаги,
- чей дух мне не удалось разбудить,
- так крепко он спит,
- умаявшись от битв и сражений,
- от смерти и воскресения, и снова смерти.
- Дух Кэннё (хлопает в ладоши):
- Я вижу!
- О, я вижу!
- Вот знамена красные и черные,
- стяги с гербами полководцев,
- вот холмы и речные берега.
- Дождь хлещет по самураям,
- пар идет от доспехов.
- Воины уподобились дождю,
- хлещут друг друга плетьми,
- кнутами и нагайками,
- Колотят друг друга палками,
- руками и ногами.
- Никто не хочет убить врага,
- отделить его голову от тела.
- Фуккацу!
- Славься, будда Амида!
- Должно быть, это последняя битва в истории.
- Дух меча:
- Должно быть, так.
- И я скорблю по былым временам,
- вспоминаю вкус крови.
- Твоя кровь была последней,
- какую я испробовал.
- Дух Кэннё:
- Да, я порезался, мой славный меч,
- порезался о твой клинок.
- Но скажи мне, кто победит,
- кто одержит верх в этой битве,
- сражении при Сэкигахаре?
- Дух меча:
- Ха! Кто бы спрашивал?
- Я – дух твоего меча,
- твоего верного меча,
- выкованного умельцем Мурамасой.
- Все мечи Мурамасы таили злость,
- таили лютый гнев,
- несли проклятье роду Токугавы!
- Моим братом порезался князь Иэясу,
- мятежный князь, восставший на сёгуна,
- один раз порезался и второй.
- Моим братом был убит дед Иэясу,
- моим братом отсекли голову сыну Иэясу,
- мой брат тяжко ранил отца Иэясу,
- жаль, что не убил.
- В ответ князь Токугава объявил охоту,
- облаву на «тысячу братьев»,
- детей кузнеца Мурамасы.
- Собирал нас по всей провинции,
- ломал, щербил, терзал ржавчиной,
- обломки швырял в воду,
- зарывал в землю,
- топтал ногами.
- Проклятье роду Токугавы!
- Искал он меня, да не знал,
- где я прячусь.
- Я разбудил тебя, последний мой господин,
- воззвал к твоему духу,
- чтобы вместе с тобой насладиться,
- вкусить позор Токугавы Иэясу.
- Гляди!
- Увидим его поражение,
- сокрушенные его колени,
- сломанные его локти,
- преклоненную его голову.
На сцену вбегает воин Миямото Мусаси.
- Миямото Мусаси:
- Я – самурай из деревни Миямото,
- бился я за сёгуна против мятежника,
- махал деревянными мечами,
- ломал руки и ноги врагов.
- Победа!
- Великая победа!
Делает круг по сцене, удаляется.
- Дух Кэннё:
- Каждый проклят по-своему,
- у каждого свои страдания.
- Я порезался тобой, мой верный меч,
- пролил кровь перед буддой Амидой.
- Не было мне покоя при жизни,
- нет и после смерти.
- Зачем ты разбудил меня, о меч?
- Зачем призвал?
- Что за радость смотреть на битву,
- что за радость знать победителя,
- знать побежденного?
- И впрямь демон живет в тебе,
- о меч, буйный мой меч!
- Дух меча:
- Спи, господин!
- Спи, святой бодисаттва!
- Не призову я тебя больше.
- Засну и я,
- буду спать долго, вечно,
- пока не умрет демон, обитатель клинка,
- пока не кончится память.
Глава третья. Два меча и двое отшельников
1. «У меня нет лица»
– Никуда ночью не выходи, понял?
– Да, господин. А по нужде?
– Я имею в виду, не выходи со двора. И вообще, если выходишь в город, всегда надевай служебную маску. Утром, днем, вечером: все равно.
– Я всегда надеваю ее, когда сопровождаю вас.
– Надевай, даже если не сопровождаешь. Никаких тряпок, только маска.
– Да, господин.
Когда я вошел в сарай, служивший Мигеру жилищем, он кинулся за тряпкой и стал торопливо обматывать голову, скрывая лицо – вернее, то, что заменяло ему лицо. Маска лежала дальше, тряпка первой подвернулась Мигеру под руку. Сказать по правде, он опоздал – краем глаза я успел увидеть серую массу, лишь отдаленно имевшую сходство с чертами обычного человека, и удивился собственному равнодушию.
Привык, что ли? Мигеру редко открывал лицо при мне, это были случайности или оплошности, но я-то знал, что скрывает маска или тряпка. Похоже, этого мне хватило для привычки.
– Слышал про убийства таких, как ты?
– Они не такие, как я, господин.
– Вот как? Ты лучше?
– Нет.
– Так чем же они отличаются от тебя?
– Они беспомощны. Даже тот, который защищался маской. Мне жаль их, господин. Но если мне суждено погибнуть во второй раз, я умру иначе.
– Во второй раз ты умрешь просто так. Я имею в виду, без фуккацу. Ты об этом?
– Нет.
Поди пойми, о чем он.
«В деле об убийствах безликих, – сказал господин Сэки, когда я спросил его о наших слугах, – это знание вам не понадобится. Вы молоды, а это знание сильно отягощает жизнь дознавателя. Еще больше оно отягощает отношения дознавателя со слугой.»
Днем я отправил посыльного к старосте трупожогов. Приказал докладывать мне – или в управу, если меня не найдут – обо всех случаях обнаружения убитых каонай. Даже если на трупах не будет видимых повреждений – все равно докладывать. Тела не жечь до особого распоряжения. За попытку утаить найденное тело безликого или его имущество – строго накажу.
Посыльный вернулся, доложил, что староста все понял.
– Что ты делал? Чинил одежду?
– Чинил клюку, господин.
– Ты возишься с ней, как с родной дочерью.
– Она неудобная, господин.
– Сделай удобную.
– Удобные мне запрещено носить. Каонай нельзя иметь оружие. А эта… Сколько ее ни чини, она не станет такой, к каким я привык.
– Так зачем ты возишься?
– Если мне суждено погибнуть во второй раз, я умру иначе. Я уже говорил вам, господин.
В сарае было темно, тесно и холодно. У нас везде тесно, везде холодно – и почти везде темно – но в сарае это ощущалось с особенной остротой. Земляной пол затвердел, смерзся. Казалось, он дышал: от этого дыхания у меня ныли икры, а пальцы ног поджимались сами собой. Осенью я подарил Мигеру пару старых циновок, но с наступлением холодов безликий перестал спать на полу и соорудил себе дощатую лежанку: низенькую, до колена, и узкую как лавка. Лежанку он застилал обеими циновками, рядом ставил жаровню, где жег щепу и угольный сор, и заворачивался в стеганый халат, предназначенный для сна в холодные сезоны – драный, выцветший, но еще теплый. Поверх халата Мигеру укрывался накидкой из соломы. Дверь он оставлял приоткрытой: да, снаружи задувал ветер, но в сарае не было окон. От дыма, курившегося над жаровней, в тесной, как гроб, пристройке легко угореть, это я понимаю. Рассчитывать, что дым уйдет в щели между досками стен, Мигеру боялся и правильно делал.
Одежду, которую он не носил, мой слуга заворачивал в платок и клал в углу на груду хлама, снесенного в сарай мной и отцом. Впрочем, сколько той одежды? Все, что я ему дал, Мигеру с наступлением зимы надевал на себя. Тело его не боялось холодов, я видел, что слуга не дрожит, даже когда меня самого бил озноб. Но разум – или дух, не знаю – привык к жизни в более жарком климате. Разум криком кричал, что мерзнет, и хватит, спор закончен.
– Сними тряпку, – велел я.
– Надеть маску, господин?
– Нет. Просто сними тряпку.
Мигеру подчинился. Сарай освещал крохотный фонарь, света он давал мало, но я видел все, что хотел увидеть. Серая кожа в морщинах. Носовые щели. Третья щель: рот. Глаза тусклые, узкие сверх меры, без ресниц и бровей. Да, я привык. Ни желания прогнать, ни желания ударить. Но я приказал Мигеру снять тряпку не для этого.
– Никуда ночью не выходи, понял?
– Вы уже говорили, господин.
– Это неважно. Отвечай!
– Да, господин. А по нужде?
Он дословно повторил свой первый ответ. Скрытая насмешка? Неважно. Повторил он, повторю я.
– Не выходи со двора. Если выходишь в город, всегда надевай служебную маску.
– Я всегда надеваю ее, когда сопровождаю вас.
– Надевай, даже если не сопровождаешь.
– Да, господин.
– Никаких тряпок, только маска.
– Да, господин. Можно вопрос?
– Спрашивай.
– Зачем вы приказываете то, что уже приказали? Зачем вы выслушиваете мои ответы, которые вам уже известны? Это какая-то шутка?
Ага, не один я усмотрел в происходящем насмешку.
– Нет, это не шутка. Я хотел понять, смогу ли я прочесть что-нибудь на том, что служит тебе лицом. Раздражение, подчинение, недоумение. Какое-нибудь чувство, понял? У всех людей чувства отражаются на лицах, знаешь?
– У меня нет лица.
– Это правда.
– Вы сумели что-нибудь прочесть, господин?
– Да.
– Что?
– Ты изумлен моим поступком. Ты хотел уязвить меня, но передумал. А сейчас ты снова изумлен.
– Да, господин. Зачем вам это надо?
– Не знаю. Думаю, если я сумею распознать чувства на лице каонай, то распознавать их на лицах обычных людей мне станет гораздо проще. В дальнейшем, когда мы наедине, можешь не скрывать лицо. Но только если мы наедине!
– У меня нет лица. Ни у кого из каонай нет лица.
– Не лови меня на слове. Все, я пошел.
– Спать, господин?
– Нет, у меня встреча.
– В такое позднее время? Я иду с вами.
– Ты останешься дома. Это личная встреча, она не касается службы.
– Я…
– Молчи! Ложись спать.
– По городу бродит убийца, господин.
– Он убивает только безликих. Из нас двоих рискуешь ты, не я. Я в безопасности и не нуждаюсь в няньке.
– И все-таки…
– Ты безликий или безмозглый? Кому я велел сидеть дома по ночам?! Дважды, а?! Оба раза ты сказал, что подчиняешься, и что? Ты лгал мне?! Спать, кому сказано!
– Да, господин. Я ложусь спать.
Я вышел из сарая. Только Мигеру мне не хватало! Если мы с Ясухиро-младшим собираемся подглядывать за сенсеем, то лучше обойтись без свидетелей.
Хлопья снега падали мне на плечи.
– Эй, Мигеру!
Каонай был удивлен, что я вернулся, но виду не подал. И лица скрывать не стал. Молодец, запомнил.
– Что, господин?
– В каком доме ты жил раньше?
– Где придется, господин. Случалось, ночевал под открытым небом.
– Я имею в виду, до твоей смерти. В прошлой жизни, а? Это был хороший дом?
Тени от фонаря превратили его безликость в почти человеческое лицо.
– У меня было несколько домов, господин. В Мадриде, Севилье… Вилла на побережье близ Малаги. Я был богатым человеком, господин.
– Твои дома… Какие они, если сравнивать с нашим?
– Я не хочу обидеть вас, господин. Я вполне доволен этим жилищем.
– Обидеть?
– Боюсь, многие из вашей знати обиделись бы, начни я сравнивать их жилье с моим.
Вот ведь мерзавец! Раньше я бы ударил его плетью, а сейчас просто вышел. И больше не возвращался.
2. «Опаска – наше второе имя»
Гром и молния!
Уже возле дома семьи Ясухиро я запоздало сообразил: ворота между кварталами скоро закроют. Как мне возвращаться домой? Мальчишкой я, бывало, тайком перебирался через стены, разделявшие кварталы. Пару раз это случалось, когда я заигрывался с приятелями до темноты, но чаще я просто искал себе приключений на задницу. Кто ищет, тот найдет: однажды я по ошибке спрыгнул в чужой двор со злющей собакой, которую никто не удосужился привязать. Еле ноги унес! Штаны, кстати, унес лишь частично, за что дома получил по первое число. После этого я прекратил опасное озорство, но уяснил: да, из квартала в квартал можно перейти, минуя ворота. Кое-где даже через стены и заборы лазить не нужно: есть укромные лазейки…
Когда я подкатился на этот счет к отцу, изъясняясь хитрыми окольными намеками – ну, так мне казалось по наивности да малолетству – отец, против обыкновения, не нахмурился, не прогнал меня, а снизошел до объяснений. Стены между кварталами, сказал он, сдерживают тайных любовников, припозднившихся гуляк и дебоширов. Стены приучают людей к порядку. Не засиживайтесь, значит, допоздна, не шляйтесь где ни попадя, а спешите домой до закрытия ворот.
– И всего-то? – протянул я с разочарованием. – Я-то думал, стены от воров и грабителей…
И от них тоже, согласился отец. Если ты молод и ловок, перелезть через стену – что дважды переобуться. Но не все грабители молоды, не все контрабандисты проворны. Попробуй-ка, заберись на стену с узлами награбленного или с мешком контрабандного товара!
Короче, стены – и от преступников тоже.
Мне, конечно, и сейчас через стену перелезть – пустяк. Но что годится для мальчишки с ураганом в голове, не пристало дознавателю, пусть даже и младшему. Придется воспользоваться своими полномочиями. Служебные гербы – вот они, на зимнем, подбитом ватой хаори[8]. И грамота у меня при себе. В конце концов, я по служебному делу иду!
Это я Мигеру сказал: личная встреча, не касается службы. И Цуиёши тоже так думает. А я знаю, как легко личное дело превращается в служебное. Спросите, как?
Вот-вот, как дважды переобуться.
Цуиёши ждет меня на углу, в тени корявой сосны-карлицы, укрытой снежной шапкой. Сюда не достает свет луны и масляного фонаря над входом в усадьбу. Должно быть, сын сенсея думает, что его совсем не видно, и зря: темная фигура отчетливо вырисовывается на фоне стены, покрытой свежей побелкой, и земли, укрытой снегом. Точь-в-точь мстительный дух самурая из театра теней! Я, может, боец так себе, но зрение у Торюмона Рэйдена как у ловчего сокола. Будь я на месте Цуиёши, и даже не я, а лазутчик-ниндзя – оделся бы в светлое, а лучше в белое.
– Добрый вечер, Цуиёши-сан.
– Добрый вечер. Идемте! Отец уже приступил…
«К чему?» – хочу спросить я. Нет, не спрашиваю, прикусываю язык. Сейчас сам все увижу.
В ворота мы не заходим. Цуиёши ведет меня в обход. Я стараюсь не производить лишнего шума, но снег предательски скрипит под моими соломенными дзори, подбитыми изнутри плотной тканью. Под ногами моего проводника снег скрипит еще громче, но сына сенсея это, похоже, совершенно не волнует. Навстречу выйдет бдительный слуга? Ну и что? Почему бы младшему господину не привести в дом гостя? Выпить чаю, поговорить о высоком – к примеру, об ударах в голову, требующих особой осторожности?
Вот и задняя калитка.
В саду петляет змея-дорожка с чешуйчатой галечной спиной. Здесь снег расчистили с особым тщанием. Мы идем к дому, темнеющему за деревьями. На полпути Цуиёши останавливается, оборачивается, прикладывает палец к губам.
Теперь не шуметь, понимаю я.
Лицо Ясухиро-младшего хмурое, глаза блестят, как у больного лихорадкой. Ну да, одно дело – пригласить к себе гостя, и совсем другое – привести в усадьбу чужого человека, чтобы подглядывать за отцом. Ужасный поступок для сына и наследника. Но другого выхода Цуиёши, похоже, не видит, выбирая меньшее из двух зол.
Крадучись мы пробираемся вглубь сада, прочь от дома. Петляем между старыми сливами и валунами, укрытыми снегом. Мой слух ловит странные звуки: притоптывание, глухое и неравномерное, тихий свист, хруст. Снова топают: раз, два. Звуки нам на руку. Мы стараемся двигаться как можно тише. Когда нам это не удается, я молю богов, чтобы свист и хруст – кто бы их ни производил! – заглушили нашу неосторожность.
Сейчас я жалею, что согласился на приглашение Цуиёши.
Цепляю макушкой ветку дерева. За шиворот сыплется колючая снежная пыль. По спине пробегает стадо знобких мурашек. Впереди – большущий куст; он кажется мне плоским, словно куст нарисован мазками черной туши на листе бумаги. Цуиёши становится на четвереньки, подбирается к кусту, выглядывает с превеликой осторожностью. Я следую его примеру. Ноги коченеют от холода, штаны мокры от подтаявшего снега. Добираюсь до куста – вблизи тот обретает объем – пристраиваюсь рядом с Цуиёши.
Площадка для упражнений втрое больше нашей. Она ярко освещена. Четыре масляных фонаря горят по углам, словно две пары глаз исполинских котов-оборотней. Еще луна, да.
По площадке движется человек. Стремительный рывок – и он замер, притопнув. Под ногами медленно оседает искрящееся облачко. Свет фонарей и луны сияет холодным пламенем на двух мечах: коротком и длинном.
На двух стальных мечах!
Высверк, словно полыхнула молния. Один, другой. Человек? Вихрь, яростный демон, Черный О́ни с огненными когтями. Клинки размазываются блестящими веерами, их уже не различить. Черный О́ни скользит с плавной стремительностью змеи. Вправо, влево, по кругам, вперед…
Знакомый свист. Звук, похожий на всхлип. На землю, под ноги демону, валится темный предмет, похожий на часть косо срезанного бревна. Ничего себе! Сенсей перерубил бревно одним ударом?! Обрубок катится по снегу, разворачивается. Да это не бревно! Это циновка, плотно скрученная в рулон. Четыре таких же рулона торчат, насаженные на бамбуковые шесты, вдоль края площадки.
Четыре целых. Два срубленных.
Стучит сердце. Наверное, меня слышно в Эдо. Пять-шесть ударов, и статуя, в которую превратился Черный О́ни, оживает. Скользит по бугристой площадке, как по гладкому полу додзё. Клинки вспыхивают, ловя огонь фонарей. Мне с трудом удается распознать «выбить пыль слева», «выбить пыль справа», «прихлопнуть муху на лбу», «сбросить котомку» и «насадить рыбу на вертел». То, что творит Ясухиро с мечами из острой стали, мало похоже на удары палкой или даже деревянным боккэном.
Выходит, так сражались в старину?
Пляшет Черный О́ни. Обмахивается призрачными веерами. Жарко демону в морозную ночь. Свист. Хруст. Всхлип. Третья циновка разваливается надвое.
Цуиёши трогает меня за плечо. На четвереньках мы пятимся от куста, укрывшего нас. Опаска – наше второе имя. Встаем под деревом, откуда площадка, считай, не видна.
Тихо идем прочь.
3. «В него словно злой дух вселился!»
– Ваш отец упражняется со стальными мечами?!
Я спрашивал об очевидном. Должно быть, Цуиёши счел меня глупым молокососом, но когда мы наконец выбрались за пределы усадьбы, молчать я уже не мог. Чтобы справиться с потрясением, мне требовалось время. А я давно заметил: пока язык мой мелет всякую чушь, разум успевает собраться с мыслями.
Мы отошли от усадьбы на добрых полсотни шагов. Остановились в тупике, с трех сторон стиснутом глухими заборами. Здесь можно было не опасаться, что нас кто-нибудь услышит. Впрочем, говорили мы оба шепотом, словно на каждом заборе сидело по соглядатаю.
Цуиёши пожал плечами:
– Он и раньше с ними упражнялся.
– Что же тогда изменилось? Почему я должен был это увидеть? Если ваш достопочтенный отец и раньше…
– Мой отец увлекался сталью крайне редко. Раз-два в месяц, не чаще. С такими мечами он двигался…
Цуиёши запнулся, поискал нужное слово:
– Осторожнее. Он двигался гораздо осторожнее. Циновку разрубил лишь однажды, позапрошлым летом. Теперь он упражняется каждый вечер, до глубокой ночи! Днем – с боккэнами, вечером – со стальными мечами. Только этим и занят. В него словно злой дух вселился!
Осознав, что кричит, Цуиёши резко умолк.
– Вселился? Да, я вас понимаю. Тут недалеко до мысли о фуккацу. Напрашивается само собой: ваш отец убил кого-то в поединке, на стальных мечах или ином оружии. Теперь в теле вашего отца обитает другой человек.
– Да.
Безвестный боец, думал я. Случайно погиб от руки главы школы, занял его тело. Не спешит с заявлением в службу Карпа-и-Дракона? Разумно. Если он сумеет скрыть факт фуккацу, то сможет занять место уважаемого человека. Обретет положение и достаток, возглавит школу. Признайся он, и кто станет учиться у мастера без имени и репутации? Да еще и проигравшего бой сенсею Ясухиро?!
Есть ради чего рисковать.
Вот и упражняется днями и ночами. Оттачивает свое мастерство, чтобы никто не заметил подмены, когда он вернется в додзё. Строит из себя нелюдима, чтобы ненароком не выдать себя.
– Скажите, Цуиёши-сан… Когда у вашего отца начались странности, на нем не было свежих ран?
Цуиёши хмурится, морщит лоб. Трет пальцем подбородок.
– Насколько я могу припомнить, нет. Возможно, он сумел их скрыть?
– Серьезную рану не скроешь.
Конечно, Ясухиро мог убить своего противника, не получив ранений. Но тогда противник – боец слабый. Зачем сенсей ввязался в поединок с ним? Почему убил, зная о последствиях фуккацу? Случайно? Я не верил в такие случайности. Кроме того, если в теле сенсея живет убитый им – он отлично владеет мечом, тут спору нет.
Двумя мечами!
«…Искусство боя парой стальных мечей утеряно. То, что сохранилось, недостоверно. То, что известно мне, скорее догадки и предположения. Теория без практики мертва. Лягушка в колодце не знает большого моря. Только бой насмерть способен подтвердить или опровергнуть мои суждения, но бой насмерть в моем положении исключен. Убить кого-то ударом «ласточкиного хвоста», выяснить, что был прав, и унести это знание в ад?»
Я хорошо помнил слова сенсея.
– Цуиёши-сан, – вопрос рождался сам собой по мере того, как губы и язык произносили слова, вылетавшие наружу облачками пара. – Вы ведь и раньше наблюдали, как ваш отец упражняется с мечами?
– Да, много раз.
– С двумя мечами?
– Да.
– Как вы считаете, его стиль изменился? Манера ведения боя? Сенсей двигается так же, как прежде, или по-другому?
Цуиёши превратился в статую с широко вытаращенными глазами. В иной ситуации это рассмешило бы меня, но только не сейчас. Конечно, он даже не дал себе труд задуматься об этом! Снедаемый тревогой и подозрениями, не сопоставил действия отца-прежнего и отца-нынешнего. Сам мастер и учитель, Цуиёши с легкостью мог бы это сделать, но столь очевидное решение просто не пришло ему в голову!
Воистину, часто не видишь того, что у тебя под носом.
– Какой же я глупец! – Ясухиро-младший звонко хлопнул себя ладонью по лбу и расхохотался. Смех его напоминал смех безумца. – Как я сам не сообразил?! Конечно же, это мой отец! Его движения стали быстрее, резче, но это его движения! Ни малейших сомнений!
Он поклонился мне – низко, так низко, как на моей памяти не кланялся никому, даже отцу.
– Тысяча благодарностей, Рэйден-сан! Сто тысяч благодарностей! Вы сорвали повязку с моих глаз! Теперь я ваш должник!
Сказать по правде, я растерялся.
– Не преувеличивайте мои скромные заслуги, Цуиёши-сан. Я всего лишь направил ваше внимание в нужную сторону. Все остальное вы сделали сами.
– Без вас я бы весь извелся! Отец, не отец… Да у меня гора Фудзи с плеч упала! Я не знаю, что на отца нашло, почему он забросил школу, но разве это теперь важно?!
Важно, ответил бы я, если бы не счел за благо промолчать. Вместо ответа я вспомнил то, что предложил недавно господину Сэки. «В вашей идее есть здравый смысл, – согласился старший дознаватель. – Считайте, что я разрешил.»
– Завтра, Цуиёши-сан, я бы хотел встретиться с вашим уважаемым отцом.
– По личному делу?
– Нет, по служебному. Вы устроите нам эту встречу?
4. «Ичи, Ни и Китаро»
– Иссэн-сан, вы святой, воплощенное милосердие. Вы живой бодисаттва, явленный нам в трудные времена. Я заранее прошу простить меня, если мои вопросы покажутся вам назойливыми либо слишком личными.
– Спрашивайте, Сэки-сан. И умоляю вас, перестаньте испытывать мою скромность. Она скоро рухнет ничком под тяжестью ваших незаслуженных похвал.
– В лесу западнее храма Вакаикуса, за бамбуковой рощей и ручьем, есть хижина. Вы знаете, кто там жил?
– Да, разумеется. Раньше там жили рубщики бамбука. Но они оставили наши места, перебравшись в Огару. После рубщиков в хижине поселились двое каонай, мужчина и женщина.
– Вам известно, кем они были до смерти?
– Нет.
– Вам известно, как их звали при жизни?
– К сожалению, нет.
– Вы сожалеете об этом?
– Да.
– Почему?
– Не знаю. Я молился за них, как молятся об умерших. Знай я их имена, мне было бы проще молиться. Думаю, в этом причина сожаления.
– Как их звали вы?
– Мужчину я звал Ичи – один, то есть первый. Он действительно появился в хижине первым. Женщину я звал Ни – два, то есть вторая. Как видите, я не был слишком изобретательным. Когда у них родился ребенок, я назвал его Китаро. Родители не были против.
– Почему не Сан, что значило бы «три»?
– Ребенок не был безликим. Вам известно, Сэки-сан, что у каонай бывают дети? Эти дети ничем не отличаются от обычных детей. Они заслуживают имен, какие приняты у живых людей.
– Да, мне это известно. Также мне известно, что власти забирают детей у каонай и передают на воспитание семьям, какие изъявят желание взять приемного сына или дочь. Это известно и вам, святой Иссэн.
– Вы правы. Это известно всем, даже бродячим собакам. Именно поэтому семья безликих, обосновавшаяся в хижине рубщиков, скрывала ребенка от властей. Они боялись, что его отберут.
Не только Рэйден ходил ночами по городу, когда ворота закрыты, а стража бодрствует. Ходили и другие, а кое-кто умел даже выбираться за городские стены, минуя караулы, и возвращаться обратно, не имея на это разрешительной грамоты.
Надо спешить, думал Мигеру. Я и так уже потерял кучу времени. Сегодня я уговорю их оставить хижину и перебраться в город. Это слишком опасно. Мы пойдем в управу, они подадут прошение о включении обоих в число кандидатов для служения. Ребенок? Да, ребенка отберут. Отдадут в чужую семью. Ничего, вряд ли жизнь там будет хуже его нынешней жизни. Или смерти от голода и холода, если ночной убийца доберется до родителей. Странно, что он вообще так долго медлит – в лесу тихо, безлюдно, они просто идеальный выбор для убийства.
Два часа Мигеру просидел в сарае, ожидая, пока вернется мальчик. Мальчиком он втайне, не выказывая это ни жестом, ни словом, звал молодого господина. Мигель Хосе Луис де ла Роса вкладывал в это слово меньше презрения и больше тепла, чем показалось бы на первый взгляд. В Испании у него остался сын тех же лет, что и юный самурай. Самоубийство – смертный грех, но Мигеру (никакого Мигеля, Мигель умер!) с радостью согласился бы на вечные адские муки, лишь бы память о сыне стерлась из его разума навеки. Впрочем, адские муки в любом случае гарантированы несчастному капитану, который слишком хотел жить – так хотел, что забыл о долге христианина и чести hidalgo[9]. Надежда на искупление? Прогулка по зыбучим пескам. Рассчитывать на удачу, на то, что именно тебе выпадет заветная карта – глупая самонадеянность.
Мигеру ускорил шаг.
По возвращении мальчик мог заглянуть в сарай и обнаружить отсутствие слуги. Поэтому Мигеру следил за домом и сбежал лишь тогда, когда молодой господин уснул.
Портовые трущобы. Сточные каналы.
Патруль под командованием отца молодого господина. Спрятавшись в тени барака, где селились моряки с кораблей, вставших под разгрузку, и рабочие доков, Мигеру обождал, пока стражники не пройдут мимо, после чего продолжил путь.
Если бы ему сказали, что он в точности повторяет маршруты первого убитого каонай («Белые слезы неба…») и второго («Терпение мудрого…»), Мигеру удивился бы, но не повернул обратно. Как все испанцы, он был суеверен. Только какой он теперь испанец?
Снег усилился.
В прошлом – кратком прошлом его новой жизни – Мигеру не раз гулял мимо ближних застав Акаямы, оставаясь незамеченным. На первых порах это было трудновато, он чуть было не попался раз-другой, но позже это превратилось в детскую забаву. Став слугой, он утратил необходимость скрытных перемещений, но не утратил навыков. От Северного поста, где дремали ночные стражники, а кое-кто даже храпел, распугивая галок и ворон, Мигеру свернул направо, в гору. Ветер трепал кроны дубов и кленов, росших по обочинам, стряхивал вниз морозную пыль.
Скоро храм.
Сейчас он шел третьим маршрутом, который легко мог бы стать пищей для суеверий. С каждым шагом Мигеру повторял дорогу похоронной процессии, несущей гроб бабушки Мизуки, и не знал об этом. Не знал он и о том, что живет бок о бок с покойницей, зовя ее отцом молодого господина. В семью Торюмон он попал позже истории с «аптекарским фуккацу». Никто бы не стал делиться со слугой-каонай этой историей, а самому Мигеру и в голову бы не пришло спрашивать о таком.
Между деревьями мелькнула крыша храма. Красная днем, при свете солнца, зимней ночью она была черной. Как кровь, подумал Мигеру. Да, как кровь.
Ему показалось, что он слышит крик.
Глава четвертая. Бамбуковая роща
1. «Ичи, Ни и Китаро» (продолжение)
– Иссэн-сан, вы содержали эту семью безликих?
– Мою жалкую помощь трудно назвать содержанием. Временами я делился с ними едой. Случалось, дарил одежду. Разрешал брать дрова из храмовой поленницы, но они никогда не делали этого. Напротив, Ичи не раз рубил дрова для наших нужд. Так он хотел отблагодарить меня за скромные подарки. Женщина приходила стирать – поздно вечером, когда ее не могли увидеть прихожане. Она забирала корзину с грязным бельем и шла к реке. Она очень хорошо стирала, мне самому никогда не удавалось добиться таких превосходных результатов. Что уже говорить о послушниках!
– Они знали?
– Да.
– Безликие омерзительны для всех. Вы – живой бодисаттва, огонь сострадания. Поэтому я не спрашиваю, почему эта семья вызвала в вас чувства, столь редкие для окружающих.
– А вы спросите, Сэки-сан. Спросите и я отвечу.
– Почему же?
– Я увидел, как они рисуют лица.
– Что? Поясните ваши слова.
– Каждое утро они рисовали друг другу лица. Глаза, рот. Румянец на щеках. Складку на переносице. Да, это мало походило на обычное человеческое лицо. И все-таки они делали это.
– Безумие! Ни один человек в Акаяме не обманулся бы этим! Каждый сказал бы при встрече: вот безликий, утративший рассудок…
– Они рисовали лица не для горожан. Обман? Такой цели они не ставили. Они рисовали лица для себя. Я случайно обнаружил это – при встрече со мной они честно обматывали головы тряпками. С нарисованными лицами им было легче жить. Я даже слышал, как они смеялись, глядя друг на друга. Вы часто слышали, чтобы каонай смеялись?
– Не слышал никогда.
– А они смеялись. Кроме еды и одежды, я снабжал их гримом. У меня остались друзья в труппах Акаямы, я всегда мог рассчитывать на остатки грима в коробках. Я не говорил, зачем мне нужны эти краски, а актеры не спрашивали.
– Ребенку они тоже рисовали лицо?
– Зачем? Дитя имело свое собственное.
– Кто еще, кроме вас, посещал семью каонай?
– Слуга господина Рэйдена. Это началось раньше, с тех пор, когда он еще не поступил на службу.
– Вы говорили с ним о причинах его приязни к этим отшельникам? Насколько мне известно, безликие редко встречаются, а еще реже живут вместе. Ходят слухи, что на Хоккайдо в горах есть целое поселение безликих, куда не заглядывают местные жители, но я не верю в это. Людям свойственно доверяться вымыслу, а климат на Хоккайдо слишком суров, особенно в горах.
– Однажды слуга господина Рэйдена сказал мне, что эти безликие воскрешают для него легенду его родины.
– Какую же?
– Доблестный самурай Марусари Дего был беден, семья Сегуро не хотела отдать за него свою дочь. Самурай отправился воевать, прославился, разбогател и вернулся домой, но его невеста волей отца вышла за другого. Самурай умер от горя, его возлюбленная умерла тоже. Это очень грустная история[10], Сэки-сан.
– Не вижу ничего общего.
– Слуга господина Рэйдена сказал мне, что глядя на пару безликих, он размышляет, как сложилась бы судьба несчастных влюбленных, умри они и воскресни – париями, отверженными. Полагаю, он знал о прошлой жизни этих каонай больше меня.
В храме зажигали фонари.
Слышались крики, Мигеру различал звонкие голоса послушников и хриплый, дребезжащий от старости голос бонзы. Сам того не замечая, Мигеру сейчас звал настоятеля так, как было принято на родине капитана «Меча Сантьяго»[11]. Возможно, знание местного языка покидало его, вытесняемое жарким, как кипяток, возбуждением. А может, Мигель де ла Роса, убитый и погребенный, карабкался наверх из своей могилы, белый от ярости, и горе тому, кто встанет на пути у обезумевшего мертвеца!
Хижина, где отшельничала семья безликих, располагалась дальше, за рощей. Но Мигеру не сомневался в том, что послужило причиной переполоха в храме. Рассчитывать, что старик-настоятель успеет к хижине быстрее, чем Мигеру, было глупо; рассчитывать, что монах сможет помочь несчастным каонай, было глупей глупого.
Мигеру ускорил шаг, затем побежал.
Обледенелая тропинка выскальзывала из-под ног. Луна плясала на горбах сугробов. Снег хлестал в лицо, застил взор. Не останавливаясь, Мигеру зажал клюку под мышкой, выхватил из котомки маску карпа, натянул на голову. Нет, он не ждал, что служебная маска остановит убийцу, заставит одуматься. Медь тонкая, непрочная, но хоть какой-то шлем лучше никакого. Отверстия во лбу карпа – а не в рыбьих бельмах, как полагали многие – мешали свободе взгляда. Ничего, сойдет. Со времен прошлой жизни Мигеру знал: зрение в бою – всего лишь подспорье, одно из многих качеств бойца. Незабвенный дон Карлос, мир его праху, носил очки в оправе из китового уса, что делало дона Карлоса похожим на доктора с клистирной трубкой наготове. Но учебная рапира с пуговкой на конце выбивала пыль из нагрудника дона Мигеля в любой момент, когда дону Карлосу того хотелось.
Шлем, размышлял Мигеру на бегу. Каска с гребнем и загнутыми полями. Шпага из толедской стали. Кинжал с гравировкой по клинку. Колет из бычьей кожи. Вместо этого – тряпки, маска, клюка. Я не должен думать, что бог несправедлив ко мне. Напротив, божье милосердие безгранично. Иные мертвецы сражаются, одетые в саван, и гнилое мясо свисает с их костей. Мне достался крепкий парень, а главное, молодой. Тот я, который стоял на палубе «Меча Сантьяго», уже задыхался бы от бега. Колотьё под ребрами свело бы меня с ума. Да, еще колени, больные колени. Мне повезло, хоть в чем-то мне повезло.
Бамбуковая роща качалась вокруг него.
Скоро. Вот-вот.
Сначала он споткнулся о тело. Мужчина лежал на краю рощи, нелепо подогнув ногу. Дальше, у хижины, спиной к Мигеру, стоял убийца с мечом в руках. Путь ему преграждала женщина с деревянной лопатой. Лицо женщина утратила вместе с прошлой жизнью, но бешенство, коверкавшее черты каонай – скорее змеиные, чем человеческие – ясно говорило о том, что убийца войдет в хижину, только переступив через женский труп.
Вслед за настоятелем Мигеру звал безликих обитателей хижины Первым и Второй. Но он знал о них больше монаха. Это они подобрали Мигеру вскоре после фуккацу, постигшего Мигеля де ла Роса. Вернее, он сам выбрел к хижине: полный ужаса, не знающий языка, вне себя от трагедии, выпавшей на его долю. Ичи и Ни учили его разговаривать так, чтобы окружающие понимали Мигеру; учили прятаться и кланяться, терпеть унижения и сносить побои. Делились едой и одеждой, лечили от лихорадки. Когда родился ребенок, Мигеру носил Китаро на руках. В случайных разговорах он услышал настоящие имена безликих – те, какие они носили до своей смерти – и сперва ничего не понял, потому что не разбирался в здешних реалиях. Но вскоре он догадался, а там и уверился: до фуккацу Ичи был женщиной, а Ни мужчиной. Как они умерли и возродились, сменив пол на противоположный, Мигеру не знал. Среди безликих считалось безнравственным спрашивать о таком.
Когда Мигеру принял решение стать слугой дознавателя, они не отговаривали его.
Раньше он предполагал, что в прошлой жизни Ичи был простолюдинкой, а Ни – самураем, возможно, знатным. В зимней ночи под холодной луной, видя, как женщина держит лопату, Мигеру убедился в собственной правоте. Петляя меж стволов бамбука, он видел, что убийца шагнул вперед. Кажется, его не интересовала хижина и плачущий ребенок внутри. Лопата? О да, читалось в позе убийцы. Так даже лучше, гораздо лучше.
– Я здесь! Дождись меня, malparido[12]!
Убийца обернулся через плечо.
Служебная маска? Жалкая клюка? Решимость? Огни в храме? Вопль, превращенный маской в глухой рев? Голоса послушников за рощей? Что бы то ни было, но убийца кинулся прочь и растворился в тенях.
Мигеру его не преследовал.
– Он оставил женщину у вас в храме?
– Нет, Сэки-сан. Я уговаривал его сделать это, но он сказал, что боится за жизнь Ни. Убийца может вернуться, сказал он. Я не стал спорить. Он оставил только ребенка. Я согласился взять дитя на попечение, и он ответил, что доверяет мне.
– Тело Ичи?
– Слуга господина Рэйдена унес тело. За ним последовала женщина. Не думаю, что она понимала, что делает. Она просто подчинялась его приказам. Сохрани она рассудок в полной мере, и мы бы не заставили ее покинуть ребенка.
– Когда это произошло? Я имею в виду, когда он унес тело?
– Ближе к рассвету. Так, чтобы быть у городских ворот, когда они откроются. Слуга господина Рэйдена все делал верно. Стража не пустила бы его ночью в город, даже при наличии служебной маски. А уж с трупом на руках, в сопровождении безликой, похожей на неприкаянную душу…
– Вы пошли с ним?
– Я вышел раньше. Он ходит быстрее меня, я рассчитывал оказаться у ворот к его появлению. Так и случилось. Мое свидетельство убедило стражу в необходимости пропустить нас.
– Он сразу пошел в управу? Или сначала к своему господину?
– Сразу в управу. Тело он отдал сборщикам трупов, которых мы встретили по пути, и строго-настрого приказал не сжигать покойника до особого распоряжения. Женщину отвел в барак, где живут кандидаты в слуги. Те дали обещание, что позаботятся о ней. Потом слуга господина Рэйдена описал все, случившееся у хижины, в отдельном докладе, сдал его секретарю Окаде – и только после этого отправился к своему господину.
– Куда отправились вы, святой Иссэн?
– К вам, Сэки-сан. Куда же еще?
2. «Как презренный каонай»
Звук гонга в храме Вакаикуса разбудил меня.
Вряд ли я расслышал гонг, скорее он мне приснился. Сквозь щели в ставнях сочился рассвет: серый, мутный. Камень-грелка давно остыл. Я продрог, но выбираться из-под одеяла не спешил. Тут хоть какое-то подобие тепла. А снаружи…
Надо!
Отбросив одеяло, я вскочил на ноги. Схватился врукопашную с желанием вернуться обратно – или немедленно натянуть на себя все что есть теплого. Победил, хотя и с большим трудом. Взялся приседать и махать руками, пока мне не стало…
Нет, не жарко. Все равно холодно.
Со всех ног рванул во двор. Отец с утра ледяной водой обливается, а я чем хуже? Двор был пуст. Вот я бестолочь! Отец из ночного караула вернулся, лег спать до полудня. Гром и молния! Для кого я обливаться решил? Для отца или для себя?
Раз решил – надо делать.
Белые перья облаков над морем окрасились в густой розовый цвет. Казалось, в небе зацвела весенняя сакура, приглашая полюбоваться изысканным зрелищем о-ханами. Утро занималось морозное, ясное. Ледяная вода обожгла хуже кипятка. Я едва не заорал, но вспомнил, что сильный захочет – сквозь скалу пройдет, и плеснул на себя еще. Стараясь не спешить, умылся. Стараясь не стучать зубами, почистил зубы. Щетку сделал новую, расщепив ножом ивовую веточку, а зубной порошок мы брали в аптеке: корейский рецепт, из тончайшего песка. Все! Теперь быстро-быстро растереться досуха, докрасна – и сразу одеваться-одеваться-одеваться!
Бегом-бегом-бегом!
О-Сузу подала двойной завтрак: мне и Мигеру. Относить еду каонай я уже привык, хоть и стыдился до сих пор. А что делать, если больше некому? Хвала будде, О-Сузу согласилась без возражений принимать помощь безликого: дров нарубить, воды натаскать, рыбу почистить. Но подавать ему рис и овощи? Своими руками?! В крайнем случае она оставляла еду в беседке, или даже перед дверью сарая, где жил Мигеру. Заходить внутрь О-Сузу отказалась наотрез.
Натолкнувшись на яростное сопротивление, не свойственное нашей кроткой служанке, я от нее отстал.
Заспался сегодня мой каонай. Обычно он раньше меня встает. Значит, будет есть остывшее: не хватало еще собственный завтрак прерывать, чтобы накормить слугу! Где такое видано? Я уже доедаю, а он не объявился. Так этот соня вообще голодным останется – на службу пора!
Дверь в сарай была приоткрыта. Я поставил поднос на приступку у входа.
– Мигеру!
Тишина. Я сунулся внутрь. Лежанка аккуратно застелена.
– Мигеру!
Вышел умыться, а я не заметил? У колодца безликий не обнаружился. Лохани и ведро стояли в точности так, как я их оставил.
– Мигеру!
Сад. Беседка. Площадка для упражнений. Дровяной навес.
– Мигеру!
В доме недовольно заворчал разбуженный отец.
– Никуда ночью не выходи, понял?
– Да, господин. А по нужде?
Не знаю, что за нужда погнала Мигеру со двора. Небось, большая нужда, если он пренебрег моим приказом. Вышел ночью в город… И его там убили, подсказал кто-то голосом господина Сэки. Убили, бросили на снегу и стих написали. Что-то вроде:
- Ползет улитка,
- Любуется склонами.
- Куда спешить ей?
Я увидел этот стих, будто наяву. Белый снег и желтые иероглифы, словно неведомый убийца записывал их самым отвратительным образом. Если даже убийца оплошал и Мигеру всего лишь ранен – небось, лежит в глухом закоулке, коченеет, истекая кровью. Кто ему поможет? Никто. Кому взбредет на ум помогать мерзкому каонай? Никому. В маске, без маски – все равно. В лучшем случае, сообщат в службу Карпа-и-Дракона. Если найдут труп – тоже сообщат. Старосте сборщиков трупов мое послание передали еще вчера.
Надо бежать в управу. Если что и узнаю, так только там.
Торопясь, оскальзываясь на льду, намерзшем с ночи, едва не сшибая с ног прохожих, я больше глядел по сторонам, чем под ноги. Вдруг где-нибудь мелькнет фигура в грубом балахоне, подпоясанном веревкой, с низко опущенным капюшоном? Блеснет из-под капюшона начищенная медь лупоглазой маски карпа?
Вместо Мигеру я увидел сборщика трупов. У трупожогов нет отличительных знаков, они выглядят как все эта, занимающиеся нечистым трудом, но этого я узнал. Допрашивал его насчет тела одного бродяги. У него еще напарник был – очень похожий, только в полтора раза больше.
Как его? Кио? Такео? А-а, какая разница!
– Эй ты! Стой!
От моего окрика трупожог споткнулся и чуть не упал.
– Простите, господин! Это вы мне?
– Тебе! Стой на месте.
– Стою, господин! На месте, господин!
От него, как и в прошлую нашу встречу, разило гарью.
– Иди за мной.
– А стоять, господин? Стоять уже не нужно?
– Шагай!
Мы мешали прохожим, на улице образовалась толчея. Многие ругались сквозь зубы. Эта, конечно, не каонай, но оказаться рядом со смердящим трупожогом или того хуже, коснуться его… За день не отмоешься!
Мы укрылись в первом же закоулке, который подвернулся на пути.
– Сегодня с утра трупы были?
– Да, господин.
– Сколько?
– Двое.
– Среди них был каонай?
– Да, господин.
Я ощутил пустоту в животе и груди. Превратился в деревянную статую, полую изнутри. Словно со стороны я наблюдал, как статуя шевелит губами:
– Где вы его нашли?
– Нам его передали, господин. У Северных ворот.
– Зачем?
– Велели забрать, но не сжигать до особого распоряжения.
– Кто-нибудь уже сообщил об этом в службу Карпа-и-Дракона?
– Не знаю, господин.
– Убирайся!
Не оглядываясь, я зашагал в сторону правительственного квартала. Что же ты наделал, Мигеру? Куда тебя понесло? Говорил же тебе: сиди дома, не высовывайся…
Вот и ворота. Стражники глянули на меня, отвернулись. Никто не захотел шутки шутить или задавать вопросы. Снег укрыл улицу Ироторидори, спрятал под белым плащом яркие крыши. Спешить было некуда, но я ускорял шаг. Лишь на подходе к воротам управы я заставил себя шагать, как подобает самураю, идущему на службу.
Ворота распахнулись. Навстречу вышел каонай в маске карпа.
– Господин, – начал было он. – Я…
– Убью!
– Простите, господин. Я виноват…
– Убью, негодяй!
Я бил его большой плетью, не разматывая. Рукоятью, по плечам. По спине. Куда попало. Арестуй меня сейчас стража, я с радостью признался бы в чем угодно, хоть в покушении на сёгуна, лишь бы мне дали врезать этому мерзавцу еще разок.
– Ты живой! Живой!
– Да, господин. Простите…
Клубы пара таяли в морозном воздухе. Я сунул плеть за пояс. Я боялся заплакать на глазах у всех.
«Я научился правильно подставляться, – вспомнились мне слова Мигеру, произнесенные им по дороге в Эдо. – Еще надо закричать, как от боли, на колени упасть, голову руками закрыть. Благородным господам нравится. Обычно они больше не бьют. Смеются, плюют и уходят.»
Мне захотелось избить его во второй раз.
– Где ты пропадал?!
– Я…
– Зайди к писцам за жаровней. Потом иди в мой кабинет. Там расскажешь.
Он сделал все, как было велено. Принес жаровню, разжег, рассказал. Я слушал и пустота уходила из меня, а тело утрачивало мертвую твердость дерева.
Ну да, согрелся у жаровни, вот и оттаял.
– Ты уверен, что у него был меч?
– Уверен, господин. Стальной острый меч.
– Ты видел лицо убийцы? Смог бы его узнать?
– Нет, господин. Он скрыл лицо под тряпкой.
Мигеру засмеялся:
– Под тряпкой, да. Как презренный каонай.
3. «Где ваш слуга?»
– Жди меня здесь.
– Да, господин.
– Никуда не уходи!
– Я понял, господин.
Понял он! Вчера вечером мерзавец говорил то же самое.
– Маску не снимай.
– Да, господин.
Маска из меди. С утра мороз стоит. Было бы лицо, отморозил бы. Лица нет, только какая для холода разница?
– У тебя есть тряпка? Под маску подложить?
Мигеру встал на колени, прямо в снег:
– Благодарю за заботу, господин. В управе мне выдали матерчатую маску. Такую же, только из хлопка. Еще в конце осени. Велели вклеить внутрь медной. Я так и сделал. Мне не холодно, господин. Вы слишком добры ко мне, я этого недостоин.
Я огляделся. Белый день на дворе. В прямом смысле белый, аж в глазах блестит! Люди кругом. Не так чтоб много, но есть люди, есть. Никто Мигеру на глазах у прохожих не тронет. По крайней мере, мечом рубить не станет. А если палкой разок огреет, так ему это только на пользу.
Сын сенсея ждал у ворот усадьбы.
– Прошу простить меня за задержку, Цуиёши-сан.
– Мой отец ждет вас, Рэйден-сан. Он дал согласие на встречу.
Судя по мрачному виду Цуиёши, согласие отца далось ему дорогой ценой. Но Ясухиро-младший чувствовал себя в долгу передо мной, и это было меньшее, что он мог для меня сделать.
Красться задами не пришлось Привратник открыл нам главные ворота и склонился в поклоне. Не задерживаясь, мы прошли в дом. Прежде чем мы разулись, служанка обмахнула метелкой из перьев нашу обувь, после чего слуга-мужчина принял у меня плети и ватный хаори: в доме было тепло. Цуиёши провел меня в знакомую комнату – ту, где хранились фамильные ценности семьи Ясухиро: доспех и мечи.
Сенсей сидел возле чайного столика.
– Извините за беспокойство, Кэзуо-сан.
– Не стоит извинений, Рэйден-сан, – он прекрасно понял, что к нему пришел не ученик, а дознаватель. – Я рад принять вас в своем доме.
Самый пристальный наблюдатель не обнаружил бы радости ни на лице, ни в голосе сенсея. Ясухиро-старший был хмур, темен лицом. Волосы, обычно уложенные в старомодную прическу сакаяки, сегодня растрепались как у бродячего ронина. Под красными от бессонницы глазами наливались синевой неприятного вида мешки. Впору заподозрить, что сенсей пил всю ночь, но запаха саке я не уловил.
– Я не отниму у вас много времени.
– Я никуда не тороплюсь. Садитесь, выпейте чаю.
Цуиёши счел за благо оставить нас вдвоем. Мы сделали вид, что не заметили его исчезновения.
– Благодарю за оказанную честь, Кэзуо-сан. Не хотелось бы вас обременять…
– Вы нисколько меня не обремените.
Опустившись на подушку, я смотрел, как Ясухиро наливает мне чай. Когда-то я и мечтать о таком не мог. Изгиб руки, пар из чашки, журчание струи – все как минувшим летом, когда сенсей наливал чай моему отцу во время беседы. А все равно по-другому. Тогда это было ожившей картиной. А сейчас просто пьем чай.
Настроение, да. Скверное настроение. Не с таким идут по «пути чая[13]», уединяясь с гостем в чайном домике. Взяв предложенную чашку, я сделал глоток и с поклоном вернул на место.
– Полагаю, ваш визит связан с делами службы.
Спасибо Ясухиро, он не стал разводить долгие разговоры.
– Вы совершенно правы, уважаемый Кэзуо-сан. Я восхищен вашей проницательностью.
– Чем я могу помочь службе Карпа-и-Дракона?
– Мы нуждаемся в вашей консультации.
– Консультации?
Мне показалось, или лицо сенсея чуточку прояснилось?
– За последние дни, вернее, ночи в городе были убиты несколько безликих. Разумеется, убийство каонай – не преступление. Нас эти случаи не заинтересовали бы, не будь один из убитых кандидатом в слуги дознавателей. Убит он был острым оружием – не палкой и не камнем. Мы желали бы выяснить, каким оружием и как именно он был убит. Кэзуо-сан, вы известный мастер воинских искусств. Поэтому я взял на себя смелость обратиться к вам за помощью в этом вопросе.
Сенсей молчал, раздумывал.
– Расскажите мне все, – наконец произнес он. – Все, что вам известно об этих убийствах и о нанесенных ранах.
– Речь идет об одном конкретном убийстве, – счел нужным уточнить я.
И пересказал Ясухиро все, что мне было известно. Заканчивая рассказ, я впервые усомнился во всей этой затее. Когда я признался господину Сэки, каким способом хочу прояснить сложившуюся ситуацию, старший дознаватель сказал, что в моей идее есть здравый смысл. Уверен, он просто не хотел меня обижать. Здравый смысл? Обстоятельства убийства я знал со слов досина Хизэши. Досин знал их со слов цирюльника, цирюльник – со слов трупожога. Как перевираются истории, гуляя от одного рассказчика к другому, я представлял лучше лучшего.
– Это все?
– Это все, что мне известно.
– У вас есть с собой маска?
– Что? – не понял я.
– По вашим словам, убитый защищался служебной маской. У вас есть с собой маска?
– К сожалению, нет.
– Где ваш слуга?
– Ждет снаружи, у ворот.
– Я велю, чтобы его привели сюда.
Я не поверил собственным ушам.
Глава пятая. Мост из пирожков
1. «Вы его убьете!»
«Он не в себе!» – мысленно воскликнул я.
Прав Цуиёши. Пригласить в дом безликого? В заветную комнату, где хранится наследие предков?! Наша семья – другое дело; мне каонай положен по службе – хотя я до сих пор и не знаю, зачем. Но даже мы не пускаем его в дом, Мигеру живет в сарае. Неужели сенсей и впрямь повредился рассудком?
Призвав слугу – того, что принял у меня плети – Ясухиро отдал ему распоряжение. Слуга был в смятении – а кто бы не был?! – но возразить не посмел. Пока мы ждали его возвращения, сенсей заварил свежего чаю и налил нам обоим. Он молчал, лицо его оставалось спокойным, хотя и хранило последствия бессонницы. Я пытался понять, о чем он думает, и не мог.
Вкус чая показался мне странным. Он горчил и отдавал морем. В точности так я себя и чувствовал – если вы понимаете, о чем я.
В дверях возник слуга:
– Я привел его, господин.
– Пусть войдет.
Слуга исчез. Вместо него объявился Мигеру: босиком и без клюки. Каонай опустился на колени, коснулся лбом пола и замер. Ясухиро не удостоил его взгляда.
– Рэйден-сан, велите вашему слуге, чтобы снял маску. Да, и пусть замотает голову тряпкой. Как те безликие, что не на службе.
Спрашивать, зачем это надо, я не стал. Безумен сенсей или разумен, лучше делать так, как он велит, и не задавать лишних вопросов.
– Мигеру, у тебя есть тряпка для лица?
– Да, господин.
– Сделай то, что приказал господин Ясухиро.
– Да, господин.
Оставаясь на коленях, Мигеру развернулся вполоборота к нам – чтобы не оказаться к господам спиной, но и не оскорбить их видом своей лицевой плоти – и принялся стаскивать маску.
– Готово, господин.
Сенсей поднялся на ноги. Он сделал это с легкостью, какая не вязалась с его внешним видом. Достав из лакированного шкафа покрывало, расшитое тигровыми лилиями, Ясухиро швырнул его Мигеру.
– Пусть ваш слуга завернет маску в покрывало, как если бы нес ее в мешке.
– Выполняй, Мигеру.
Нет, это не безумие. Это семейное. В свое время Цуиёши продемонстрировал мне поединок в скалах, свидетелем которому оказался. Сенсей собирался сделать то же самое в отношении убийства безликого. «Один показ лучше дюжины объяснений,» – повторял он на занятиях. И слова Ясухиро никогда не расходились с делом.
Сейчас он возьмет деревянный боккэн из стойки с оружием – и покажет на Мигеру, как все произошло. Я удивился тому, что сенсей, не желая обращаться к безликому напрямую, все-таки не брезгует продемонстрировать на каонай свое мастерство – и решил отложить это напоследок, когда у меня появится время для размышлений.
– Пусть ваш слуга встанет. Пускай возьмет «мешок» с маской двумя руками.
Я не стал повторять слова сенсея. Я просто кивнул. Уверен, Мигеру следил за каждым моим движением.
Каонай встал.
Лишь на миг я выпустил Ясухиро из поля зрения, а когда вновь перевел взгляд на сенсея, в руках его блестела сталь! В один шаг хозяин дома преодолел расстояние, отделявшее его от безликого, и нанес удар боевым мечом – фамильным клинком, наследством, доставшимся сенсею от предков. Защищаясь, Мигеру вскинул маску. Раздался глухой лязг: раз, другой, третий. Каонай пятился в угол, прикрываясь маской, Ясухиро атаковал, рубя наотмашь.
«Остановитесь, Кэзуо-сан! – хотел крикнуть я. – Вы его убьете!»
Слова застряли у меня в горле.
Превратившись в глыбу льда, не в силах оторвать взгляда от ужасной сцены, я следил за тем, как Мигеру упирается спиной в стену. Это была не бумажная, натянутая на раму стена, способная порваться от слабого толчка, а несущая, из крепких досок. Клинок размазался мерцающим веером, напомнив мне о вчерашнем вечере и циновках, свернутых в рулоны и водруженных на шесты. Ясухиро рубанул наискось, Мигеру сдавленно охнул. Левая рука моего слуги повисла плетью, маска со стуком упала на пол.
Нет.
Прежде чем маска упала, меч вернулся.
На возврате, ни на миг не прервав движения, Ясухиро полоснул безликого по животу. Застонав сквозь зубы, Мигеру рухнул на колени, прижал к животу здоровую руку, пытаясь зажать рану, не дать кишкам вывалиться наружу дымящимся клубком. Меч взлетел, полыхнул молнией в свете масляных ламп – и обрушился на шею безликого.
Замер в волоске от нее.
Я слышал тяжелое дыхание Мигеру. Больше ничего не нарушало тишину. Затем сенсей опустил меч и обернулся ко мне.
– Вы все рассмотрели, Рэйден-сан?
– Да, Кэзуо-сан.
– В подробностях?
– Да, спасибо.
– Полагаю, так все и произошло. Вашего каонай убили мечом. Если голова не была отрублена полностью, убийца скорее всего поскользнулся.
Вашего каонай. Потрясенный случившимся, я не сразу понял, что он говорит о жертве, найденной возле сточных каналов.
– Мечом, – повторил Ясухиро. – Острым стальным мечом. Таким, как этот.
Он уставился на фамильный меч. На лице сенсея читалась брезгливость. Должно быть, после соприкосновения с мерзким каонай и его маской клинок требовал очищения на семейном алтаре, а также шлифовки и полировки.
Заточки меч не требовал. Мои глаза успели увидеть то, что разум осознал позже. Сенсей не пытался рассечь тело Мигеру лезвием меча, а просто бил тупой стороной клинка. Руку он моему слуге вряд ли сломал, но ушиб сильно, тут спору нет, и на животе тоже вздуется полоса: сперва багровая, позже синяя.
Жизни Мигеру ничего не угрожало.
– Благодарю вас за прекрасную демонстрацию, Кэзуо-сан. Она была очень убедительна. Теперь у меня не осталось никаких сомнений.
2. «Князь благоволил к его безумию…»
– Стихи, – сказал отец.
– Стихи? – удивился я. – Какие стихи?
– Ивамото Камбун, младший брат твоего прадеда. Как поэт, он был бездарен. Вы согласны со мной, Иссэн-сан?
Настоятель кивнул.
Я отпил чаю. У меня болела голова. Талантлив был мой прадед в искусстве стихосложения или бездарен, это интересовало меня в последнюю очередь.
Они встретили меня дома: отец и преподобный Иссэн. Матушка сказала, чтобы я шел не к себе, а в комнату родителей. Там они и сидели, распивая чай и заедая его сладостями. Сказать по правде, я бы предпочел более плотный ужин. День выдался не лучший, я до сих пор размышлял над тем, что увидел и услышал в усадьбе Ясухиро. Вкупе с утренней беготней и приключениями Мигеру, который сперва погиб, а после воскрес, это мучило меня хуже поноса.
Набить живот и лечь спать – все, чего мне хотелось.
– Бездарность, – повторил отец. – Злоупотреблял сравнениями. Белые слезы неба? Отвратительно.
Я навострил уши. Сонливость как рукой сняло.
– Я вспомнил, – отец налил себе еще чаю. – Стихотворение рядом с убитым каонай. Тем, которого обнаружил я. «Пали на землю белые слезы неба; скрип под ногами». Это его стихи. Иссэн-сан, полагаю, вы тоже помните?
Настоятель кивнул.
– Режущее слово, – отец взмахнул рукой, словно хотел разрубить кого-то пополам. – Он утверждал, что искусство меча и искусство стихосложения едины. Кирэдзи[14], говорил он, это удар, нанесенный в точно выбранный момент. Режущее слово делит трехстишие на две части. Решающий удар делит поединок на схватку и победу.
– Вы правы, – согласился настоятель. – Я мало что смыслю в поединках. Но он злоупотреблял сравнениями, это правда. Мы часто спорили с ним на эту тему. Я был младше, я годился ему в сыновья. Удивляюсь терпению досточтимого Камбуна! Терпение было ему не свойственно, скажем прямо. Но при всей его вспыльчивости он ни разу не обругал меня.
– Что, – изумился отец, – даже не ударил?
– Что вы! Я тогда еще не принял монашество, он вполне мог поднять на меня руку. Но нет, всегда выслушивал до конца, искал аргументы. Я не был единственным…
Улыбка отца вся состояла из горечи.
– Были, Иссэн-сан. Вы были единственным человеком, которого он выслушивал без ругани. Уж поверьте, я знаю, что говорю.
– Искусство меча? Режущее слово?!
Выгонят, подумал я. Вмешаться в беседу старших? Не испросив разрешения? Точно, выгонят.
– Твой двоюродный прадед был не в своем уме, – сегодня отец пребывал в хорошем настроении. А может, хотел, чтобы я присутствовал при разговоре, вот и пренебрег наказанием за вызывающее поведение. – Он считал, что мы зря отказались от оружия предков. Я имею в виду заточенную сталь.
– Но фуккацу? Дар будды Амиды?
– Он полагал, что мы впали в заблуждение. Что будда требует от нас иного понимания, нежели то, к какому мы пришли. Что дар – испытание, которого мы не выдержали. Можно сражаться сталью, плетями, палками, кулаками. Это не имеет значения. Нельзя сражаться, если боишься убить врага. Фуккацу, не фуккацу – схватке надо отдавать всего себя, без раздумий и колебаний. Страх перед убийством? Страх за свою собственную жизнь? Два страха как один?! Общепринятую манеру ведения боя он называл предательством. Плевок в кодекс самурая, говорил он. Яма на пути воина[15].
Сегодня отец был разговорчивей обычного. Я бы сказал, что сегодня он был скорее бабушкой, чем отцом.
– Но ведь тогда фуккацу царило бы повсеместно! Наступил бы хаос!
– Не всякий поединок заканчивается смертью. И потом, думать о смерти – позор для самурая. А мы думаем о ней постоянно. Так считал твой прадед. Всем самураям, кто спорил с ним, он предлагал схватку на стальных мечах. Убитый продолжит жизнь в убийце, говорил он. А убийца, если он доблестно сражался, непременно попадет в рай. В ад? Глупости! Откуда взяться аду, если ты бился со всей отвагой! В рай, только в рай! Или новое рождение самураем…
– Поединок? Я бы отказался!
– Все отказывались, – отец смотрел на меня, но видел кого-то другого: безумного прадеда или благоразумных самураев, не знаю. – На стальных мечах, деревянных, на плетях, на чем угодно – в конечном итоге никто не хотел сразиться с ним. Безумец Камбун не был сильнейшим бойцом в Акаяме, но он и впрямь отдавал схватке всего себя, не задумываясь о последствиях. Убей он противника, на улице или в стенах додзё, и тому пришлось бы жить дальше в теле твоего прадеда. Ивамото Камбун-второй, а? Кто бы захотел такой участи? Я уже не говорю о том, что противник мог убить Камбуна, а значит, фактически покончить с собой. Рай? Никто не верил в эти бредни.
Я представил, как мой прадед мечется по Акаяме. Наставляет всех на путь самурая. Проповедует истинное понимание дара будды Амиды. Над ним смеются – втайне, за спиной, опасаясь взбесить сумасшедшего. Отказ от поединка с умалишенным – не позор. Напротив, позор – поединок с умалишенным. Я так ясно увидел его, словно он стоял напротив.
– Он что, ходил со стальными мечами?!
Отец вздохнул:
– Какое-то время. Утверждал, что два меча – знак статуса самурая, что без них мы все простолюдины, кем бы себя ни мнили. Плети? Чепуха! Мы что, погонщики быков? Палки? Палками гоняют бродячих собак! Особым распоряжением князя ему запретили ходить с острой сталью. Князь благоволил к его безумию, считал твоего прадеда воплощением духа предков, живой традицией. Видел в его безумии некое благородство. Разумеется, князь не поощрял его к схваткам на древний манер. Но там, где иной правитель велел бы безумцу покончить с собой, наш князь выказывал бешеному Камбуну свое расположение. Он даже публично хвалил его стихи! И все молчали, не желая гневить правителя…
– Молчали, – подтвердил настоятель.
Кажется, это задевало его больше всех мечей, вместе взятых.
– Умоляю простить меня, но я в недоумении. Не хотите ли вы, уважаемый отец, сказать, что мой двоюродный прадед…
– Нет. Я не хочу сказать, что твой двоюродный прадед бродит по городу и рубит безликих, подписываясь стихами. Он был безумцем, но я-то в своем уме! Твой прадед давно умер, Иссэн-сан подтвердит.
Настоятель кивнул. Сегодня святой Иссэн кивал чаще фарфорового болванчика. Наверное, как и болванчик, предсказывал землетрясение.
Я взял пирожок с начинкой из тертых каштанов, сунул в рот. Это был последний пирожок в коробке. Сам того не заметив, я сжевал все без остатка. Вот ведь стыд! Оставался подслащенный ёкан[16], тоже ничего. Отец с настоятелем все равно не едят, только чай пьют.
Прадед, значит, умер. Стихи, начертанные рядом с убитым каонай, принадлежат прадеду. Кто их мог начертать? Кто угодно, кто знал эти стихи, включая отца и преподобного Иссэна. Разумеется, это не они, это я так, для общего понимания.
«Я слышал от своего деда, – сказал мне господин Сэки, – что прежде, до того, как будда Амида осчастливил нас своим даром, самурай мог без причины зарубить крестьянина или бродягу. Просто так, чтобы опробовать на нем свой новый меч. Цудзигири, «смерть на перекрестке». Отец моего деда практиковал цудзигири, о чем не единожды рассказывал сыну. В нашей семье эта история передается из поколения в поколение…»
Отец деда. Из поколения в поколение.
– У моего двоюродного прадеда были сыновья? Внуки?
Кивнули оба: отец и настоятель.
– Камбун, сын Камбуна. Я знала его…
Отец прикрыл глаза, словно задремал. Он не замечал, что говорит о себе, как о женщине. Похоже, задремал только отец, бабушка же бодрствовала.
– Твой родной прадед, Рэйден, запретил своему обезумевшему брату появляться в школе, где велись занятия. Позже он отказал ему от дома…
Мой родной прадед Ивамото Йошинори. Основатель школы воинских искусств «Дзюнанна Йосеи». Той самой школы, которую он, не имея возможности оставить ее дочери, оставил своему лучшему ученику Ясухиро Сейичи, отцу Ясухиро Кэзуо, моего сенсея.
Мой родной прадед. Отказал брату от дома.
Можно не спрашивать, почему.
3. «Никогда в жизни мне не было так страшно»
Он явился в дом моего прадеда вечером, когда ученики покинули додзё: Камбун, сын Камбуна из клана Ивамото. У них в семье всем мальчикам давали имя Камбун. Люди судачили о причинах, но так, чтобы не дошло до вспыльчивого предмета сплетен. Он явился и его пустили: хозяин додзё отказал от дома своему брату, но ничего не говорил о племяннике.
В зале оставалась бабушка Мизуки, которую никто еще не называл бабушкой. Ее и матерью никто не называл, и женой. Все это было впереди, а сейчас она заканчивала мыть пол, когда молодой Камбун встал на пороге, долго смотрел на девушку в мужских хакама[17], подоткнутых до колен, а потом попросил двоюродную сестру о наставлениях.
Что это значило? Вызов на учебный поединок.
Мизуки согласилась без колебаний. Во-первых, от брата она не ждала ничего злого. Юность полна доверия, иначе какая это юность? Во-вторых, те дни наполняли Мизуки гордостью, близкой к гордыне, и надеждой, близкой к высокомерию. Сложись все иначе, и «Повесть о женщине-воине и преданном ученике» могла бы начаться гораздо раньше, уже не с Сидзука Йоко в главной роли, а с Ивамото Мизуки, втайне мечтающей о том, как отец завещает ей семейное додзё. Пройдут годы, многое изменится, бабушка Мизуки – теперь бабушка, мать и жена! – сляжет больная, беспомощная, увидит, как сын ухаживает за ней день за днем, в ущерб супружескому долгу, и решит, что будда милостив к ней больше, чем она того заслуживает. Но это случится потом, а сейчас они встали друг напротив друга с деревянными мечами: Мизуки и Камбун-младший.
Три схватки. Четыре.
Пять.
Возможно, пол действительно был влажный после уборки. Возможно, Мизуки поскользнулась. Как бы то ни было, удар сломал ей ключицу. «Он дрался как бешеный, – вспомнит позже Мизуки, рассказывая отцу о поединке. – Целил в голову. Нет, я не думала, что он хочет меня убить. Кто пойдет на такую глупость? Зачем? Чтобы я стала мужчиной? Чтобы он сошел в ад?! Просто Камбун не задумывался о последствиях.»
Дрался, как учат у них в семье, спросит отец. Думать о смерти – позор для самурая? Идти по пути воина без колебаний? Откуда взяться аду, если ты бился со всей отвагой?!
«Да, пожалуй. Теперь я понимаю это.»
Только теперь?
«Тогда я не сомневалась, что в случае чего он смягчит или остановит удар. Что? Да, мы были без защитных шлемов.»
Через три месяца Ивамото Йошинори выдаст дочь замуж. Своим наследником в качестве сенсея он объявит ученика Сейичи из рода Ясухиро. Но не будем забегать вперед, потому что Камбун-младший вновь явился в дом дяди – спустя три дня, когда воспоминания о поединке были еще свежи, а ключица Мизуки еще не срослась.
Он потребовал, чтобы наследником в качестве сенсея объявили его. Если вам недостаточно поражения дочери, сказал он дяде, я готов просить о наставлениях любого вашего ученика, а затем – вас, уважаемый дядюшка.
Сенсей Йошинори кивнул. Он словно не заметил той вызывающей грубости, с какой говорил Камбун. Ученики, сказал он, это слишком долго. Семейные дела решаются в кругу семьи. Начнем с меня, мной же и закончим.
Докажи, что ты достоин моего наследства.
Камбун взял деревянный меч, прадед – малую плеть. Камбун предложил дяде взять вторую плеть, но тот отказался. Бабушка Мизуки видела это, отец настоял, чтобы она присутствовала в додзё во время схватки. Много лет спустя, рассказывая внуку, которого она звала сыном, о наставлениях, какие Ивамото Йошинори дал своему племяннику, она признается: «Никогда в жизни мне не было так страшно.»
Он бил его по лицу, скажет она. Только по лицу. Вдоль, поперек, крест-накрест. Уворачивался от визжащего дерева, хватал Камбуна за руку и бил, бил, бил. Он исхлестал его до полусмерти. Мизуки думала, что ее двоюродный брат ослеп, что плеть вышибла ему оба глаза.
«Хватит!» – закричала она.
И бросилась перед отцом на колени.
К этому времени Камбун ползал по залитому кровью полу, пытаясь нашарить меч. Он хотел издать боевой клич, но из горла вырвался лишь болезненный хрип. Когда пальцы его сомкнулись на рукояти, сенсей Йошинори наступил на меч, не позволяя племяннику поднять оружие. Теперь предложи мне поединок на стальных мечах, произнес сенсей. Голос его был ужасней всего, что Мизуки слышала раньше. Предложи и уйдешь слепым по-настоящему. Станешь массажистом при банях, большего ты не заслуживаешь.
Вызова не последовало.
От дома было отказано всей семье Камбуна-старшего. Всей, без исключения. Когда брат моего прадеда умер, Ивамото Йошинори на похороны не явился. Даже письменных соболезнований не прислал. Одни говорили, что безумный Камбун умер от старости, другие – от болезни; третьи выдвигали причины, еще более безумные, чем покойный Камбун. Утверждалось также, что безумие и есть болезнь, которая передается от отца к сыну, от сына к внуку.
Сенсей Йошинори запрещал обсуждать это в своем присутствии. Также он запрещал упоминать про ненависть, какую его злополучный племянник, а позже – внучатый племянник, сын Камбуна-исхлестанного, питали к мужчинам из рода Ясухиро, возглавившим школу.
– Мудрый терпелив, – задумчиво произнес я.
– Что? – не понял отец.
Похоже, рассказ утомил его: не телесно, но духовно. Он осунулся, сгорбился. Пальцы рук сцепил в замок, как если бы руки дрожали, а он боролся с постыдной слабостью.
– «Мудрый терпелив; каменистое русло ждет первых дождей». Это тоже стихи моего двоюродного прадеда?
Отец пожал плечами:
– Не знаю. Не помню. Может быть, вы помните, преподобный Иссэн?
Настоятель отрицательно мотнул головой.
– Его манера? – настаивал я. – Сходство стиля?
– В какой-то мере, – согласился старик. – Но утверждать однозначно я не возьмусь.
4. «Ты еще испытываешь почтение ко мне?»
Он колет дрова.
О ком я говорю? Ну, это позже.
Колода, на которую он ставит полено, выше обычной колоды – например, той, что стоит у нас во дворе. У нас – по колено, у него – до середины бедер. Полено у него длиннее и тоньше наших; не полено – поленце. И топор у него удивительный; вернее, топора у него вовсе нет.
Он колет дрова ножом.
Я впервые вижу такой нож. Широкое лезвие без острия изгибается подобно рыбе, бьющейся на берегу. Мощный обух, глубокий дол на всю длину; заточка по внутренней стороне клинка. Рукоять из магнолии простая, без оплетки и шнуровки. Больше всего нож напоминает бокувари-танто – тесак, которым в числе прочего действительно колют уголь и дрова. Похож он и на ханакири, каким настоятель Иссэн трудится в храмовом саду, обрубая сучья и прививая черенки на грушах и сливах. Такое же сходство, как между ножами – несомненное, но трудноуловимое – есть между мной и этим человеком.
Ивамото Камбун.
Сын Камбуна, сломавшего ключицу моей бабушке. Внук Камбуна, которому родной брат отказал от своего дома. Дальше в древность, словно в горную долину, скрытую туманом, мой взгляд проникнуть не в силах.
Голый по пояс – от одного взгляда на него меня пробирает озноб. Холщовые штаны до колен, сандалии на босу ногу. Младше отца лет на пять. Сухой, жилистый, ключицы выпирают наружу. Узкое лицо, высокие скулы. Не человек, богомол. В детстве отец поведал мне, что богомола считают символом отваги и жестокости. Вообразив себе невесть что, я отыскивал богомола в траве и тыкал в него соломинкой, глядя, как ужасные лапы насекомого превращают соломинку в мочалку. Тыкать соломинкой – и даже копьем – в человека, мирно колющего дрова возле своего дома, я бы не рискнул.
Дом крошечный, ветхий. Не дом, хибара. Забора нет, со стороны улицы участок огорожен жалкой оградой: плетень высотой мне до пояса. Взгромоздив на ограду коробку, я стою и смотрю. Это невежливо, знаю. Именно поэтому я стою, молчу и смотрю.
Я должен привлечь его внимание.
Он ставит на колоду очередное поленце. Трижды взмахивает ножом, ловко перехватывая деревяшку пальцами. Иногда кажется, что сейчас он лишится пальца, но нет, этого не происходит. Смахивает три деревяшки на снег, где уже лежит горка дров. Срез чистый, блестит на солнце. Четвертую он оставляет, начинает щепать лучину. Тонкие лучинки падают в корзинку, плетеную из ивовых прутьев.
– Сплетни, – ворчит он.
– Что?
– На вас одежда со служебным гербом. Что могло привести дознавателя в мое ничтожное жилище? Только сплетни. Не трудитесь, меня уже проверяли. Меня, отца, деда. Тысячу раз.
– О каких сплетнях вы говорите?
Я знаю, о каких. Я хочу, чтобы он ответил.
– Не притворяйтесь, дознаватель. У людей длинные языки, длинные и злые. Болтают, что я – это мой отец. Что мой отец – собственный дед. Что мы убиваем друг друга, когда родитель состарится и утратит силу.
– Зачем?!
– Чтобы возродиться в телах потомства. Убиваем в честном поединке, поэтому не превращаемся в каонай. Случается, старший убивает младшего. Тогда мой дед – это мой отец. А я – мой отец, который был мой дед. У вас голова кругом не идет, а?
– Идет, – признаюсь я.
– Убиваем, возрождаемся. Хороним тела без свидетелей. И, конечно же, не заявляем о случившемся фуккацу. Раз в десять лет приходит кто-то вроде вас, полный рвения. Задает вопросы, морщит лоб. И уходит, полный разочарования. Будете задавать вопросы?
Новое поленце раскалывается на четыре части.
– Почему люди сплетничают? – спрашиваю я. – Почему доносят на вас?
Он пожимает плечами:
– Завидуют.
– Чему?
– Вот и я думаю, – он оглядывается на хибару. В приоткрытых дверях мелькает старушечье лицо: Камбун живет вместе с матерью. – Чему тут завидовать?
– Может быть, жалованью? – предполагаю я.
– Ну да, вы уже все разнюхали. Тоже завидуете?
Он не ошибся. Насчет жалованья я разузнал в управе. Дед нынешнего князя – тот, что благоволил к моему двоюродному прадеду, считая его воплощением духа предков – определил бешеному Камбуну доход в двадцать коку риса, выплачиваемый казной. Жалованье передавалось по наследству, от отца к сыну. За Камбунами числилась служба – формальная, не знаю, какая именно – и скудное содержание, равное жалованью моего отца, не давало младшей линии семьи Ивамото умереть с голоду.
Да, пожалуй. Доход без служебных тягот. Есть чему позавидовать. Как он сказал? Языки у людей длинные и злые.
Я кланяюсь:
– Прошу меня простить, Камбун-сан, если служебные гербы ввели вас в заблуждение. Я явился к вам по личному делу. Мое имя Торюмон Рэйден. Полагаю, вам известно, кто я. Мы не знакомы лично, я решил исправить это упущение. Я хочу засвидетельствовать вам свое почтение. Примите этот скромный дар, пожалуйста.
Я протягиваю ему коробку со сладостями.
Он не двигается с места.
– Почтение? – нож сверкает в его руке, но движения я не улавливаю. – Упущение? Дитя, что тебе известно о вражде между нашими предками? Вражде, завещанной нам по наследству? Ты хочешь перебраться через эту пропасть по мосту из пирожков?
– Да, – твердо говорю я.
– Я не приму твой подарок. Не приглашу тебя в дом. Не угощу чаем. Трижды «не», понял? Ты еще испытываешь почтение ко мне? Или мне стоит плюнуть тебе под ноги?!
Поленце разлетается под ножом. Он щепает лучину с такой яростью, что я холодею на морозе. Если раньше слова настоятеля Иссэна о вражде между нашими семьями казались мне преувеличением, сейчас я понимаю, что монах замалчивал бо́льшую часть правды. Какую же тогда ненависть должен испытывать этот человек к семье Ясухиро?
– Вы напрасно пытаетесь оскорбить меня, Камбун-сан. Оскорбления как подарки – пока ты их не принял, они принадлежат не тебе. Примите мой дар и забудем про ваши три «не». Выпьем чаю, сочиним по стихотворению…
– Я чужд поэзии, дитя.
– Не верю! Я большой поклонник таланта вашего деда. Помните трехстишия про «белые слезы неба» и «терпение мудрого»? Гениальные строки, мне никогда не достичь таких высот. Уверен, вы тоже превосходный поэт.
Богомол, думаю я. Соломинка. Тыкать соломинкой в это насекомое стократ опаснее, чем в детстве. А что делать?
– Прощайте, Рэйден-сан.
Впервые он называет меня по имени, со всем возможным уважением. Кажется, я добился желаемого, но это страшней, чем я предполагал.
– Уходите и не возвращайтесь. Не думаю, что нам стоит встречаться. Все стихи, какие мы бы сочинили вместе с вами, выйдут ужасными. Да, ужасными, я не сомневаюсь в этом.
– Отчего же? Знаю, я груб и вульгарен, но я готов прочесть вам что-нибудь из своих жалких потуг…
– Даже не пытайтесь. Уверен, Рэйден-сан, вы так же бездарны, как мой дед, отец и я сам. Мы ведь родственники, не правда ли? Да, сходство налицо.
Он показывает мне нож:
– Знаете, что это?
– Бокувари-танто? Ханакири? Я видел такой у настоятеля Иссэна.
– Это кубикири, «отсекатель голов». Мне он достался по наследству, как княжеская милость и наша вражда. Отличный клинок, не правда ли?
Больше он не произносит ни слова. Сует нож за пояс и уходит в дом.
Возвращаясь обратно, я дрожу от возбуждения. Ноги подкашиваются, я устал так, словно перетаскал уйму мешков с углем. Одежда со служебными гербами? Стихи, начертанные возле убитых каонай? Запястье, живот, шея – сенсей Ясухиро показал три удара, приводящие к победе.
Два удара я только что нанес.
Поскользнулся, сказал сенсей. «Если голова не была отрублена полностью, убийца скорее всего поскользнулся.» Теперь важно не поскользнуться. Легко ли уговорить меня тыкать соломинкой в богомола? О, при моем золотом характере это легче легкого!
Куда труднее уговорить богомола тыкать соломинкой в меня.
Глава шестая. Богомол тычет соломинкой
1. «Не пропадать же добру?»
В управу я заглянул на всякий случай. Мало ли, вдруг какие новости – к примеру, еще один убитый каонай? И впрямь, новости меня ждали. К счастью, не труп: письмо в футляре из лакированного бамбука.
Посыльный оставил письмо у секретаря Окады.
Я развернул хрустящий листок дорогой рисовой бумаги и некоторое время просто любовался посланием. Может, я и не великий ценитель, но как по мне, это был настоящий шедевр каллиграфии. Стремительные росчерки таяли подобно дыму в рассветной бирюзе неба; иероглифы походили на летящих птиц…
Мне почудился запах гари, контрастом к запахам свежего снега и морозного утра. В ушах эхом отдался птичий грай. Воистину, если человек мастер – он мастер во многом. Как сенсей владеет оружием, я видел не раз. А вот почерк его видел впервые, ни на миг не усомнившись: письмо написал сам Ясухиро, а не наемный каллиграф.
Личное приглашение от сенсея? Честь, неслыханная честь для меня, недостойного! Одно дело, когда тебя приглашают, другое – когда ты напрашиваешься с визитом. Смел ли я надеяться? Я еще раз перечитал письмо: нет, никаких «младших дознавателей», только мои имя и фамилия.
Значит, служба ни при чем.
Почему тогда письмо доставили в управу? Почему не домой? Тонкий намек: приглашение личное, но речь пойдет о деле, связанном с моей службой? Либо все проще, и незачем собираться в путь на тысячу ри, когда цель в двух шагах. Посыльный не застал меня дома, выяснил, что я на службе, и поспешил сюда, в управу. За срочность посыльным приплачивают, вот они и стараются.
И время указано: час Овцы[18]. Успеваю.
Мигеру я отправил домой, помогать О-Сузу по хозяйству. Отправляясь в гости к Камбуну, я взял безликого с собой и приказал стоять неподалеку, на виду у Камбуна. Обязательно на виду! Пусть хорошенько рассмотрит тебя, сказал я, пусть приметит, каков ты, как самурай примечает смазливую певичку. Нам это только на пользу. У Мигеру чесался язык спросить, зачем из него певичку делают, но он не спросил, а даже и спросил бы, так я все равно бы не ответил. Когда визит закончился, Мигеру проводил меня до управы – и уже там, у ворот, я строго-настрого запретил ему следовать за мной.
Что еще? Подарок сенсею?
Вот теперь ломай голову: преподнести Ясухиро Кэзуо коробку со сладостями, от которых отказался Ивамото Камбун – достойный поступок или недостойный? Я открыл коробку: один ряд – мармелад из красных бобов, второй ряд – пирожные из клейкого риса, завернутые в листья сакуры.
Достойный, решил я. Не пропадать же добру?
2. «Он опознал этого человека?!»
Ворота. Привратник.
Служанка с метелкой из перьев. Слуга принимает у меня плети.
Все повторялось, только без Цуиёши и Мигеру. Захоти сенсей что-то продемонстрировать, придется ему показывать на мне – больше не на ком. Отлично, я готов.
Комната с фамильным оружием. Чайный столик.
Сенсей.
Изменилось только настроение. Два дня назад я блуждал в потемках, но теперь увидел впереди свет. Что же до Ясухиро, его прическа сегодня была в идеальном порядке, мешки под глазами исчезли, а белки́ глаз утратили красноту. Широкие складки темно-зеленого, расшитого серебряными лилиями кимоно, казалось, складывались в уступы и ущелья величественных гор. Хоть картину с учителя пиши! И у чая вкус другой: букет осени, а не морская горечь.
– Я заметил ваш неподдельный интерес к моей скромной демонстрации, – как бы невзначай обронил Ясухиро, когда со всеми заверениями, благодарностями и взаимными комплиментами было покончено. – Как вы еще молоды, Рэйден-сан! Боюсь, на кого-то постарше я бы не произвел такого впечатления.
Он наполнил мою чашку, я с поклоном взял ее обеими руками. Ароматный пар щекотал ноздри.
– О, Кэзуо-сан! Ваша демонстрация была более чем впечатляющей. Я впервые видел, как человека рубят стальным мечом! Это бесценный для меня опыт.
Я не соврал сенсею. В ночном саду он рубил циновки, не живых людей.
– Боюсь, что мои жалкие потуги – лишь блеклая тень мастерства наших предков. Ваш восторг согревает мне сердце, но древнее искусство ныне утеряно. Пращуры считали, что меч – душа самурая. Это скорее поэтический образ, но иногда меня мучат сомнения. Не утратили ли мы частицу души, отказавшись от боевых мечей? Хотите взглянуть на них поближе?
– Вы слишком добры ко мне, Кэзуо-сан! Это большая часть для меня, недостойного…
Поднявшись на ноги, Ясухиро жестом велел мне оставаться на месте. Два шага, скользящих как по льду – и вот сенсей бережно снимает с подставки мечи, большой и малый, оба в черных ножнах. Возвращается к столу, кладет перед собой; коснувшись серебряной защелки, извлекает из ножен большой меч. Слышен тихий шелест – с таким звуком движется змея в жухлой траве.
Блеск металла. Я невольно подался вперед.
– Длина клинка – два с половиной сяку[19]…
Волнистый муар старинной ковки. Совершенный в своей простоте.
– Клинок изогнутый, без долов…
Бритвенно-острый даже на вид. Тронь лезвие – останешься без пальцев!
– Цуба[20] прорезная, с изображением Комаину, собаки-льва…
Накладки из серебра. – Рукоять обтянута кожей ската…
Оплетка черным шелковым шнуром. Сейчас такую делают дорогим самурайским плетям.
– Ножны покрыты черным лаком…
Узор в виде стрекоз.
– Настоящее совершенство, не правда ли?
– Полностью с вами согласен.
– В наши дни не носят стальные мечи. Боятся. Не умеют владеть ими, как должно. Но отголоски тех времен, случается, долетают до нас. Вы слышали о цудзигири?
– «Смерть на перекрестке»? Проба меча на живом человеке?
Ясухиро был удивлен моей осведомленностью, хотя виду не подал.
– Я не ошибся в вас, Рэйден-сан. Что ж, если вам известна эта забытая традиция… Вы, без сомнения, легко поймете, что произошло с тем каонай, о котором вы рассказали мне в свой предыдущий визит.
– Кто-то пробовал на нем меч?
– Да. Такой же меч, как эти.
Убрав большой меч в ножны, сенсей положил его рядом с малым, так и не покинувшим своего чернолакового убежища.
– Фамильный, как ваши?
– Разумеется. Новые мечи сейчас не куют.
– Да, конечно. Я понимаю, что происходит, Кэзуо-сан, я не понимаю другого. Если меч – душа самурая, зачем осквернять его порченой кровью безликих?
– Раньше меч тоже пробовали не на князьях. Нищие, бродяги, крестьяне. Случайные прохожие. Преступники. Даже трупы, привязанные к шесту. Кстати, убитый каонай… Он ведь был не один такой, правда?
Никакой тайны я сенсею не открою. По городу и так ползут слухи.
– Да.
– И что, ни одного свидетеля? Кто-нибудь видел убийцу?
– Мой слуга.
– Он опознал этого человека?!
– Нет. Убийца скрыл лицо под тряпкой.
Я повторил слова Мигеру:
– Как презренный каонай.
Долгое время хозяин дома молчал, размышляя о чем-то своем. Поднял, покачал в руке бурый чайник из пористой обожженной глины, похожий на трухлявый пень. Саби, вспомнил я слова настоятеля Иссэна. Естественность, скрытая в несовершенстве. Ваби, обыденность. Простота и воздержанность. Сибуй – сочетание этих двух качеств. Без сомнения, чайник Ясухиро обладал всеми тремя достоинствами. Что же до югэн – намека, недосказанности – то ничего такого в чайнике не было. Разве что оставалось загадкой: пуст он или полон?
Чайник был пуст. Сенсей это определил по весу, а я – по сенсею.
Вот и весь югэн.
– Моему деду, – нарушил молчание Ясухиро, – а позже отцу предлагали поединки на стальных мечах.
– Уже после сошествия Чистой Земли?
– Да.
Кто мог предложить такое безумие предкам учителя? О, я знал этих людей! Ивамото Камбун из рода самураев с одинаковыми именами – не важно, который. Все Камбуны, сколько их ни было, ненавидели семью Ясухиро.
– Поединок за право возглавить школу?
– Из вас получился хороший дознаватель, Рэйден-сан, – Ясухиро улыбнулся: едва заметно, одними уголками губ. – Господин Сэки сделал верный выбор. Вы правы, все упиралось в школу. Если вы задали такой вопрос, то думаю, вам также известно, кто делал эти предложения.
Я кивнул. К чему называть имя, если мы оба знаем, о ком идет речь? У стен есть уши, в особенности – у бумажных стен наших домов. А там, где есть уши, есть и языки.
– А как же фуккацу?
Сенсей пожал плечами:
– Не всякий поединок заканчивается смертью.
Отец сказал то же самое. С теми же интонациями.
– Останься кто-нибудь калекой, он бы не только потерпел поражение, но и утратил руку или ногу, а вместе с нею – возможность возглавлять школу. Его место занял бы победитель, более искусный во владении мечом, а значит, и более достойный.
– Это не ваши слова, Кэзуо-сан.
– У вас чуткий слух.
– Это слова того, кто бросал вызов.
– Да.
– Но если все-таки? Если насмерть?
– Тогда убитый возродился бы в теле убийцы и возглавил школу.
– Но ведь он проиграл!
– Это не важно. Важно, что теперь во главе школы стоял бы человек, знающий не понаслышке, что такое бой насмерть.
Безумие Камбунов было лучшим бойцом, чем мой здравый смысл. Как я ни старался, я не мог найти уязвимую щель в этих утверждениях.
– Ваши уважаемые отец и дед согласились? Отказались?