Вечное чудо жизни бесплатное чтение
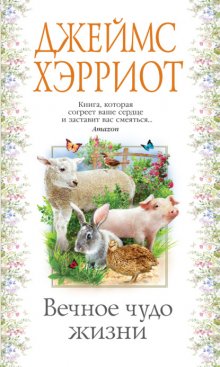
© И. Г. Гурова (наследник), перевод, 1994
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021
Издательство АЗБУКА®
Моим почитаемым, стареющим друзьям Полли и Боди
Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле.
Бытие 1: 28
Конь мистера Кеттлуэлла
Рано поутру я редко бываю в форме, а уж тем более в первые дни йоркширской весны, когда пронизывающий мартовский ветер задувает с холмов, забирается под одежду, щиплет нос и уши. Безрадостная пора, самая неподходящая, чтобы стоять посреди мощеного двора маленькой фермы и смотреть, как красавец-конь издыхает из-за моей некомпетентности.
Началось все в восемь. Я как раз кончал завтракать, и тут позвонил мистер Кеттлуэлл.
– У меня, значит, рабочий конь весь бляшками пошел.
– Да? А какими бляшками?
– Ну, круглыми такими, плоскими. Они у него по всему телу высыпали.
– И появились они внезапно?
– Вечером он был как огурчик.
– Хорошо. Я сейчас же его осмотрю.
Мне просто руки хотелось потереть от удовольствия. Уртикария. Обычно она проходит сама собой, но инъекция ускоряет выздоровление, а мне не терпелось испробовать новое антигистаминное средство – оно рекомендовалось именно для таких случаев. Как бы то ни было, превосходная возможность для ветеринара показать себя. День начинался очень приятно.
В пятидесятых годах на фермах прочно воцарился трактор, однако сохранялось еще довольно много рабочих лошадей, а добравшись до мистера Кеттлуэлла, я увидел, что мой пациент – это нечто особенное.
Фермер вывел его из стойла во двор. Великолепный шайр, восемнадцать ладоней в холке, не меньше. Благородная голова, которую он, шагая ко мне, гордо вскидывал. Я глядел на него с чувством, близким к благоговению, любуясь крутым изгибом шеи, широкой грудью, мощными ногами с густыми щетками над массивными копытами.
– Какой чудесный конь! – ахнул я. – Просто гигант!
Мистер Кеттлуэлл улыбнулся с тихой гордостью.
– Да что уж, конь что надо. Я его месяц как купил. Нравится мне, чтобы в хозяйстве был справный коняга.
Мистер Кеттлуэлл был маленьким, щуплым, довольно пожилым, но еще бодрым и энергичным. Ему пришлось встать на цыпочки, чтобы похлопать мощную шею. Конь воспользовался этим и благодарно потерся о него мордой.
– И ласковый такой, смирный.
– Да, когда лошадь не только красива, но и нрав у нее добрый – это многого стоит. – Я провел ладонью по коже, покрытой типичными бляшками. – Несомненно, уртикария.
– А это что?
– Иногда ее называют крапивницей. Вид аллергии. Возможно, он съел что-то не то, но обычно установить причину бывает трудно.
– И что, болезнь серьезная?
– Нет-нет. Вот сделаю ему инъекцию, и скоро все пройдет. Ведь так он здоров?
– Ага. Здоровее некуда.
– Отлично. Иногда животное в таких случаях чувствует себя неважно, но ваш молодец просто пышет здоровьем.
Набирая в шприц антигистаминный препарат, я подумал, что в жизни не говорил более правдивых слов. Великан прямо-таки лучился здоровьем.
Во время инъекции конь не шевельнулся, и я уже хотел было убрать шприц, но тут мне в голову пришла новая мысль. От уртикарии я обычно применял собственный препарат, и он всегда давал хорошие результаты. Пожалуй, для верности стоит ввести и его. Пусть этот великолепный конь побыстрее и понадежнее избавится от своей хвори. Я рысью сбегал к машине за моим надежным средством и ввел обычную дозу. Великан опять и ухом не повел. Фермер засмеялся.
– Ей-богу, ему ваш укол нипочем.
Я сунул шприц в карман.
– Да-да. Жаль, что не все наши пациенты такие терпеливые. Он молодчага.
«Вот это, – думал я, – праздник, а не лечение». Простой случай без осложнений, приятный фермер, кроткий пациент и к тому же истинное воплощение лошадиной красоты – я готов был любоваться им хоть весь день. Мне не хотелось уезжать, но меня ждали другие срочные вызовы. И все-таки я никак не мог сдвинуться с места, вполуха слушая рассуждения мистера Кеттлуэлла о перспективах окота.
– Ну что же, – сказал я наконец, – мне пора. – И я уже было собрался уйти, как вдруг заметил, что фермер оборвал свою речь.
Молчание длилось минуту-другую, а потом мистер Кеттлуэлл пробормотал:
– Его чего-то пошатывает.
Я поглядел на коня. У него чуть подрагивали мышцы ног. Дрожь была практически незаметной, но она распространялась все выше, и вот уже начала подрагивать кожа на шее, спине и крупе. И дрожь постепенно усиливалась.
– Что это? – спросил мистер Кеттлуэлл.
– Небольшая реакция на укол. Сейчас пройдет. – Я пытался говорить с небрежной уверенностью, которой отнюдь не испытывал.
Мало-помалу дрожь охватила коня с головы до копыт, становясь все интенсивнее, а мы с фермером смотрели и молчали. Мне чудилось, что я стою так целую вечность, пытаясь придать себе безмятежный вид. Я просто не верил своим глазам. Такое внезапное, необъяснимое изменение! Для него же нет причин! У меня застучало сердце, во рту пересохло: дрожь сменилась судорогами, сотрясавшими все тело коня, и его глаза, недавно такие спокойные, выкатились от ужаса, а на губах заклубилась пена. Мысли вихрем неслись у меня в голове. Пожалуй, не следовало сочетать эти две инъекции… Но не могли же они дать такой страшный эффект! Никак не могли.
Секунда проползала за секундой, и я чувствовал, что долго не выдержу. Кровь стучала у меня в ушах. Ему же, конечно, должно стать лучше. Ведь хуже уже некуда.
Я ошибся. Почти незаметно могучий конь начал покачиваться. Сперва слегка, потом сильнее, сильнее, и вот он уже наклоняется то на один бок, то на другой, словно столетний дуб в ураган. О господи! Он сейчас упадет, а это конец! И ждать оставалось недолго. Великан рухнул наземь, и мне померещилось, что булыжники заходили ходуном. Он вытянулся на боку, и несколько мгновений его ноги отчаянно дергались, а потом он замер без движения.
Вот так! Я убил этого великолепного коня. Трудно, невозможно было представить себе, что какие-то несколько минут назад он стоял передо мной во всей своей мощи и красоте, и тут я сунулся с моими новейшими средствами… И вот он лежит мертвый.
Что я скажу? «Мне страшно жаль, мистер Кеттлуэлл, но я просто в толк не возьму, как это случилось»?! Рот у меня открылся, но я не сумел издать ни звука. Меня не хватило даже на хриплый шепот. Словно со стороны – как картину за окном – я отрешенно воспринимал кубические строения служб на фоне темных холмов в полосках снега под свинцовым небом, жгучий ветер, фермера и самого себя у неподвижного тела коня.
Меня пробирал ледяной холод. Я чувствовал себя глубоко несчастным, но надо было дать объяснение. Испустив дрожащий вздох, я снова открыл рот, но тут конь чуть приподнял голову, и я ничего не сказал. Как и мистер Кеттлуэлл. А конь-великан перевалился на грудь, посмотрел по сторонам, потом поднялся на ноги, тряхнул головой и подошел к своему хозяину. Исцеление было столь же стремительным и невероятным, как и жуткий коллапс. Даже падение на булыжник ему как будто не причинило ни малейшего вреда.
Фермер встал на цыпочки и похлопал коня по шее.
– А знаете, мистер Хэрриот, бляшки-то почти совсем пропали.
Я подошел посмотреть.
– Совершенно верно. Они уже практически неразличимы.
Мистер Кеттлуэлл изумленно покачал головой.
– Да уж, новое ваше лекарство прямо чудеса творит. Только я вам одно скажу, вы уж не обижайтесь. – Тут он положил мне ладонь на плечо и заглянул в глаза. – Слишком уж оно, на мой взгляд, сильновато действует.
Отъехав от фермы, я остановил машину с подветренной стороны высокой стенки. Меня охватила великая усталость. Такие испытания для меня вредноваты. Я уже распростился с молодостью – мне перевалило далеко за тридцать, – и такие потрясения больше не проходили даром. Я опустил зеркало заднего вида и обозрел свою физиономию. Выглядел я довольно бледно. Однако далеко не таким побелевшим от ужаса, каким ощущал себя. Не проходило и ощущение вины, а также недоумение, сдобренное привычной мыслью о том, что существуют более легкие способы зарабатывать хлеб насущный, чем профессия сельского ветеринара. Работаешь двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, вечная грязь и, сверх того, постоянные душевные травмы из-за катастрофических происшествий вроде недавнего, пусть оно и завершилось благополучно. Я откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза.
Когда спустя минуты две я их открыл, сквозь тучи пробилось солнце, озарив зеленые склоны, заставив сверкать сугробы, вызолотив каменные россыпи. Я опустил стекло и глубоко вдохнул холодный чистый воздух, свежий и пряный, струящийся с вересковых пустошей вверху. Всепоглощающую тишину нарушил крик кроншнепа, а в траве у дороги я различил первые весенние цветы.
Ко мне возвращалось душевное спокойствие. Может быть, я и не навредил коню мистера Кеттлуэлла. Может быть, антигистамин иногда дает подобную реакцию. Но что бы там ни было, едва я завел мотор и поехал дальше, как мной овладело давно знакомое чувство: до чего же хорошо работать с животными среди этой волшебной природы! До чего же мне повезло, что я практикую среди йоркширских холмов!
Щенуля
Бесспорно, нервное потрясение обостряет восприимчивость. Во всяком случае, когда я, все еще испытывая отчаянное сердцебиение, покинул ферму Кеттлуэлла, чтобы продолжить утренние визиты, мне казалось, будто все вокруг я вижу в первый раз. Впрочем, и работая, я всегда ощущал окружающую красоту и ни на йоту не утратил то восторженное изумление, которое вспыхнуло во мне, когда я впервые увидел сельский Йоркшир, но в это утро волшебство холмов обрело особую силу.
Мои глаза то и дело отрывались от дороги, скользили по крутым склонам, наслаждались зеленым узором огороженных лугов, тяжелым трудом отвоеванных у вереска, и созерцали вершины с тем волнением, которое неизменно вызывали у меня эти высоты, хранящие величие дикой природы.
Покинув уединенную ферму, я не удержался от соблазна, поставил машину на неогороженной обочине и с Диной, моим биглем, отправился к манящей вершине. Снег тут исчез чуть ли не за одну ночь, и только под стенками тянулись белые полосы. Ощущение было такое, словно все запахи земли и молодых ростков долго томились в заточении, а теперь, освобожденные весенним солнцем, вырвались на волю потоками сладчайшего благоухания.
Нигде ни единого следа человека, и мы с собакой поднимались среди многомильных просторов вереска, торфяников и бочажков, где по черной воде бежала рябь и под вечным ветром гнулась осока.
Тени летящих облаков накрывали меня, расписывали узорами из сумрака и света уходящие вдаль зеленые и бурые склоны. Я пьянел только оттого, что находился здесь, на самой крыше Йоркшира. Пейзаж без единого живого существа, безмолвный, если не считать отдаленного крика птицы, но я лишь еще больше пьянел от безлюдья, от ощущения близости всего сущего.
Как всегда, очарование пустынных вершин, точно пение сирен, соблазняло меня задержаться среди них, но время шло, а мне предстояло навестить еще несколько ферм.
Последнюю я покинул с чувством, что день прожит не напрасно, и поехал назад в Дарроуби. Вот, царя над скоплением крыш, показалась его квадратная колокольня, и вскоре моя машина запрыгала по булыжнику рыночной площади, окруженной магазинчиками и трактирами, которые обслуживали трехтысячное население городка.
В дальнем ее углу я свернул на Тренгейт, улицу, где находилась наша приемная, и остановился перед Скелдейл-хаусом, увитым плющом трехэтажным домом из порыжевшего от времени кирпича, где я не только работал, но и счастливо жил с моей женой Хелен и двумя нашими детьми.
Сразу же в памяти всплыли незабываемые дни, когда мой партнер Зигфрид Фарнон и его неподражаемый брат Тристан жили и смеялись здесь в наши холостые дни. Теперь оба обзавелись семьями и собственными домами. Тристан служит в Министерстве сельского хозяйства, а Зигфрид по-прежнему остается моим партнером, и в тысячный раз я возблагодарил Бога, что оба брата – все еще самые близкие мои друзья.
Моему сыну Джимми исполнилось десять лет, дочурке Рози – шесть; в этот час они были в школе. Но по ступенькам крыльца сбегал Зигфрид, рассовывая по карманам флаконы и пузырьки.
– А, Джеймс! – воскликнул он. – Вам как раз звонили. Одна из ваших самых обожаемых клиенток, миссис Бартрам. Щенуля нуждается в ваших услугах. – И Зигфрид ухмыльнулся.
Я криво улыбнулся в ответ.
– Чудесно. А вам самому не захотелось туда съездить?
– Да что вы, мой милый! Мог ли я лишить вас такого удовольствия? – Бодро помахав рукой, он забрался в машину.
Я поглядел на часы. До обеда еще тридцать минут, а Щенуля обитает совсем рядом. Я вытащил из машины чемоданчик и пошел по тротуару.
В воздухе плавал божественный аромат жареной рыбы с хрустящим картофелем, и, ощутив приступ острого голода, я заглянул в окно лавки, за которым фигуры в белоснежных халатах подцепляли на плетеные лопаточки обжаренные в тесте селедки и водружали их на золотистые горки картофеля.
В этот час торговля шла очень бойко, и очередь в лавке, закрутившись улиткой, быстро продвигалась, разбирая завернутое в газету кушанье.
Одни покупатели уносили его домой, другие посыпали солью, сбрызгивали уксусом и устраивали пикничок прямо на улице.
Когда я навещал собаку миссис Бартрам в квартире над лавкой, у меня неизменно разыгрывался аппетит. И я еще раз вдохнул дразнящее благоухание, а затем свернул в проулок и поднялся по лестнице.
Миссис Бартрам, по своему обыкновению, восседала в кресле на кухне – толстая, грузная, с ничего не выражающим лицом, с неизменной сигаретой во рту.
Из пакета, лежавшего у нее на коленях, она скармливала картофелинки своему псу Щенуле, который, сидя напротив, ловко ловил их на лету.
Облик Щенули не слишком соответствовал кличке. Был он огромен, космат и отличался суровым нравом. Я всегда обходился с ним очень уважительно.
– Он по-прежнему жиреет, миссис Бартрам, – сказал я. – Вы не изменили его рацион, как я советовал? Помните, я говорил, что ему вредно питаться только рыбой с картошкой?
Миссис Бартрам пожала плечами, осыпав пеплом грудь.
– Как же, помню. Я пробовала. Давала ему каждый день только рыбу, а он нос воротил. Он картошку любит, можно сказать, обожает.
– Так-так. – Особенно распространяться на эту тему я не мог, поскольку миссис Бартрам, по-моему, сама ничего другого не ела, и было бы бестактно указать, что большие куски зажаренной в тесте рыбы никак не способствуют похуданию. Ведь если мало было Щенули, ее собственная фигура нагляднейшим образом подтверждала этот факт.
Глядя на обоих, я вдруг обнаружил между ними удивительное сходство. Сидят выпрямившись друг против друга, массивные, неподвижные, но внушающие ощущение дремлющей силы.
Раскормленные собаки обычно ленивы и добродушны, однако неисчислимые почтальоны, мальчишки-газетчики и лотошники пускались в паническое бегство, ибо Щенуля имел обыкновение превращаться в чудовище, облаивающее их сверкающие пятки. Никогда не забуду, как торговец щетками, обвешанный образчиками своего товара, мирно подъехал на велосипеде ко входу в квартиру и сразу же рванул с места, точно будущий победитель велосипедных гонок «Тур де Франс», – это на улицу вылетел Щенуля.
– Ну так что случилось, миссис Бартрам? – спросил я, меняя тему.
– Да глаз у него. Все слезится.
– Вижу-вижу. – Левый глаз гигантского пса почти заплыл, и по шерсти тянулись темные дорожки от сочащейся влаги. Такое украшение на морде придавало ему даже более зловещий вид. – Несомненно, раздражение. Возможно, инфекция.
Было бы недурно установить причину. Соринка? Или конъюнктивит? Я хотел было оттянуть веко, но Щенуля, не шелохнувшись, уставился на меня здоровым глазом и ощерил два ряда грозных зубов. Я убрал руку.
– Да… Вот тюбик с антибиотиком. Выдавливайте понемножку в глаз три раза в день. Вы сумеете, верно?
– Само собой. Он же смирный как ягненочек! – Без всякого выражения миссис Бартрам прикурила новую сигарету от дотлевающего окурка и глубоко затянулась. – Я с ним делаю что захочу.
– Отлично, отлично.
Роясь в чемоданчике, я в который раз переживал давно привычное поражение. Лечить Щенулю всегда приходилось на почтительном расстоянии. В обращении с ним я не допускал глупостей вроде попытки измерить температуру. По правде говоря, за все время нашего знакомства я пальцем к нему не притронулся.
Через две недели миссис Бартрам сообщила, что глаз Щенули не только не прошел, но стал еще хуже.
Я торопливо поднялся в квартиру, вдыхая восхитительные запахи, которые доносились с первого этажа из лавки. Щенуля сидел напротив хозяйки в уже знакомой позе. Бесспорно, из глаза у него текло сильнее. Однако на этот раз в глазу почудилось еще что-то, и я наклонился почти к самой собачьей морде. Тут глухое ворчание предупредило дальнейшие мои вольности, но я уже обнаружил причину: под краем века развилась маленькая папиллома и раздражала роговицу. Я обернулся к миссис Бартрам.
– У него там маленькая опухоль. Она раздражает глаз и вызывает слезоотделение.
– Опухоль? – Лицо этой дамы редко что-нибудь выражало, но тут одна бровь дернулась, и сигарета во рту подпрыгнула. – Не нравится мне это.
– Нет-нет, она абсолютно доброкачественная, – сказал я. – Никаких причин тревожиться нет. Я легко ее удалю, и он снова будет совершенно здоров.
Я говорил с полной искренностью – операция действительно самая пустяковая и обычная. Местная анестезия, щелчок ножницами Рихтера – и больше никаких забот. Но тут я посмотрел на огромного пса, который мерил меня холодным взглядом, и по моей коже пробежал холодок. С Щенулей вряд ли все пройдет так уж просто.
Когда на следующий день миссис Бартрам привела его к нам и оставила в смотровой, выяснилось, что для опасений были все основания. Его несомненно требовалось усыпить, а мы располагали превосходными новейшими транквилизаторами вроде ацетилпромазина. Оставался сущий пустяк: один из нас ухватит эту львиную голову, а второй защипнет кожу и введет иглу. Однако Щенуля дал недвусмысленно понять, что ничего подобного он допускать не намерен. Оказавшись в незнакомом месте и чувствуя, что ничего хорошего ждать не приходится, он с рыком бросился на нас с Зигфридом, едва мы открыли дверь.
А потому мы тотчас ее закрыли.
– Собачник? – предложил Зигфрид с сомнением в голосе.
Я мотнул головой. Собачник – длинная палка с мягкой петлей на конце – применялся, когда надо было утихомирить трудную собаку. Петлю накидывали ей на шею и так удерживали, пока производилась инъекция. Однако шансов удержать таким образом Щенулю было не больше, чем остановить матерого гризли с помощью лассо. Положим даже, нам удастся набросить на него петлю, но тогда начнется бешеная борьба, и еще вопрос, кто выйдет из нее победителем.
Однако мы не раз имели дело с опасными собаками, и в запасе был еще один способ.
– Похоже, тут без нембутала не обойтись, – буркнул Зигфрид, и я согласно закивал.
Для животных, не подпускающих к себе, у нас в холодильнике всегда хранился сочный говяжий фарш. Перед таким деликатесом не могла устоять ни одна собака. Подмешать парочку капсул нембутала в фарш трудности не составляло. А потом оставалось только ждать, когда пациент погрузится в блаженный сон.
Это срабатывало всегда. Но отнимало массу времени. Удалить маленькую папиллому можно за единый миг. Но перед тем придется ждать минут двадцать, пока снотворное подействует. Готовя сдобренный нембуталом фарш, я старался не думать о срочных вызовах на фермы, где нас ждут не дождутся.
Смотровая выходила в сад, а единственное окно было чуть приоткрыто. Я протолкнул фарш в оконную щель, и мы вернулись в приемную готовиться к дневному объезду. Потом пошли в сад, полагая, что Щенуля мирно посапывает на полу в смотровой. Но тот ринулся к окну, рыча как оголодавший волк. На полу лежал нетронутый фарш.
– Нет, вы только поглядите! – воскликнул я. – Просто глазам своим не верю! Еще ни одна собака не отказывалась от такого чудесного угощения.
– Чертовски неудачно! По-вашему, он учуял нембутал? – спросил Зигфрид. – Попробуем дать ему порцию фарша побольше.
Я изготовил новую приманку и протолкнул ее в окно. Сами мы тут же отошли в сторону, чтобы собака не заподозрила неладное. Через несколько минут мы снова подкрались к окну. Картина не изменилась ни на йоту. Щенуля и не подумал попробовать фарш.
– Так что же нам делать, черт подери?! – взорвался Зигфрид. – Нам отсюда до обеда не выбраться!
И действительно, обеденный час приближался: ветер с улицы доносил благоухание лавки, торгующей рыбой с жареной картошкой.
– Минутку! – воскликнул я. – Мне все ясно!
Я галопом пронесся по улице и вернулся с пакетом жареного картофеля. Вложить капсулу в картофелину и просунуть ее в окно было секундным делом. Щенуля проглотил любимое лакомство в мгновение ока и без малейших колебаний. Еще картофелина с капсулой и еще, пока пес не получил полную дозу.
На наших глазах его свирепость стремительно пошла на убыль, сменилась туповатым добродушием, а еще через минуту-другую он сделал пару неверных шагов и повалился на бок. Победа осталась за нами. Когда мы вошли к нему, Щенуля пребывал в счастливом забытьи, и мы незамедлительно удалили папиллому. Позднее за ним зашла хозяйка, но наркотический кайф еще не совсем прошел. В приемной, куда она привела любимца, его голова возвышалась над краем стола, и он прямо-таки ухмыльнулся мне, когда я опустился на стул.
– Мы убрали папиллому, миссис Бартрам, – сказал я. – Глаз у него теперь будет в порядке, но я пропишу ему курс линкомициновых таблеток, чтобы инфекция не развивалась.
Взявшись за ручку, чтобы написать указания к применению, я скользнул взглядом по другим, уже готовым рецептам. В те дни, когда инъекции еще не стали всеобщей панацеей, многие наши лекарства вводились через рот, и указания на рецепте отличались большим разнообразием. «Микстура для вола. Давать в пинте воды с патокой». «Слабительное для теленка. Давать в полпинте жидкой овсянки».
Мое перо на мгновение замерло над бумагой, а затем впервые в жизни я прописал: «Таблетки для собаки. Давать по одной трижды в день в жареной картофелине».
Альфред, кот при кондитерской
Горло, казалось, вот-вот меня доконает. Три ночных окота подряд на открытых всем ветрам склонах завершились сильнейшей простудой. Да и работал я, естественно, без пиджака, а потому теперь настоятельно и незамедлительно нуждался в леденцах от кашля Джеффри Хатфилда. Бесспорно, лечение не слишком научное, но я по-детски верил в силу этих леденчиков, которые во рту взрывались и загоняли в бронхи целительные пары.
Лавочка пряталась в тихом переулке и была такой крохотной, что над окном еле-еле достало места для вывески «Джеффри Хатфилд, кондитер». Но в маленьком помещении яблоку негде было упасть – как всегда. Хотя, поскольку день был рыночный, теснота, пожалуй, превосходила обычную.
Когда я открыл дверь, чтобы вклиниться в гущу городских дам и фермерских жен, колокольчик над ней мелодично звякнул. Мне пришлось подождать, но я ничего не имел против, так как наблюдать мистера Хатфилда за работой всегда было наслаждением.
И вошел я в самый удачный момент – владелец как раз пытался в душевных муках решить, что именно требуется его клиентке. Он стоял спиной ко мне, слегка кивая седовласой львиной головой, крепко сидящей на широких плечах, и озирал высокие банки со сластями у стены. Заложенные за спину руки то напрягались, то расслаблялись, отражая внутреннюю борьбу. Затем он прошелся вдоль ряда банок, внимательно вглядываясь в каждую. Лорд Нельсон, решил я, расхаживая по квартердеку «Виктории» в размышлении о том, какую тактику боя избрать, вряд ли выглядел столь сосредоточенным.
Наконец мистер Хатфилд протянул руку к банке, и напряжение внутри лавочки достигло апогея. Но, покачав головой, он опустил руку. Затем все покупательницы издали дружный вздох – еще раз кивнув, мистер Хатфилд простер руки, взял соседнюю банку и повернулся к обществу. Крупное лицо римского сенатора осветила благожелательнейшая улыбка.
– Ну-с, миссис Моффат, – прогремел он почти на ухо почтенной матроне, сжимая стеклянный сосуд в обеих ладонях с изяществом и благоговением ювелира, открывающего футляр с бриллиантовым колье. – Поглядите, не заинтересует ли вас вот это?
Миссис Моффат покрепче вцепилась в сумку с покупками и прищурилась на конфеты в обертках за стеклом банки.
– Ну, я… то есть мне… – начала она.
– Если, сударыня, память мне не изменяет, вы изъявили желание приобрести что-нибудь похожее на русскую карамель, и я весьма рекомендую вам эти конфеты. Не совсем русские, но очень приятные на вкус жженые леденцы. – Его лицо изобразило терпеливое ожидание.
Сочный голос, смакующий прелести этих леденцов, вызвал у меня бурное желание схватить их и сожрать не сходя с места. Покупательница, видимо, находилась под тем же впечатлением.
– Ладно, мистер Хатфилд, – поспешно сказала она. – Взвесьте мне полфунта.
Лавочник слегка поклонился.
– Благодарствую, сударыня. Не сомневаюсь, вы останетесь довольны своим выбором. – Его лицо озарилось благожелательной улыбкой, и пока он ловко сыпал леденцы на весы, а затем завертывал их с профессиональной сноровкой, мне вновь пришлось бороться с желанием добраться до них.
Мистер Хатфилд уперся обеими ладонями в прилавок, наклонился вперед и проводил покупательницу любезным поклоном, присовокупив:
– Желаю вам наилучшего, сударыня. – Потом он обернулся к своим верным посетительницам. – А, миссис Доусон, как приятно вас видеть! Так что же вам угодно нынче утром?
Дама просияла улыбкой неподдельного восторга.
– Я бы взяла шоколадок с начинкой. Ну те, которые брала на той неделе, мистер Хатфилд. Очень вкусные! Они у вас еще есть?
– О да, сударыня. И я весьма польщен, что вы одобрили мой совет. Такой нежный, такой восхитительный вкус! И я как раз получил партию в пасхальных коробках. – Он снял с полки коробку и покачал ее на ладони. – Просто прелесть, вы не находите?
Миссис Доусон закивала:
– Очень красивенькая. Я беру коробку. А еще мне нужно побольше карамелек, полный пакет, пусть ребятишки погрызут. И разного цвета, понимаете? Что у вас есть?
Эта часть ритуала мне особенно нравилась, и, как обычно, я получил огромное удовольствие, хотя наблюдал подобные сцены несчетное количество раз.
Тесная лавочка, набитая покупательницами, хозяин, решающий, что порекомендовать, и величественно восседающий у дальнего конца прилавка Альфред.
Альфред, кот Джеффа, неизменно занимал это место на полированной доске возле занавешенного входа в гостиную мистера Хатфилда. И сейчас он, как обычно, словно бы с горячим интересом следил за происходящим, переводя взгляд с хозяина на покупательницу, и (хотя, бесспорно, это могло мне лишь чудиться) выражение на его морде свидетельствовало о том, что он принимает переговоры близко к сердцу и испытывает глубочайшее удовлетворение при их успешном завершении. Альфред никогда не покидал своего поста и никогда не посягал на остальной простор прилавка. А если какая-нибудь покупательница почесывала его за ухом, он отвечал гулким мурлыканьем и милостиво наклонял голову.
Естественно, Альфред никогда не допускал некорректных выражений своих чувств. Это было бы нарушением достоинства, а достоинство давно уже стало его неизменным свойством. Даже котенком он избегал неумеренной шаловливости. Три года назад я его охолостил (по-видимому, он не держал на меня зла), и с тех пор он обрел массивность и благодушие. Я залюбовался им. Огромный, невозмутимый, в мире со всем, что его окружало. Бесспорно, он был образцом кошачьей внушительности.
И всякий раз, думая об этом, я поражался, насколько он походит на своего хозяина. Оба были одного покроя, и понятно, что их связывала преданнейшая дружба.
Когда подошла моя очередь, я дотянулся до Альфреда и пощекотал его под подбородком. Ему это понравилось: он откинул голову, басистое мурлыканье сотрясло грудную клетку и разнеслось по всей лавочке.
Даже покупка леденцов от кашля обставлялась особым церемониалом. Хозяин лавочки торжественно понюхал пакетик и похлопал себя по груди.
– У них и запах-то благотворный, мистер Хэрриот. Излечат вас в один момент. – Он поклонился, улыбнулся, и могу поклясться, что Альфред улыбнулся вместе с ним.
Я снова протиснулся между покупательницами и, шагая по переулку, в который раз поражался феномену Джеффри Хатфилда. В Дарроуби было несколько кондитерских лавок. Больших, с красивыми витринами, но ни одна не торговала так бойко, как тесная лавчонка, которую я только что покинул. Безусловно, причиной было уникальное обхождение Джеффа с покупателями. И ведь он вовсе не разыгрывал спектакль: суть заключалась в его любви к своему занятию, в искренности, с которой он все делал.
Любезные манеры и «благородная» дикция Джеффри Хатфилда вызывали непочтительные насмешки у мужчин, которые некогда окончили вместе с ним местную школу. В трактирах его часто именовали «епископом», но добродушно, так как все относились к нему хорошо. Ну а покупательницы были от него без ума и посещали его лавочку, чтобы поблаженствовать в лучах его внимания.
Примерно через месяц я снова зашел в лавочку купить лакричной карамели для Рози и увидел привычную картину: Джеффри отвешивал поклоны, улыбался и звучно басил. Альфред следил со своего места за каждым его движением, и оба выглядели воплощением достоинства и благодушия. Когда я забрал свою упаковку, Джефф шепнул мне на ухо:
– В двенадцать я закроюсь на обед, мистер Хэрриот, не будете ли вы так добры зайти ко мне осмотреть Альфреда?
– Разумеется. – Я взглянул на величавого кота в конце прилавка. – Он заболел?
– Нет-нет… просто, по-моему, что-то не совсем ладно.
В назначенный час я постучался в запертую дверь, и Джеффри впустил меня в лавочку, против обыкновения пустую, и провел в гостиную за занавешенной дверью. Там за столом сидела миссис Хатфилд и пила чай. Она была куда более земной натурой, чем ее муж.
– А, мистер Хэрриот! Пришли посмотреть котика?
– Ну какой же он котик! – засмеялся я.
И бесспорно, Альфред, устроившийся возле топящегося камина, выглядел даже массивнее обычного. Теперь он отвел спокойный взгляд от огня, встал, неторопливо прошествовал по ковру и, выгнув спину, потерся о мои ноги.
– Настоящий красавец, верно? – сказал я с улыбкой. Я уже давно не видел его вблизи, и дружелюбная мордочка в черных полосках, сходящихся возле умных глаз, показалась мне особенно симпатичной. – Да, – добавил я, поглаживая пушистый мех, блестевший в бликах огня, – ты очень большой и красивый. – Я повернулся к мистеру Хатфилду. – Выглядит он прекрасно. Что вас встревожило?
– Может, это так только. Он вроде бы совсем такой, как был, но вот уже неделю я замечаю, что ест он не так охотно, не с прежним аппетитом. Он не то чтобы болен… а какой-то не такой.
– Так-так. Давайте-ка осмотрим его.
Осмотрел кота я очень тщательно. Температура нормальная, слизистые здорового розового цвета. Я достал стетоскоп, прослушал легкие и сердце, но ничего ненормального не услышал. Пальпация брюшной полости тоже ничего не подсказала.
– Что же, мистер Хатфилд, – сказал я, – у него все как будто в порядке. Не исключено, что он немного сдал. Хотя по его виду этого не скажешь. На всякий случай я сделаю ему витаминную инъекцию. Она его подбодрит. Если через несколько дней ему не станет лучше, свяжитесь со мной.
– От души вам благодарен, сэр. Весьма. Вы меня успокоили. – Джефф погладил своего любимца. Уверенность в звучном голосе плохо вязалась с озабоченностью, написанной на его лице. Глядя на человека и кота, я вновь почувствовал, как они похожи своей внушительностью.
С неделю я ничего про Альфреда не слышал и решил, что он поправился. Но затем мне позвонил его хозяин.
– Он все такой же, мистер Хэрриот. Вернее, ему стало чуть похуже. Буду весьма обязан, если вы опять его посмотрите.
И снова то же самое. Ничего определенного даже при самом тщательном осмотре. Я назначил Альфреду курс минеральных и витаминных таблеток. Начинать лечение нашим новым антибиотиком не имело смысла: температура оставалась нормальной, и ни малейших признаков какой-либо инфекции не обнаружилось.
Мимо переулка я проходил каждый день – до него от Скелдейл-хауса было шагов сто – и теперь обязательно заглядывал в окно лавочки. И каждый день видел знакомую картину: Джефф улыбается и отвешивает поклоны дамам, Альфред восседает на обычном месте в конце прилавка. Все выглядело нормально, и тем не менее… Нет, кот, несомненно, в чем-то изменился.
Как-то вечером я зашел и осмотрел его еще раз.
– Он худеет, – сказал я.
Джеффри кивнул:
– Да, я замечаю. Ест он неплохо, но меньше, чем прежде.
– Продержите его на таблетках еще несколько дней, и, если ему не станет лучше, я заберу его к себе, чтобы провести полное обследование.
У меня было неприятное предчувствие, что улучшение не наступит. Так и оказалось, а потому однажды вечером я пришел в лавочку с кошачьей клеткой. Альфред был таким огромным, что посадить его в клетку оказалось очень непросто, однако он и не думал сопротивляться, пока я осторожно запихивал его внутрь.
В операционной я взял кровь на анализ и сделал рентген легких. Снимок был абсолютно чистым, в крови не оказалось никаких отклонений.
Можно было бы и успокоиться, однако кот продолжал хиреть. Следующие недели превратились в кошмар. Я по-прежнему ежедневно заглядывал в окно лавочки, и это стало для меня тяжелым испытанием. Огромный кот все еще восседал на своем месте, но худел и худел, так что вскоре стал неузнаваемым. Я испробовал все препараты и методы, какие только знал, но без толку. Я попросил Зигфрида осмотреть кота, но он встал в такой же тупик, что и я.
Непрерывная потеря веса – порой симптом злокачественной опухоли, однако новые рентгеновские снимки ничего подобного не выявили. Полагаю, Альфред был по горло сыт тем, что его постоянно куда-то утаскивают, колют и мнут ему живот, но ни разу не запротестовал. Спокойно мирился со всем, как это было у него в обычае.
Ситуацию резко ухудшал еще один фактор: Джефф не выдержал постоянного напряжения и буквально таял на глазах. Румяные полные щеки поблекли и запали, а главное – за прилавком его словно подменили: от эффектной манеры торговать не осталось и следа.
Однажды я не удовольствовался тем, чтобы заглянуть в лавку через окно, а вошел и протиснулся к прилавку между дамами. Зрелище было устрашающее.
Джефф, согбенный, иссохший, слушал покупательницу даже без улыбки, апатично ссыпал сласти в пакет и бормотал что-то невнятное. Ни звучного баса, ни счастливого щебета покупательниц. Обычная кондитерская лавка, как всякая другая.
Печальнее всего выглядел Альфред. Он все еще с достоинством сидел на своем месте, но худой до невероятия. Шерсть утратила былой блеск. Он смотрел прямо перед собой мертвыми глазами, словно его ничего больше не интересовало. Не кот, а пугало в обличье кота.
Я не выдержал и в тот же вечер зашел к Джеффу Хатфилду.
– Сегодня я видел вашего кота. Его состояние стремительно ухудшается. Нет ли каких-нибудь новых симптомов?
Джефф уныло кивнул:
– Да, появились. Как раз думал вам позвонить. Его рвать начало.
Мои ногти болезненно впились в ладони.
– Еще и это! Все указывает на какое-то внутреннее расстройство, а отыскать ничего не удается! – Я нагнулся и погладил Альфреда. – На него просто больно смотреть. Помните, какой блестящей была у него шерсть? А теперь!
– Верно, – ответил Джефф. – Совсем перестал следить за собой. Даже не умывается. Словно ему не до этого. А прежде умывался без конца: вылизывает себя, вылизывает, ну просто часами.
Я уставился на него. У меня в мозгу загорелась какая-то искра. «Вылизывает себя, вылизывает…» Я задумался.
– Да-а… Пожалуй, я не встречал кота, который умывался бы так усердно, как Альфред… – Искра вспыхнула пламенем, я даже подскочил на стуле.
– Мистер Хатфилд! – вырвалось у меня. – Я хочу сделать диагностическую лапаротомию.
– Что-что?
– По-моему, он нализал себе волосяной шар, и я хочу сделать проверочную операцию.
– Живот ему разрезать?
– Совершенно верно.
Джефф прикрыл глаза ладонями и опустил голову. Он оставался в этой позе долгое время, а потом устремил на меня измученный взгляд.
– Право уж, не знаю. Я ни о чем таком даже не думал.
– Необходимо принять меры! Иначе кот погибнет.
Джефф нагнулся и погладил Альфреда по голове. Один раз, другой, третий… А потом пробормотал хрипло, не поднимая глаз:
– Ну ладно. А когда?
– Завтра утром.
Когда на другой день в операционной мы с Зигфридом наклонились над усыпленным котом, мысли у меня в голове путались. Последние годы мы часто оперировали мелких животных, но мне всегда было ясно, чего следует ожидать. Теперь же у меня возникло ощущение, что я вторгаюсь в неведомое.
Я сделал надрез, рассек брюшные мышцы, брюшину и, когда прошел диафрагму, нащупал в желудке тестообразную массу. Я рассек стенку желудка, и сердце у меня взыграло. Вот он! Большой комок спутанных волосков, причина всех бед. Нечто, не запечатлевающееся на рентгеновских снимках.
Зигфрид усмехнулся:
– Ну вот мы и убедились.
– Да, – ответил я, испытывая невыразимое облегчение. – Вот мы и убедились.
Но это оказалось еще не все. Очистив и зашив желудок, я обнаружил комки поменьше, в нескольких местах закупорившие кишки. Их все необходимо было удалить, а значит – наложить на кишки несколько швов. Мне это очень не понравилось: дополнительная травма и шок. Но в конце концов операция завершилась, и виден был лишь аккуратный шов на животе.
Когда я отнес Альфреда к нему домой, Джефф долго не решался на него взглянуть. Наконец он робко покосился на кота, еще не проснувшегося после операции, и прошептал:
– Он выживет?
– Скорее всего, – ответил я. – Операцию он перенес тяжелую, и, чтобы оправиться после нее, ему потребуется время. Но он молод, силен, и оснований тревожиться нет никаких.
Я увидел, что не убедил Джеффа. Это подтверждалось, когда я приходил делать Альфреду инъекции пенициллина. Джефф не сомневался, что Альфред непременно погибнет.
Миссис Хатфилд смотрела на вещи с большим оптимизмом, но беспокоилась из-за мужа.
– Он последнюю надежду потерял, – сказала она. – И потому только, что Альфред весь день не встает с постели. Я ему твержу, что кот не может вот так сразу вскочить и запрыгать, но он и слушать не хочет. – Она посмотрела на меня с тревогой. – И знаете, мистер Хэрриот, он совсем измучился. Его просто узнать нельзя. Я даже боюсь, что он таким и останется.
Я подошел к занавешенной двери и заглянул в лавку. Джефф стоял за прилавком мрачный, двигаясь точно автомат. Он отвешивал конфеты без единой улыбки, а если и говорил что-то, то с безжизненной монотонностью. В ошеломлении я обнаружил, что его голос совсем утратил былой звучный тембр. Миссис Хатфилд была права: его нельзя было узнать. А что, если он действительно не станет прежним, что будет с торговлей? До сих пор его покупательницы хранили ему верность, но меня томило предчувствие, что продлится это недолго.
Прошла неделя, прежде чем появились перемены к лучшему. Я вошел в гостиную, но Альфреда там не оказалось.
Миссис Хатфилд вскочила с кресла.
– Ему много лучше, мистер Хэрриот, – радостно сказала она. – Ест вовсю и запросился в лавку. Он сейчас там с Джеффом.
И я вновь посмотрел в щелку между портьерами. Альфред сидел на обычном месте. Тощий до ужаса. Но сидел он прямо. Однако его хозяин выглядел все так же скверно. Я отвернулся от двери.
– Что же, миссис Хатфилд, больше мне приходить не нужно. Ваш кот выздоравливает и скоро будет совсем таким, как раньше.
Да, в отношении Альфреда я испытывал полную уверенность, но не в отношении Джеффа.
Затем, как повторялось ежегодно, меня совсем поглотила кутерьма весеннего окота со всеми его прелестями. Ни о чем другом думать времени у меня не было. Прошло, наверное, недели три, прежде чем я снова заглянул в кондитерскую лавку купить шоколад для Хелен. Теснота внутри была страшная, и пока я пробирался к прилавку, на меня нахлынули прежние страхи. Я боязливо посмотрел на человека и кота.
Альфред, вновь массивный и полный достоинства, восседал в дальнем конце прилавка как монарх, а Джефф опирался ладонями о прилавок, наклонялся вперед и заглядывал в лицо покупательнице.
– Насколько я вас понял, миссис Херд, вам требуется какой-то сорт мягких конфет. – Звучный бас заполнил лавочку. – Не рахат ли лукум имеете вы в виду?
– Нет, мистер Хатфилд, совсем не то.
Джефф опустил голову на грудь и с предельной сосредоточенностью уставился в сверкающий прилавок. Потом поднял лицо и приблизил его к лицу дамы.
– Возможно, пастила?
– Нет… не то.
– Трюфели? Помадка? Мятный крем?
– Да нет. И непохоже даже.
Джефф выпрямился. Да, задачка оказалась не из легких. Он скрестил руки на груди, уставился в пространство и сделал могучий вдох, который я так хорошо помнил. Тут я понял, что он стал прежним. Широкие плечи расправлены, на полных щеках играет румянец.
Его размышления ни к чему не привели. Он выставил подбородок и откинул голову, ища вдохновения на потолке. Альфред, заметил я, тоже посмотрел на потолок.
Джефф застыл в этой позе, и в лавочке воцарилась напряженная тишина. Затем медленная улыбка озарила благородные черты. Он поднял палец.
– Сударыня, – сказал он, – думается, я понял. Беловатые, сказали вы… а иногда розоватые. Очень мягкие. Могу ли я предложить вам суфле из алтея?
Миссис Херд хлопнула ладонью по прилавку.
– Вот-вот, мистер Хатфилд! Ну забыла название, хоть убейте.
– Ха-ха! Так я и предполагал, – пробасил хозяин лавочки, и его голос органными звуками отразился от потолка.
Джефф засмеялся, дамы засмеялись, и, готов поклясться, засмеялся Альфред.
Прежнее вернулось. Все, находившиеся в лавке, были счастливы – Джефф, Альфред, дамы и, отнюдь не меньше остальных, Джеймс Хэрриот.
Такая разная ветеринарная практика
– Грабитель ты, а не ветеринар!
Миссис Сидлоу, яростно сверкая черными глазками, хлестнула меня этими словами, и я, глядя на черные прямые волосы, обрамляющие худое лицо с острым подбородком, подумал (далеко не в первый раз), что она – ну вылитая ведьма. Вот-вот оседлает метлу и быстренько слетает на Луну и обратно.
– Вся округа только и говорит, что о вас и бессовестных ваших счетах, – продолжала она. – Не знаю, как вам с рук сходит! Это же открытый грабеж. Обираете бедняков-фермеров, а потом нахально заявляетесь на шикарной новой машине.
Машина и послужила толчком. Мой дряхлый драндулет совсем рассыпался на составные части, и я потратился на подержанный «Остин-10». Машина уже отъездила двадцать тысяч миль, но за ней хорошо ухаживали, и озаренный солнцем черный отполированный кузов словно только что сошел с конвейера. Вот миссис Сидлоу и взъярилась.
Фермеры, как правило, отзывались на покупку машины шуткой-другой.
«Видно, гребете наши денежки лопатой», – говорили они с ухмылкой. Но дружеской, без тени ядовитой злобы, которая словно бы отличала семейство Сидлоу.
Сидлоу ненавидели ветеринаров. Не меня лично, а всех без разбора, причем объектов для ненависти у них было немало – они по очереди перепробовали всех ветеринаров в наших краях и в каждом обманулись. Беда была в том, что мистер Сидлоу, как никто в округе, считал себя знатоком лечения больных животных, а его жена и взрослые дети свято ему верили, и, когда какая-нибудь их корова или собака заболевала, глава семьи, естественно, демонстрировал свое умение. И ветеринара вызывали, только когда мистер Сидлоу истощал весь запас тайных снадобий. Сам я смотрел на этой ферме только издыхающих животных, которым уже нельзя было ничем помочь, а потому Сидлоу дружно укреплялись во мнении, что я никуда не гожусь, как и все мои коллеги.
Вот и на этот раз я с бессильной горечью глядел на исхудалых овец. Они, притулившись в темном углу овчарни, испускали последние хриплые вздохи после недели пневмонии, которую никто не лечил. Семья фермера стояла рядом и бросала на меня искоса хмурые взгляды.
А когда я устало побрел к машине, миссис Сидлоу углядела меня в кухонное окно и пулей вылетела во двор.
– Да уж вам-то все едино, – не унималась она. – Мы трудимся, спину гнем с утра до ночи, чтобы концы с концами свести, а потом заявляются всякие вроде вас и забирают наши кровные денежки ни за что ни про что. А как же! Разбогатеть побыстрее хочется!
Только постоянные упражнения в соблюдении заповеди, что клиент всегда прав, помешали мне огрызнуться. Я даже выдавил из себя улыбку.
– Миссис Сидлоу, – сказал я кротко, – уверяю вас, меня никак нельзя назвать богатым. Вы убедились бы в этом, если бы увидели мой счет в банке.
– Вы, значит, без денег сидите, так, что ли?
– Совершенно верно.
Она ткнула пальцем в «Остин» и смерила меня еще одним злобным взглядом.
– А машиной этой обзавелись, чтобы пыль в глаза пускать?
Я не нашелся, что ответить. Она загнала меня в угол: либо я бессовестный денежный мешок, либо голь перекатная с претензиями.
На обратном пути я с высокого склона оглянулся вниз на ферму Сидлоу – солидный жилой дом, добротные службы и пятьсот акров прекрасной земли у подножия холма. Сидлоу были весьма зажиточными и не знали тех забот, которые одолевали фермеров на верхних склонах, где земля отличалась скудостью и требовала тяжкого труда. Ну почему, почему мое воображаемое богатство так их оскорбляет?
И еще я подумал, что свой выпад миссис Сидлоу приурочила ко времени, когда мои финансы находятся в особенно плачевном состоянии.
Меняя скорости, я узрел розовеющую кожу в прорехе над коленом. О черт! Старые вельветовые брюки просились в отставку, как, впрочем, и весь мой гардероб. Однако потребности двух подрастающих детей были много важнее моих собственных. Да и заниматься моей работой в элегантных костюмах особого смысла не имело – такую грязную профессию поискать! – и мне следовало соблюдать лишь минимум респектабельности, а потому утешала мысль, что один-то «выходной костюм» у меня имеется. Годы и годы он оставался ну совсем новым, так как надевать его мне приходилось очень редко.
И действительно, как-то странно, что я постоянно сижу без денег! Практиковали мы с Зигфридом весьма успешно и обзавелись прекрасной клиентурой. Работаю чуть ли не круглые сутки семь дней в неделю, по вечерам, а то и по ночам. И работа не из легких – валяешься на булыжнике, до изнеможения помогая телящейся корове, имеешь дело с пациентами, которые тебя брыкают, прижимают к стенке, наступают на тебя, обдают навозной жижей. Мышцы у меня болят целыми днями… И за все про все я могу продемонстрировать неизменный долг банку в тысячу фунтов! И необходимость считать каждый пенс.
Бесспорно, значительную часть времени я провожу за рулем, а эти часы никто не оплачивает… Так не тут ли кроется объяснение?
Однако и поездки, и работа, и полная разнообразия жизнь – все происходило в окружении великолепной природы. И я искренне наслаждался и тем, и другим, и третьим, а горькие мысли лезли мне в голову, только когда меня выставляли хитрым мошенником, облапошивающим бедных фермеров.
Дорога поднималась все выше. Я увидел колокольню Дарроуби, его крыши и, наконец, на окраине городка манящие ворота красивого дома миссис Памфри. Я взглянул на часы. Полдень. Долгие годы выработали у меня особую сноровку приурочивать свои визиты туда ко второму завтраку, чтобы ненадолго забыть о тяготах сельской практики и понежиться, наслаждаясь гостеприимством пожилой вдовы, которое столько лет скрашивало мою жизнь.
Когда под шинами «Остина» захрустел песок подъездной аллеи, я улыбнулся: в окне, встречая меня, возник Трики-Ву. Он был уже очень стар, но у него хватало сил забраться на свой дозорный пост, и его мордочка, курносая, как у всех пекинесов, расплылась в пыхтящей приветственной усмешке.
Поднимаясь между колоннами по ступенькам крыльца, я заметил, что песик покинул подоконник, и тут же услышал радостное тявканье в холле. Рут, горничная, прослужившая в доме не один десяток лет, открыла дверь на мой звонок и приветственно улыбнулась, а Трики мячиком ударился о мои колени.
– До чего же он вам рад, мистер Хэрриот, – сказала Рут, беря меня за руку. – Ну просто как все мы!
Она проводила меня в элегантную гостиную, где в кресле у камина сидела миссис Памфри. Она подняла среброкудрую голову от книги и обрадованно вскрикнула:
– Ах, мистер Хэрриот, как мило! Трики, твой дядя Хэрриот приехал навестить тебя. Чудесно, правда? – Она указала мне на кресло по другую сторону камина. – Я ждала, что вы приедете проверить здоровье Трики, но до того, как осмотреть его, вам необходимо согреться. Такой страшный холод! Рут, милая, принесите мистеру Хэрриоту рюмочку хереса. Вы ведь не откажетесь, мистер Хэрриот?
Я поблагодарил. Еще бы я отказался от изумительного хереса, который наливался в огромные рюмки и удивительно подкреплял силы – а уж в холодную погоду особенно. Я утонул в мягком сиденье, протянул ноги к пламени, плясавшему в камине, и отпил хереса, а Рут в тот же миг поставила возле меня тарелку с крохотными бисквитиками. Трики вскарабкался ко мне на колени, и туман злобы, окутавший меня на ферме Сидлоу, окончательно рассеялся.
– Трики со времени вашего последнего визита, мистер Хэрриот, чувствовал себя на редкость хорошо, – начала миссис Памфри. – Конечно, он поутратил гибкость из-за артрита, но ходит прекрасно, а его грудной кашель не усилился. И самое чудесное, – (она сплела пальцы и широко раскрыла глаза), – он совсем не плюх-попал! Ни единого раза. Так, может, вы не будете тискать бедняжечку?
– Разумеется, нет. Ни в коем случае. Раз у него там все нормально, то зачем?
На протяжении многих лет я очищал околоанальные железы Трики-Ву, когда он, по красочному выражению своей хозяйки, плюх-попал, и песик сносил это безропотно. Теперь я погладил его, а миссис Памфри продолжала:
– Я должна сообщить вам интересную новость. Вы знаете, как превосходно Трики разбирается в скаковых лошадях, как тонко судит об их форме, и когда ставит на скачках, почти всегда выигрывает. Так вот! – Она помахала пальцем и понизила голос. – В последнее время он увлекся собачьими бегами.
– Неужели?
– О да! Он начал следить за соревнованиями в Мидлсбро, несколько раз поручал мне делать за него ставки и выиграл кучу денег.
– Боже!
– Да-да. Не далее как сегодня утром Краудер, мой шофер, заехал к букмекеру за двенадцатью фунтами. Выигрыш Трики на вчерашних бегах.
– Ну и ну! Непостижимо! – сказал я, а мое сердце обливалось кровью от жалости к честному Джо Прендергасту, местному букмекеру. Столько лет проигрывать собаке деньги на скачках, а теперь плати еще за собачьи бега! – Настоящее чудо.
– Ведь верно, ведь правда? – Миссис Памфри одарила меня сияющей улыбкой, но тут же посерьезнела. – Однако мне хотелось бы понять, в чем причина этого нового интереса. Как вы полагаете?
Я задумчиво покачал головой.
– Трудно сказать. Очень трудно.
– У меня есть одна теория, – сообщила миссис Памфри. – Как вам кажется, может быть, с возрастом его потянуло к животным одной с ним крови, вот он и предпочитает ставить на состязающихся собак?
– Не исключено… Да, не исключено…
– Ну и напрашивается вывод, что родство помогает ему точнее взвешивать шансы и выигрывать.
– Что же, вполне возможно. Весьма веский довод.
Трики, прекрасно понимая, что мы говорим о нем, завилял хвостом и посмотрел на меня с обычной широкой усмешкой, вывалив наружу язычок.
Я совсем утонул в кресле, смакуя тепло, которое разливалось по моему телу не без помощи хереса. И как уютно слушать отчет миссис Памфри о разнообразной деятельности Трики! Очень добрая, очень умная дама, уважаемая всеми, усердная участница многих благотворительных начинаний. Она заседала во всяческих комитетах, у нее просили совета по самым разным поводам, но, чуть дело касалось ее песика, серьезные темы исчезали из разговора, сменяясь неисчислимыми чудачествами. Она наклонилась вперед.
– Мне хотелось бы поговорить с вами об одной вещи, мистер Хэрриот. Вам известно, что в Дарроуби открылся китайский ресторан?
– Да. И очень приятный.
Она засмеялась.
– Кто бы мог подумать? Китайский ресторан в тихом городке вроде Дарроуби – поразительно!
– Неожиданно. согласен. Но в последние годы они растут как грибы по всей стране.
– Да-да. Только я хочу обсудить с вами, как это подействовало на Трики.
– Что?!
– Да, он в совершеннейшем расстройстве.
– Но каким образом?..
– Мистер Хэрриот! – Она сдвинула брови и устремила на меня непоколебимо серьезный взгляд. – Много лет назад я довела до вашего сведения, что Трики происходит от длинной череды китайских императоров.
– Разумеется! Разумеется!
– Пожалуй, будет проще объяснить, если я начну с самого начала.
Я отхлебнул хереса в сладком ощущении, что воспаряю в мир грез.
– Прошу вас!
– Когда ресторан только открыли, – продолжала миссис Памфри, – на удивление многие горожане были недовольны. Они бранили китайские блюда, а также милого китайца и его жену, утверждали, что такому заведению в Дарроуби не место, что его следует подвергнуть бойкоту. Так вот, как-то, когда мы с Трики гуляли по улице, он услышал такой разговор и пришел в ярость.
– Неужели?
– Да-да. Крайне возмутился. Я всегда замечаю, когда он испытывает подобное чувство. Он хранит такой оскорбленный вид, и его очень трудно привести в хорошее настроение.
– Боже мой! Мне очень жаль.
– И ведь нельзя не понять, каково ему было слушать, как поносят его народ.
– Бесспорно, конечно, вполне естественно.
– Тем не менее, мистер Хэрриот, тем не менее, – она снова помахала пальцем и многозначительно мне улыбнулась, – милый умница сам предложил выход из положения.
– Ах так?
– Да, он сказал мне, что нам следует почаще посещать этот ресторан и попробовать все их блюда.
– А-а!
– Мы так и поступили. Краудер отвез нас туда позавтракать, и мы получили огромное удовольствие. К тому же оказалось, что мы можем взять домой любое блюдо в специальной коробочке, и в ней оно остается горячим и аппетитным. Как это весело! Теперь, когда начало положено, Краудер часто заглядывает туда по вечерам и привозит нам ужин. И знаете, ресторан уже как будто не пустует. По-моему, мы неплохо им посодействовали.
– Несомненно, – ответил я с полной искренностью.
«Лотосовый сад» приютился в уголке рыночной площади и, собственно говоря, исчерпывался четырьмя столиками, так что частое появление у его дверей сверкающего черного лимузина и шофера в форме не могло не послужить прекрасной рекламой. Я тщетно пытался вообразить, как местные обыватели созерцают через окно миссис Памфри и Трики, дегустирующих китайские блюда за крохотным столиком, но тут она добавила:
– Очень рада, что вы так думаете. И мы получили такое удовольствие! Трики просто обожает чар-суи, а мне особенно нравится чау-мейн. А хозяин учит нас пользоваться палочками.
Я поставил пустую рюмку на столик и стряхнул с пиджака крошки божественных бисквитиков. Как тяжело было прерывать эту беседу и возвращаться к прозаической действительности! Но я взглянул на часы и сказал:
– Очень рад, миссис Памфри, что все получилось так удачно. Однако пора заняться проверкой здоровья малыша.
Я посадил Трики на кушетку и тщательно прощупал животик. Все в полном порядке. Затем я выудил из кармана стетоскоп и послушал сердце и легкие. Давно мне знакомые шумы в сердце и хрипы в бронхах, как я и ожидал. Собственно говоря, я знал организм моего старого приятеля наизусть – недаром же я наблюдал его столько лет. Зубы, скажем, в следующий раз не помешает очистить. Глаза… характерное для старых собак помутнение хрусталика, но очень легкое.
Я обернулся к миссис Памфри. Трики получал преднолейкотропин от артрита и окситетрациклин от бронхита, но с ней я никогда подробно о его болезнях не говорил. Медицинская терминология ввергала ее в ужас.
– Для своего возраста, миссис Памфри, он просто в великолепной форме. В случае необходимости давайте ему нужные таблетки и вызовите меня, если я понадоблюсь. Но еще одно. В последнее время вы строго соблюдаете его диету, ну и впредь не давайте ему лишних лакомств. Даже добавки чар-суи!
Она хихикнула и одарила меня лукавым взглядом.
– Ах, пожалуйста, мистер Хэрриот, не браните меня! Обещаю быть умницей. – Она помолчала. – Да, еще об артрите Трики. Как вы знаете, вот уже много лет Ходжкин бросает ему кольца, чтобы он за ними бегал.
– Да, я знаю.
У меня перед глазами возник угрюмый старый садовник, принужденный бросать резиновые кольца на газон, откуда Трики с восторженным тявканьем притаскивал их ему обратно. Ходжкин явно не терпел собак и неизменно выглядел доведенным до белого каления. Губы у него непрерывно шевелились – он что-то бормотал себе под нос и ворчал на Трики.
– Ну, мне показалось, что для Трики в его состоянии Ходжкин бросает колечки слишком далеко, и я сказала, чтобы он кидал их не дальше, чем на три-четыре шага. Удовольствия малыш будет получать не меньше, но не перетруждаясь.
– Так-так.
– К сожалению, – тут ее лицо приняло неодобрительное выражение, – Ходжкин отнесся к этому с раздражением.
– В каком смысле?
– Я бы ничего не узнала, – она понизила голос, – но Трики рассказал мне по секрету.
– Вот как?
– Да. Ходжкин, сообщил он мне, очень сердился. Дескать, теперь ему придется нагибаться куда чаще, а у него тоже артрит. Я бы не приняла этого к сердцу, – она перешла на шепот, – но Трики был глубоко шокирован. Он сказал, что Ходжкин несколько раз употребил слово «проклятущий»!
– Боже, боже! Да, я вижу, какие сложности возникают.
– Трики оказался в таком неловком положении. Как, по-вашему, мне следует поступить?
Я глубокомысленно нахмурился и по размышлении изрек следующее:
– Мне кажется, миссис Памфри, игру с кольцами следует устраивать пореже и покороче. В конце-то концов, и Трики, и Ходжкин уже немолоды.
Она несколько секунд молча смотрела на меня, потом ласково улыбнулась:
– Благодарю вас, мистер Хэрриот, благодарю. Вы, как всегда, правы. Я последую вашему совету.
Я начал прощаться, но миссис Памфри меня остановила:
– Перед тем как вы уйдете, мистер Хэрриот, я хотела бы вам кое-что показать.
Она отвела меня в комнату по ту сторону холла и открыла дверцы огромного гардероба. Моему взору открылся длинный ряд элегантнейших костюмов. Такое их количество я прежде видел только в магазинах.
– Они, – сказала миссис Памфри, поглаживая всевозможные пиджаки: темные выходные, светлые твидовые, – принадлежали моему покойному мужу. – На мгновение она умолкла, трогая один рукав за другим, а потом с внезапной энергией обернулась ко мне, мягко улыбаясь. – Он любил хорошо одеваться и заказывал все свои костюмы в Лондоне. Вот этот, например. Она сняла вешалку с пиджаком и брюками из лучшего твида. – Вот этот сшил один из моднейших столичных портных. Ах, какой он тяжелый! Подержите, пожалуйста. – Охнув, она перекинула костюм через мою протянутую руку, и меня тоже поразила его тяжесть.
– Да, – продолжала она, – прекрасный костюм для загородных прогулок… И знаете, он его ни разу не надел. – Покачав головой, она погладила лацканы, и ее глаза затуманились. – Ни разу. Он скончался через несколько дней после того, как костюм доставили, а так его ждал! Он любил длинные прогулки, любил бывать на воздухе как можно чаще, но при этом любил быть красиво одетым… – Она оборвала фразу, посмотрела на меня с решимостью и отрывисто сказала: – Так вот, мистер Хэрриот, вы не возьмете этот костюм?
– А?
– Я буду так рада! Вам он может пригодиться, а то висит в гардеробе без всякого проку.
Я не знал, что ответить, но тут мне вспомнились многочисленные паузы в нашем разговоре у камина, когда, поднимая рюмку, я ловил взгляд миссис Памфри на моей обтрепанной манжете или на протершемся у колен вельвете.
Я молчал, и на ее лице отразился испуг.
– Вы не обиделись?
– Нет, нет, нет. Вовсе нет. Вы очень добры. И я с удовольствием буду носить его.
– Я так рада! – Она захлопала в ладоши. – Именно то, что требуется сельскому ветеринару. Мне будет так приятно думать, что вы ходите в нем.
– Да… да… – отозвался я в некотором замешательстве. – Очень вам благодарен. – Я засмеялся. – Такой чудесный сюрприз!
– Вот и хорошо. – Она тоже засмеялась. – Рут! Рут, принесите, пожалуйста, большой лист оберточной бумаги, чтобы упаковать костюм.
Горничная торопливо вышла, а миссис Памфри наклонила голову набок.
– Только вот одно, мистер Хэрриот. Мой муж был крупным мужчиной. Костюм надо будет перешить.
– Ничего-ничего, – сказал я. – Это устроить просто.
Шагая по песку дорожки к машине с тяжелым пакетом под мышкой, я размышлял о контрастах этого дня. Часа два назад я улизнул как изгой с фермы после визита, ознаменованного неприязненной придирчивостью, под взрыв брани в заключение. А теперь! Миссис Памфри и Рут, улыбаясь, машут мне с порога; Трики взобрался на свой подоконник и затявкал, улыбаясь до ушей, а занавеска заколыхалась от энергичного движения его хвоста. Мое тело исполнено приятной истомой после хереса и бисквитов, а к боку я прижимаю великолепный костюм.
И я далеко не в первый раз возблагодарил Провидение за неисчерпаемое разнообразие ветеринарной практики.
На ферме Теда Ньюкомба
– Взгляни-ка, Хелен! – воскликнул я, едва вошел в Скелдейл-хаус с тяжелым пакетом в руках. – Миссис Памфри подарила мне костюм!
Развернув подарок, моя супруга ахнула:
– Какая прелесть, Джим! И выглядит как очень дорогой.
– Еще бы! Мне такой сшить не по карману.
Мы уставились на бесподобный твид с еле заметным узором из коричневатых нитей на темно-зеленом фоне. Хелен взяла пиджак в руки, чтобы получше его рассмотреть.
– Ой, какой тяжелый! Просто не поднять. В первый раз вижу такую ткань. В нем тебе любой холод нипочем. Примерь поскорее! До обеда время еще есть. Я только сбегаю на кухню, посмотрю, не закипел ли суп.
Я кинулся в спальню, сгорая от приятного нетерпения, стащил брюки и облекся в новые, затем в пиджак и посмотрел на себя в зеркало, что было совершенно лишним: я и так знал, что все мои мечты пошли прахом. Брюки лежали гармошкой на башмаках, а рукава были длиннее рук на несколько дюймов. Покойный мистер Памфри был не просто крупным мужчиной, он был гигантом.
Я грустно оглядел себя в зеркале, и тут у меня за спиной раздалось приглушенное фырканье. Хелен, привалившись к косяку, заливалась смехом и тыкала в меня дрожащим пальцем.
– Господи! – еле выговорила она. – Не сердись, но… ха-ха-ха!
– Ладно, – сказал я. – Да, никуда не годится, сам знаю… – Тут я снова взглянул на свое отражение и не удержался от улыбки. – Ты права, вид у меня нелепейший. А очень жаль. Костюм замечательный, и я уже предвкушал, как стану самым большим франтом в Дарроуби. Но что нам с ним делать?
Хелен утерла глаза и подошла ко мне.
– Но ведь его можно ушить по тебе.
– Каким же это образом? Я ведь в нем тону! – И я смерил свое злополучное отражение свирепым взглядом.
Моя супруга энергично затрясла головой:
– Не скажи! Я прямо вижу, как замечательно он будет сидеть на тебе. Во всяком случае, я отнесу его мистеру Бендлоу и попробую улестить его, чтобы он долго не тянул.
При мысли, что наш городской портной поторопится, я скептически усмехнулся.
– Хочешь сотворить чудо?
– Как знать? – возразила Хелен. – Надо попытаться.
Вечером она сообщила мне, что материал и покрой произвели на мистера Бендлоу неизгладимое впечатление и он обещал сразу же взяться за дело.
Но это было потом, а после обеда, едва я отправился по срочному вызову, треволнения из-за костюма вылетели у меня из головы.
Голос Теда Ньюкомба в телефонной трубке звучал напряженно:
– Гвоздичка у меня… Телится, а только голова высовывается, и все. Я попробовал добраться до ног, и ни в какую. Не теленок, а великан какой-то. Как раз то, что мне требуется. Помните?
– Конечно помню.
– Сможете побыстрее приехать, мистер Хэрриот?
– Сейчас выезжаю.
Гвоздичка была лучшей телкой Теда Ньюкомба, и случил он ее с элитным быком. Для Теда, чья ферма находилась высоко в холмах, потеря теленка означала катастрофу. Я крикнул Хелен, куда еду, и бросился бегом к машине.
Небольшая ферма Теда казалась серым мазком под самой вершиной. Туда не вела никакая дорога, и «Остин» затрясся, взбираясь по зеленому склону, а у меня за спиной позвякивали и дребезжали инструменты и склянки с лекарствами. Мощеный двор и постройки с на редкость толстыми стенами насчитывали не одну сотню лет. Собственно говоря, никто, кроме такого бедняка, как Тед, и думать не стал бы о том, чтобы поселиться в столь глухом и труднодоступном месте. Однако арендная плата была невелика, а платить больше ему было не из чего.
Когда я подъехал, Тед как раз выходил из коровника. Высокий, худой, примерно моих лет, отец двоих детей – мальчика и девочки, которые каждый день спускались с холма и проходили две мили до школы. Он озабоченно хмурился, но все-таки улыбнулся мне.
– Машина что надо, мистер Хэрриот!
Он с преувеличенной почтительностью потер рукавом сверкающий капот. Но на этом (что было типичным для него) все приветствия и закончились.
Я последовал за Тедом в небольшой коровник и сразу понял, почему ему было не до шуток. Улыбка мгновенно исчезла и с моих губ, едва я взглянул на красивую молодую корову, которая тужилась, постанывая. При каждой потуге из влагалища выглядывала угрожающе крупная мордочка.
Такое зрелище приведет в трепет любого ветеринара. Ведь дело было не в неправильном положении плода, а просто слишком большой теленок не находил выхода наружу.
– Я пробовал, – сказал Тед, когда я, раздевшись, погрузил руки по плечи в ведро с горячей водой. – Только ног так и не нащупал. До копытец там миля, не меньше. Вот вы как-то сказали, что голову надо назад запихнуть, чтобы до ног добраться. Я пробовал, только Гвоздичка посильнее меня.
Я кивнул. Хотя фермер был очень худ, в его руках чувствовалась жилистая сила. Но что он мог сделать?
– Никакому человеку, Тед, не справиться с таким могучим животным.
– И я все время думаю, жив ли теленок. Его же там давит уже не знаю сколько времени.
Это тревожило и меня. Я намылил руку и ввел ее вдоль массивной головы, но только коснулся плеча, как Гвоздичка поднатужилась, и несколько мучительных секунд мою руку сжимало как в тисках.
– Бесполезно! – еле выговорил я. – Там и дюйма свободного пространства нет; попытаюсь вдвинуть голову.
Я прижал ладонь к мордочке и надавил, усилив нажим, когда голова подалась на несколько дюймов. Этим мои успехи и исчерпались. Новые потуги – и я оказался в исходной позиции.
Я вымыл обе руки до плеча.
– Бессмысленно, Тед. Теленок не сдвинется, пока мы не повернем ноги, а до них не добраться. Она крепкая, сильная корова, и нам с ней не справиться.
– Черт! – Тед растерянно уставился на меня. – Что же нам делать? Кесарево сечение? Так ведь это же какая работенка!
– Может, и обойдемся, – ответил я. – У меня есть в запасе еще кое-что.
Я поспешил к машине и через пару минут вернулся со шприцем и раствором для местной анестезии.
– Беритесь за хвост, Тед, – скомандовал я. – И двигайте им вверх-вниз, точно воду качаете. Вот так. – Я нащупал эпидуральное пространство между позвонками, ввел десять кубиков раствора и приготовился ждать.
Впрочем, ждать пришлось недолго. Уже через минуту Гвоздичка расслабилась, точно все трудности остались позади.
– Глядите-ка! – воскликнул Тед, кивая на нее. – Перестала тужиться.
– И хотела бы, да не может, – объяснил я. – У нее анестезирован спинной мозг, и она ничего не чувствует. И даже знать не знает, что у нее там происходит.
– Значит, раз она теперь сдавить нам руки не может, мы запихнем голову обратно?
– Вот именно.
Я еще раз намылился, нажал на широкую мордочку, и… Какое блаженство ощутить, что голова, шея – весь теленок отодвигается внутрь без малейших помех. Теперь места оказалось достаточно, чтобы ввести петлю, зацепить одну ногу, затем другую… И вот уже наружу высунулись два раздвоенных копытца. Я ухватил их обеими руками, потянул, мордочка теленка выглянула наружу, и, к величайшему своему облегчению, я заметил, что ноздри подергиваются. Я засмеялся.
– Тед! Теленок жив!
– Слава богу! – Тед перевел дух. – Теперь, значит, и за дело можно взяться?
– Да, но тут есть одна трудность. Тужиться она не в состоянии, и мы должны все сделать сами.
Проход все равно оставался тесным, и мы бились добрые полчаса. Осторожно тянули за ноги и за голову, то и дело прибегая к смазыванию. Скоро с нас уже градом катил пот, но Гвоздичке и горя было мало: она безмятежно брала сено из кормушки, как будто только это ее и интересовало. До последней минуты я терзался страхом, что таз теленка окажется слишком широким. Но вот еще одно усилие, и малыш появился на свет; я успел подхватить скользкое тельце.
Тед заглянул под заднюю ногу.
– Бычок! Ну да и так ясно было, уж очень крупный оказался! – Он весело улыбнулся. – Вообще-то, я телочек предпочитаю, только за этого можно будет хорошую цену взять как за производителя. Родословная у него прямо отличная с обеих сторон.
Он принялся растирать соломой ребра и голову. Теленок в ответ задрал мордочку и фыркнул. Гвоздичка мигом обернулась и испустила негромкое радостное мычание – с удивлением, как показалось мне. Она ведь ничего не знала о наших маневрах и явно не могла взять в толк, откуда появился этот восхитительный малыш. Мы подтащили его к ее морде, и она принялась усердно вылизывать мохнатую шерстку.
Я улыбнулся. Такие минуты мне не приедаются – минуты, вознаграждающие ветеринара за все трудности и невзгоды.
– Приятно смотреть на них, Тед. Вот бы все отелы так кончались!
– Черт, мистер Хэрриот, вы верно говорите. И уж не знаю, как вас благодарить. Я же думал, задохлика получу на этот раз, не иначе. – И он дружески хлопнул меня по спине, когда я снова нагнулся к ведру.
Вымыв руки, я обвел взглядом стойла с ухоженными коровами. За несколько месяцев Тед полностью обновил коровник – срубил старые деревянные перегородки и заменил их металлическими трубами, оштукатурил стены, выкопал булыжник и залил пол бетоном. Все это он сделал сам и один.
Тед проследил за моим взглядом.
– Ну как вам тут у меня теперь?
– Вы просто чудеса сотворили, Тед. И молочную построили отличную.
– Мне бы министерскую лицензию получить, вот что! – Он потер ладонью подбородок. – Только не все тут нормам точно отвечает. Расстояние между задней стенкой и стоком поуже положенного. И тут ничего не сделаешь. Ну и еще кое-что в таком роде. Но если министерство выдаст мне лицензию, так я с каждого галлона молока буду на четыре пенса больше получать, а это, знаете ли, разница!
Тед засмеялся, будто прочитав мои мысли.
– Может, по-вашему, четыре пенса и не бог весть что, так ведь нам-то денег много не требуется. По вечерам мы никуда не ездим – играем в картишки, лото или домино с ребятками, и других развлечений нам не надо. А коров этих нужно доить, кормить и чистить дважды в день триста шестьдесят пять дней в году, ну, я к месту и привязан. – Он снова засмеялся. – Не помню даже, когда я в последний раз в Дарроуби заглядывал. Нет, нам много денег не требуется, да только сейчас я еле-еле на плаву держусь. А, ладно! После четверга все ясно станет. У них в четверг заседание по лицензиям.
Я промолчал. Не мог же я сказать Теду, что на этом заседании именно мне поручено представить конфиденциальное заключение для Молочной комиссии о нем и его ферме. И все зависит от того, сумею ли я убедить их. Будет ли Тед получать лишние четыре пенса за галлон, зависит от меня! Мне стало страшно. Если ему откажут в лицензии, долго ли еще он сумеет продолжать свою борьбу за успешное ведение хозяйства на этом обдуваемом всеми ветрами склоне, где трава так скудна?
Я собрал свое имущество, и мы вышли из коровника. Вдыхая холодный чистый воздух, я смотрел, как тени облаков скользят по зеленым горбам холмов и по нескольким акрам, заключающим весь мир Теда – обнесенный стенками островок среди волн вереска, грозящих вот-вот захлестнуть и поглотить его. Эти акры необходимо было холить и лелеять, чтобы они не вернулись в дикое состояние, а стенки, покосившиеся и осевшие за века, постоянно теряли камни, – еще работа, которую должен был выполнять один человек. Мне вспомнилось, как Тед однажды сказал, что нет удовольствия больше, чем проснуться ночью, сообразить, что вставать еще рано, перевернуться на другой бок и уснуть.
Я включил мотор, и Тед помахал мне широкой мозолистой рукой. Трясясь по выбоинам вниз по склону, я оглянулся на худую, чуть сгорбленную фигуру возле дома, обсаженного искривленными ветром деревьями, и вновь остро осознал положение Теда. В сравнении с его жизнью моя была просто райской.
Костюм мистера Памфри
Когда я проснулся в четверг, в мозгу у меня теснились фразы, убедительно доказывающие, что Теду можно и нужно выдать лицензию, и в машине, отправившись по ранним вызовам, я бормотал вслух свою предстоящую речь. В местном отделе Министерства сельского хозяйства мне нужно было быть в одиннадцать, и в десять я вернулся домой переодеться.
Я направился к лестнице, чтобы подняться в спальню, но тут вошла Хелен.
– Ты не поверишь! – произнесла она благоговейно. – Мистер Бендлоу увидел меня в окно, когда я проходила мимо, и отдал мне костюм!
– Костюм мистера Памфри?
– Да. Он перешит, и ты можешь его надеть… – Хелен умолкла и посмотрела на меня широко открытыми глазами.
Я уставился на пакет.
– Ну, подобного еще не бывало. Мы уповали на чудо, и наши надежды сбылись.
– Вот именно, – ответила она. – И по-моему, это хорошее предзнаменование.
– То есть?
– Ты можешь надеть его на заседание Молочной комиссии. В таком костюме ты их убедишь в чем угодно.
Слова Хелен попали в цель. Как оратору мне далеко до Уинстона Черчилля, и любая моральная опора была очень кстати. В спальне я торопливо сбросил рабочую одежду и влез в перешитые брюки. Длина их теперь была идеальной, но тут же обнаружилось кое-что, чего я при первой примерке не заметил. Пояс оказался таким широким, что доставал мне чуть не до подмышек и обхватывал грудь. В те дни в моде были такие пояса, удобно стянутые на талии. Вот только талия мистера Памфри располагалась заметно выше моей. Очередное поражение! Я обернулся к Хелен, и у нее задергались губы. Потом она опустила глаза и затряслась от подавляемого смеха.
– Прекрати! – воскликнул я. – Да, брюки жутко смешны, я и без тебя знаю. Короче говоря, носить этот чертов костюм я не могу, и дело с концом. В нем я просто пара брюк, из которых торчат ступни и голова!
Я начал стаскивать чертовы штаны, но Хелен меня остановила:
– Погоди… погоди! Надень-ка пиджак.
– Зачем?
– Он застегивается наглухо. Надевай!
Я уныло напялил пиджак и снова повернулся к ней. Хелен ошеломленно оглядела меня.
– Чудесно! – прошептала она. – Просто не верится.
– Что – не верится?
– Погляди на себя.
Я повернулся к зеркалу. Оттуда на меня смотрел лорд Хэрриот Дарроубийский. Несуразный пояс был надежно укрыт от нескромных взоров, и костюм во всей славе великолепного материала и великолепного покроя сидел на мне как влитой.
– Господи! – прошептал я благоговейно. – Что значит одежда! Я выгляжу совсем другим человеком.
– Вот-вот! – подхватила Хелен. – Ты выглядишь как всеми уважаемый, влиятельный человек. Поезжай на заседание комиссии. Ты их всех сразишь наповал.
Умываясь и причесываясь, я тихо радовался, что все встало на свои места, хотя надежды на это, казалось, не было никакой. Последний раз восхищенно оглядев себя в зеркале, я исполнился бодрящей самоуверенности.
Я вышел на холодный пронизывающий ветер – и не почувствовал его. Ничто не могло проникнуть сквозь мою твидовую броню. Да, в этом костюме я мог спокойно отправиться на Северный полюс, ничего не надев сверху.
В машине мне стало жарковато, и я опустил все стекла, а приехав, с наслаждением вдохнул холодный воздух. Однако облегчение было недолгим. Едва двери министерского отдела закрылись за мной, как меня обдало жаром. В прошлый раз, когда я был тут, меня поразило, что люди способны работать в такой духоте, включив отопление на полную мощность. Теперь, проходя по коридору и поглядывая сквозь стеклянные перегородки на машинисток и министерских чиновников, я вновь поразился их теплоустойчивости. Тем более, что было гораздо жарче, чем тогда. Гораздо, гораздо жарче! Ведь я чуть ли не до подбородка был заключен в кокон из двух слоев плотной, как ковер, материи.
Виной всему, разумеется, был пояс брюк, сжимавший мою грудную клетку, точно рука великана. У меня возникло нелепое ощущение, что костюм сам несет меня к двойной двери конференц-зала в конце коридора. В зале было даже еще жарче, и меня охватила паника: мне почудилось, что я перестаю дышать. Но члены комиссии поздоровались со мной приветливо, как всегда, а председатель проводил меня к моему месту у длинного стола, и мне стало легче.
В Молочную комиссию входили человек двадцать: богатые фермеры, чиновники министерства, два крупнейших землевладельца в наших краях – лорд Дарбраф и сэр Генри Брукли, – а также врач и практикующий ветеринар. Практикующим ветеринаром был я. Приглашение работать в комиссии мне очень польстило, и я старался выполнять свои обязанности наилучшим образом, однако это утро выдалось особенным.
Председательствовал сэр Генри. Он открыл заседание, а я мысленно вознес молитву, чтобы оно продолжалось недолго. Ведь в моей твидовой броне я долго не выдержу. Но вопросы рассматривались нестерпимо медленно, и повестка казалась неисчерпаемой. Подробно обсуждались стерилизация, типы хозяйственных построек, болезни рогатого скота, какие-то юридические тонкости – одно за другим, одно за другим, а мне становилось все жарче и жарче. У меня часто спрашивали мое мнение, и я отвечал осипшим от духоты голосом, надеясь, что это останется незамеченным. Но, увы, мое важнейшее сообщение было припасено на закуску. А мне становилось все хуже, и час спустя я уже не сомневался, что вот-вот задохнусь, хлопнусь в обморок и меня унесут отсюда на носилках. Я едва переводил дух, пот ручьями стекал за воротник, и я еле справлялся с искушением расстегнуть пиджак и хоть чуть-чуть охладиться. Но мою руку удерживала мысль о хохоте, каким разразится почтенная комиссия при виде доходящих до подбородка брюк.
Миновало почти два часа, прежде чем сэр Генри оглядел сидящих за столом и перешел к моему вопросу.
– Итак, господа, – сказал он, – в заключение заседания мы должны вынести решение по заявлению фермера Эдварда Ньюкомба о выдаче ему лицензии на основании туберкулинизации его скота. Поскольку были высказаны определенные сомнения, наш юный друг мистер Хэрриот провел дополнительную проверку. Итак, мистер Хэрриот?..
Кто-то заговорил о Теде Ньюкомбе, и лишь через несколько секунд меня осенило, что этот кто-то – я сам. Слова все были знакомые, но произносились как будто помимо меня, с хрипом и пыхтением. Глаза туманил пот, но сквозь него я видел, что остальные смотрят на меня вроде бы одобрительно. Они всегда были со мной очень милы, возможно, потому, что в комиссии я был моложе всех, но на этот раз мне улыбались как-то по-особенному одобряюще и ласково кивали, пока я бубнил: «На редкость заботливый хозяин… коровы идеально ухожены… трудолюбив, добросовестен… строжайшее соблюдение санитарии и гигиены… человек безупречной порядочности»… А когда прозвучала заключительная фраза: «Хозяйственные постройки Эдварда Ньюкомба в мелочах, возможно, не вполне соответствуют стандарту, но он вкладывает в свою ферму колоссальный труд, и я убежден, что, получив лицензию, он ни в чем не обманет нашего доверия!» – лица вокруг меня стали совсем уж благостными. Сэр Генри одарил меня дружеской улыбкой.
– Благодарю вас, мистер Хэрриот. Ваши выводы весьма убедительны, и мы все вам очень обязаны. Полагаю, господа, возражений против выдачи лицензии не будет?
Вокруг стола дружно поднялись руки.
Практически не помню, как я вышел из зала, но помню, как, стремглав сбежав по лестнице, ринулся в мужскую уборную, заперся в кабинке, сбросил пиджак и, раскрыв рот, рухнул на унитаз. Потом расстегнул рубашку, расстегнул широченный пояс брюк и прислонился к стенке, продолжая разевать рот, точно рыба. От меня во все стороны шли волны жара, смешанного с облегчением и торжеством. Победа осталась за мной! Тед получил заветную лицензию, а я еще жив, пусть и нахожусь при последнем издыхании.
Мало-помалу я приходил в себя, и тут за стенкой кабинки раздались голоса двух мужчин. Под дверцей мелькнули их ноги и исчезли: сэр Генри и лорд Дарбраф, чьи голоса я узнал, отошли к дальней стене.
Наступила длительная пауза, затем милорд загремел:
– Знаете, Генри, просто приятно было смотреть, как этот молодой человек добивался лицензии для фермера в холмах.
– Совершенно с вами согласен, Джордж. Держался он, по-моему, чертовски хорошо.
– Всю душу вкладывал, черт побери. Не жалел себя. В жизни не видел подобного! У него же пот по лицу ручьями стекал.
– Да, я заметил. Преданность делу, вот что я скажу.
– Вот-вот! Преданность делу. Приятно найти ее у такого молодого человека. – Небольшая пауза. – А знаете, Генри, у этого малого есть и другие достоинства.
– Какие, Джордж?
– Умение одеваться. Прекрасный костюм. Завидую, что у него такой портной!
Мои юные помощники
– Нет, вы только посмотрите на паренька!
Фермер Дагдейл посмеивался, наблюдая, как Джимми старательно направляет луч фонарика, облегчая работу с телящейся коровой. К своим обязанностям мой десятилетний сын относился с величайшей серьезностью. В тесноватом стойле он усердно следил за каждым моим движением, то освещая зад коровы, то переводя луч на ведро с горячей водой всякий раз, когда я намыливал руки или окунал веревки в дезинфицирующий раствор.
– Да, – отозвался я. – Он любит ночную работу.
Собственно говоря, Джимми любил всякую ветеринарную работу, но если меня вызывали вечером, прежде чем ему приходило время спать, он, отправляясь со мной, впадал в настоящий экстаз и блаженно созерцал, как лучи фар освещают каждый зигзаг, каждый поворот проселка.
А сегодня, когда мы добрались до места, он забрался в багажник раньше меня, извлек разноцветные веревки для головы и ног теленка, а затем деловито отмерил в ведро нужную дозу дезинфицирующего средства.
– Пап, ты завел за голову красную веревку? – спросил он теперь.
– Да.
– Далеко за уши?
– Вот именно.
Джимми одобрительно кивнул. Все это интересовало его само по себе, но главное – он бдительно следил, чтобы я ничего не напутал, ревниво оберегая меня от глупых промахов.
Я постоянно дивился тому, как моя работа увлекала и моего сына, и мою дочь. Казалось бы, постоянно наблюдая, как их отец и днем и ночью мечется по вызовам, не успевая толком поесть, как он трудится по субботам и воскресеньям, когда все наши знакомые (кроме ветеринаров) безмятежно играют в гольф, они должны были бы на всю жизнь проникнуться отвращением к подобной профессии, а выходило наоборот – для них не было удовольствия больше, чем сопровождать меня и во все глаза наблюдать, как я ставлю диагнозы и лечу.
Объяснение, полагаю, было самое простое: подобно мне, подобно Хелен, они любили животных, и возможность работать с бессловесными друзьями искупала любые трудности. И потому оба твердо решили стать ветеринарами, когда вырастут.
И тут я подумал, что в десять лет Джимми уже наполовину достиг заветной цели. Едва теленок соскользнул на пол, сын тотчас очистил ноздри и рот малыша от слизи, схватил клок сена и принялся энергично растирать новорожденного.
– Телочка, пап! – возвестил он, бросив опытный взгляд между задними ногами. – Это очень хорошо, мистер Дагдейл, правда?
Фермер засмеялся:
– Лучше некуда. Нам бы побольше телочек. Глядишь, из этой вот, которую ты растер, вырастет отличная дойная коровка.
Это было в пятницу. А в субботу мои дети, ликуя, что им не нужно идти в школу, были после завтрака готовы приступить к делу. А вернее, уже приступили – открыли багажник и принялись извлекать пустые бутылки и картонки, заодно проверяя, лежит ли там все, что может понадобиться.
– Пап, у тебя кальция мало, – предупредила Рози.
Ей исполнилось шесть, но сопровождала она меня с двух лет, а потому хорошо знала, что и в каких количествах должно помещаться в большом ящике с разными отделениями, который сотворил один мой друг, чтобы было удобнее размещать медикаменты и инструменты.
– Правильно, милуша, – ответил я. – Сбегай принеси еще. Без надежного запаса нам никак не обойтись.
Раскрасневшись от важности, она побежала в нашу аптеку, и я в который раз задался вопросом, почему Рози и дома, и на фермах бросается выполнять поручения бегом, а Джимми никогда даже шага не ускорит.
Нередко в трудные минуты я говорил: «Джимми, принеси мне побыстрее еще один шприц!» – а мой первенец неторопливо шествовал к машине, иногда насвистывая, и всегда вальяжно. Пусть происходящее живо его интересовало, он все равно не торопился. И до сего дня, хотя он давно уже опытный ветеринар, я ни разу не видел, чтобы он когда-нибудь спешил. Возможно, это и к лучшему. В нашей профессии всякое случается, и хладнокровие – качество для нее незаменимое.
Покончив со сборами, мы отправились в холмы. День выдался погожий, и солнечный свет смягчал угрюмость вершин и вересковых пустошей. Ночью шел дождь, и теперь в открытые окна машины лилось благоухание цветов и трав.
Дорогу на первую ферму преграждало несколько ворот, и Рози сияла счастьем, потому что открывать и закрывать их было ее обязанностью. Едва я затормозил перед первыми, как она молнией выскочила наружу и с величайшей сосредоточенностью отворила ворота, дав мне проехать.
– Хорошо, что я с тобой, пап, – сказала Рози. – Впереди еще не меньше двух ворот. Вон они!
Я кивнул:
– Правда, радость моя. Для меня нет ничего хуже ворот.
Дочурка удовлетворенно откинулась на сиденье. Когда Рози подошло время поступить в школу, она страшно переживала. «Что ты будешь делать без меня? – постоянно повторяла она. – Я скоро начну ходить в школу, а Джимми давно учится. Ты же будешь совсем один!»
Джимми вроде бы не сомневался, что я и сам справлюсь, а вот Рози терзалась. И выходные дни были для нее не просто днями отдыха, но временем, когда она могла поухаживать за отцом. А я извлекал из этого чистейшую радость и только дивился своему счастью. Стольких мужчин работа отрывает от семьи, я же видел своих детей не только дома, но и работая.
А возможностью перепоручить возню с воротами Рози я наслаждался с полной искренностью. Когда я проезжал сквозь последние, она стояла очень прямо, положив ручонку на щеколду, а ее лицо сияло от сознания, что она отлично справилась с порученным делом.
Несколько минут спустя я уже стоял в коровнике, недоуменно почесывая в затылке. У моей пациентки была температура 41,1 градуса, но от уже готового диагноза «мастит» пришлось отказаться – белое чистое молоко его исключало.
– Странно, – сказал я фермеру. – Легкие в порядке, желудок работает нормально, тем не менее у нее жар, и, по вашим словам, она не ест.
– Ага. Утром ни до сена, ни до брикетов не дотронулась. И поглядите, как ее дрожь бьет.
Я нагнул корове голову, выглядывая возможные симптомы, и тут у меня за спиной раздался фальцет моего сына:
– Пап, по-моему, это все-таки мастит. – Он сидел на корточках у вымени и сдаивал на ладонь струйки молока. – В этой четверти молоко чуть не кипит.
Я снова взялся за соски и тут же убедился, что Джимми прав. Молоко из одной четверти выглядело отличным, но было заметно теплее, чем из остальных трех. А когда я выдоил на ладонь еще несколько струек, то ощутил пока невидимые хлопья.
Я виновато посмотрел на фермера, и он закатился хохотом.
– Похоже, ученик-то разбирается получше учителя! Кто тебя этому научил, сынок?
– Папа. Он всегда говорит, что в таких случаях легко допустить промах.
– Вот он и допустил, верно? – Фермер хлопнул себя по бедру.
– Ну ладно, ладно, – отозвался я и пошел к машине за пенициллиновой мазью, размышляя, сколько еще таких накладок сын подмечал, разъезжая со мной по вызовам.
Потом, когда мы возвращались по перегороженной дороге, я его поздравил.
– Отлично сработано, старина. А ты знаешь куда больше, чем мне казалось.
Джимми расплылся до ушей:
– Ага! А помнишь, как я даже корову подоить не умел?
Я кивнул. Большие фермы давно были оснащены доильными аппаратами, но мелкие фермеры нередко все еще доили вручную, и сын всегда следил за ними как завороженный. Мне вспомнилось, как он стоял рядом с Тимом Саггеттом, доившим одну из своих шести коров. Скорчившись в три погибели на табурете, упираясь лбом в коровий бок, старик посылал пенящиеся струйки молока в зажатое между коленями ведро.
Он поднял глаза и перехватил жадный взгляд мальчика.
– Хочешь подоить, парень?
– Ага! Пожалуйста.
– Ладно. Вон еще ведерко. Поглядим, сумеешь ли ты надоить доверху.
Джимми присел на корточки, ухватил по соску в каждую руку и принялся увлеченно их тянуть. Ничего не произошло. Он взялся за два других. С тем же результатом.
– Так ничего же не доится! – воскликнул он жалобно. – Ну ни капельки!
Тим Саггетт усмехнулся:
– Выходит, не так-то это просто, а? Сдается мне, долгонько бы ты выдаивал всех шестерых коров.
Мой сын повесил голову, и старик провел заскорузлой ладонью по его волосам.
– Забеги-ка как-нибудь, и я тебя обучу. Заправским дояром станешь.
Недели две спустя, подъехав домой под вечер, я увидел, что в дверях Скелдейл-хауса стоит Хелен, и лицо у нее очень встревоженное.
– Джимми не вернулся из школы, – торопливо сказала она. – Он не говорил тебе, что пойдет к товарищу?
Я напряг память.
– Как будто нет. Но, может, он просто заигрался где-нибудь?
Хелен прищурилась в сгущающиеся сумерки.
– Непонятно… Он всегда забегает домой предупредить нас.
Мы безрезультатно обзвонили его школьных друзей, и я отправился рыскать по Дарроуби. Заглядывал в узкие извилистые дворы, заходил ко всем знакомым, слышал один и тот же ответ: «Нет, к сожалению, мы его не видели», – и извинялся с принужденной бодростью: «Большое спасибо. Простите, что побеспокоил вас», – чувствуя, как сердце все сильнее сдавливает ледяная рука.
Когда я вернулся в Скелдейл-хаус, Хелен еле сдерживала слезы.
– Его все нет, Джим. Где он запропастился? Темно, хоть глаз выколи. Какие игры в такой час?
– Явится с минуты на минуту. Не волнуйся так. Объяснение, конечно, окажется самым простым.
Я надеялся, что голос у меня совсем спокойный. И на всякий случай не упомянул о том, что проверил прудик в конце сада.
Мной все больше овладевала паника, и вдруг меня осенило.
– Погоди-ка! Он же говорил, что собирается как-нибудь после уроков забежать к Тиму Саггетту поучиться доить коров.
Маленькая ферма Тима вплотную примыкала к Дарроуби, и через несколько минут я уже был там. Верхняя половина двери коровника была открыта, и оттуда струился смутный свет. Я заглянул внутрь и увидел Джимми. Скорчившись на табурете, он зажимал в коленях ведро и упирался лбом в бок терпеливой коровы.
– Привет, пап! – весело сказал сын. – Вот посмотри! – Он продемонстрировал свое ведро, в котором плескалось несколько пинт молока. – Теперь я умею доить. Мистер Саггетт показал, что за сосок вовсе не тянут, а перебирают его пальцами, вот так.
Меня охватило невыразимое облегчение. Мне нестерпимо хотелось схватить Джимми и расцеловать его. Расцеловать мистера Саггетта, расцеловать корову, и я еле совладал с собой. А переведя дух, сказал:
– Тим, я вам страшно благодарен. Надеюсь только, что он вам не слишком надоел.
Старик засмеялся:
– Да нет, молодой человек. Мы время с толком провели. Паренек он смекалистый. Я ему так и сказал: коли хочешь в ветеринары пойти, значит должо́н понимать, как от коровы молоко получают.
В памяти живо запечатлелся тот вечер, когда Джимми понял, как получают молоко от коровы, и использовал свои познания, чтобы в дальнейшем определить мастит и поставить на место родителя.
По сей день я так и не решил, верно ли поступил, убедив Рози отказаться от ее мечты. Возможно, я ошибся. Однако в сороковых и пятидесятых годах жизнь ветеринара была совсем иной, чем теперь. Работали мы главным образом с крупными животными, и, хотя я любил свою профессию, меня постоянно лягали, опрокидывали, пачкали всякой вонючей мерзостью. При всем своем очаровании это была тяжелая, грязная, а часто и опасная работа. Не раз мне приходилось подменять коллег со сломанной рукой или ногой. Да и сам я не один месяц прохромал после того, как ломовая лошадь врезала мне по бедру могучим копытом с железной подковой.
Нередко от меня дурно пахло, потому что никакие антисептики и дезодоранты не избавляют до конца от ароматов, которыми пропитываешься, извлекая разлагающийся плод или послед. Я давно не обижаюсь, когда люди при моем появлении морщат носы.
Порой после возни с телящейся коровой или жеребящейся кобылой – возни, которая затягивалась на долгие часы, – все мышцы моего тела мучительно ныли, и несколько дней я чувствовал себя так, словно по моему телу прогулялись увесистой дубинкой.
Теперь все по-другому. Длинные пластиковые перчатки предохраняют кожу, когда занимаешься зловонной работой, металлические станки обездвиживают крупных животных, и уже не надо лавировать между ними в каком-нибудь тесном проходе. А кесарево сечение избавило нас от тяжких подвигов при родовспоможении. К тому же резко увеличился объем работы с мелкими животными – у нас он теперь составляет половину практики.
Когда я поступил в ветеринарный колледж, на нашем курсе училась всего одна девушка – неслыханное новшество! Теперь девушки составляют пятьдесят процентов учащихся ветеринарных школ. У нас, например, проходила хирургическую практику просто замечательная студентка.
Сорок лет назад ничего этого я предвидеть не мог, и хотя мысль о том, что Джимми будет вести жизнь, подобную моей, меня не смущала, но чтобы тот же жребий выпал на долю Рози? Нет и нет! И я пускался во все тяжкие, лишь бы отпугнуть ее от ветеринарии и убедить заняться лечением людей.
Она врач и счастлива, но не знаю, не знаю…
Мистер Моттрам, ветеринар из Скантона
– Говоря без обиняков, Хэрриот, я не считаю вас честным человеком.
– Что?! – Мне доводилось выслушивать нелестные вещи в свой адрес, но такое обвинение я слышал впервые, и оно задело тем сильнее, что его мне бросил высокий, аристократической внешности ветеринар, презрительно меряя меня взглядом. – Какого черта? Как вы можете говорить подобное?
Надменные голубые глаза Хьюго Моттрама вперились в меня с отвращением.
– Я говорю это потому, что вынужден прийти к такому выводу. Неэтичное поведение я считаю разновидностью нечестности, а вы ведете себя неэтично. Ваши попытки оправдаться я рассматриваю как недостойные уловки.
Очень приятно! И тем более здесь, в Бротоне, куда я выбрался в свой бесценный свободный день, чтобы немножко отдохнуть от всех передряг. Я блаженствовал в книжной лавке Смита, перелистывая новинки, и заметил, что между полками ко мне приближается Моттрам. Признаться, я ему немножко позавидовал – вот бы и мне выглядеть так же! Он был воплощением моего представления об идеальном облике сельского ветеринара: клетчатая кепка, щегольской приталенный пиджак с разрезом позади, бриджи, гетры и кожаные башмаки в сочетании с внушительной фигурой и красивыми, орлиными чертами лица. Ему было за пятьдесят, но, расхаживая между стеллажами, откинув голову и выпятив подбородок, он выглядел совсем молодым.
Я глубоко вздохнул и попытался сохранить спокойный тон.
– Мистер Моттрам, ваши слова оскорбительны, и я думаю, что вам следует извиниться. Вы не можете не понимать, что ни я, ни мой партнер не посягаем на ваших клиентов… Просто несчастливое стечение обстоятельств. У нас не оставалось выбора, и если вы немного подумаете…
Подбородок выпятился еще больше.
– Я подумал. И сказал то, что думаю. У меня нет желания тратить время на дальнейшее обсуждение, и надеюсь только, что в будущем мне больше не придется с вами соприкасаться.
Он повернулся на каблуках и вышел из лавки, оставив меня в бессильном бешенстве. Я стоял, разглядывая свои сапоги. Сейчас должна была подойти Хелен (из парикмахерской), и мы с ней приступим к выполнению намеченной программы: поход по магазинам, чай в кафе-кондитерской, а потом кино и ужин с моим приятелем Гордоном Реем, ветеринаром из Боробриджа, и его женой Джин. Веселая застольная беседа… Такие простые удовольствия, но райская передышка в тяжелом труде, которую мы предвкушали всю неделю. И вдруг – полный крах…
История с Моттрамом началась несколько недель назад. Я осматривал в приемной спаниеля с высыпанием на коже, как вдруг его хозяйка сказала:
– Его некоторое время лечил мистер Моттрам – он живет в Скантоне. Говорит, что это экзема, но улучшений нет, и я подумала, может, это что-то другое. Ну и обратилась к вам.
Я обернулся к ней:
– Жаль, что вы этого сразу не сказали. Я бы попросил у мистера Моттрама согласия, прежде чем смотреть вашу собаку.
– Я не знала. Извините.
– Ну что поделать. Боюсь, я должен сейчас же поговорить с ним.
И я пошел в кабинет позвонить.
– Моттрам слушает.
Голос я узнал сразу – уверенный, спокойный бас. Как и со всеми ветеринарами, практикующими по соседству, я несколько раз встречался с Моттрамом и понял, что сойтись с ним вряд ли удастся. Меня отпугивала его аристократическая надменность. Но теперь требовался дружеский тон.
– Добрый день. Это Хэрриот из Дарроуби. Как поживаете?
– Хорошо, Хэрриот, надеюсь, и вы тоже.
Черт! Все та же патрицианская снисходительность!
– Так вот. Ко мне пришла с собакой ваша клиентка, миссис Хиксон. Что-то кожное, насколько я могу судить. Она хочет проконсультироваться.
– Так вы уже смотрели собаку? – Голос стал ледяным. – Мне кажется, вы могли бы сначала поговорить со мной.
– Прошу прощения, но я не мог. Миссис Хиксон упомянула об этом, когда я уже начал осмотр. Еще раз прошу извинения и хочу спросить, даете ли вы мне разрешение продолжать?
Наступила долгая пауза. Льда в голосе прибавилось.
– Ну раз вы начали, то продолжайте.
В трубке резко щелкнуло, – видимо, он швырнул трубку на рычаг.
Мое лицо запылало от смущения. Что с ним такое? Такие вещи случаются постоянно. Мне уже приходилось звонить по такому поводу к соседним ветеринарам, а им ко мне. Их ли, мой ли ответ всегда был один: «Ну конечно, конечно. Буду рад узнать ваше мнение». После чего следовал рассказ об уже принятых мерах.
Моттрам о них ничего не сказал, а звонить ему еще раз я не собирался. Придется узнать от хозяйки, каким было лечение.
Позднее я рассказал о случившемся Зигфриду.
– Заносчивый субъект, – буркнул он. – Помните, я как-то пригласил его пообедать вместе? А он ответил, что, по его мнению, ветеринарам следует поддерживать безупречные отношения с коллегами в округе, но что панибратства он не одобряет.
– Ну как же, помню, хоть это и давно было.
– Что же, я уважаю его принципы, но подобная мелочная придирчивость попросту глупа.
Недели через две я ощупывал заднюю лапу охромевшей собаки, как вдруг передо мной разверзлась бездна – владелец, очень милый старичок, бодро прочирикал:
– Да, кстати, я же вам не сказал. Мистер Моттрам в Скантоне его лечил, но, по-моему, ему не лучше, так мне бы хотелось узнать ваше мнение.
У меня по коже пробежали мурашки, но выбора не было. Я снова позвонил нашему соседу.
– Моттрам слушает. – Все тот же расхолаживающий голос.
Я объяснил, что произошло, и попросил разрешения продолжать. Снова долгая пауза, а затем презрительное:
– Так вы опять!
– Опять? О чем вы? Я ничего не сделал и только прошу у вас разрешения исполнить желание вашего клиента.
– Да делайте, что вам угодно, черт побери! – И я услышал в трубке знакомый резкий щелчок.
Когда несколько дней спустя Зигфрид вошел в приемную с задумчивым видом, я уверовал, что судьба ополчилась на нас.
– Вы не поверите, Джеймс. Сегодня утром меня вызвали к моттрамовскому клиенту по фамилии Боуллендз, он просто с ума сходил. У него лошадь сломала ногу, найти Моттрама он не сумел и в отчаянии позвонил мне. Я позвонил Моттраму в приемную, но он был на выездах, и мне пришлось мчаться к Боуллендзу. Ужасно! Жуткий сложный перелом, лошадь стонет от боли, и ничего сделать нельзя. Оставалось только тут же пристрелить ее, чтобы не мучилась… Что скажет на это Моттрам! Я попытался еще раз связаться с ним, но он не вернулся.
Я помогал Зигфриду очистить уши собаки, и мы мыли руки, когда в дверях операционной, к великому нашему изумлению, возник Моттрам.
Он был, как всегда, элегантен, явно в бешенстве, но сохранял холодное самообладание.
– А, вы оба тут! – Снова этот надменный тон. – Тем лучше, поскольку то, что я скажу, относится к вам обоим. Последняя ваша эскапада у Боуллендза, Фарнон, право, переходит все границы. Мне остается только прийти к выводу, что вы систематически стараетесь красть моих клиентов.
Зигфрид побагровел:
– Послушайте, Моттрам, это чушь! У нас нет ни малейшего желания отбивать у вас клиентов. Ну а лошадь Боуллендза… я старался связаться с вами, но…
– Я больше ничего не желаю слушать. Можете говорить, что вам угодно, но я верю в безупречные отношения. Теперь, после случившегося, я рад, что не отступил от своих принципов из-за этого вздора с «пообедаем где-нибудь вместе». – Он кивнул нам обоим с высоты своего роста и удалился.
Зигфрид повернулся ко мне с кривой улыбкой:
– Полное фиаско. Я хочу поддерживать дружбу со всеми нашими соседями, но тут можно поставить крест.
И вот теперь, вспоминая в бротонской книжной лавке ход событий, я почувствовал, что эта последняя атака Моттрама, в сущности, была лишней. Стоя там на развалинах безвозвратно погубленного выходного, глядя на его удаляющуюся спину, я понял, что он окончательно отряс мой прах со своих ног.
Меня, как и Зигфрида, угнетала эта ситуация, но я постарался забыть о ней, однако примерно месяц спустя в час ночи у моей постели затрещал телефон. Я потянулся за трубкой. В ней раздался растерянный голос:
– Это Ламзден. Из Скантона. Помощник мистера Моттрама. У его лошади тяжелые колики, и я не справляюсь. Мне нужна консультация.
Сон мигом слетел с меня.
– А где Моттрам?
– Уехал в отпуск на север Шотландии. – Голос молодого человека дрогнул. – Ну и, конечно, это случилось, когда его тут нет. Он просто обожает эту лошадь… каждый день на ней ездит. Я все перепробовал, но она при последнем издыхании. Не знаю, какими глазами на него посмотрю, когда он вернется… – Наступила пауза. – Собственно, я надеялся застать мистера Фарнона. Он же спец по лошадям, верно?
– Да, – ответил я. В темноте я положил трубку себе на грудь и уставился в невидимый потолок, Хелен рядом со мной беспокойно шевельнулась. Потом я сказал: – Послушайте, Ламзден, я позвоню моему партнеру. Сегодня ночью у него выходной, но я попробую. В любом случае обещаю, что кто-то из нас приедет помочь вам.
Я прервал его благодарности и позвонил Зигфриду домой, сообщил ему, что произошло, и почувствовал, как он вырвался из сна.
– Господи! Моттрам!
– Да. И как вы?
Я услышал долгий вздох и слова:
– Я должен поехать, Джеймс.
– Я поеду с вами.
– Да? Но стоит ли вам…
– Конечно. И ведь в эту ночь я дежурю. А моя помощь может пригодиться.
По дороге в Скантон мы почти не разговаривали, но Зигфрид высказал мысли, одолевавшие нас обоих:
– Знаете, Джеймс, в этом есть что-то потустороннее. Похоже, едем мы совершенно напрасно, а Моттрам проникнется к нам еще более нежными чувствами, когда узнает, что мы присутствовали при кончине его любимой лошади. Колики – скверная штука и всегда опасны, даже если ничем не осложнены, а я готов побиться об заклад, что осложнены, и еще как!
Дом Моттрама был расположен на краю Скантона, наши фары осветили каштановую аллею, которая вела к внушительному зданию с красивым портиком. Мы обогнули дом и увидели Ламздена, который сигнализировал фонариком с мощенного булыжником двора. Едва мы подъехали, как он повернулся и побежал к освещенному стойлу в углу. Когда мы вошли туда следом, то поняли причину его спешки. Зрелище было страшное. У меня в горле застрял комок, и я услышал, как Зигфрид прошептал:
– Боже мой!
Крупный гнедой конь, спотыкаясь, кружил по стойлу, голова его была низко опущена, глаза выпучились, бока покрылись пеной, колени подгибались, и казалось, он вот-вот рухнет на пол и начнет кататься, что приведет к завороту кишок и неминуемой смерти. Молодой человек отчаянно тянул за уздечку, вынуждая коня кружить.
На вид Ламздену нельзя было дать больше шестнадцати лет, но раз у него имелся диплом ветеринара, значит к этой цифре следовало прибавить минимум десять. Худощавый, с мальчишеским лицом, которое сейчас посерело от утомления.
– Как хорошо, что вы приехали! – выдохнул он. – Простите, что поднял вас с постели, но я боролся с этими коликами весь день вчера и весь день сегодня, и безрезультатно. Ему все хуже, а я совсем вымотался.
– Правильно сделали, старина, – бодро сказал Зигфрид. – Джеймс подержит коня, а вы расскажете, какие меры принимали.
– Ну, я давал истин как слабительное и хлоральгидрат, чтобы облегчить боль. Еще хлорпромазин и несколько небольших инъекций ареколина, но дальше колоть ареколин воздержался – там такие завалы, что я боюсь разрыва кишечника. Если бы он только хоть чуть-чуть испражнился, но его уже двое суток полностью заперло.
– Ничего, мой милый, вы все сделали правильно, так что не терзайтесь.
Зигфрид подсунул руку под локоть и пощупал пульс, а когда конь, пошатываясь, шагнул вперед, он оттянул веко и вгляделся в конъюнктиву. Задумался, а затем измерил температуру.
– Да… да… – без всякого выражения бормотал он, а потом повернулся к Ламздену. – Вы не сбегаете в дом, не принесете горячей воды, мыло и полотенце? Я хочу провести ректальное исследование.
Молодой человек умчался, а Зигфрид повернулся ко мне.
– Черт, не нравится мне это, Джеймс. Пульс омерзительно слабый, еле его нащупал, конъюнктива кирпично-красная, а температура тридцать девять и четыре. Я не хотел пугать этого юношу, но, думаю, его не вытянуть. – Тут глаза моего партнера широко раскрылись. – И опять Моттрам! Просто проклятие какое-то!
Я промолчал, продолжая держать шатающегося коня. Слабый пульс у лошадей – признак самый зловещий, да и все остальное указывало, что положение осложняет воспаление кишок.
Когда Ламзден вернулся, Зигфрид закатал правый рукав и ввел руку глубоко в прямую кишку.
– Да… да… завалы, как вы и сказали. – Он несколько секунд тихо насвистывал. – Ну, для начала следует облегчить боль.
Он ввел транквилизатор в яремную вену, все время ласково уговаривая коня:
– Тебе от этого полегчает, старина. Бедный ты мой старичок! – Следом он сделал вливание физиологического раствора, чтобы уменьшить шок, и не забыл об антибиотике против энтерита. – А теперь зальем в него галлон жидкого парафина, чтобы смазать всю эту дрянь внутри.
Зигфрид быстро ввел через ноздрю желудочный зонд и держал его, пока я накачивал парафин.
– Теперь мышечный релаксант. – Он сделал еще одну внутривенную инъекцию.
К тому времени, когда Зигфрид очистил и смотал зонд, конь явно почувствовал себя много лучше. Колики на редкость мучительны, а я твердо убежден, что лошади ощущают боль острее всех других животных, и наблюдать их страдания бывает невыносимо. А потому я с большим облегчением увидел, как конь заметно успокоился, перестал опасно шататься и явно отдыхал от недавних мук.
– Ну что же, – сказал Зигфрид вполголоса, – теперь будем ждать.
Ламзден вопросительно поглядел на него.
– А вам обязательно? Мне так неловко, что вы из-за меня не спите. Уже третий час. Может быть, теперь я и один справлюсь…
Мой партнер ответил ему измученной улыбкой.
– С полным уважением к вам, юноша, мы и дальше будем объединять наши усилия. Лошадь пока просто одурманена, а что положение ее очень серьезно, и говорить не надо. Если мы не заставим заработать кишечник, боюсь, она сдохнет. Ей еще очень многое потребуется, включая зонд. Так что будем и дальше трудиться до победного или иного конца.
Молодой человек опустился на тючок сена и тупо уставился на свои сапоги.
– О господи, только бы не до иного! На прощание мистер Моттрам сказал мне: «Коробок остается на вашем попечении!»
– Коробок?
– Спичечный Коробок. Это его кличка. Мой патрон на него не надышится.
– Очень грустно, – сказал Зигфрид. – Положение у вас незавидное. По-моему, Моттрам не из тех людей, которым легко что-нибудь объяснить.
Ламзден запустил пятерню в волосы.
– Да… да… – Он поднял голову и взглянул на нас. – Учтите, он очень хороший человек и со мной всегда прекрасно обходится. Все дело в его личности. Посмотрит на тебя, и ты чувствуешь себя пигмеем.
– Вполне вас понимаю, – сказал я.
Зигфрид задумчиво поглядел на него:
– Как вас зовут? Как к вам обращается ваша матушка?
– Гарри.
– Так вот, Гарри, возможно, вы правы. И мне нравится ваша лояльность. Не исключено, что у него только манера такая, а мы с Джеймсом просто попадали под горячую руку. Да, кстати, а кофе вы нам не сварите? Ночь предстоит долгая.
Да, ночь была очень долгой. Мы по очереди прогуливали коня, когда появлялись признаки, что он хочет лечь, а Зигфрид делал инъекции, перемежая транквилизаторы и мышечные релаксанты осторожными дозами ареколина, а в пять утра снова воспользовался зондом и закачал в желудок сульфат магния. И все это время, пока мы подремывали и позевывали на тючках сена, мы ждали признаков того, что боль смягчается, что конь подбодрился, а главное – что кишечник заработал.
Сам я, глядя на понуренную голову Коробка, на его подгибающиеся ноги, мучился от сознания, что лошади гибнут очень легко. Рогатый скот, да и другие домашние животные куда выносливее, и старое фермерское присловье, что «лошадь самая малость прикончит», к сожалению, более чем соответствовало истине. Ночь тянулась и тянулась, жизнедеятельность моего организма падала, уныние росло. С минуты на минуту я ждал, что конь вдруг прервет свое тягостное кружение, со стоном повалится набок и, захрипев, перестанет дышать. А мы печально вернемся в Дарроуби.
В небе над нижней створкой двери мало-помалу гасли звезды, восток светлел. Около шести, когда в каштанах запели птицы и в стойло пробрался рассвет, Зигфрид встал и потянулся.
– Большой мир просыпается к дневным трудам, ребятки, так что́ будем делать? Нас обоих ждут вызовы, но кто останется с Коробком? Бросить его мы не можем.
Мы уставились друг на друга покрасневшими мутными глазами, и тут конь внезапно задрал хвост и изверг небольшую дымящуюся кучку навоза.
– Какое чудное зрелище! – вскричал Зигфрид, и наши измученные лица расплылись в улыбке. – Ну сразу легче стало, однако не следует радоваться раньше времени. Энтерит еще не прошел, а потому на прощание закачу ему еще антибиотика. Гарри, теперь, я думаю, его можно спокойно оставить, так что мы поехали. Но не стесняйтесь и сразу звоните, если опять станет хуже.
Во дворе мы обменялись с Ламзденом сердечными рукопожатиями. У него глаза слипались от усталости, но лицо светилось радостью.
– Не знаю, что сказать, – бормотал он. – Я так благодарен вам обоим. Вы меня так выручили! Просто не знаю, как вас благодарить…
– Не за что, мой милый, – прожурчал Зигфрид. – Рады, что оказались полезны. Звоните, когда понадобимся… но только не по поводу лошадиных колик в ближайшие два-три дня, если вас это не очень затруднит.
Мы все засмеялись, Зигфрид завел мотор, и, помахав на прощание, мы покатили по каштановой аллее.
Ламзден позвонил только на следующее утро, и я услышал в трубке:
– Коробок чувствует себя великолепно. Кишечник работает исправно, конь жует сено, ну все чудесно. Еще раз огромное спасибо.
Миновали три недели, и в горячке будней скантоновская ночь почти забылась, но как-то утром Зигфрид оторвался от книги вызовов.
– Знаете, Джеймс, сдается мне, Моттрам мог бы хоть как-то отозваться на ту небольшую помощь, которую мы оказали его любимцу. Пылких благодарностей я не жду, но, по-моему, позвонить он мог. – Раздраженно пожав плечами, он что-то вписал в книгу и добавил: – Видимо, этот чертов зазнайка даже и тут неспособен поступить по-человечески.
– Ну не знаю, Зигфрид. Возможно, он просто еще не вернулся. Нам же это неизвестно.
– Хм-м! – Мой партнер поглядел на меня с сомнением. – Не исключено, что я к нему и несправедлив. Но в любом случае нам остается сознание, что мы помогли спасти прекрасного коня. – Выражение его лица смягчилось. – Чудесное животное.
На следующий день, вернувшись с утренних визитов, я увидел, что мой партнер нагибается над открытым ящиком, из глубин которого выглядывают золотые горлышки бутылок.
– Что это? – спросил я.
– Шампанское. Дюжина. – Зигфрид извлек бутылку и посмотрел на этикетку. – «Боллинжер», не больше и не меньше!
– Черт! Но от кого?
– Понятия не имею. Доставлено утром в наше отсутствие, и внутри ни карточки, ни записки. Но не беспокойтесь, оно для нас. Видите адрес: «Господам Фарнону и Хэрриоту, Скелдейл-хаус».
– Замечательно. Но хотел бы…
Меня прервал стук в дверь, и вошел Хьюго Моттрам. Мы молча уставились на него. Он взглянул на ящик.
– Вижу, шампанское вам доставили.
– Это вы его прислали? – произнесли мы в один голос.
– Да… да… маленький знак благодарности. Я вернулся из Шотландии только вчера вечером, и… э… Ламзден рассказал мне, как вы спасли Коробка.
– Ну, право же, ни к чему… мы рады… – Против обыкновения, Зигфрид начал заикаться.
Моттрам тоже изнывал от неловкости. Как всегда прямой, исполненный достоинства, он тем не менее был явно смущен, поджимал губы и мучительно подбирал слова.
– Нет, к чему… чтобы как-то выразить мою благодарность… которая глубже, чем я… чем я могу выразить. И еще, чтобы извиниться перед вами, господа… за мои глупые и непростительные слова при нашей последней встрече…
– Мой дорогой, все это лишнее! – воскликнул Зигфрид. – Мы нисколько…
Моттрам поднял ладонь.
– Разрешите мне сказать… Я крайне сожалею и стыжусь… Не понимаю, почему говорю подобные вещи… Со мной это уже бывало… Я, кажется, чересчур нетерпим… Боюсь, что ничего с этим поделать не могу.
Говоря, он все выше задирал подбородок и смотрел на нас сверху вниз.
Возможно, и с этим он ничего поделать не мог. Но такие признания ему дорого стоили, и я ощущал, как возрастает напряжение.
Зигфрид явно почувствовал, что необходима разрядка. Он раскинул руки всеобъемлющим жестом.
– Моттрам, Моттрам, дорогой мой. О чем вы? Маленькое недоразумение, уже забытое. Больше ни слова, прошу вас. Право же, нас с Джеймсом интересует только, что ваш чудесный конь теперь совсем здоров.
Моттрам чуть-чуть расслабился.
– Знаете что, – произнес Зигфрид негромко, – я бы сам хотел иметь такую лошадь. Искренне вам завидую.
И я заметил, как между этими любителями лошадей сразу возникла симпатия.
Моттрам кивнул.
– Ну, я рад, очень рад, – пробормотал он. – И кстати, я привез вам кое-что от Ламздена. Он тоже чрезвычайно вам благодарен. – И Моттрам протянул Зигфриду небольшой сверток.
Мой партнер быстро сдернул бумагу и испустил одобрительный вопль.
– Бутылка выдержанного виски! Молодец Гарри! Нынче наш счастливый день. И по-моему, надо отпраздновать выздоровление Спичечного Коробка – ну и все остальное. Ингредиенты налицо. – Зигфрид достал из ящика бутылку шампанского. – Что скажете, Моттрам, старина? У нас есть немножко свободного времени до обеда.
– Вы очень любезны, Фарнон. С удовольствием.
– Отлично, отлично! Так садитесь же и располагайтесь поудобнее. Джеймс, принесите бокалы.
Через две-три минуты хлопнула пробка шампанского, и мы расселись вокруг стола. Зигфрид поднял бокал и одобрительно посмотрел на его искристое содержимое.
– За здоровье Спичечного Коробка! И пусть живот у него больше никогда не болит!
Мы выпили, и Моттрам откашлялся.
– Мне бы хотелось сказать еще одно: я очень сожалею, что мы прежде не узнали друг друга поближе. Не отобедаете ли вы оба у меня в следующую пятницу?
Веселый вечер с миссис Федерстон
Поднимая на стол роковую собачку миссис Федерстон, я неизменно преисполнялся самыми дурными предчувствиями, но на этот раз я ощущал только легкость и полнейшую уверенность в себе. В бредовом состоянии я всегда такой.
Бредовое же состояние было одним из бесчисленных проявлений бруцеллеза. Эта инфекционная болезнь, вызывающая аборты у скота, сгубила тысячи трудолюбивых фермеров моего поколения и постоянно угрожала ветеринарам, которым приходилось принимать отелы, завершавшиеся выкидышами, и удалять послед.
Слава богу, систематическая борьба с бруцеллезом теперь почти покончила с этой болезнью, но в пятидесятых годах о подобном никто не мечтал, и я, как и все мои современники, почти ежедневно буквально купался в этой гнусной инфекции.
Помню, как я стоял в коровниках обнаженный по пояс (отельные халаты тогда были редкостью, а о длинных пластиковых защитных перчатках никто и не слыхивал), часами орудуя рукой внутри зараженных коров, и с горечью рассматривал кожистую плаценту со светлыми некротизированными участками, напоминавшими мне, что я соприкасаюсь с миллионами патогенных бактерий. И когда я ополаскивал руки в дезинфицирующей жидкости, вокруг еще долго стоял характерный кислый запах.
Воздействие болезни на моих коллег-ветеринаров было крайне разнообразным. Один, высокий и дородный, истаял в скелет, измученный волнообразной лихорадкой, и продолжал страдать от нее еще долгие годы, других скручивали сильнейшие артриты, а некоторые заболевали психически. В «Ветеринари рикорд» было напечатано письмо человека, который в результате своего синдрома, вернувшись как-то ночью домой, вдруг решил, что ему необходимо убить свою жену. Он, естественно, этому импульсу не поддался, но сообщил о нем как об интересном примере того, что может сделать с человеком Brucella abortus.
Я про себя радовался и благодарил Бога, что оказался невосприимчивым. Годами я вплотную соприкасался с инфекцией как будто безнаказанно и, думая о многих друзьях-страдальцах, сознавал, какое это счастье, что судьба меня пощадила. И после стольких лет был твердо уверен: мне бруцеллез не угрожает.
Это продолжалось, пока не начались мои веселые приступы.
Так в семье окрестили таинственные припадки, которые возникали внезапно и кончались столь же быстро. Вначале я счел их результатом переохлаждения, ведь постоянно приходилось раздеваться до пояса под открытым небом и часто по ночам, потом я стал грешить на короткий возвратный грипп. Симптомы всегда были одинаковы: угнетенное состояние, затем ледяной озноб, укладывавший меня в постель, где за час температура взлетала за сорок. Жар приносил с собой чудеснейшее настроение: я ощущал себя согревшимся, счастливым, хохотал, болтал с собой о том о сем и, наконец, разражался песней. Не запеть я не мог – так было хорошо. Детей это чрезвычайно развлекало, и чуть я принимался петь, они неизменно хихикали под дверью. Но я ничего не имел против. Меня все радовало.
Тем не менее я решил выяснить, что со мной происходит, и анализ крови, сделанный доктором Аллинсоном, рассеял все сомнения, дав положительную реакцию на Brucella abortus. Как ни жаль, но пришлось признать, что я принят в клуб ее жертв.
Приступ, во время которого миссис Федерстон привела свою собачку, произошел в субботу. Я возвращался домой с футбольного матча в Сандерленде в компании нескольких приятелей. Наша команда выиграла, мы были в чудесном настроении, смеялись, шутили, и я даже не заметил, как перестал быть душой общества и замолчал. Но когда я добрался до Скелдейл-хауса и горестно притулился у огня, трясясь в малярийном ознобе, то понял, что надвигается новый веселый приступ.
Хелен немедленно прогнала меня наверх в спальню и принялась наливать горячую воду в грелки. Чувствуя, что умираю, я забрался под одеяло, прижал к груди грелку, положил ноги на другую, а кровать ходила ходуном – так меня трясло. Хелен накрыла меня еще одним пуховым одеялом и оставила моей судьбе. Мы оба знали, что будет дальше. И все пошло по заведенному порядку. Озноб проходил, я согревался, на душе становилось легче, затем по всему телу разлился благодатный жар, и я погрузился в восхитительную томность и умиротворенность – все заботы куда-то исчезли. Райское блаженство! Я был не прочь, чтобы оно длилось вечно. Но жар все рос, становился огненным, и я почувствовал себя даже еще лучше: томность исчезла, я был сильным, могучим, глупо и буйно счастливым.
На этой стадии я обычно протягивал пылающую руку за термометром на тумбочке и засовывал его под мышку. А! Сорок один, как я и думал. Я блаженно усмехнулся. Все было отлично, дальше некуда.
Радость жизни переполняла меня, и я заговорил вслух, обсудил с собой ряд интересных дел, но мое великолепное настроение требовало более действенного выхода. Как тут было не запеть? «В зеленеющем уборе роща по весне была, в росный час мне Анни Лори клятву верности дала», – загремел я, и никогда еще мой голос не был таким звучным и мелодичным.
Из-за двери донеслось «хи-хи», а затем шепот Джимми: «Во как!» – и приглушенный смех Рози. Уже явились, пострелята! Но какого черта? «Клятву верности дала, чтоб ее хранить до гроба!» Я бесстрашно взял высочайшую ноту, игнорируя «хи-хи» и «ха-ха» за дверью.
Потом еще побеседовал с собой, от души соглашаясь с каждым своим утверждением, а потом решил исполнить «Прекрасную Розу из Трейли» в манере Джона Маккормака и набрал в грудь побольше воздуха.
– Над зелеными горами бледная луна плыла-а!
– Ха-ха-ха! – закатились мои дети, и тут раздался звонок в прихожей, по лестнице взбежали шаги, и в дверь постучали. В щель всунулась физиономия Джимми.
– Привет, пап! – Он весь сморщился от старания сдержать смех. – Миссис Федерстон привела свою собаку. Она говорит, что это неотложно, а мама куда-то вышла.
– Все в порядке, старина! – Я спустил ноги с кровати. – Сейчас приду.
– А тебе можно? – Глаза моего сына полезли на лоб.
– Еще как! Раз-два, и я там. Проводи ее в смотровую.
Снова испуганно на меня посмотрев, Джимми притворил дверь и умчался.
Я натянул брюки и рубашку. Кровь гремела у меня в ушах, лицо горело. Обычно одно упоминание имени миссис Федерстон ввергало меня в панику. Богатая, пожилая, очень властная, она годы и годы допекала меня воображаемыми недугами своего пуделька Ролло.
Ролло был на редкость здоровым песиком. Как и большинство пуделей, его отличала крепость мышц. Он был способен взвиться с места на шесть футов вверх, словно на пружинах, но его хозяйка страдала настоящей ипохондрией – только болезни она придумывала не себе, а ему. С корыстной точки зрения, что может быть лучше денежной клиентки, готовой оплачивать регулярные осмотры совершенно здоровой собаки? Но я был сыт по горло. Снова и снова, и без конца: «Право же, миссис Федерстон, то, что вас встревожило, это вполне нормальное явление». Или: «Уверяю, миссис Федерстон, вы волнуетесь совершенно напрасно…» Тут дама выпрямляется во весь свой внушительный рост и выпячивает подбородок: «Не хотите ли вы сказать, мистер Хэрриот, что мне все это приснилось? Что я не могу доверять собственным глазам? Бедняжка Ролло страдает, так будьте добры, примите меры!»
И каждый раз я трусливо подчинялся, отделываясь от нее с помощью какого-нибудь безобидного средства, которое не могло повредить песику. Но мне было мучительно стыдно. Я вынужден был признать, что боюсь этой женщины и в ее присутствии превращаюсь в зайца, в тряпку, позволяю ей небрежным движением руки отметать все мои робкие возражения. Ну почему я не могу поставить ее на место?!
Однако в эту минуту, завязывая галстук и напевая что-то горящим глазам на багровом, отраженном в зеркале лице, я только диву давался: откуда такая непостижимая робость? И просто предвкушал предстоящее свидание с этой дамой.
Я сбежал вниз, сдернул с крючка белый халат, прорысил по коридору и увидел миссис Федерстон перед столом в смотровой.
Черт, а ведь она недурна собой! Очень, очень даже недурна. Странно, что не замечал этого раньше. В любом случае я твердо знал, как поступить: схвачу ее в объятия, влеплю звонкий поцелуй, хорошенько потискаю – и все былые недоразумения рассеются, как утренний туман под ласковыми лучами солнца.
Я двинулся к ней и вдруг обнаружил нечто непонятное: она исчезла! Но я же видел ее тут всего секунду назад… Я заморгал и посмотрел вокруг недоуменным взглядом. Тут выяснилось, что она просто нырнула под стол. Славно, славно! Значит, она тоже в игривом настроении и затевает прятки.
Ее голова появилась над краем стола, и я весело крикнул:
– Ку-ку! А я вас нашел! – Но выяснилось, что она всего лишь нагнулась, чтобы водворить своего песика на стол.
Миссис Федерстон бросила на меня непонятный взгляд.
– Вы ездили отдохнуть, мистер Хэрриот? У вас такой яркий цвет лица.
– Нет, нет, нет и нет! Просто я в чудесной форме! Собственно говоря…
Дама поджала губы и нетерпеливо прервала меня:
– Я очень беспокоюсь за бедняжку Ролло.
Услышав свое имя, пуделек, выглядевший на редкость здоровым, принялся резвиться на столе и прыгать на меня.
– Беспокоитесь? Какой ужас! Расскажите же мне все! – Я подавил смешок.
– Ну, мы только вышли на вечернюю прогулку, как он вдруг кашлянул.
– Один раз?
– Нет, два. Вот так: хок-хок.
– Хок-хок? – Я с великим трудом сохранял серьезность. – И что случилось потом?
– Ничего не случилось! Разве этого мало? Злокачественный кашель?
– Но уточните, пожалуйста, вы имели в виду два «хока» или один «хок-хок»? – Я невольно хихикнул, сраженный собственным остроумием.
– Я, мистер Хэрриот, имею в виду однократный и опасный кашель. – В глазах дамы блеснул зловещий огонек.
– Да-да, – ответствовал я и достал стетоскоп.
Выслушав пациента, я, разумеется, никаких отклонений не обнаружил, но готов был поклясться, что Ролло смотрел на меня извиняющимся взглядом.
Все это время смех у меня в груди старался вырваться на волю, и внезапно я испустил оглушительное «ха-ха!».
Брови миссис Федерстон взлетели к самым волосам. Она уставилась на меня и спросила ледяным тоном:
– Что вас так забавляет? – «Забавляет» она надменно растянула.
– Ну право же, это смешно до невозможности! – Я оперся о стол и закатился хохотом.
– Смешно?! – На лице миссис Федерстон изумление мешалось с ужасом. Она несколько раз открыла рот и лишь потом договорила: – Не вижу ничего смешного в страданиях беспомощного животного!
Укрытый надежным щитом жара и эйфории, я погрозил ей пальцем.
– Но он же ничуть не страдает, это и смешно! И никогда не страдал, сколько бы раз вы его ко мне ни приводили.
– Прошу прощения?!
– Святая правда, миссис Федерстон. Все болезни Ролло – одни ваши выдумки. – Стол затрясся от моего смеха.
– Как вы смеете так говорить! – Дама прожгла меня высокомерным взглядом. – Вы ведете себя оскорбительно, и я не потерплю…
– Э-эй! Дайте мне объяснить! – Я смахнул с глаз пару слезинок и отдышался. – Помните, как вы расстраивались из-за манеры Ролло делать несколько шагов, приподняв заднюю лапу, а потом ее опускать? Я вам объяснял, что это привычка, не больше, а вы принудили меня лечить его от артрита?
– Ну да. Помню. Но я очень беспокоилась.
– Знаю. И вы мне не поверили, а он и сейчас так делает. И вполне здоров. Просто мелким собакам это свойственно.
– Возможно, но…
– Или тот раз, – продолжал я, захлебываясь смехом, – когда вы заставили меня прописать ему снотворные таблетки из-за его жутких кошмаров.
– И правильно сделала! Он во сне так жалобно поскуливал и перебирал лапками, словно спасался от чего-то ужасного.
– Ему снился сон, миссис Федерстон. И наверняка приятный. Например, что он бежит за своим мячиком. Всем собакам снятся такие сны. – Я ухватил Ролло за голову. – И посмотрите сюда, ха-ха! Наверное, вы не забыли, как утверждали, что глаза у него чем-то зарастают. И не хотели поверить, что это нормальные третьи веки. И видите, они все еще тут, верно? Вот же они, а он прекрасно видит, ха-ха-ха! – Я окончательно потерял власть над собой и хотел было дружески ткнуть ее пальцем под ребро, но она вовремя попятилась.
Прижав ладонь ко рту, она не спускала с меня глаз. Брови ее так и поселились под сенью волос.
– Вы… вы несерьезно…
– Вовсе нет. Очень даже серьезно. И могу продолжать и продолжать.
– Право, не знаю, что сказать. Ну а его теперешний кашель?
– Можете забрать его домой, – ответил я. – Если он опять захокает, приходите с ним завтра, только никаких «хок-хок» больше не будет! – Я утер мокрое лицо и снял Ролло со стола.
Миссис Федерстон шла до входной двери словно в трансе. Она то и дело прижимала ладонь ко рту, искоса недоуменно на меня поглядывала и хранила ошеломленное молчание.
Проводив ее, я вернулся в кровать и уснул с приятным сознанием, что легко и безболезненно покончил с неприятной проблемой. И как тактично!
Наутро я уже этого не ощущал. Мой веселый приступ развивался обычным путем. После радостного возбуждения накануне – тяжелая апатия, уныние, отчаяние, а на этот раз и смутное грызущее раскаяние. Натянув одеяло под подбородок, я старался как-то разобраться в своих воспоминаниях о том, что происходило накануне. Какая-то жуткая каша!
Но едва я проснулся окончательно, меня поразило как молнией. Миссис Федерстон! О господи! Что я ей наплел? Что я натворил? Я судорожно и тщетно пытался воскресить в уме подробности, но одно было точно и неопровержимо: я смеялся, возможно, даже насмехался над ней, и не исключено, что покушался на ее особу. Неужели и правда пытался ее поцеловать? Нежно потискал, пока провожал по коридору? Мой рот раскрылся, и я тихонько застонал.
Без всяких сомнений, я был повинен в недопустимо неприличной выходке, и, конечно, мне придется дорого за нее заплатить. Разумеется, больше миссис Федерстон никогда не переступит нашего порога. Позорнейший этот случай получит огласку. Она может даже подать на меня жалобу в ветеринарную комиссию. И я уже видел заголовки в «Дарроуби энд Холтон таймс»: «ВЕТЕРИНАРУ ПРЕДЪЯВЛЕНО СЕРЬЕЗНЕЙШЕЕ ОБВИНЕНИЕ. ХЭРРИОТУ ПРИДЕТСЯ ДАТЬ ОБЪЯСНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ».
С воплем я глубже зарылся под одеяло, устремив невидящий взгляд на чашку с чаем, которую Хелен поставила на тумбочку рядом с кроватью. После веселых приступов я всегда день отлеживался, а потом с удивительной быстротой приходил в норму. Но на этот раз душевные раны исцелятся не скоро. А жуткие последствия?
Больше я не мог терпеть эту пытку, торопливо выпил чай, оделся и поплелся вниз.
– Тебе получше, Джим? – весело спросила меня жена, перемывая посуду. – Скоро будешь молодцом, как всегда. Все-таки очень странное состояние, хотя дети получили большое удовольствие. Насколько я поняла, ты вчера был в голосе! – Она засмеялась и взяла полотенце.
Я решил, что небольшая прогулка меня освежит, и не поверил своим глазам, когда, пройдя совсем немного, вдруг увидел, что ко мне приближается миссис Федерстон. Нас разделяла какая-то сотня шагов. В ужасе я улизнул на другую сторону улицы, но дама успела меня заметить и последовала за мной. Облаченная в дорогой твидовый костюм внушительная фигура неумолимо надвигалась, и я понял, что спасения нет.
Ну что же, сказал я себе, сейчас начнется. «Мистер Хэрриот, я подумала, вам будет интересно узнать, что по поводу случившегося в субботу я обратилась к моему адвокату. Ваше поведение было возмутительным, и я считаю своим долгом в дальнейшем оградить беззащитных женщин от ваших выходок. Я просто не могу поверить, чтобы дипломированный специалист был способен на подобное – злоупотребить своим положением, предать оказанное вам доверие! Ну а о вашей немыслимой черствости к страданиям моей собачки просто мучительно вспоминать!»
Однако ничего подобного я не услышал. Подойдя ко мне, миссис Федерстон ласково положила ладонь мне на руку.
– Мистер Хэрриот, вы вчера оказали мне большую услугу.
– А?
– Да. Вы были так милы и тактичны. Теперь я поняла, насколько глупы были мои тревоги из-за Ролло. Как, должно быть, я вам надоедала!
– Да нет же, нет…
– Вы очень добры, но я знаю, что вела себя неразумно, беспокоила вас по пустякам в неурочное время. И вот явилась вечером в субботу…
– Уверяю вас…
– Но вместо того, чтобы рассердиться, вы только посмеялись, и просто удивительно, как вы открыли мне глаза на смешную сторону моих глупостей. Мне очень-очень стыдно, что прежде я отказывалась вас выслушать, когда вы так правильно и терпеливо пытались объяснить, что я волнуюсь совершенно напрасно, и надеюсь, вы меня простите. С этого дня постараюсь стать разумной владелицей собаки. И ведь Ролло на самом деле совсем здоров, правда?
Я поглядел на песика, купаясь в волнах облегчения. Ролло, ясноглазый, с веселой мордочкой, подпрыгнул почти до лица своей хозяйки, едва она произнесла его имя.
– Ну, я не так уж в этом уверен. По-моему, он что-то куксится.
– Ну вот, вы снова хотите меня рассмешить! – И она прижала ладонь ко рту так хорошо запомнившимся жестом, а потом бросила на меня лукавый взгляд. – Я чувствую, что теперь буду смеяться гораздо чаще.
Вот уже тридцать лет, как у меня не бывает веселых приступов. Они мало-помалу бесследно прекратились. Но стоит мне вспомнить этот субботний вечер с миссис Федерстон, и меня снова бьет озноб.
«Молодой человек»
Даже не верилось, что с моей легкой руки этот мальчик самостоятельно отправится в джунгли ветеринарной практики. Юный Джон Крукс, ставший таким своим в течение нескольких месяцев, пока наблюдал за нашей работой, набирался практических сведений и теоретических знаний, а иной раз и сам лечил, но под нашим наблюдением, теперь стоял перед моим столом, как всегда веселый и улыбающийся, и такой юный! На вид ему можно было дать лет семнадцать, не больше. И казалось нечестным, что он отправляется в эти дебри без всякой защиты.
Однако, вне всяких сомнений, передо мной стоял Дж. Л. Крукс, эсквайр, дипломированный ветеринар с чемоданом у ног, оживленный, сгорающий от нетерпения, и мне оставалось только освоиться с этим фактом.
Я откашлялся.
– Ну что же, Джон, – сказал я, улыбаясь, – поздравляю с дипломом. Теперь вы заправский ветеринар, экзамены позади, и видеть вас здесь очень приятно. Знаете, это же знаменательное событие. Вы – самый первый официальный помощник Фарнона и Хэрриота.
– Неужели? – Он засмеялся. – Как важно звучит! Но ведь, когда я проходил у вас практику, вам всегда кто-то помогал.
– Совершенно верно. В первую очередь Тристан. Но он член семьи, и формально мы никогда его помощником не считали. Иногда приходилось брать временных, но официально и формально первый вы.
– Мне очень приятно. И раз уж я тут, пора отрабатывать свой хлеб.
– Отлично. Мы оснастим вашу машину всем необходимым, а потом вам следует явиться на свою квартиру. Вы ведь поселились у миссис Барри?
Молодой человек принялся укладывать в багажник машины медикаменты и инструменты, которые могли понадобиться. Ему явно не терпелось шагнуть в непредсказуемый мир практической ветеринарии. Но неужели, спрашивал я себя, его совсем не пугает перспектива в одиночку иметь дело с суровыми йоркширскими фермерами? Справится ли он? Иной раз у новичков дело не идет, и я подержался за дерево, когда он укатил в своем «Форде-8» с набором всего необходимого в багажнике.
Во мне, как подтвердят жена и дети, спрятана старая наседка, и до конца дня я только что рук не заламывал. Как там бедный мальчик? Мы были так заняты, что и поговорить с ним не удалось. Оставалось лишь уповать, что он не попадет в неприятную историю. Хотя в большинстве наши клиенты, при всей своей суровости, были людьми доброжелательными, среди них все-таки встречались очень странные личности.
Мне вспомнилась моя стычка с майором Сайксом пару дней назад. Яростный коротышка рычал на меня, пока я занимался его лошадью: «Хэрриот, черт вас побери! Неужто ничего лучше вы придумать не могли? По-моему, вы понятия не имеете, как лечить эту проклятую скотину! – И тут же завопил на конюха: – Не туда ведро ставишь, олух царя небесного!» Угодить ему не было никакой возможности, он словесно прокатывался по людям как паровой каток, вгоняя их в землю, и обходился со всеми, и в первую очередь с ветеринарами – так мне, по крайней мере, казалось, – точно с самыми тупыми новобранцами своего полка. Я нередко ловил себя на том, что начинал вытягивать большие пальцы по швам брюк, переносясь в те дни, когда обучался на военного летчика.
В приемную я вернулся только под вечер, заглянул в книгу вызовов, и меня как током ударило: «Майор Сайкс, охотничья лошадь, ламинит». Записал Джон, и, значит, он сейчас там.
У меня глаза на лоб полезли. Кто-то из обожаемых и дорогостоящих гунтеров! И ламинит с его непредсказуемыми осложнениями. Случай меньше всего подходящий для начинающего ветеринара. Майор съест его живьем! Нет, надо самому посмотреть! И я помчался в Рувей-Грейндж.
Еще вылезая из машины, я услышал воинственный голос майора, доносящийся из конюшни, и с тоской подумал, что Джон уже угодил под каток.
Я заглянул в дверь стойла. Гнедая красавица, кобыла болезненно пригибалась в типичной для ламинита позе, подтянув задние ноги под брюхо. К ней жался жеребенок, явно родившийся совсем недавно. Майор, упершись руками в бедра, буквально кричал в лицо Джону:
– Нет, послушайте… э… э… как вас там? Крукс! Так вот, черт подери, Крукс, вы говорите, что у этой кобылы острый ламинит. Чертовская температура, еле на ногах держится, а вы мне говорите, что она выздоровеет и никаких следов не останется. Так вот: я купил ее жеребой, и купил как здоровую, а с ней теперь, значит, всегда так будет? Я слышал про лошадей, которые только и делали, что снова заболевали. Так мне, по-вашему, кота в мешке подсунули? Хоть сколько-то вы разбираетесь, чтобы на вопрос ответить, а? А?
Но молодого человека такая атака как будто ничуть не смутила.
– Послушайте, майор Сайкс, – спокойно произнес он убедительным тоном, – я же объяснил вам причину. У вашей кобылы не вышел послед, а потому развился метрит. Ламинит – обычное осложнение в подобных случаях, и хроническим он стать не может. Я ввел ей антибиотик, и через день-два сделаю еще инъекцию. Этого достаточно, чтобы убрать метрит.
Все еще кипятясь, низенький майор выставил подбородок.
– А чертов ламинит? Как вы с ним справитесь?
– Но вы же видели, я сделал ей укол и против него. – Джон озарил майора безмятежной улыбкой. – А если вы подержите ее несколько дней на отрубях и будете водить в пруд, чтобы охлаждать копыта, о чем я вам уже говорил, то она очень скоро совсем поправится.
– А, по-вашему, это у нее уже бывало?
– Нет-нет.
– Откуда вы знаете, черт подери?
– Ну, на ее копытах никаких следов ламинита нет. И поглядите сами! – Он поднял переднюю ногу кобылы. – Прелестная вогнутая подошва. Никогда прежде ламинита у нее не было.
– И он не повторится? А? А?
– Рецидив маловероятен.
– Ну, будем надеяться, что вы не ошиблись.
– Я в этом уверен. Вот увидите. Напрасно вы так волнуетесь.
Я содрогнулся и закрыл глаза. Джон протянул руку и успокаивающе погладил низенького майора по плечу. Я ждал, что майор выйдет из себя, но, к моему изумлению, на его лице появилось подобие застенчивой улыбки.
– Вы так считаете?
– Я в этом убежден. Вам не следует принимать все так близко к сердцу.
К такому низенький майор не привык: несколько секунд он вглядывался в лицо Джона, потом снял кепку и поскреб в затылке.
– Ну, может, вы и правы, молодой человек, может, и правы. Хе-хе!
Я не поверил своим ушам. Майор смеялся! Джон откинул голову и тоже засмеялся. Ну просто встреча двух былых сокурсников! И внезапно до меня дошло, что разговаривает с майором вовсе не малыш Джон Крукс, наш студент, а высокий, красивый, уверенный в себе ветеринар, чей приятный, звучный голос придает убедительность всем его словам. Я тихонько улизнул к машине и уехал, успев принять твердое решение: больше за Джона я волноваться не буду.
Несколько недель спустя я взял телефонную трубку.
– Алло! Мистер Хэрриот? – осведомился бодрый голос, и я узнал одного из наших клиентов среди фермеров.
– Да, мистер Гейтс, – ответил я. – Чем могу служить?
– Да я не за этим. Мне бы поговорить с молодым.
Меня словно молнией поразило. Как же так? Это же я «молодой» и всегда был им. «Молодой человек» – так всегда меня называли клиенты, хотя я моложе Зигфрида всего на шесть лет. Какая-то ошибка!
– Извините, кто вам нужен?
– Да молодой человек, ну, мистер Крукс.
Вот так. Прежде я не замечал, как дорог мне стал мой титул, и, шагая по коридору за Джоном, я испытывал странную грусть, смиряясь с тем, что я, хотя мне только тридцать с небольшим, уже больше не «молодой человек».
С этого момента мне пришлось терпеть все учащающиеся требования услуг молодого человека, которым уже был не я. Впрочем, угнетало это меня недолго – слишком велики были плюсы. Когда Джон вошел в колею, жизнь чудодейственно облегчилась. Нет, просто замечательно иметь помощника, особенно такого хорошего, как он. Мне Джон всегда был симпатичен, но когда в три часа ночи меня вызывали к впервые телящейся корове, а я мог перепоручить вызов, перевернуться на другой бок и снова уснуть, – в такие минуты симпатия перерастает в теплейшую привязанность.
У Джона были свои идеи о методах лечения, и он не боялся их отстаивать. Как-то Зигфрид застал нас в операционной вдвоем и с места в карьер объявил:
– Я как раз прочел статью об индуктотермии. Новое революционное лечение растяжения суставов у лошадей. Ногу ежедневно обматывают особым электропроводом, и тепло убирает растяжение!
Я буркнул что-то неопределенное. Меня редко посещали новые идеи, – собственно говоря, мне присуще органическое отвращение к любым переменам и нововведениям. Эта моя черта всегда чрезвычайно раздражала моего партнера, а потому я промолчал.
Однако Джон невозмутимо заявил:
– Я тоже читал про этот способ. По-моему, ерунда.
– Это почему же?! – Брови Зигфрида взлетели вверх.
– Отдает знахарством, по-моему.
– Глупости! – Зигфрид нахмурился. – А по-моему, все очень логично. Во всяком случае, я заказал аппарат, и, держу пари, он будет нам очень полезен.
Зигфрид – специалист по лошадям, и я не стал спорить, однако было очень любопытно посмотреть, как эта штука работает, и вскоре представился случай это выяснить. Владелец поместья Дарроуби, которого обычно именовали просто «сквайр», держал своих лошадей в конюшне в конце нашей улицы, в каких-то ста шагах от Скелдейл-хауса, и чувствовался явный перст судьбы в том, что он вскоре обратился к нам по поводу растяжения сустава у его лошади. Зигфрид только руки потирал.
– Именно то, что нам требовалось. Мне надо ехать к Уитби осмотреть жеребца, а потому растяжением займитесь вы, Джон. У меня есть предчувствие, что вы убедитесь в прогрессивности этого метода.
Я понимал, что мой партнер уже предвкушает, как он скажет молодому человеку: «Я же говорил!» Однако после недели лечения Джон не утратил своего скептицизма.
– Я обматывал эту штуку вокруг ноги лошади и стоял рядом указанное время, но никаких сдвигов не замечаю. Сегодня устрою еще один сеанс, но, если улучшения не появится, предложу вернуться к прежним методам.
Возвращаясь домой под проливным дождем, я затормозил у крыльца и вдруг окаменел. По улице приближались работники сквайра, неся чье-то тело. Джон! Я выскочил из машины, а они внесли его в дом и уложили у лестницы. Он, казалось, был без сознания.
– Что случилось? – охнул я, в ужасе глядя на бесчувственное тело моего коллеги, прислоненное к нижним ступенькам.
– Да молодой человек себя электричеством вдарил, – ответил один.
– Что-о?!
– Ну да. Он промок на дожде, и когда пошел подключить машинку, так, наверное, ухватился за голый провод. Кричит, а пальцы не разжимаются. Он все кричит, а я лошадь держу и помочь-то ему не могу. А его вроде зашатало, он споткнулся о ее заднюю ногу, ну и оторвался от провода-то, а не то, думается, его убило бы.
– Господи! Что нам делать? – Я обернулся к Хелен, которая прибежала из кухни. – Позвони доктору! Нет, погоди… Он, кажется, приходит в себя.
Распростертый на ступеньках Джон зашевелился, его глаза прищурились на нас, и он разразился потоком на редкость цветистых слов. Хелен уставилась на меня, разинув рот.
– Нет, ты только послушай! И ведь такой милый молодой человек!
Мне было понятно ее изумление: Джон, очень благовоспитанный, очень корректный юноша, в отличие от большинства ветеринаров, никогда не матерился. Однако оказалось, что он владеет огромным запасом таких слов, – кое-какие я даже не знал, что удивительно, поскольку рос я в Глазго.
Затем бурный поток иссяк, сменился невнятным бормотанием, и только что вошедший Зигфрид начал отпаивать Джона чистым джином, что, если не ошибаюсь, в подобных случаях противопоказано.
Без сомнения, Джон мог погибнуть, но мало-помалу он отошел и уселся на нижней ступеньке. Затем, пока мы уговаривали его не напрягаться и посидеть так еще, он встряхнулся, встал, выпрямился во весь свой недюжинный рост и шагнул к Зигфриду.
– Мистер Фарнон, – произнес он с невыразимым достоинством, – если вы настаиваете, чтобы я применял этот… аппарат, то прошу принять мое заявление об уходе.
И краткому царству индуктотермии пришел конец.
Миновало несколько дней. Как всегда, у меня слегка екнуло сердце, когда я увидел, что по коридору Скелдейл-хауса на меня надвигается грозная фигура Сепа Краггза.
– Эй, Хэрриот, – рявкнул он, – давай-ка поговорим.
Он был грубым человеком, но я привык к его манере общения.
Клиент он был ценный – владелец большой фермы, которую поддерживал в цветущем состоянии с помощью четырех взрослых сыновей, беспощадно их шпыняя и терроризируя.
– Так в чем дело, мистер Краггз? – осведомился я мирно.
Он свирепо уставился на меня с высоты шести с четвертью футов своего роста и, сгорбив могучие плечи, приблизил свое лицо к моему.
– Я те скажу, что случилось! Зря мое время переводишь, вот что!
– Неужели? Каким образом?
– А порошки от мастита, которые ты мне обещал оставить, где?
Господи! Сульфаниламидные порошки. Совсем из головы вылетело…
– Я страшно сожалею, что…
– Забыл, да? «Приезжайте днем, они будут лежать в ящике у дверей». Приезжаю в три, а ящик пустой, и никто про них ничего не знает! Поневоле взбесишься.
– Я же говорю, мистер Краггз, что очень сожалею…
– Сожалею! Сожалею! Мне-то что толку! Тащись в такую чертову даль, а у меня сенокос! И все зазря. Я человек занятой, знаешь ли, и времени терять понапрасну не могу!
О черт, никак не уймется! Но я и проштрафился, что ни говори. Я кинулся в аптеку и принес порошки. Однако фермер не утихомиривался.
– Чтоб больше такого не случалось, заруби себе на носу. Попросишь за чем приехать, так потрудись, чтоб готово было!
Я молча кивнул, но он еще не кончил.
– Тебе самому порошки нужны, – буркнул он. – Чтоб мозги прочистить! – И, бросив последний свирепый взгляд, удалился.
Я с трудом перевел дух и лихорадочно вознес молитву о том, чтобы, имея дело с Краггзом, больше не грешить.
Воспоминание об этой сцене было еще свежо, когда на следующей неделе, вернувшись с утреннего объезда, я вновь увидел, что в приемной меня поджидает Сеп Краггз.
Лицо его было непроницаемым, но меня кольнуло дурное предчувствие, едва он снова навис надо мной.
– Я заехал утром за банкой мази, а ее в ящике не было, – пробурчал он.
Нет! Только не это! Я что – совсем память потерял? Мои ногти впились в ладонь.
– Я очень сожалею… но я… я просто не помню, что…
Однако на этот раз взрыва не последовало. Краггз как-то странно притих.
– Да не ты, а молодой человек!
Так, значит, выволочка ждет беднягу Джона! Как его оградить? Я испустил дребезжащий смешок.
– Кхе… понимаю… Мистер Крукс – отличный специалист, но память его иной раз подводит.
– Да нечего к нему придираться! У него забот хватает поважнее, чем задурять себе голову банкой мази.
– А?
– Вот-вот, нечего его ругать. Даже слышать не желаю! – Сеп бросил на меня уничтожающий взгляд. – Ему о стольком думать приходится, что всякую малость не упомнишь.
Рот у меня открылся, но выяснилось, что я онемел. Я ни разу не видел, чтобы мистер Краггз улыбался, но сейчас его каменные черты смягчились, а в глазах появилось почти ласковое выражение.
– Черт дери, а парнишка чего только не знает! В жизни не встречал такой учености. Значит, вот что, Хэрриот. Приехал он посмотреть бычка с копытной гнилью и не стал, как ты, возиться с дегтем да солью. Даже не прикоснулся к чертовой ноге, и у бычка на второй день все как рукой сняло. А? Что скажешь? – И он ткнул меня пальцем в грудь.
Скажи я, что теперь тоже применяю последнюю новинку – сульфадимидиновые инъекции, он бы мне все равно не поверил, а потому я промолчал.
– И я тебе еще кое-что скажу, – продолжал Сеп. – Гниль-то в правом копыте завелась, а уколол он в левое плечо! – Глаза Краггза расширились. – Чистое колдовство.
Я сходил за мазью и вручил ему банку.
– Вот, пожалуйста, мистер Краггз. Сожалею, что вам пришлось заходить лишний раз.
Великан покачал головой:
– Да пустяки. Сюда же мне рукой подать.
Словно во сне я проводил его до двери и, глядя, как он шагает по улице, способен был думать только об одном: уж если Джону удалось тронуть сердце Сепа Краггза, за его будущее можно не опасаться.
По-моему, именно тогда я осознал, что Джон предназначен для больших свершений. С самого начала я стал подмечать в нем зачатки величия, заложенные в способности завоевывать симпатии людей из разных слоев общества. И дело было не в его располагающей внешности, уверенной манере или звучном голосе, а в чем-то другом, чего мне не удавалось точно определить. Но чем бы это ни было, все в нем просто кричало: «Вот молодой человек, который многого добьется!»
Карьера Джона Крукса
Джон родился в Беверли под сенью величавого собора. Туда от Дарроуби было пятьдесят миль, и в свободные дни он обычно отправлялся на несколько часов домой. Весь год, рассказывая об этих поездках, он все чаще и чаще упоминал про одну девушку. Ее звали Хетер, и, когда Джон произносил ее имя, его глаза заволакивала мечтательная дымка, а на губах играла блаженная улыбка. От месяца к месяцу симптомы становились все более явными, и в один прекрасный день он признался мне, что они с Хетер помолвлены и надеются скоро пожениться.