Крестовский душегуб бесплатное чтение
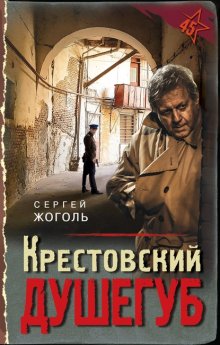
г. Псков, послевоенные годы…
Когда дежурный по Управлению доложил Корневу о странном происшествии, произошедшем на площади Жертв Революции, начальник псковской милиции вздрогнул и тут же принялся энергично хлопать себя по карманам.
– Вы же бросили, товарищ подполковник, – осмелился подсказать дежурный.
– Что? – не понял Корнев.
Вытянувшись в струнку, старший лейтенант громко по-военному выкрикнул:
– Курить, говорю, бросили!!! Уже год как не курите! Сами же говорили, помните?
– Помню?.. – Корнев снова вздрогнул и вдруг разом пришёл в себя. Его брови сдвинулись, щёки стали надуваться. – Конечно, помню! Только вот в твоих комментариях, старлей, я не нуждаюсь. Тебе вообще кто позволил орать в моём кабинете?
Дежурный побледнел:
– Виноват! Не подумал…
– Очень плохо, что не подумал! Кто занимается этим делом?
– Шувалов! – отчеканил дежурный.
– Ко мне его! Срочно! И ещё… – Корнев снова резко поник, что-то пробубнил себе под нос, потом, налив из стоявшего на столе графина полный стакан воды, сделал несколько глотков. – Немедленно отыщите мне Зверя!
Пятью часами ранее на площади…
Несмотря на прошедший ночью дождь, на небе не осталось ни единой тучки, а солнце светило так ярко, что Дудукин, пройдя метров сто, уже пожалел, что не надел свою любимую серую панаму. До парка было рукой подать, поэтому Семён Семёнович не стал возвращаться, понадеявшись, что с лёгкостью найдёт себе местечко в тени. Выйдя так рано утром из дома, Дудукин пребывал в отличном расположении духа. Накануне он посетил своего лечащего врача, и тот заверил старика, что сердце у него работает как часы, на всякий случай прописал какую-то микстуру и порекомендовал больше бывать на свежем воздухе. Так что сегодня, несмотря на перенесённый недавно обширный инфаркт, Семён Семёнович был спокоен и бодр как никогда.
Тяжело опираясь на трость, Дудукин в течение пяти минут добрался до своего излюбленного сквера. Он прогулялся до газетного киоска, купил «Правду» и занял место на одной из свободных скамеек в теньке́. Водрузив на нос очки, Дудукин прочитал статейку о расстреле Миха́йловича[1] и его сподвижников в Югославии и что-то ещё – про успехи тружеников страны в сельском хозяйстве и их новаторских методах по выращиванию сахарной свёклы. Когда глаза устали, Дудукин снял очки, отложил газету и отчего-то вдруг принялся вспоминать прошлое.
До революции здесь был обыкновенный базар. Площадь называлась Сенно́й, потому что здесь торговали углём, дровами и сеном. Днём тут всегда было многолюдно и суетно, а к вечеру площадь преображалась и скорее напоминала вытоптанный захламлённый пустырь. В двадцатом здесь высадили деревья, а спустя три года это место стали именовать площадью Жертв Революции.
В послевоенные годы площадь преобразилась. Деревья разрослись, а газоны в жаркое летнее время покрывались пышной и сочной зеленью. Однако Семён Семёнович любил это место вовсе не потому, что его как-то особо привлекали чистый воздух и восхитительные местные ландшафты. Он любил прогуливаться в этом сквере в первую очередь не потому, что тот находился в пяти минутах ходьбы от его дома, а из-за того, что Семён Семёнович считал своё присутствие здесь своеобразной данью памяти погибшим героям. Ведь именно здесь в годы Гражданской вояки батьки Балахо́вича[2] проводили массовые казни большевиков, а Семён Семёнович вполне заслуженно считал себя настоящим революционером-ленинцем.
Он родился в семьдесят восьмом в крестьянской семье, в маленькой деревеньке под Псковом; в семнадцатом покинул родные места и без колебания вступил в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, но повоевал недолго и после ранения поселился в Пскове. Здесь он долгое время проработал технологом на швейной фабрике «Славянка», здесь же пережил и немецкую оккупацию.
Здесь, в восемнадцатом, Семён Семёнович встретил Варвару Ивановну Елисееву – единственную свою любовь. Спустя три месяца они поженились.
Брак Семёна Семёновича с Варварой Ивановной можно было бы назвать удачным, вот только он не принёс обоим особого счастья. Они и прожили душа в душу почти четверть века, но так и не заимели детей. И Варвара, и сам Семён Семёнович предполагали, что виной тому была его старая рана в живот, полученная им в Гражданскую, но в семье это не обсуждалось. Накануне захвата города гитлеровцами Дудукин отправил Вареньку к родственникам в Ленинград, а сам остался в городе.
В сорок третьем Варвара Ивановна вместе со своей младшей сестрой и всем её семейством погибла при очередной бомбёжке города на Неве.
В очередной раз отогнав грустные воспоминания и смахнув со щеки скупую мужскую слезу, Семён Семёнович огляделся.
Сегодня на площади было немноголюдно. Неподалёку в тени разросшегося клёна две молоденькие дамочки в ситцевых платьях и кружевных шляпках о чём-то увлечённо болтали, совсем не замечая того, что один из их детишек, толстенький карапуз лет четырёх, рвёт с газона траву и пытается накормить ей другого малыша – помладше, сидящего в коляске.
Напротив беспечных мамаш и их детей, тоже на лавочке сидели: очкастый парень в мешковатом костюме и хрупкая девушка в плиссированной юбке в горошек. Молодые люди тоже о чём-то оживлённо говорили, пили лимонад, не отрывая друг от друга глаз. Чуть дальше, за разросшимся кустом сирени, у лотка с мороженым, сидела на раздвижном стульчике довольно толстая продавщица и клевала носом. Вдалеке у фонтана пожилая парочка кормила голубей.
Семён Семёнович собрался уже было возвращаться домой, как вдруг его внимание привлёк мужчина в милицейской форме, который быстрым уверенным шагом шёл по дорожке от фонтана в его сторону. Синий китель и фуражка с бирюзовым околышем, почти новые яловые сапоги. Дудукин рассматривал идущего с почтением и лёгкой завистью. Среднего роста, подтянут, уверенная походка. Семён Семёнович водрузил на нос лежавшие на газете очки и смог чуть лучше рассмотреть мужчину в форме, и тут же обомлел: «Этого же не может быть!» Семён Семёнович сорвал очки, протёр их платком и снова надел.
Теперь у него уже не было сомнений – он узнал этого человека!
Семён Семёнович схватил лежащую рядом самшитовую трость и бросился наперерез идущему. Тот, увидав старика, немного замедлил ход.
Когда разъярённый и немного запыхавшийся от бега Семён Семёнович попытался треснуть милиционера тростью, тот ловко увернулся. Дудукин замахнулся снова, но мужчина перехватил руку старика, вырвал у него трость и отбросил её в кусты. Поняв, что самостоятельно победить в этой схватке он не сможет, Дудукин схватил милиционера за китель и заорал что есть мочи:
– Граждане, держите его! Держите этого мерзавца! Это же Крестовский душегуб! Это же он… Он – проклятый палач! Убийца!
– Успокойтесь! Успокойтесь же! – процедил сквозь зубы милиционер и попытался оторвать вцепившегося в него как клещ старика. – Вы меня с кем-то спутали.
Крики старика Дудукина лишь ненадолго привлекли внимание окружающих. Молодые мамаши прервали свою беседу и в этот же момент увидели, чем занимаются их ненаглядные чада. Мамаши тут же принялись орать, выковыривать изо рта сидевшего в коляске ребёнка траву. До этого момента малыш казался вполне довольным, но ощутив внезапную «материнскую заботу», тут же разревелся. Молодые люди, сидевшие напротив раскричавшихся женщин и их детей, бросили лишь беглый взгляд на Дудукина и его неприятеля и стали смотреть на так внезапно переполошившихся женщин и их детей. Тучная продавщица мороженого словно очнулась ото сна и энергично принялась пересчитывать свой слегка подтаявший на солнышке товар. Старичок и старушка, стоявшие у фонтана, продолжали кормить голубей. Криков Дудукина и перепуганных женщин они, скорее всего, просто не услышали.
Дудукин же всё ещё голосил и с поразительной для его размеров и возраста силой продолжал держать своего противника. Не на шутку встревоженный милиционер тщетно пытался оторваться и успокоить старика, уверяя, что не знает никакого «душегуба». Когда милиционеру всё же удалось оторвать от своего кителя одну руку Дудукина, тот вдруг пошатнулся и ослабил хватку. Пальцы старика разжались сами собой, он побелел, отшатнулся и стал медленно оседать на землю. Когда Семён Семёнович упал на колени, его лицо исказила гримаса боли. Теперь он уже не кричал, он шептал:
– Да как же так? Люди! Держите его! Держите же этого мерзавца, ведь это…
Не договорив, Семён Семёнович упал лицом вниз, а его недавний противник тут же опустил голову вниз и, не оглядываясь, поспешно покинул место разыгравшейся трагедии.
Часть первая
Зверь
Глава первая,
в которой мы познакомимся с капитаном Зверевым и узнаем о его своеобразных отношениях с представительницами прекрасного пола и с руководством
Крупный нос, толстые губы, глубоко посаженные глаза – никто на свете не назвал бы Пашу Зверева красавцем, однако тяжёлый, точно надгробная плита взгляд, выгнутые коромыслом брови и чуть выставленная вперёд мощная челюсть, которые порой заставляли его собеседников-мужчин чувствовать себя неуютно, для большинства женщин были точно магнит для канцелярских скрепок.
Зверев редко надевал форму и обычно одевался как герой иностранных кинолент. На службу он обычно носил пиджак с накладными карманами цвета кофе с молоком, широкие брюки и белую рубашку, которую дополнял тёмный галстук, завязанный виндзорским узлом. Сапог, которые носили большинство его современников в послевоенные годы, он тоже не признавал, предпочитая им ботинки из толстой поросячьей кожи. Однако если Паша Зверев одевался и выглядел как настоящий лондонский денди, манеры его не всегда соответствовали его облачению. Временами он был хамоват и даже откровенно груб, частенько распускал руки, причём не только тогда, когда имел дело с преступниками. Эта особенность Паши Зверева, разумеется, никак не способствовала его продвижению по служебной лестнице, однако его это заботило мало.
Как-то раз при задержании Павел Васильевич получил ножевое ранение в лицо. Шрам спустя какое-то время исчез, но лезвие повредило лицевой нерв, и с тех пор правая щека Зверева временами подёргивалась. Также из-за этого ранения Зверев, разговаривая, слегка поворачивал голову и смотрел на собеседника (или собеседницу) искоса, словно изучая собеседника. Возможно, именно из-за этой особенности его поведения некоторые женщины, увидев Зверева впервые, тут же начинали чувствовать себя напряжённо, а в итоге надолго теряли сон и покой. Короче говоря, приятели называли Павла Васильевича Зверем из-за его фамилии, недруги из-за его жёсткой манеры общения, что же касается женщин, то большинство из них считали этого грубияна «зверем» очаровательным и чертовски милым.
Когда посыльный, поднявшись на третий этаж дома номер пять по улице Гоголя, принялся усердно барабанить в дверь, Павел Васильевич ещё нежился в постели. Была пятница, часы показывали половину девятого, а Зверев приходил на работу вовремя только по вторникам, когда его старый друг и непосредственный начальник подполковник Корнев проводил еженедельные совещания с начальниками отделов.
Однушка с кухней и санузлом, где обитал Паша Зверев, была получена им сразу после войны. Квартира была маленькой, но выглядела довольно уютной. Здесь было всё необходимое: прочный стильный диван; шкаф, полностью забитый книгами, и комод, на котором стояли новенький патефон и настольные часы из дерева с латунной фурнитурой и маятником. Стены были увешаны картинами, на подоконнике стояли горшки с цветами. Впервые оказавшись здесь, незнающий человек никогда бы не подумал, что это квартира убеждённого холостяка.
Услышав стук, Зверев встал, на ходу заглянул в ванную и увидел там полуобнажённую Зиночку: на женщине были лишь кружевные трусики и бюстгальтер. Она стояла перед зеркалом и, что-то тихо напевая, расчёсывала волосы. На Зверева Зиночка даже не посмотрела. Тот почесал подбородок, покачал головой и не спеша направился к двери.
– Чего так грохочешь? Жить надоело? – резко распахнув дверь, прорычал Зверев молотящему дверь посыльному.
– Никак нет! Велено явиться!
– Велено? Словечко-то какое… – Зверев потянулся и протёр глаза. – Кем это велено?
– Подполковник Корнев приказал! Сказал, что срочно!
Зверев зевнул и бегло оглядел незваного гостя. Высокий, фуражка набок, ремни портупеи ослаблены. «Эх, видел бы тебя наш Стёпка, – подумал Зверев, глядя на парня. – Не помню этого субъекта, видать, новенький».
– Всё? – Зверев прочесал подбородок и попытался закрыть дверь.
Посыльный, совсем осмелев, тут же сунул в дверной проём ногу, вытянул шею и посмотрел вниз. У самого порога на плетёном коврике стояли лакированные женские туфли, тут же рядом на тумбочке красовалась изящная соломенная шляпка с бежевым бантом. Посыльный понимающе хмыкнул:
– Бурная ночка, товарищ капитан?
– А ты, я вижу, любопытный?
– В нашей работе без этого нельзя, сами же знаете! – сержант сдвинул на затылок фуражку.
– Откель же ты такой прыткий, детинушка?
Сержант не растерялся и ответил в том же стиле:
– Так ведомо откель – из Управления!
– Понял я, что из Управления. Подразделение какое?
– Так из дежурной части мы! Вот оно как.
Зверев снова почесал подбородок, сержант насторожился.
– Копыто убери! – прошептал Зверев и слегка подался вперёд.
– Так вы едете или нет? – парень чуть отступил, но ноги из прохода не убрал.
– Сейчас соберусь и приеду.
– Так я вас подожду?
– А на кой ляд ты мне сдался? – Зверев снова зевнул.
– Так я ж на машине!
– Вон оно как? Корневу так приспичило, что он даже машину выделил! Звать-то тебя как, чадушко?
– Не такое уж и чадушко. Четверть века надысь разменял!
– А звать-то тебя как?
Сержант продолжил в том же ключе:
– Зовусь я младшим сержантом Костиным. Честь имею, товарищ капитан! Костин Вениамин Петрович!
– Венечка, значит!
Брови парня выгнулись.
– Не Венечка, а Вениамин!
– Ах, вон оно что… Наглый, но гордый! Запомни, паря, если прикажу, будешь не только Венечкой, но и Веником!
– Это мы ещё поглядим, – обиженно буркнул сержант.
– Ладно, жди!
Зверев захлопнул дверь и крикнул всё ещё сидевшей перед зеркалом Зиночке:
– Визит окончен, солнце моё! Проваливай, меня начальство вызывает!
Зиночка, давно уже привычная к подобным выходкам Зверева, всё же принялась голосить:
– Что значит проваливай? Не видишь, мне нужно привести себя в порядок? Мне нужно ещё как минимум полчаса…
– У тебя пять минут! Если не уложишься, будешь приводить себя в порядок на лестничной площадке. И кстати, мне самому нужна ванная, так что ступай в комнату и продолжай свой туалет там! – Зверев ухватил женщину за плечи, чмокнул в темечко (Зиночка была невысокого роста) и, отстранив в сторону, вошёл в ванную.
– Что? Ах ты… Мерзавец! Хам! Со мной ещё никто так не поступал! Сволочь! Какая же ты сволочь, Зверев! Ноги моей у тебя больше не будет! – доносилось из-за двери, когда Зверев включил воду.
Кабинет начальника милиции был не просто просторным – он был огромным. Посредине стоял дубовый стол с витиеватыми ручками, на столе, помимо настольной лампы, печатной машинки и телефона, лежал лишь Уголовный кодекс и фотография темноволосой женщины с двумя детьми. На одной из стен висела карта СССР, у другой, как раз под портретом Сталина, стоял небольшой кожаный диван красного дерева. Над дверью висели массивные часы. Корнев сидел за столом, уткнувшись в бумаги.
Войдя в кабинет, Зверев, вместо более уместного «Здравия желаю!», буркнул лишь короткое: «Привет!» и развалился на диване:
– Есть хочу, аж скулы сводит! У тебя там кусочка сала не завалялось?
– А тебя что же, краля твоя совсем не кормит?
Зверев ухмыльнулся:
– Вот же засранец! Уже успел настучать!
– Ты это о чём?
– Да о твоём посыльном. Вениамином Петровичем себя величает…
– Чего???
– Костин… Точно… Костин его фамилия! Любопытный такой гад, всюду нос суёт, а сам сразу же… – Зверев постучал по подлокотнику.
– Ты про того парня, которого за тобой отправили? Он-то тут причём? Ничего он мне не докладывал! – хмуро ответил Корнев.
– А если не он доложил, то кто? – не унимался Зверев.
– Да никто! Я ж тебя сколько лет знаю? Если ты спишь до обеда, значит, опять бабу к себе приводил! Тут и докладчиков никаких не требуется.
– Вон как значит!
Зверев тоже жил в собственной отдельной квартире, но в отличие от Корнева, его постель постоянно кем-то подогревалась.
– Так ты дашь пожрать или нет?
– Обойдёшься! Да и нет у меня ничего…
– С каких таких пор?
– А с таких!.. Хватит уже в кабинете тараканов разводить!
– Ну ты и жлобяра! Раз так, тогда говори быстрей, чего звал, да я обедать пойду!
Корнев отложил в сторону лежащее перед ним дело, достал из кармана платок и, вытерев лоб, заговорил:
– Ты слышал когда-нибудь о «Крестовском душегубе»?
Зверев достал из наружного кармана зубочистку и принялся вычищать грязь из-под ногтей.
– Слышал… и что? Ты же сам мне про него рассказывал, и не раз.
– В самом деле? – Корнев встал, подошёл к окну и снова принялся ощупывать собственные карманы.
– Если хочешь курить, то меня не проси, – небрежно бросил Зверев. – Сам же сказал, что завязал – значит будь мужиком и терпи.
– А ты не оборзел? – всё-таки не выдержал Корнев, но тут же сник и вернулся на своё прежнее место.
– Табак курить – здоровье губить! – нравоучительным тоном продекламировал Зверев. – Сам же сказал, что медики строго-настрого запретили тебе притрагиваться к папиросам из-за твоей разбушевавшейся язвы.
– Плевал я на язву! – со злостью процедил Корнев. – Я Нине обещал, когда она меня на фронт провожала, что когда кончится война – брошу.
– Вон оно что! А раньше ты мне этого не говорил. Но ведь пепельница у тебя есть! Я это точно знаю. – Зверев вынул из внутреннего кармана пиджака портсигар, закинул в рот папиросу и чиркнул спичкой. – Где она, кстати?
– Ну ты и сволочь, Зверев! – процедил Корнев и распахнул окно.
– Мне все такое говорят! – усмехнувшись, заявил Зверев и выпустил ртом несколько дымных колец. – Так мне что, на пол стряхивать?
Корнев подошёл к столу, открыл ящик и поставил на стол небольшую хрустальную пепельницу.
– Держи, мерзавец! Ты у нас хуже фашиста!
Зверев поднялся, ухватил один из стульев, стоявших у стены, и пересел за стол.
– Напрасно ты так. Забота о твоём здоровье не входит в мои обязанности, но как друг, я обязан тебя сдерживать, – Зверев снова выпустил колечко дыма. – Так чего звал-то? Говори быстрей про своего «душегуба», а то у меня своих дел по уши.
Корнев снова уселся за стол и принялся барабанить пальцами по столешнице.
– Может я тебе это всё уже и рассказывал, – возбуждённо продолжил Корнев. – Но не грех будет и повторить! «Крестовским душегубом» называли заместителя начальника зондеркоманды СС 11-д – Дитриха Фишера. Этот мерзавец повинен в гибели сотен невинных людей. Начальником зондеркоманды был некто Хьюго Зиверс, он проводил опыты над людьми и даже получил патент на изобретение какой-то дряни, которой смазывал губы детям, и они мгновенно умирали. Помимо всего прочего, в сорок третьем проводил он массовые казни в концентрационном лагере в местечке Кресты у нас под Псковом. В сорок пятом Зиверс был захвачен американцами, узнав о том, что будет передан русским, покончил с собой в камере, использовав свой препарат, секрет изготовления которого унёс с собой в могилу. Фишер же, после освобождения нашими Пскова, исчез из поля зрения органов. Ныне разыскивается как военный преступник.
Зверев загасил окурок о пепельницу и вставил:
– Я слышал, что этот Фишер тоже не был паинькой.
– Всё верно. Дитрих Фишер – правая рука Зиверса, оберштурмфюрер СС! Не только отправлял людей в газовые камеры, но ещё и издевался над ними, перед тем как умертвить, – дополнил Корнев.
– Всё ясно, и что же ты мне жаждешь сообщить? Этот мерзавец где-то объявился?
Корнев снова вскочил и принялся, размахивая руками, ходить туда-сюда.
– Сегодня в сквере на площади Жертв Революции на глазах у нескольких свидетелей один старик набросился на проходящего мимо милиционера. Завязалась потасовка, после чего у старичка стало плохо с сердцем, и он упал замертво.
– А что милиционер?
– Оставил старика умирать и скрылся!
– А старика точно не грохнули?
– Все признаки указывают на остановку сердца, но результатов экспертизы пока ещё нет.
Зверев почесал подбородок, уселся на стул и закурил новую папиросу:
– Лица милиционера конечно же никто не разглядел?
– Какой же ты догадливый! Свидетелей пятеро, четверо из них женщины: две ни черта не смыслят в знаках различия; третья говорит, что это был старшина; четвёртая вообще называет его капитаном. Запомнили только форму!
Корнев хлопнул ладонью по столу, в отчаянии закусил губу. Зверев спросил:
– А мужчина? Ты сказал, что был пятый свидетель, и это была не женщина!
– Студент строительного института! У парня проблемы со зрением, и он, когда начался весь переполох, как назло, уронил очки!
– Я всё понял, но при чём здесь Фишер?
– А притом! Хоть этот студент и слепой, но со слухом у него всё в порядке. Он один расслышал всё то, что выкрикивал умерший старикан. Тот называл нашего таинственного милиционера убийцей и несколько раз повторил фразу: «Крестовский душегуб!»
– А в госбезопасности что по этому поводу говорят?
– Я не хочу, чтобы они лезли в это дело, да и что мы им предъявим? Старик, по всем признакам, умер собственной смертью. То, что милиционер не оказал помощи пострадавшему, их вряд ли заинтересует, а мы наживём себе проблемы! Только то, что наш слепой студент что-то там эдакое услышал и всё… Я хочу сам со всем разобраться, не привлекая лишних глаз и ушей. Поэтому я хочу, чтобы ты оставил все дела и занялся поисками этого таинственного милиционера.
Зверев помрачнел, он прекрасно знал, что жена и два сына Корнева были казнены немцами в сорок третьем именно в Крестах. У Стёпки с этим Фишером личные счёты, а значит, плевал он на всех, в том числе и на чекистов. Теперь не уймётся, пока не достанет этого фрица.
Догадка Зверева тут же подтвердилась. Корнев схватил Зверева за плечи:
– Паша, может всё это и бред, но это мой единственный шанс поквитаться за Ниночку и ребят! У госбезопасности и без нашего Фишера забот хватает. У них сейчас одни «лесные братья»[3] на уме! Найди его, слышишь! Прошу тебя, найди!
Зверев высвободился из объятий, кивнул и спросил:
– То есть? Если что… – Зверев чиркнул ногтем большого пальца по горлу.
– Я на этом не настаиваю, хотя… Или ты к такому не готов?
– Перестань!
– Мне не важно, кто поймает Фишера, мы или МГБ[4], главное, чтобы Фишер понёс заслуженное наказание!
– Всё ясно! Кто расследует дело?
– Шувалов! Он уже кое-что накопал, но с этого момента расследование должен возглавить ты!
– Тьфу ты! – Зверев покачал головой. – Ты хочешь, чтобы я вырывал кусок мяса из зубов бешеной собаки?
– Ты о чём? – воскликнул Корнев. – Вообще-то Шувалов лучший следователь в Управлении!
– Зануда и брюзга! Этот вечно недовольный индюк всех кроме себя считает идиотами. Этот умник взвоет, когда такого как я поставят ему в начальники. Я же простой опер.
– Хочешь, чтобы я передал это дело другому следователю?
Зверев отмахнулся:
– Оставляй его! Не факт, что с другими мне будет легче. От Витьки я хотя бы знаю что ждать.
Корнев насторожился:
– Ты только это… без своих штучек! Постарайся найти с ним общий язык, ну и… поделикатней всё сделай.
– Деликатность моё второе имя, Стёпа! – рассмеялся Зверев. – Ты же понимаешь!
– Да уж…
– Всё сделаем в лучшем виде!
– Тогда приступай! И ещё раз прошу…
Похлопав подполковника по плечу, Зверев прогундил:
– Не переживай! Если наш «душегуб» вернулся в город, я его найду и сделаю всё в лучшем виде!
Когда Зверев вышел из кабинета, Корнев снова начал шарить по карманам, потом, опомнившись, воскликнул:
– Я на это надеюсь! Знал бы ты, как надеюсь!
Паша Зверев и Стёпа Корнев знали друг друга ещё с малых лет, ведь они оба когда-то были воспитанниками сиротского приюта на Интернациональной. Степан осиротел ещё в седьмом, когда ему стукнуло четыре. Отец Павлика погиб в Первую мировую под Ровно, а в восемнадцатом, когда Паше исполнилось одиннадцать, его мать умерла от тифа. Именно тогда паренёк и попал в казённое учреждение на улице Интернациональной.
С первых же дней пребывания в приюте Пашка Зверев, который в отличие от большинства попавших в эти стены ребят ни от кого не шугался, любил шутить – одним словом, вёл себя дерзко и неподобающе. При этом он не признавал авторитетов и всегда держался особняком. За это трое «старожилов» как-то решили проучить строптивого новичка. Они окружили Пашу на мойке в столовой и предложили помыть за ними посуду. Паша отказался, тогда один из ребят назвал его «босотой» и плюнул парню в лицо. Паша ударил обидчика кулаком в нос. Хлынула кровь, мальчишка заорал как сумасшедший, а двое его приятелей сбили Пашку с ног и принялись изо всех сил пинать бедолагу ногами. Прежде чем первый заводила пришёл в себя и присоединился к приятелям, всё это увидел зашедший на пищеблок Стёпа Корнев. Степан, который был гораздо старше дерущихся ребят и очень не любил несправедливость (это как же – трое на одного!), бросился вперёд и раскидал нападавших в стороны. Задиры тут же разбежались, а вот Пашу пришлось ещё долго успокаивать. Весь грязный, в разорванной рубахе, он грязно ругался и грозил обидчикам неминуемой расправой. Чтобы успокоить разъяренного не на шутку паренька, Степан отвесил Пашке затрещину и строгим тоном велел привести себя в порядок. На удивление, тот лишь сверкнул глазами, тут же притих, вытер капающую из носа кровь и направился к умывальнику. Когда, стуча зубами от холода (вода была ужасно холодной), Пашка принялся смывать текущую из носа кровь, Степан сказал:
– Если будут снова доставать, обращайся!
Громко шмыгнув окровавленным носом, Пашка хмыкнул:
– Мы так-то сами с усами! Спасибо, конечно, но и без вас справимся!
– Не сомневаюсь! Но всё-таки… – усмехнулся Степан. – Ладно, босота, бывай! Надумаешь, так обращайся.
Пашка нахмурился, вспомнив недавнюю драку:
– Вообще-то, именно за «босоту» я тому рыжему в шнобель двинул!
Степан покачал головой и спросил строго:
– И что с того?
Пашка пожал плечами, потом улыбнулся уже беззлобно.
– Не бои́сь! Тебя за это слово бить не стану!
Степан рассмеялся. Пашка вслед за новым товарищем тоже улыбнулся.
С тех пор Корнев стал для Паши Зверева единственным человеком, которого он хотя бы мало-мальски, но уважал и в шутку называл «заступничком».
После этого случая воспитатели детского дома на Интернациональной столкнулись с одной маленькой проблемой – Павлик Зверев отловил своих обидчиков поодиночке и так их отделал, что двое из них попали в больницу, а третий едва не лишился глаза, и ему пришлось зашивать веко. В то время бить детей уже было запрещено, поэтому Пашку просто пропесочили на общем собрании и исключили из пионеров. Паша не особенно опечалился случившимся, и с тех самых пор его стали называть Зверем уже не только из-за фамилии.
После детдома Зверев вслед за Степаном Корневым поступил в Томскую школу милиции. В органах они сдружились ещё больше, вместе раскрыли несколько по-настоящему крупных дел, потом началась война.
Два бывших приятеля-детдомовца после нападения Германии на СССР почти сразу же написали заявления и ушли на фронт. Однако воевали они на разных направлениях и по-разному. Корнев начал войну на Северо-Западном, прошёл всю войну, которую закончил в должности командира батальона, трижды был ранен и вернулся домой кавалером двух орденов. Только тут он узнал, что его жена и двое сыновей были казнены в немецком концлагере ещё в сорок втором.
Зверев воевал на юге, где командовал пехотным взводом в ходе первой обороны Ростова. Получив лёгкое ранение в плечо, он попал в госпиталь и тут же угодил в неприятную историю. Случилась потасовка, и было серьёзное разбирательство.
В протоколе допроса было сказано, что Зверев вероломно напал на подполковника, политрука дивизии, и сломал ему руку. В расследовании это не фигурировало, но истинной причиной конфликта стало то, что подполковник застукал в объятиях Зверева одну из своих так называемых «полевых жен».
Зеленоглазая медсестра, обслуживавшая палату, в которой лечился Зверев, тут же привлекла внимание «беспокойного» пациента. Зверев в первую же ночь пребывания на лечении сбежал и умудрился где-то добыть цветов (а ведь дело было в ноябре). Вручив девушке букет, Зверев начал с медсестрой оживлённую беседу и вскоре очутился с ней в подсобке. В это самое время в госпиталь заявился слегка подвыпивший политрук, которому зеленоглазая красавица-медсестра, как выяснилось позднее, уже довольно долгое время периодически грела койку.
Когда разъярённый политрук ворвался в подсобку и увидел творившееся там «безобразие», он начал орать и вцепился в горло Звереву, нисколько не опасаясь последствий. Звереву грозил штрафбат, но началось очередное наступление, дело пустили на самотёк. Подполковника отчитали, медсестру перевели в другой госпиталь, а Зверева экстренно выписали, после чего тоже перевели на другой фронт.
Закончил Зверев войну в должности командира взвода разведки, получив за свои заслуги парочку медалей, с тем и возвратился в свой родной город Псков, вернулся в органы, где уже был и Степка Корнев.
В отличие от своего беспечного приятеля, который не пропускал ни одной юбки, Степан Ефимович Корнев после смерти жены и детей совсем не общался с женщинами. Погрузившись в своё горе, он полностью ушел в работу. Некогда зеленоглазый красавец, симпатяга и весельчак, за пару лет Корнев поправился и обрюзг. Он так и не мог забыть свою Ниночку и ребят, и в душе то и дело корил Пашку Зверя за его распутную натуру. На фронте, закалившись в боях, Степан Ефимович несколько утратил свою былую оперативную хватку, зато стал настоящим солдафоном и умел практически любого поставить на место или осадить. Корнев рвался вверх и стремился преуспеть на службе. Зверев же, напротив, жил одним днём и брал от жизни всё, что только мог. Может быть, именно поэтому Зверев так и остался простым опером, а Стёпка Корнев пошёл вверх по карьерной лестнице и вскоре занял пост начальника милиции.
Получив подполковника, Корнев знал, что это не предел, и по-прежнему изо всех сил стремился вверх. Он держал всю псковскую милицию в «железном кулаке», поэтому в Управлении его боялись все!
Все, кроме Зверя!
Глава вторая,
в которой Зверев налаживает «взаимоотношения» со следователем, после чего докладывает о проделанной работе
Выйдя из кабинета начальника, который находился на третьем этаже, Зверев первым делом на цыпочках подкрался к хорошенькой секретарше Корнева Леночке Спицыной и нежно ухватил её локоток. Леночка выронила модный журнал, который всё это время читала, завизжала и нанесла Звереву деревянной линейкой самый мощный удар, на который была способна, с учётом её хрупкой конституции. Леночка оживлённо жестикулировала и что-то кричала, но Павел Васильевич не стал слушать гневные речи девушки и, мужественно стерпев боль, не менее мужественно ретировался. Он сбежал на первый этаж, заглянул в медкабинет, «слёзно» умолял начальника медсанчасти Карена Робертовича Оганесяна дать ему консультацию относительно заключения о причинах смерти старика Дудукина. После этого Зверев направился в архив.
Здесь с помощью нескольких изысканных комплиментов Павел Васильевич едва не довёл до полного душевного истощения архивариуса Эмилию Эдуардовну, вечно молодящуюся женщину лет сорока девяти (предварительно оторвав её от очередного чаепития). Сначала Зверев заявил женщине, что надетая на ней блузка очень подходит к её фиалковым глазам, а потом Зверев поинтересовался, как она собирается спасаться от всех приставучих мужчин, которые работают в Управлении. Услышав такое, Эмилия Эдуардовна беззвучно рассмеялась, манерно прикрыв рот ладошкой, и пообещала отбросить свои неотложные дела и поискать в архиве данные на всех тех, кто так или иначе был связан с немецким концлагерем в Крестах. Галантно поцеловав даме ручку, Зверев вышел из архива и направился к выходу. Путь его вёл в находящуюся в одном квартале от Управления столовую авторемонтного завода.
На большинстве предприятий города зарплату рабочим выдавали продуктовыми карточками, но руководство авторемонтного завода решило для меньшего отрыва от производства обеспечить своих работников недорогим и удобным общепитом. Одно из близлежащих заброшенных зданий было приведено в порядок, и в нём вскоре заработала заводская столовая, в которой в основном питались именно рабочие, потому что часть зарплаты работникам стали выдавать талонами на питание. Хотя питаться в столовой для работников завода и было экономически выгодно, но люди по старой памяти ещё не желали перемен. Рабочие обменивали свои талоны на карточки, деньги и какое-нибудь дефицитное барахло. Многие работники Управления милиции охотно меняли свои карточки на талоны и с превеликим удовольствием посещали близлежащий к их месту работы общепит. Зверев не был исключением.
Подойдя к зданию столовой, Зверев увидел нескольких работяг, которые курили возле входа и довольно громко обсуждали последний футбольный матч местной сборной с новгородской командой «Красный керамик». У входа в подсобку, рядом с мусорным контейнером, местная уборщица – пожилая женщина в грязном сером халате, которую завсегдатаи столовой обычно называли бабой Галей, расстелив на земле бумажный пакет, высыпала на него целую гору костей. На «лакомство» тут же налетела целая свора облезлых разномастных псов. Одной из дворняг, самой маленькой собачонке с оторванным ухом, похоже, совсем ничего не перепало. Собачка тыкала носом в расстеленный на земле пакет и слизывала с него жир. Баба Галя покачала головой, потрепала голодную псину за холку, вынула из кармана пряник и бросила его собаке.
Миновав куривших «любителей» футбола, Зверев зашёл в столовую.
Неказистые деревянные столы на шесть человек, расшатанные от времени лавки и неизменный бюст Ленина у стены. Встав в общую очередь, Зверев оглядел зал.
В самом углу, за одним из столиков, согнувшись, сидел довольно рослый мужчина. На нём был серый пиджак, чистая рубаха тёмно-синего цвета, наглаженное армейское галифе и начищенные до блеска яловые сапоги. Взгляд – цепкий как репей, коротко стриженные виски, в аккуратной испанской бородке пробивается седина; старшему следователю Виктору Шувалову было под пятьдесят, но на пенсию он пока не спешил. В Управлении его не любили и за глаза называли «брюзгой». Он старался избегать общих мероприятий и гулянок, а если и приходил на них, то с первых же минут начинал выказывать своё недовольство тем, что происходит вокруг, или жаловался на всех и вся: то на свою старуху-соседку, которая держала целую ораву кошек, из-за чего провонял весь дом; то на собственную жену, которая совсем не умела готовить; то на кого-нибудь ещё.
«Похоже, нормально поесть не удастся, – усмехнулся про себя Зверев. – Что ж, значит, прямо сейчас будем выстраивать отношения с будущим коллегой».
Отстояв небольшую очередь, Зверев взял молочную лапшу – одно из двух первых блюд, которое здесь подавали, макароны с котлетой, пирожок с капустой и компот. После этого он прошёл через весь зал и, не спрашивая разрешения, уселся за стол, за которым сидел Шувалов. Перед тем на столе стояла тарелка с остатками щей, отварная картошка и шницель. И без того кислое выражение лица Шувалова, когда он понял, что Зверев собирается к нему подсесть, стало ещё кислее.
– Здорóво! – беззаботно кинул Зверев, и не подумав протянуть руки. – Чего рожа такая недовольная? Жена не дала?
Шувалов едва не подавился и начал краснеть. Зверев как ни в чём не бывало продолжал:
– Зря подливку не взял! Шницель здесь сухой как подошва, без подливки им подавиться можно. Тут однажды какой-то работяга тоже шницель ел, так подавился, стал хрипеть, а потом его вывернуло прямо под стол. Серьёзно тебе говорю, я своими глазами видел! – Зверев взял ложку и принялся за лапшу.
Шувалов вытянулся.
– Решил аппетит мне испортить? Тебе вообще чего надо? – процедил он с набитым ртом, перестав жевать.
– А вот щи здесь неплохие, но я их тоже никогда не беру! – проигнорировав вопрос, Зверев непринуждённо продолжал беседу. – А знаешь, почему? Потому что капусту, из которой их варят, возят из соседней воинской части. Солдатики её сапогами мнут в огромной такой яме. Опустят в эту яму двух-трёх проштрафившихся, вот они с утра до ночи в той яме и топчутся. Ой… прости! Забыл пожелать приятного аппетита.
Шувалов округлёнными глазами посмотрел на свои недоеденные щи и положил на стол ложку. «Похоже, он всё и впрямь это представил, – мелькнуло в голове у Зверева, – посмотрим, что будет дальше».
– Ну ты и сволочь, Зверев! – процедил Шувалов. – Мало того, что тебя ко мне надзирателем приставили, чтобы ты мне палки в колёса совал, так ты мне ещё и жрать не даёшь. Валил бы ты отсюда!
– А если не свалю?
– Вали, пока я тебе холку не намылил!
Виктор Матвеевич Шувалов был гораздо крупнее Зверева, но того, видимо, это совсем не смущало.
– Многие пытались, да что-то не получилось! – сказал Зверев и вдруг поменял тон. – Ладно, Витёк, хватит собачиться, нам ведь теперь с тобой вместе работать придётся!
– Какой я тебе Витёк?
– Уймись, дружище! – Зверев отломил от купленного им накануне пирожка половину и протянул собеседнику. – Вот возьми, угощаю.
Шувалов схватил пирожок и швырнул его в собеседника. Зверев резко увернулся, и пирожок ударился о стену. Зверев тут же швырнул в лицо следователя вторую половинку пирожка и попал прямо в лицо. Шувалов заревел, подскочил и ухватил Зверева за шею. Когда следователь рванул Зверева на себя, тот ударил противника по рёбрам. Удар был достаточно жёстким, Шувалов захрипел и немного ослабил хватку. Зверев тут же освободился от захвата, перехватил руку следователю и вывернул ему кисть так, что Шувалов согнулся и едва не угодил лицом в тарелку.
– Слушай сюда, Виктор Матвеевич! Я прекрасно понимаю, что не особо тебе нравлюсь, и что с того? Ты мне тоже, признаться, не особо симпатичен. Но нам с тобой теперь предстоит вместе работать! С этого дня я в деле Дудукина главный, поэтому ты с этой минуты будешь не только меня терпеть, а будешь ещё и летать как «савраска». Так руководство решило, а ему, как говорится, видней!
Шувалов захрипел, попытался высвободить руку, но Зверев надавил на кисть ещё сильнее, процедив при этом:
– А если попытаешься ещё раз на меня руку поднять, я тебе сначала руку сломаю, а потом вилку в кадык воткну. Уяснил?
– Пусти, – процедил раскрасневшийся как варёный рак Шувалов.
– Вот же негодники! Чего вытворяют! – та самая баба Галя, которая накануне кормила собак, появилась будто бы из-под земли. – Вы чего это? Пьяные, что ль, коль такое вытворяете?
Зверев тут же выпустил руку Шувалова и сел на своё место.
– Помилуйте, женщина! Вовсе мы не пьяные!
Уборщица подошла и нависла над дерущимися мужчинами.
– А ну дыхни!
Зверев одарил бабу Галю запахом крепкого табака и зубного порошка с мятой и корицей. Женщина поморщилась, утерев нос рукой:
– Не пьяный, зато накурился… Так чего ж вы тогда руки друг дружке крутите, да ещё и продукты переводите? – бабка указала на лежавшую на полу половинку пирожка, от которой уже мало что осталось.
Зверев нагнулся, собрал с пола остатки пирожка и завернул их в чистый носовой платок.
– Вы правы, мусорить нехорошо! А ещё хуже переводить зря продукты! У моих соседей есть замечательный пёс, а эти пьяницы – это я о соседях, постоянно забывают его кормить. Отнесу это ему!
Бабка заохала:
– Милок! Так ты что же…
– Больно уж я собачек люблю, причём всяких разных, – тут же заявил Зверев.
Бабка тут же позабыла про драку.
– Так может твоему пёсику кашки наложить, да сухариков? Ты зайди ко мне в подсобку, я той собачке чего-нибудь тоже насобираю.
– Непременно зайду, но только не сейчас, – заверил уборщицу Зверев, – У меня сегодня планы, и домой я вернусь довольно поздно.
Зверев протянул руку и учтиво кивнул пожилой женщине. Та чуть не прослезилась от такого и удалилась восвояси. Зверев сел на свой стул. Шувалов тоже сел за стол и огляделся. Все посетители столовой сосредоточенно ели, как будто бы ничего и не случилось. Виктор Матвеевич хмыкнул, вытер салфеткой прилипшую к щеке картошку и процедил:
– Как тебе всё это удаётся?
Зверев улыбнулся во весь рот:
– Витенька! Я просто всегда стараюсь быть милым! Но лишь с тем, кто это ценит. С теми же, кто не ценит и не выполняет моих указаний, я обычно особо не церемонюсь. Так что если не хочешь снова угодить физиономией в тарелку, не заставляй меня больше нервничать! С сегодняшнего дня я твой начальник, и это не обсуждается.
– Странные у вас, товарищ капитан, методы работы с подчинёнными, – огрызнулся Шувалов. – Боюсь, что мы с вами не сработаемся!
– А ты, Витенька, сколько угодно бойся! Бойся, но делай своё дело, и тогда будут тебе за это слава и почёт. Ты кушай, кушай. Картошечка-то остывает!
– Да уж простите великодушно, товарищ капитан! Что-то у меня аппетит нынче пропал. – Шувалов хотел было подняться.
– С-с-сидеть… Виктор Матвеевич! – резко процедил Зверев.
Следователь тут же замер, как истукан.
– Не хочешь есть – не ешь! Но только перед тем как уйти отсюда, ты должен мне рассказать всё, что тебе на настоящий момент удалось «нарыть» по нашему общему делу.
Шувалов обречённо плюхнулся на свой стул.
После общения с Шуваловым Зверев вернулся в Управление, где вновь посетил Эмилию Эдуардовну и Карена Робертовича. После этого он снова направился к Корневу, уже не с пустыми руками. Обойдя по широкой дуге стол, за которым с грозным лицом восседала Леночка Спицына, Зверев отправил девушке воздушный поцелуй и прошмыгнул к двери. На этот раз девушка была во всеоружии и уже сжимала в руке свою огромную линейку. Войдя в кабинет начальника, Зверев плюхнулся на диван и приступил к докладу:
– Итак, товарищ подполковник, слушай сюда, дорогой! Шувалов уже побывал по месту жительства нашего «сердечника» и пообщался с участковым. Старикан действительно в сорок втором угодил в Кресты. Так что он вполне мог знать Фишера в лицо и мог его узнать, встретив на площади!
– Ты уже наладил контакт с Шуваловым? Молодец! А я боялся, что с этим возникнут сложности. Наш Виктор Матвеевич, надо признаться, человек весьма непростой! Ты же сам говорил, – в этих словах была озабоченность.
– Стёпа! Я тебя умоляю! Наш Витёк – просто лапочка. Мы пересеклись в заводской столовке и он тут же, позабыв про свой шницель, доложил мне все, что знал по нашему делу! Заявил, что готов выполнять все мои указания и не перечить.
Корнева передёрнуло.
Врёт, поди!
Видя на лице Зверева ехидную ухмылку, подполковник убедился, что дело тут нечисто.
Надо будет поговорить с Шуваловым. Этот юлить не станет, и если Пашка врёт… Так пусть лучше мне жалуется, чем кому другому, повыше.
– Ладно, бог с ним, с Шуваловым, – решил не сгущать краски Корнев. – Ты, смотрю у нас, просто светишься. Говори, что ещё удалось выяснить?
Зверев щёлкнул пальцами и вскинул указательный палец вверх. Когда перед его глазами всплыла кислая рожа Шувалова, перепачканная картофельным пюре, он и впрямь «засверкал», как начищенная пастой ГОИ армейская бляха.
Ничего! С такими, как этот, по-другому нельзя!
– Наш Дудукин был неплохим стариканом, но с головой у него и впрямь могли быть нелады, – продолжил Зверев и покрутил пальцем у виска. – Был женат! Жена погибла в блокадном Ленинграде! Детей у них не было, потому как нашему дедуле, похоже, мошонку прострелили ещё в Гражданскую! Бррр… Я бы застрелился, а он выжил. И вот после всего этого он умудрился провести какое-то время в Крестах! Сам понимаешь, от такого любой может тронуться! Со зрением у него тоже было не очень, так что он вполне мог принять за Фишера любого похожего на него мужика. Карен Робертович уверен, что старик умер от остановки сердца. Его помощница Софочка тоже с ним согласна! По исчезнувшему милиционеру пока ничего добавить не могу. Возможно, придётся самому ещё раз опросить свидетелей.
Корнев нахмурил брови, взял со стола карандаш и принялся чертить им по чистому листу бумаги и буркнул довольно грубо:
– Кроме того, что Дудукин действительно побывал в Крестах, я от тебя пока ничего утешительного не услышал. Хочешь сказать, что никакого Фишера в Пскове и в помине нет? Думаешь, у этого Дудукина параноидальный бред? Думаешь, ошибся наш дедуля?
– Может быть так, а может – и нет! Старикан, конечно, мог ошибиться, отстреленная мошонка – сам понимаешь, – продолжил Зверев, – а наш таинственный милиционер мог просто испугаться, смалодушничать и скрыться, но… Эти двое сцепились друг с другом, а дедок по-прежнему вопил. Значит, вариант с плохим зрением отпадает. Шувалов между делом обмолвился, что одна из свидетельниц, наблюдавшая потасовку Дудукина с неизвестным, заявила, что видела, как милиционер толкнул старика в грудь.
– И что с того?
– Подумай сам, если тот старшина, или кто он там был, был ни в чём не виновен, зачем ему бить старика?
– Толкнуть – не значит бить! Ничего это не доказывает! Тут и не на такое пойдёшь, если тебя пытаются огреть по голове тростью.
– Согласен, но всё равно я считаю, что вероятность того, что старик ошибся, крайне невысока. А теперь главное, – и тут-то Зверев выложил свой основной «козырь». – После нашей с тобой встречи я посетил архив и заставил немного потрудиться нашу очаровательную Эмилию Эдуардовну. Она тут же отбросила все свои дела и занялась поиском.
Корнев хмыкнул:
– Так уж и сразу?
– Я её убедил!
– Обещал на ней жениться?
– Ты меня пугаешь, Стёпа, да как тебе такое в голову могло прийти? Пусть Эмилия Эдуардовна и привлекательная женщина…
Корнев рассмеялся:
– Знаю, знаю! Ты же у нас убеждённый холостяк! Ладно, не томи! Не хочу я слушать того, что ты ей наплёл, лучше расскажи, что она там в своих бумагах накопала.
– Эмилия Эдуардовна порылась в наших картотеках и нашла в них информацию про одного нелицеприятного типа – это некто Леонид Комельков, двадцать первого года рождения.
– Комельков? – Корнев напрягся. – Не помню такого.
– Леонид Комельков, прозвище Кольщик – бывалый рецидивист, первый раз сел по «малолетке» в тридцать пятом, отсидел год. Потом прибился к серьёзным ребятам. Его взял под себя Гроза…
– Гроза? Это который… – Корнев хлопнул себя по голове. – Ни черта не помню, кто такой этот твой Гроза.
– Герман Юрьевич Громов по кличке Гера Гроза. Матёрый бандюган, который взял кассу на Артельной, а потом ограбил меховой салон на Варварке. Попался из-за бабы… Стёпка, у тебя что, на войне совсем память отшибло?
– Так… – Корнев тут же надулся, как индюк. – Ты мне это самое… брось! Ты лучше скажи, зачем ты мне всё это рассказываешь? Какое отношение это имеет к делу?
– А такое, что, как выяснилось из документов, наш Лёнька в годы войны угодил в Кресты. С двумя своими корешами – одним из которых, кстати, и был тот самый Гроза, про которого ты ни черта не помнишь – наш Лёнька умудрился оттуда сбежать.
Зверев сиял, но Корнев всё ещё сидел насупившись.
– Продолжай.
– Грозу убили наши в сорок четвёртом при нападении на инкассаторов. Сизого, второго приятеля Кольщика, в сорок четвёртом сожительница шарахнула молотком по голове, после чего он благополучно окочурился ещё по дороге в лазарет. Эту барышню, кстати, оправдали, так как свидетели показали, что Сизый бросился на неё с ножом, но это к делу не относится.
Зверев сделал паузу и достал папиросу.
– Давай уже! Не томи! Двоих больше нет, что с Комельковым?
Зверев откинулся на спинку дивана, мечтательно посмотрел в потолок.
– Пепельницу дай!
Корнев выругался, но вынул из стола пепельницу. Павел Васильевич неспешно раскурил папиросу:
– Кольщик наверняка видел Фишера, находясь в Крестах, и пока что он единственный, кто может знать Фишера в лицо и опознать его.
– Да понял я тебя!.. понял! И где же ты собираешься теперь искать нашего Лёньку?
– А чего его искать? На днях Комелькова снова повязали. Он пытался оставить без кошелька и украшений одну немолодую уже дамочку, угрожал ей ножом…
– И…
Зверев смотрел на Корнева своим обычным взглядом, склонив на бок голову и нарочито растягивая слова:
– Сейчас Комельков находится в городской тюрьме, ведётся следствие.
– Твою ж мать… Какая же ты сволочь, Зверев! Что же ты столько времени молчал? – закричал Корнев и трясущейся рукой схватил трубку телефона.
– Сволочь? Опять это гнусное слово! Ну и плевать! – Зверев снова откинулся на спинку дивана и принялся тихонечко напевать «Мишку-одессита» из репертуара Леонида Утёсова.
Глава третья,
в которой Корнев и Зверев используют разные методы допроса, благодаря этому узнают кое-что интересное
Лёнька Кольщик оказался худым белобрысым парнем, облачённым в выцветший синий пиджак и серые штаны с оттянутыми коленками. Судя по данным его анкеты, которую вот уже полчаса как усердно штудировал Зверев, Комелькову было двадцать шесть, хотя выглядел он значительно старше. Пальцы в наколках, узкие, как щёлки глаза, в которых Зверев не увидел ничего, кроме холодного равнодушия ко всему, что здесь происходило. Зайдя в кабинет, Комельков тут же сел на предложенный ему стул, ссутулился и склонил голову набок, правая нога его слегка подёргивалась, словно отбивая ритм. Зверев, как обычно развалившийся на диванчике, тут же отметил, что на него Лёнька даже не взглянул: «Хоть и молодой, но бывалый! Раскрутить такого будет не так-то уж и просто». Пока Зверев отмечал особенности вошедшего, Корнев энергично вышагивал по кабинету.
– Ну здравствуй, Комельков! – угрюмо, но довольно сдержанно начал начальник псковской милиции и наконец-то уселся за свой стол.
– И тебе не хворать! Чем же это я так отличился, что сам начальник милиции меня к себе на беседу вызвал? – голос Комелькова был прокуренным и низким. – Когда узнал, думал ослышался, теперь вижу, не наврали мусора! Так чем обязан, только давайте короче, а то у меня голова болит!
Корнев поморщился, сдвинул брови, но как-то сумел себя сдержать.
– Почитал я твоё дело, Комельков, – сказал подполковник, – опять, смотрю, ты у нас за старое взялся?
– Твоя-то какая забота, начальник, за что я взялся, за что не взялся! Дело моё ясное, так чего тут ещё канитель разводить? Взяли меня с поличным, так что я и не отпираюсь. Было дело, подошёл к барышне, попросил кошелёк и цацки. Заметьте, по-хорошему попросил, а она в крик! Я её за шкибон, а тут ваши нарисовались! Сто шестьдесят пятая статья, а значит, максимум пятерик! Что же теперь, бывает!
– Эвон как у него всё гладко, – покачал головой Корнев. – Ты на женщину с ножом напал – это уже вооружённое нападение. Какая уж тут сто шестьдесят пятая статья? Ты у нас злостный рецидивист! Так?.. Так! Взяли тебя с поличным. Сто шестьдесят седьмая – вооружённый разбой при особо отягчающих. Вполне реально вышак вырисовывается!
Лёнька гортанно рассмеялся. Зверев, всё ещё листая дело, продолжал искоса наблюдать за Комельковым.
Не верит! Не ведётся! Не боится! Такого трудно будет заставить сотрудничать, тут подход другой нужен.
Зверев продолжал штудировать бумаги…
Комельков тем временем продолжал:
– Ну взяли, и что? Ножик у меня случайно оказался. Просто в кармане лежал и всё!
– А потерпевшая заявляет обратное! – Корнев повысил голос.
– Да чего там она заявляет? Говорю же, подошёл, попросил отдать по-хорошему, а она в крик!
– Глянь-ка, Паша! – воскликнул Корнев. – Этот чертяка Уголовный кодекс как свои пять пальцев знает! Вот только одного он не учёл, что когда пострадавшая упала на землю, после того, когда он ей перо приставил, коленный сустав себе вывихнула, а это уже увечье…
– Ничего она себе не вывихнула! – теперь Комельков энергично тёр себе виски. – Врёте вы всё! Да, упала! Да, орала как резаная…
– Так она потому и орала, что больно ей было! Вывих-то у неё серьёзный! – перебил Лёньку Корнев.
– И что с того? Даже если и вывих у этой тётки, даже если и ножик сумеете к делу привязать, всё равно по сто шестьдесят восьмой больше десятки не дадут! Кончилась война, драгоценные мои начальники! Кончилась, а значит, людей больше без особого повода не расстреливают!
Корнев бросил взгляд на Зверева и, видя, что тот продолжает изучать бумаги, снова насел на Лёньку:
– Ты прав, Комельков! Без особого повода у нас больше не расстреливают, только одно ты забыл, что повод найти – дело плёвое. Будет желание, найдём повод.
Лёнька сжал кулаки и процедил с презрением:
– Вот в этом я не сомневаюсь! Это вы можете!
– Можем, можем, – оживился Корнев. – Можем так дело повернуть, что не отмоешься, и бац… Но можно и по-другому! Если поможешь нам…
– Никогда Лёня Кольщик с мусорами дел не имел и впредь не собираюсь!
– Знаешь, что? Я вижу, наш Лёнька совсем не понимает, что ему грозит. Паша, твою ж мать, да оторвись ты от этих бумажек своих! – рявкнул Корнев.
Зверев дёрнулся, вскинул глаза и посмотрел на Лёньку так, будто только сейчас его увидел.
– Что вы говорите, товарищ подполковник?
– Говорю, что если захотим, то сможем его дело так повернуть, что он у нас не то что на свободу не выйдет…
Договорить Корнев не успел, потому что Зверев его резко перебил.
– Ты у матери давно на могиле был? – Зверев склонил голову набок, взгляд его выражал недоумение.
Лёнька вздрогнул, слегка подался назад и втянул носом воздух.
– А при чём тут моя мать? Ты вообще кто такой, мусор?
Зверев снова пожал плечами.
– Да в общем никто, не особо важная фигура, – Зверев улыбнулся. – Просто работаю я здесь, поэтому вот дело твоё взял почитать. Ты ведь у нас из Камышина родом?
Лёнька нахмурился, почесал подбородок:
– Ну, из Камышина, а ты зачем спрашиваешь, начальник?
– Бывал я у вас там в Камышине ещё до войны! Красивые, знаешь ли, места.
– Были красивые! Больше нет! Немец в сорок втором, когда партизаны мост через реку взорвали, чтобы наступление остановить, всю мою деревню дотла сожгли. А жителям велели ров рыть, а потом расстреляли всех, кто сбежать не успел. И мать мою расстреляли, и отца, – Лёнька запнулся, его передёрнуло, но он тут же собрался и продолжил: – Родителей моих в том рву и схоронили, так что могила у них у всех общая. Ты зачем меня про это спросил, начальник? Разжалобить хочешь? На святое покусился?
Зверев помотал головой.
– Не знал я про родителей твоих. Тут вот в деле прочёл, что мать у тебя в сорок втором умерла, а что так, я не знал. Извини.
– Да нужны мне твои извинения! Чего надо вам, не буду я вам помогать, и точка! Хотите дело расстрельное сфабриковать, так фабрикуйте, а меня в покое оставьте!
– Ладно, ладно, не горячись! – попытался успокоить разбушевавшегося Лёньку Зверев. – Не хочешь нам помогать, не помогай, дело твоё. Хотели мы, чтобы ты нам одного человечка помог отыскать, но раз не хочешь, так и не надо. Мы этого твоего приятеля сами найдем – без тебя.
– Вот и ищите! Я своих корешей не сдаю.
– Не знал я, Лёня, что немцы тебе теперь корешами стали.
Комельков вздрогнул:
– Какие такие немцы?
– Обыкновенные!.. Ищем мы тут одного недобитка, а вот в лицо его не знаем, хотели, чтобы ты нам помог, но раз тебе это не нужно…
– Постой, начальник? Ты о каком недобитке ведёшь речь?
– Погоди, Комельков! – невозмутимо продолжал Зверев. – В Крестах ты побывал, так?
– Так, и что?
Лёнька напрягся, но уже не так как раньше, в его глазах появился интерес, это не ускользнуло от Зверева. Нужно было дожимать парня.
– Ты практически единственный, кто оттуда сбежал? Так?
– Так! Обвёл вокруг пальца немецкого вертухая и свалил! К тому же не один я сбежал – трое нас было.
– Только из тех троих уж в живых никого, кроме тебя, не осталось. Так что приятелей твоих теперь не расспросишь. Вот мы и хотим, чтобы ты нам про Крестовского душегуба рассказал. Слыхал про такого?
Лёнька сглотнул, поёжился и попросил:
– Покурить бы, начальник.
Зверев не спеша поднялся, по-хозяйски подошёл к столу и вынул из ящика пепельницу. Потом он подошёл к Лёньке и протянул ему пачку и чиркнул спичкой. Корнев, глядя на всё это, отошёл к окну и опёрся на стену.
Искурив папиросу, Лёнька тут же раскурил вторую, прокашлялся и сказал:
– Что вы хотите знать о Крестовском душегубе? Да, я знал эту сволочь! Общался с ним, что называется, с глазу на глаз! Только скажите, зачем вам всё это нужно? Насколько я знаю, Фишер сейчас далеко, сбежал вместе со всеми во время отступления.
– Есть подозрение, что Фишер вернулся в город! – сказал Корнев.
– Подозрение? То есть вы не знаете это наверняка?
– Наверняка не знаем, – пояснил Зверев. – Один старик, тоже побывавший в Крестах, его узнал! После этого они повздорили, и человек, которого наш свидетель принял за Фишера, исчез.
Лёнька смотрел то на Корнева, то на Зверева.
– Он вернулся! Но этого не может быть. Постойте… Старик? Что он ещё говорит, этот ваш старик?
– Старик ничего не говорит. Он умер сразу же после того, как опознал в одном из прохожих Крестовского душегуба.
– И как же умер этот старик? – с усмешкой поинтересовался Лёнька. – Уж не от остановки ли сердца?
– А ты откуда… – Корнев не успел задать вопрос, потому что Зверев остановил начальника резким движением руки.
– Старик, который опознал в том мужчине Фишера, набросился на него с кулаками. Но экспертиза показала, что умер старик не от побоев. Старик был стар, вот сердечко и не выдержало.
Лёнька усмехнулся, помотал головой и погрозил пальцем.
– Не-е-е, дядя! Тут всё не так просто. Не умер ваш старик, его убили.
Лёнька ещё раз со злобным прищуром взглянул на Корнева и махнул рукой:
– Ладно! Раз уж такое дело…
Концентрационный лагерь в «Крестах», июль 1943 г.
Вокруг двух с небольшим десятков деревянных бараков, окружённых контрольно-следовой полосой и огороженных колючей проволокой, росли старые тополя. Лёгкий ветерок кружил слетавший с их ветвей и похожий на снежинки пух, тот слепил глаза, попадал в рот и забивал носы. От назойливого пуха чихали и морщились люди, собаки время от времени прерывали свой истошный рык, то и дело скулили и трясли головами. Когда зуд в носах псов прекращался, эти ужасные твари, специально натасканные на людей, снова начинали рвать поводки, бешено лаяли и пускали слюну. Сбившиеся в кучу люди, глядя на разъярённых псов, всё плотнее и плотнее жались друг к другу, обречённо глядели на ровные ряды автоматчиков, боясь не только пошевелиться, но и вымолвить хотя бы слово.
Когда-то здесь располагались казармы пятого кавалерийского корпуса, которым командовал сам Рокоссовский. Сейчас же в бывших конюшнях, прямо на земляном полу были установлены трехъярусные нары; печные топки были замурованы; в каждом из бараков постоянно ютилось не меньше полутора тысяч военнопленных. С правой стороны от ворот, охраняемых десятком солдат, усиленных пулемётным расчётом, располагались два барака, в которых содержали гражданских. По всему периметру были установлены пятиметровые вышки, на которых тоже стояли вооружённые солдаты в сером и равнодушно наблюдали за тем, что происходило внизу.
Ослабленные и истощённые узники, в рваных одеждах и с покрытыми гнойными струпьями руками, морщась, млели в горячих солнечных лучах уже несколько часов. В отличие от выстроившихся перед толпой солдат, по лицам и шеям заключённых почти не струился пот. Узники были настолько измотаны и истощены от голода и изнурительного труда, что скорее походили на ожившие трупы, чем на нормальных живых людей. По обеим сторонам от неровного, измученного строя стояли одетые в чёрное эстонские конвоиры. За спинами автоматчиков на деревянном помосте под навесом наконец-то появились двое мужчин. Они вышли в центр, оглядели толпу и завели непринуждённый разговор.
– Ну что, глядя на всё это, Густав, вы всё ещё жалеете, что приехали сюда из своего Нюрнберга? – спросил мужчина лет тридцати в военной форме с тремя ромбами на левой петлице и с дубовыми листьями на рукаве.
Его собеседник, немногим постарше, в свободном чёрном пиджаке, светлых брюках и в круглых очках, точно въевшихся в переносицу, неестественно рассмеялся.
– Я здесь, потому что – это моя работа, оберштурмфюрер! Тут ужасно жарко и к тому же мне немного боязно созерцать всё то, что сейчас здесь происходит. – Мужчина в очках поднёс к лицу висевший у него на шее фотоаппарат марки «Bessa», сделал несколько снимков и принялся что-то записывать в блокнот.
Густав Лоренц, корреспондент еженедельника «Der Stürmer[5]», прибыл в «Кресты» два дня назад и с тех самых пор не находил себе места. Много всего уже повидавший за годы своей журналистской карьеры, он так и не смог адаптироваться к тому, о чём ему порой приходилось писать.
– То есть будь ваша воля, – продолжал офицер с долей лёгкого презрения, посмотрел на своего собеседника и поправил фуражку, – вы не стали бы тащиться в такую даль, чтобы посмотреть, как воины Третьего рейха уничтожают тех, кто, по мнению наших идеологов, представляет собой «унтерменш» – людей низшего сорта.
Лоренц убрал ручку и блокнот в жилетный карман, вынул платок, вытер им вспотевший лоб и попытался уклониться от вопроса:
– Мне говорили, что Россия ужасно холодная страна. Я совсем не думал, что, приехав сюда, буду так обливаться по́том.
Подавив ухмылку, офицер продолжил:
– А мне кажется, мой дорогой друг, что вы потеете вовсе не от солнца. Ваша кожа побледнела, а когда вы делали записи в своём блокноте, ваши пальцы тряслись. Признайтесь же! Я ведь прав?
Мужчина в очках смотрел на собеседника теперь уже с нескрываемым испугом, он снова вытер лоб платком и тихо сказал:
– Вы совершенно правы, Дитрих, я чисто гражданский человек. Все ужасы войны – это не для меня. Вот взять хотя бы вас! Вы ведь совершенно другой! Вы делаете для Германии то, что таким как я не под силу. Я журналист! Всё моё оружие сейчас при мне – это мой фотоаппарат, ручка и блокнот, а вот вы… Я восхищаюсь вами, Дитрих! Вы делаете гораздо больше для нашего Рейха, чем я, и, пожалуй, даже сотни таких, как я! Вы строите будущее великой Германии, а такие как я рождены лишь для того, чтобы освещать подвиги настоящих героев.
В ответ на слова журналиста офицер самодовольно улыбнулся.
– Ну что ж, раз присутствие здесь вас так утомляет, я постараюсь вас долго не задерживать! Посмотрите на представленный здесь сброд. Перед вами узники, которых мы собираемся умертвить. Эти люди больше не могут приносить нам пользы. Они больше не способны ремонтировать дороги и строить оборонительные сооружения, но в отличие от многих других, которые и без того мрут как мухи, эти оказались довольно живучими. Они всё равно умрут, поэтому, дав возможность им умереть быстро, мы даже проявляем по отношению к ним некоторую гуманность. К тому же, – офицер беззвучно рассмеялся, – утилизируя этот сброд, мы экономим провизию, чтобы отдать её тем, кто ещё может работать.
После этих слов Лоренц уточнил:
– Вы сказали, что собравшиеся здесь больше не могут работать! Но я вижу тут женщин и даже нескольких детей… Разве детей мы тоже привлекаем на ремонт дорог и разборы завалов?
– Почему нет? Хотя… Вы правы, от детей не особо много пользы! Поэтому здесь в основном представлены жёны и дети офицеров Красной армии и коммунистов. Есть даже несколько евреев, которых мы не смогли выявить в первые дни их прибытия в лагерь, – последнюю фразу офицер произнёс с некоторой долей вожделения. – Итак, продолжу! Сегодня вы, Густав, станете свидетелем не просто массовой экзекуции! Оберштурмбаннфюрер Зиверс, мой непосредственный начальник и руководитель зондеркоманды СС 11-д, помимо того, что является военным человеком, имеет ещё и научную степень. Он доктор медицины. То, что сейчас произойдёт на ваших глазах, является частью научного эксперимента. Этих людей не расстреляют, они умрут в специальном автофургоне…
– Я слышал, что русские называют эту машину «душегубкой»? – задав этот вопрос, Лоренц принялся что-то оживлённо записывать в свой блокнот.
– Вы правы! Это обычный большегрузный непроницаемый автофургон с герметически закрывающимися дверями и с отверстием для пуска газа в полу. Такая машина вмещает в себя до тридцати человек. Люди в ней умирают достаточно быстро, и их смерть является более гуманной, в отличие от обычного расстрела или повешенья.
Лоренц поморщился, покачал головой:
– По-моему, любая насильственная смерть – это уже не гуманно.
Офицер рассмеялся:
– Знаете, Лоренц, я когда-то побывал на Востоке! Там издревле в силу своих убеждений, религии и чего-то там ещё, совершенно иначе относятся к смерти. Японские самураи, например, сами добровольно приносили себя в жертву по одному лишь слову своего господина. Смерть была для них великим благом и искуплением всех грехов.
– Я никогда не был на Востоке, оберштурмфюрер, возможно поэтому мне, пожалуй, никогда не понять ваших суждений.
– Очень жаль, что вы там не были, мой друг! Там есть чему поучиться. Их отношение к смерти просто божественно. Пусть эти люди и не являются представителями высшей арийской расы, но лично для меня они более привлекательны, нежели весь этот грязный сброд, который стоит сейчас перед нами. А смерть… Что смерть? Лично для меня убивать этих… всё равно что убивать насекомых!
Журналист убрал в карман ручку, снял очки, протёр их платком и, снова водрузив их на нос, на этот раз уже довольно дерзко посмотрел на собеседника:
– Уж не хотите ли вы сказать, что получаете удовольствие от своей работы?
Офицер поморщился, пожал плечами:
– Ну да… мне нравится избавлять мир от всякой нечисти, хотя…
Журналист оживился:
– Что, хотя?
– Я считаю, что отправлять людей в «душегубки» не так уж и весело, – он снова беззвучно рассмеялся. – Гораздо интереснее убивать своими руками, и я периодически это делаю. А вы не хотите попробовать?
Офицер достал из кобуры «Вальтер» и протянул его собеседнику рукоятью вперёд. Лоренц аж затрясся. Видя панику на лице своего оппонента, эсэсовец явно наслаждался.
– Простите, – он, видимо, всё ещё не верил услышанному. – Вы хотите, чтобы я застрелил кого-нибудь из пленных?
– Застрелил или что-то ещё… Если вы знаете ещё какой-нибудь способ умерщвления, то я вас в этом не ограничиваю!
По щеке Лоренца вновь полился пот, но он уже и не вспоминал про свой платок, гримаса ужаса застыла на его лице.
– Нет!.. и ещё раз нет! Я категорически отказываюсь это делать!
Офицер небрежно пожал плечами, зевнул, прикрыв рот ладонью, и махнул кому-то рукой. Один из солдат тут же подскочил и подал офицеру пару белых ситцевых перчаток. Двое надзирателей в чёрном сорвались с мест и вскоре выволокли на площадку, расположенную перед помостом, какого-то мужчину.
– Ну раз не желаете вы, то я сделаю это. Я ведь всё равно собирался это сделать. Прошу вас, Лоренц, следуйте за мной.
Эсэсовец натянул перчатки и спустился с помоста. Журналист, белый как мел, проследовал за ним. Они оба подошли к пленнику. Когда надзиратели отпустили приговорённого, его качнуло.
Лоренц поднял было фотоаппарат, но тут же его опустил. Перед ним стоял мужчина, возраст которого определить было довольно трудно. Несмотря на то что приговорённый был на полголовы выше самого Лоренца, он представлял собой всего лишь килограмм шестьдесят обтянутых посеревшей кожей костей, которые дополняли редкие гнилые зубы и помутившиеся впалые глаза. Треснутые в нескольких местах очки, нацепленные на нос пленника, выдавали в нём представителя интеллигенции. Прорванная в нескольких местах гимнастерка, выцветшая от солнца и пыли, покрывала его истощённые плечи, на бирке, висевшей на запястье его правой руке и был выбит шестизначный номер.
– Он что, уже побывал в газовой камере? – заикаясь, спросил корреспондент. – Его же мотает!
Эсэсовец снова рассмеялся, на этот раз в голос, хотя и негромко:
– Конечно, его мотает! Ведь накануне он влил в себя столько самогона, что таким количеством можно было бы вывести из строя трёх таких, как вы или я.
– Хотите сказать, что он пьян?
– Именно это я и говорю. Вот она та самая гуманность, о которой я вам накануне говорил. Этот человек доброволец. Накануне, когда всем этим людям сообщили, что сегодня их казнят, я предложил кому-нибудь из них лёгкую и приятную смерть. Пятеро изъявили желание. Жребий выпал на этого. Его фамилия Горячев. До войны он учил детей в школе, а теперь он солдат Красной армии. Он храбрый человек и пожелал умереть красиво, – офицер пристально разглядывал стоящего напротив него русского. – Накануне ему дали самогона и относительно сносной еды. Видели бы вы, Густав, с какой жадностью он запихивал в себя всё это!
Эсэсовец поморщился.
– Это и есть ваша пресловутая гуманность? – буквально выкрикнул Лоренц.
– Разумеется! Он ведь сейчас почти ничего не соображает. Сейчас он умрёт, и умрёт легкой смертью, в отличие от других. Смерть от удушья, уж поверьте, не так уж и приятна.
– И вы убьёте его сами?
– Убью! Но если вы передумали, я могу уступить эту честь вам.
– Нет-нет! Пожалуйста, только не это!
Офицер сделал шаг к пленному и на чистом русском спросил:
– Ну что, Горячев, ты готов?
Приговорённый промычал что-то нечленораздельное по-русски. Офицер рассмеялся:
– Густав, вы понимаете их язык?
– Только некоторые слова, оберштурмфюрер!
– Он только что сказал, что имел сексуальный контакт с моей матерью. Ещё он сказал, что отплатит мне за всё, даже с того света. Какой мерзавец, и это за всю мою доброту…
Сказав это, эсэсовец довольно резко, но на первый взгляд совсем не сильно, толкнул обречённого в грудь. Тот дёрнулся, отступил назад и упал.
Лоренц растерялся, на его лице появилась глуповатая улыбка:
– Он что, мёртв?
– Мертвее не бывает! – ответил офицер, после чего снял перчатки, бросил их на землю и щёлкнул пальцами.
Оба надзирателя, с интересом ожидавшие окончания «представления», тут же подхватили мертвеца под руки и поволокли безжизненное тело со двора.
Глава четвёртая,
к которой у Зверева с Корневым появится вопросов больше, чем ответов
– Заключённые называли это «милостью Фишера»! Эта сволочь предлагала обречённым умереть легко и без мучений, – продолжал свой рассказ Комельков. – От желающих, как правило, не было отбоя. Фишер выбирал одного из добровольцев. Его приводили в особый кабинет. Перед заключенным ставили тарелку с жареными сосисками, варёную картошку, хлеб, сало и здоровенную бутыль шнапса. Этот гад включал музыку, садился и много курил. Он давал приговорённому хорошую папиросу и говорил с ним как с равным. Он наблюдал за своей жертвой, как питон наблюдает за кроликом, которого вскоре собирается сожрать. Люди, конечно же, набрасывались на еду и, как правило, напивались в хлам. А этот зверь наслаждался своим превосходством над теми, кого он считал низшим сортом. Наутро ничего уже не соображавшего узника выводили перед строем, и Фишер демонстрировал на нём свой ужасный удар. Он бил открытой ладонью в грудь, у заключённого тут же останавливалось сердце. Он умирал мгновенно…
– Этому удару он научился где-то на Востоке? – уточнил Зверев.
– Думаю, что да! До войны Фишер много путешествовал, побывал в Индии, Японии и Китае…
Зверев снова перебил:
– Это я понял, но откуда тебе известно то, где и когда он побывал? Ну и про то, что происходило в кабинете у Фишера?
Лёнька вздрогнул, поёжился, словно его ударили по спине и с некоторой гордостью заявил:
– А как, по-вашему, я сбежал из этого проклятого лагеря? Ещё не догадались?
– «Милость Фишера?» – в один голос выкрикнули Корнев и Зверев. Лёнька кивнул.
– Немцы использовали нас как рабочую силу, а в «душегубки» обычно отправляли тех, кто уже не мог приносить пользы Рейху, а также жён и детей коммунистов и офицеров; ну и конечно евреев! Как видите, я от природы довольно худощав – папенькины гены, – Лёнька усмехнулся. – В лагере кормили одной лишь гнилой картошкой и хлебом, в котором было больше золы и песка, чем муки. Узники быстро превращались в скелеты и буквально падали с ног, приходя в бараки после трудового дня. Я решил, что это можно использовать. Как-то раз во время работ по восстановлению моста я упал на кучу песка и сделал вид, что не могу больше работать. Моя худоба сыграла мне на руку, я уже походил на скелет, но силы во мне ещё были. Моя хитрость принесла мне несколько ударов прикладом и возможность попасть в барак, в котором держали смертников. Я рисковал, но удача мне улыбнулась. Когда Фишер выбирал себе очередного «кролика», жребий пал на меня. Тогда-то я и оказался в его кабинете.
Наш оберштурмфюрер в тот день вёл себя довольно обходительно. Когда я сказал, что неплохо рисую, мы стали говорить об искусстве, он даже показывал мне свою коллекцию антиквариата. Я наблюдал, что, видя во мне человека, Фишер начал скрипеть зубами. Он ведь жаждал от нашего общения совсем другого. Тогда я решил дать ему то, чего он так страстно желал. Когда он предложил мне поесть, я тут же стал пихать в рот всё подряд, давился и благодарил Фишера за его доброту. Я заметил, как настроение у этого ублюдка тут же улучшилось. Он снова заговорил об искусстве, но я делал вид, что уже ничего не слышу.
Я уверен, что практически каждый, кто попадал к Фишеру в кабинет, тут же напивался в хлам. Я выпил лишь полстакана и сделал вид, что меня тошнит. Я выплюнул на пол всё, что было у меня во рту, но моего собеседника это нисколько не разозлило, напротив: когда меня уводили из кабинета, он хохотал. Он сказал тогда: «Я в очередной раз убедился, что все русские скорее похожи на скотов, чем на людей!»
Сделав вид, что я пьян, уже возле барака, я навалился на конвоира, получил удар в живот, но при этом сумел вытащить из его кармана связку ключей. Ночью я отомкнул замки, и с полторы сотни заключённых выбрались из бараков и напали на конвой. – Тут Лёнька утёр ладонью пересохшие губы и, осушив предложенный ему стакан воды, закончил свой рассказ: – Свет прожекторов слепил, стрелял пулемёт, стреляли с вышек, люди метались и падали. За ворота прорвалось не больше десятка. Скольким ещё удалось бежать, я не знаю, но со мной были несколько моих корешей…
– Сиплый и Гера Гроза? – спросил Зверев.
Лёнька кивнул:
– Я ведь тогда умудрился отпереть не только камеру, где сидели смертники, но и ещё две соседние. В одной из них было много заключённых из наших.
– Рецидивистов и уголовников?
Лёнька снова кивнул. Корнев достал блокнот и принялся что-то писать. Зверев встал, подошёл к окну и снова закурил.
– Значит, ты считаешь, что старика, который напал на милиционера, всё-таки убили? – отложив свой блокнот, продолжил беседу Корнев.
– К гадалке не ходи! – Лёнька снова заговорил на более привычном для него языке.
– Опиши нам, как выглядит Фишер.
– Ему сейчас от тридцати пяти до сорока; среднего роста, а рожа без особых примет. – Лёнька указал Звереву на портсигар, тот протянул парню папиросу.
– И это всё? Признаться, я надеялся на большее, – нахмурился Корнев.
Лёнька щёлкнул пальцами и задорно подмигнул Звереву.
– Знаешь, начальник, почему меня зовут Кольщиком?
– Потому, что татуировки на зоне колол?
– Правильно мыслишь, начальник! Колол, и ещё как колол! А ведь тот, кто по телу работать могёт, он ведь прежде всего хорошим художником быть должон. Так-то! Ты меня, начальник, в камеру отправь, пусть мне жратвы нормальной дадут, ну… и покурить, конечно! А ещё пусть лист да карандаш притаранят. Только не тот, что ты давеча сломал, – Лёнька добродушно оскалился, – а другой. Сделаешь, как я сказал, я тебе враз портрет Фишера намалюю, да ещё такой, что от фотокарточки не отличишь. Я в своём деле – спец!
Видя, как его начальник возбуждён, Зверев задал свой последний вопрос:
– А по поводу того, зачем Фишер в город вернулся, можешь хоть что-нибудь сказать?
Комельков покачал головой, снова закусил губу и вдруг, прищурившись, пристально посмотрел Звереву в глаза:
– Есть у меня одна мысль насчёт того, зачем эта гнида сюда явилась, но я и без того вам уже много чего рассказал. Теперь ваш черёд. Когда я буду на все сто уверен, что вы мне сто шестьдесят пятую статью нарисуете, тогда и поделюсь мыслями, а пока… – пожимая плечами, Комельков развёл руки в стороны.
– Нет! Так дела не делаются… – начал было Зверев, но Корнев оборвал его на полуслове движением руки и сказал, обратившись к Лёньке:
– Сейчас же иди в камеру! Тебе принесут всё, что ты просил! Поешь и сразу же приступай к портрету, а я сейчас же свяжусь со следователем, который ведёт твоё дело. Даю тебе слово, что всё улажу. Сколько тебе нужно времени на то, чтобы сделать рисунок?
– За час управлюсь!
– Конвой! – рявкнул Корнев. – Уведите заключённого!
– Только про курево не забудьте, гражданин начальник! – крикнул Лёнька напоследок.
Когда его вывели, Зверев хмуро посмотрел на друга.
Прошло чуть меньше часа, они ждали. Корнев заварил чаю, а Зверев, примостившись на диванчике, немного задремал. Когда без стука в кабинет ворвался худенький лейтенант – дежурный по Управлению, Зверев подскочил.
– Товарищ подполковник, у нас чэпэ! – заорал дежурный с порога.
В левой руке у лейтенанта была фуражка, правой он держал револьвер.
– С ума сошёл? Ты к кому с оружием вломился? Совсем, что ли, офонарел?
Лейтенант опешил, быстро сунул револьвер в кобуру, нацепил фуражку и отчеканил:
– Товарищ подполковник, разрешите доложить, у нас нападение на конвойного!
Корнев поднялся, застегнул китель.
– Докладывай, что стряслось… на кого напали?
Лейтенант бросил взгляд на Зверева, словно бы и у него спрашивая разрешения.
– Напали на младшего сержанта Лычкина! Того самого, который конвоировал Комелькова! Ну того, которого по вашему приказу из тюрьмы сегодня доставили.
В проёме двери показалась голова Леночки Спицыной и тут же исчезла.
– Напали, и что?
– Так он вроде бы это… Мёртвый лежит.
– То есть как мёртвый?
– Ну да… мёртвый! Я обход делал, а он лежит и не дышит.
– А где Комельков, сбежал?
– Не сбежал, рядом лежит, там же, где и Лычкин, на втором этаже. Вся голова в крови, но вроде ещё живой. К нему сейчас Карен Робертович побежал и Софочка.
Корнев удивлённо посмотрел на Зверева, потом ещё раз ощупал верхнюю пуговицу и сказал:
– Пошли сами посмотрим, а ну, веди нас туда!
Корнев решительным шагом вышел из кабинета, едва не сбив с ног свою секретаршу Леночку, которая всё это время стояла у дверей. Зверев поспешил за подполковником.
Пройдя по длинному коридору, они спустились на второй этаж, там уже собрались люди. Зверев догнал Корнева и, придержав его за руку, вышел вперёд.
– Расступись! – скомандовал Зверев.
Все тут же отошли в сторону. Возле лежавшего на полу сержанта сидел начальник медсанчасти Карен Робертович Оганесян. Он осматривал тело Лычкина, стоя на коленях.
– Что с ним? – сухо спросил Корнев.
Оганесян поднялся и покачал головой.
– Он, вне всякого сомнения, мёртв! Но вот причину смерти я пока определить не могу. Видимых повреждений нет, определённо понадобится вскрытие.
Невысокий, полный, Карен Робертович Оганесян смотрел на подполковника не мигая через толстые стёкла очков. Только сейчас Зверев увидел сидевшего у стены Комелькова. Голова и лицо Лёньки были залиты кровью. Возле него, тоже на коленях, стояла помощница Карена Робертовича, медсестра Софья Павловна Юркина, и бинтовала пострадавшему голову.
– Кто-нибудь может мне объяснить, что тут случилось? – прокашлявшись, строго спросил Корнев.
Дежурный, который, судя по всему, немного пришёл в себя, тут же отчеканил:
– Очевидно, арестованный напал на конвойного!
Зверев вышел вперёд, огляделся и принялся рассматривать разбитую голову Лёньки.
– Такую рану рукой не нанесёшь. Его ударили чем-то тяжёлым!
– Может, рукоятью пистолета? – предположил Корнев.
– Вполне возможно.
– Наверное, подозреваемый напал на сержанта и задушил его! – предположил лейтенант. – А тот, защищаясь, сумел выхватить пистолет и шарахнул его по башке.
Зверев расстегнул кобуру убитого сержанта и указал на лежавший в ней пистолет.
– По-вашему, Комельков стал душить Лычкина, тот достал пистолет, ударил подозреваемого рукоятью и, прежде чем скончаться, засунул пистолет обратно в кобуру! Вы хоть немного думайте, лейтенант, прежде чем нести ерунду!
– Виноват, – промямлил дежурный.
– Если бы сержанта душили, на шее должны были бы оставаться следы, – уточнил начмед.
– Эти двое не нападали друг на друга, с ними расправился кто-то третий, – подытожил Зверев.
– Он, кажется, пришёл в себя! – воскликнула Софья Юркина.
Зверев шагнул к Комелькову и опустился на колено. Лёнька открыл глаза и тупо озирался по сторонам.
Увидев перед собой Зверева, он прохрипел:
– Я узнал его… Он здесь, он теперь мент…
– Спокойно! Ты узнал человека, который убил сержанта! Так? – спросил Зверев.
Лёнька кивнул и застонал от боли.
– Этот же человек напал и на тебя? – крикнул Зверев.
– Да… – превозмогая боль, простонал Лёнька и снова потерял сознание.
Зверев схватил Лёньку за рукав.
– Ему нужен покой. Перестаньте его трясти, – воскликнула Юркина.
Зверев отступил, но, увидев, что Лёнька снова пришёл в себя, снова придвинулся к нему.
– Вы шли по коридору и…
– Я его узнал… узнал эту сволочь.
Лёнька снова застонал, его глаза смотрели в пустоту. Он дёрнулся, провёл по лицу окровавленной рукой, оставив на нём тёмный багровый след.
– Фишер!.. Это был Фишер? – Зверев старался не трясти Лёньку и говорил как можно спокойнее.
– Что вы делаете? Вы же его убьёте! – закричала Софья Павловна.
Карен Робертович, подошёл к Юркиной и отвёл её в сторону.
– Ты узнал убийцу? – в очередной раз переспросил Зверев.
– Узнал! Я его узнал… – Лёнька затрясся, и Зверев понял, что раненый смеётся. – Подумать только: рыбак рыбака…
– Это был Фишер?
Лёнька, словно опомнившись, дёрнулся и стал озираться по сторонам.
– Фишер! Фишер! Конечно… Я же его нарисовал! Где? Где рисунок? – Лёнька попытался приподняться на локтях, но тут же откинулся назад. – Он забрал его! Сволочь! Забрал мой рисунок!
– Не волнуйся, – Зверев придержал руку Лёньки. – Постарайся ещё раз спокойно рассказать, что здесь случилось.
– Да-да… конечно! Меня вели по коридору, вот этот, – Лёнька указал на мёртвого сержанта. – И тут я увидел этого. Он сразу всё понял! Понял, что я его узнал! Я закричал! Он ударил вашего в грудь, тот тут же рухнул. Это тот же самый удар! Удар Фишера! Когда он бросился ко мне, я прижал руки и вжался в стену. В этот момент он ударил, но попал по рукам. После этого он выхватил пистолет и ударил по голове. Я мог бы закрыть и голову, но я боялся… Так боялся оторвать руки от груди… Вы точно не нашли рисунок?
Зверев помотал головой. От целого потока слов вены на висках Лёньки надулись, кровь выступила из-под повязки. Его лицо перекосилось, но он продолжил:
– Я сделал всё, как и обещал. Я нарисовал портрет Фишера, и ещё… Я должен был сказать это сразу… – Лёнька вцепился Звереву в пиджак и рванул на себя, прошептав в самое ухо. – Андрей! Фишер вернулся за Андреем…
Лёнька в последний раз дёрнулся, закряхтел и застыл, не разжимая руки.
Они сидели в кабинете Корнева уже два часа. Несколько минут назад Карен Робертович зашёл в кабинет и предварительно сообщил, что младший сержант Лычкин умер от остановки сердца.
– Ты хотя бы семечки, что ли, грыз! А то все губы себе искусаешь! – покачал головой Зверев, когда Карен Робертович вышел, осторожно закрыв за собой дверь.
Он сидел на подоконнике и курил в форточку.
– Отстань! Сейчас мне совсем не до твоих шуточек.
– А я и не шучу. Курить не стоит, а вот семечки…
Корнев что есть мочи бахнул кулаком по столу.
– Да прекрати ты, наконец!
– Ты так свою Леночку до инфаркта доведёшь. Она ведь каждый раз, после такого грохота, или выкриков твоих, к двери подходит и слушает. Ты бы проверил, может и сейчас стоит!
– Да пошёл ты! Тебе надо, ты и проверяй! – Корнев снова вынул из стола очередной карандаш и принялся его точить. – Дурак! Какой же я дурак! Нельзя было отпускать Комелькова, а мне загорелось поскорее рожу этого фрица увидеть. Теперь вот пойди и угадай, как эта сволочь выглядит.
Зверев пожал плечами:
– Да уж, Лычкина, конечно, не вернуть, да и Лёньку, признаться, мне тоже жаль, но теперь мы имеем то, что имеем. Зато теперь районы поиска у нас более-менее обрисовались. Сам посуди: искать Фишера по всему городу всё равно что искать иголку в стоге сена. Никакая агентура нас бы на него не вывела. Если бы мы объявили его в розыск, и развесили бы его портреты на каждом столбе, он бы наверняка затаился. К тому же по рисунку не так уж и просто опознать человека. Он мог бы как-нибудь изменить внешность. Например, отрастил бы бороду и усы. И не факт, что рисунок Лёньки был таким уж и идеальным.
– Всё равно рисунок, даже плохой – это лучше чем ничего. К тому же у нас больше нет свидетеля, который бы мог опознать Фишера, а это просто катастрофа.
– Согласен, но давай всё же будем исходить из того, что имеем, а не истерить и киснуть, – продолжал рассуждать Зверев. – Теперь мы практически наверняка знаем, что Фишер в городе. Наши предположения о том, что он где-то раздобыл форму и выдаёт себя за сотрудника милиции, скорее всего, оказались неверными. Теперь мы предполагаем, что Фишер не просто изображает милиционера, а таковым и является. Остаётся заняться чистой математикой пока что, сделав весьма приблизительные подсчёты. В Управлении работает чуть больше шестидесяти человек. Из них таких, как я и ты, – старожилов, которые работали здесь ещё до войны, и которых мы знаем в лицо, наберётся около двадцати. Остальные новички, которые вступили в наши ряды уже после войны. Если бы не недавнее увеличение штатов, которое прошло три месяца назад, то подозреваемых было бы меньше, а так имеем то, что имеем, а именно около сорока потенциальных подозреваемых.
– Быстро же ты как всех сосчитал! – язвительно заметил Корнев.
– Просто я не убиваюсь о потере ценного свидетеля и не перевожу карандаши, как некоторые! Я думаю и рассуждаю!
– Ну-ну, давай, что ты там ещё надумал?
– Так вот! Если не брать в расчёт посетителей, которые могли оказаться в Управлении случайно и вряд ли ходили бы по коридорам без сопровождения. Если отбросить женщин и тех, кто был в командировках, на выходных и в отпусках – эти сведения мы непременно запросим в отделе кадров – думаю, что останется не больше двадцати. Мы составим список оставшихся и с пристрастием допросим всех дежурных по КПП, чтобы исключить тех, кого сегодня точно не было в Управлении и, надеюсь, что список ещё уменьшится. По моим прогнозам, останется человек пятнадцать.
– Будет логично также составить список всех Андреев, из общего числа. Также нужно будет включить сюда список тех Андреев, которые работали здесь раньше. Если предположить, что Фишер сумел завладеть поддельными документами и устроился к нам, чтобы отыскать этого Андрея, то он, возможно, тоже не знает его в лицо.
– Ну вот, и твои мозги наконец-то заработали. Это хорошо. Плохо одно – за всеми подозреваемыми нам придётся организовать наблюдение, а значит, понадобятся люди. Я бы взял кого-нибудь из наших оперов, но почти все они пришли в Управление недавно, а значит, попадают в число подозреваемых. Среди наших только Ершов и Коваленко старожилы, а остальные все новички. Любой из них может оказаться Фишером, тогда все труды псу под хвост. Только вот Ершов – в госпитале, а Коваленко – недавно схоронил жену. Он, конечно, опер толковый, но сейчас работник из него так себе.
Корнев хлопнул ладонью по столу.
– Так! Дело наклёвывается нешуточное, подумать только, у нас в Управлении завёлся предатель, недобитый нацист! Итак, я решил: мы создадим отдельную следственно-оперативную группу, в которую включим только тех, кто не попадёт в списки подозреваемых.
– Догадываюсь, кого ты мне предложишь! – фыркнул Зверев.
– Подберу лучших, можешь не сомневаться, ну и ты не сиди без дела.
– То есть я могу тоже кого-нибудь взять?
Корнев, судя по его враз изменившемуся лицу, проникся жаждой деятельности.
– Да-да, можешь! Всё, не мешай! И не сомневайся, ты получишь самых лучших.
Видя, что подполковник его уже не слышит, Зверев только махнул рукой и вышел из кабинета.
Часть вторая
Роза
Глава первая,
в которой Зверев помимо поисков Дитриха Фишера начнёт расследование ещё одного довольно запутанного дела
Выявить всех тех, кто сегодня побывал в Управлении и мог напасть на Комелькова и конвойного, оказалось не так уж и легко. Остаток дня он бегал по кабинетам, опрашивал сотрудников, рылся в бумагах, а также зашёл в дежурную часть. Сидевший на пропускном пункте сержант долго восстанавливал в памяти тех, кого он сегодня видел или не видел, при этом постоянно снимал фуражку и чесал затылок. Зверев с трудом сдерживался, ругая про себя охранника за невнимательность и тугодумие. Порадовало лишь то, что майор Свистунов, начальник дежурной части (по-видимому, он уже получил соответствующие указания от Корнева), без промедления предоставил Звереву все графики дежурств и книгу посетителей. Звереву, конечно, хотелось взвалить всю бумажную работу на Шувалова, но того в Управлении не оказалось, а терять драгоценное время не хотелось. Зверев поднялся в свой новый кабинет, который Корнев выделил ему и его ещё не сформированной оперативно-следственной группе.
Кабинет располагался на первом этаже. Здесь было довольно убого: старенький стол, на котором стояли пожелтевший от времени графин и два таких же – не менее грязных стакана; несколько деревянных стульев, расположенных рядком вдоль стены и забитый какими-то папками книжный шкаф. На покрытом толстым слоем пыли подоконнике в глиняном горшочке произрастала куцая, но от этого не менее пахучая, герань. Войдя в кабинет, Зверев тут же подошёл к окну, распахнул его, после чего взял горшок с цветком и бросил его в стоявшую в самом углу мусорную корзину; вслед за геранью последовали стаканы и графин. Освободив таким образом кабинет от самых, на его взгляд, ненужных предметов, Зверев уселся за стол, стёр с него пыль носовым платком и погрузился в работу. От графиков и списков у него вскоре заболела голова, но он, пересиливая себя, так и просидел над ними до самого вечера.
Закончив работу в половине девятого, Зверев вышел из Управления и отправился на трамвайную остановку. Трамвай пришлось ждать довольно долго, так что до дома он добрался только тогда, когда уже начало темнеть. Войдя во двор, Зверев поглядел на свои окна и тут же укрылся за кустами. В его квартире на третьем этаже горел свет.
Хорошенькое дельце. Перед тем как уйти из дома, он сначала выпроводил возмущённую Зиночку, и только потом вышел сам, заперев дверь на ключ. Зверев, в отличие от большинства людей, никогда не забывал закрывать дверь и выключать электричество. Запасных ключей от своей квартиры Зиночке Зверев не оставлял, поэтому свет в окне мог означать лишь то, что в его квартире кто-то побывал. Поднявшись по лестнице, Зверев на цыпочках подошел к двери и потянул ручку на себя. Дверь была заперта изнутри. Значит, незваный гость всё ещё там. Зверев достал из кармана ТТ и, стараясь действовать как можно тише, открыл дверь ключом. Он проник в коридор, держа пистолет у виска, и почувствовал запах дорогого табака. Зверев на мгновение замер и именно в этот момент услышал резкий женский голос: «Зверев, сейчас же убери пистолет, а то ещё пристрелишь меня ненароком!» Он узнал голос Риты. Убрав пистолет, Зверев не спеша разулся, прошёл на кухню и уселся на табурет.
Рита – она же Маргарита Игоревна Ковальская – была одной из многочисленных подруг Зверева. Рита работала в модном салоне на пересечении улицы Гоголя и Октябрьского проспекта. Две недели назад на этой же самой кухне Рита категорично заявила Звереву, что больше не может обманывать мужа, и им необходимо расстаться. Тогда Зверев сделал траурную мину и лишь многозначительно пожал плечами, на что Рита отреагировала довольно импульсивно:
– Не делай вид, что моё решение тебя огорчило! Будь хотя бы сейчас со мной честен!
– Разве я хоть раз тебя обманывал? – удивился Зверев.
Рита надула губки:
– Ты говорил мне, что я тебе нравлюсь!
– Говорил! И готов повторить это сейчас! Что с того?
Рита нахмурила лобик.
– Ещё ты мне говорил, что я тебе очень дорога!
– И это тоже не было ложью!
– Ах вон оно что, то есть тебе дороги все, кого ты водишь к себе на ночь?
– Не могу врать женщинам! Особенно тем, которых считаю настоящими красавицами, – Зверев театрально вскинул взгляд к потолку. – Ты совершенно права, мне дороги вы все! Все до единой.
– Ну ты и сволочь, Зверев! – взвизгнула Рита.
– О Боже, эти слова я слышу чаще, чем что-либо ещё! Ты не оригинальна, моя дорогая! Но сейчас не об этом. Не могу понять, к чему все эти пересуды? Ты сказала, что решила порвать со мной, потому что не хочешь больше обманывать мужа! Это так, или ты что-то не договариваешь?
Рита фыркнула, нахохлилась:
– Я нашла в твоей постели рыжие волосы!
– Что с того?
– Я хочу знать, прежде чем оставить тебя, кто эта женщина!
Зверев изобразил задумчивость, потом небрежно принялся рассуждать:
– Если волосы, которые ты нашла, длинные и прямые, то это скорее всего Люба, официантка из одного маленького ресторанчика с дурацким названием «Крабик». Если волосы средней длины и вьются, то это наверняка Зиночка, жена одного довольно важного дядечки, фамилию которого я по понятным причинам не могу тебе назвать… Если же волосы совсем короткие… Стоп! Мне же не нравятся женщины, стриженные под мальчиков. Волосы, которые ты нашла, они же не короткие?
– Ну ты и сволочь, Зверев!
– Довольно! Эти слова ты уже сегодня говорила. Ты решила больше не изменять мужу, и я считаю, что это служит веским основанием для разрыва наших отношений. Так что, моя девочка, я желаю тебе долгого семейного счастья, и более не смею тебя задерживать. Однако если ты вдруг передумаешь…
– Не передумаю! – гневно выкрикнула тогда Рита и покинула «логово зверя», именно так до этого она называла квартиру своего любовника.
В тот момент он решил, что Рита объявится уже через пару дней, но когда этого не случилось, Зверев не особо огорчился. Он отнёсся к случившемуся вполне философски и даже порадовался за вновь обретшую друг друга семейную пару.
Сегодня, спустя целых пятнадцать дней после их «трогательного» расставания, обнаружив бывшую любовницу на собственной кухне, Зверев в душе был немного разочарован. Ему было искренне жаль, что семейная идиллия супругов Ковальских продолжалась недолго. Рита снова выглядела возбуждённой. Худая, большеглазая, с идеальным изгибом бровей – женщина стояла у окна и неистово курила. На ней было утянутое широким поясом сиреневое платье с белыми манжетами и кружевным воротником. Рита теребила пальцами маленькую сумочку из замши, которую то и дело сжимала с такой силой, что её цупферный замок то и дело расстёгивался. Также опытный взгляд Зверева сразу же отметил, что глаза Риты, вопреки обычному, накрашены наспех, а три окурка в пепельнице искурены только наполовину. «А сегодня она выглядит немного иначе, чем при нашей последней встрече, – продолжал рассуждать про себя Зверев. – Она бледна, её нижняя губа подрагивает. Неужели и впрямь что-то серьёзное…» Видя, что женщина не решается заговорить первой, Зверев спросил:
– Откуда у тебя ключ?
Рита вздрогнула, словно ей дали пощёчину.
– Что? Ключ? Какой ещё ключ?
– Ключ от моей квартиры, – пояснил Зверев, стараясь говорить как можно мягче.
– Ах, ключ, – Рита расстегнула сумочку, достала из неё ключ и положила на стол. – Еще полгода назад, пока ты спал, я нашла у тебя в кармане ключи и решила, что стоит сделать с них слепок.
– Ты сделала по оттиску дубликат? И всё это время имела ключ от моего логова? Ты бы добилась большого успеха, если бы связала свою жизнь с криминалом…
– Перестань! Мне сейчас не до твоих дурацких шуток. – Рита загасила папиросу и посмотрела Звереву в глаза. – Мне нужна твоя помощь. Я думаю, что Болеслав узнал про наши с тобой отношения. Ты же знаешь, он такой ранимый и вспыльчивый, не знаю, как он такое перенесёт.
Зверев ни разу не сталкивался с Болеславом Ковальским, и если что и знал о нем, то только со слов самой Риты. Зверев стал судорожно вспоминать: Ковальский Болеслав Янович, театральный деятель, считает себя потомком польских аристократов, ученик самого Заха́вы[6], некогда блистал на сцене театра Пушкина. Играл роль какого-то там царевича в постановке «Борис Годунов». Чувствительный, вспыльчивый, ранимый… Что там она про него ещё рассказывала? В настоящее время переживает творческий кризис, поэтому много пьёт, постоянно где-то пропадает в поисках работы. Пока Зверев напрягал свою и без того уже гудящую голову, Рита продолжала возбуждённо говорить:
– …пришла домой, а её нет! Ты понимаешь, он забрал Розу и исчез. Он наверняка всё узнал, поэтому и уехал. Куда он мог направиться? Может, в Ленинград? Или в Москву? У него же совсем нет денег! Кроме тех, что он забрал из моей шкатулки. Но там же всего несколько тысяч. Как он собирается жить?
Зверев вскинул руки вверх и ударил ладонями по столу.
– Стоп! Остановись, а то мой мозг закипит от твоих завываний. Ты так возбуждена и перепугана из-за того, что твой муженёк-неудачник сбежал от тебя в неизвестном направлении, прихватив с собой все ваши деньги и какую-то розу?
– Что??? – если до этого Рита разговаривала громко, то сейчас она заорала так, что её крики наверняка услышали все соседи. – Что значит «какую-то розу»? Вообще-то мы сейчас говорим о моей дочери. Говорю же, Болеслав узнал о нашем с тобой романе, забрал с собой дочь и уехал!
«Тьфу ты! Твою ж маму так! – Зверев чуть было не сказал это вслух. – Как же он мог забыть? Роза – это же семилетняя дочка Ковальских. Хотя Рита сама виновата. Если про мужа она постоянно что-то говорила в ходе их романтических свиданий, то о дочери почему-то упоминала лишь пару раз и то вскользь. Дело наконец-то проясняется. Если бы Рита столько не трепалась о своем муже и его гениальности, а начала с главного…»
– А ну, цыц! И больше так не ори! – шутливый тон Зверева тут же улетучился. Рита отшатнулась и медленно опустилась на край табурета. – Просто отвечай на вопросы!
Рита покорно закивала.
– Когда ты обнаружила пропажу дочери? – приступил к опросу Зверев.
– Позавчера я довольно поздно вернулась с работы. Было около десяти, в это время Розочка обычно уже спит. Ни дочери, ни мужа дома не оказалось. Болеслав часто уходит по своим делам, так что Роза давно уже научилась засыпать одна.
– А что ещё за дела у твоего мужа по ночам? Ты же говорила, что в театре он пока не играет.
Рита наморщила лобик, виновато потупилась:
– Ну ты же понимаешь… Болеслав тяжело переживает свой уход из театра. Он артист! Настоящий артист, но его совсем не ценят…
«Это вы с муженьком так думаете, – рассуждал Зверев. – Наверняка те, с кем работал Ритин муженёк, не считают его столь уж выдающимся».
– Давай не будем ходить вокруг да около! Твоего мужа выставили из театра, и он подался во все тяжкие. Ты работаешь, а он пропивает все ваши деньги! Так?
– Я же говорила, что он очень ранимый. Он талантливый, понимаешь?..
– Хватит! Если у него когда-то и был талант, то сейчас он уже наверняка его пропил. Итак, ты пришла домой и обнаружила отсутствие мужа и пропажу дочери! Что ты там говорила про шкатулку и деньги?
– В шкатулке лежала моя зарплата, муж её забрал. Всего несколько тысяч.
– Ещё что-нибудь пропало?
Рита начала покусывать губы, отвела взгляд.
– Драгоценности. Витой браслет из золота, цепочка и кулон…
– Так! – усмехнулся Зверев. – А ты в милицию заявляла? Вдруг вас просто ограбили.
– Нет! Муж время от времени уже брал у меня деньги и драгоценности и закладывал их, но я их всё время выкупала.
Зверев аж крякнул. Понятно теперь, почему Рита с ним вообще связалась. Да от такого муженька к чёрту лысому убежишь.
– Соседи что-нибудь видели?
– Бабка с нижнего этажа видела в окно, как Болеслав вышел из дома с чемоданом… Вчера около восьми вечера.
– А девочка? Её кто-нибудь видел?
– Обычно, когда я на работе, Роза приходит из школы около двух, учит уроки, а потом идёт гулять.
– Вчера её кто-нибудь видел?
– Не знаю! – Лицо Риты скривилось. – Я особо никого не спрашивала!
– Но почему?
– Потому что я не особо лажу с соседями! Все они зануды, сквалыги и сплетники! Вот почему! Слушай! Мне всё это уже надоело! Ты устроил мне настоящий допрос, как будто я какая-то преступница. Это ты у нас сыщик, вот и ищи мою дочь! Если хочешь, допрашивай соседей, ещё кого-нибудь! Но найди мне мою дочь!
Вот так дела. Зверев с трудом сдержал улыбку.
– Ну что ж, гражданка Ковальская, если вы обращаетесь ко мне как к представителю органов правопорядка, в таком случае я рекомендую вам обратиться в районное отделение милиции по месту жительства. Там у вас должны принять заявление о пропаже ребёнка и похищении денежных средств и драгоценностей. Если в течение трёх дней ваша дочь и муж не объявятся, будет возбуждено дело, и милиция займётся их поисками. Так же вынужден вас попросить, не появляться более в моём доме, ибо следующий ваш подобный визит я могу посчитать незаконным проникновением в моё жилое помещение, – Зверев взял со стола дубликат ключа и сунул в карман. – Это я забираю, а слепок пока что предлагаю вам уничтожить добровольно.
Не веря своим ушам, Рита сидела с открытым ртом несколько минут, а потом вытащила из сумочки платок и разрыдалась.
– Перестаньте плакать, гражданочка! Слезами горю не поможешь, – всё тем же суровым тоном заявил Зверев.
После этих слов Рита бросилась ему на шею.
– Паша! Миленький! Зачем же ты со мной так? Ты же говорил, что я тебе дорогá! Помоги мне! Пожалуйста!
Зверев аккуратно отстранил от себя рыдающую Риту.
– Ладно! Не ной! Всё это, конечно, очень некстати, но в беде я тебя не брошу.
– Правда? Ты мне поможешь?
– Сказал же, помогу – значит помогу! Будем надеяться, что с твоей малышкой всё в порядке.
Не дослушав Зверева, Рита повисла у него на шее.
Глава вторая,
в которой Зверев узнаёт некоторые подробности из жизни Болеслава Ковальского
После продолжительных «утешений» покинутой всеми Риты Зверев уснул лишь под утро, но всё же заставил себя встать, когда будильник прозвенел в семь утра. Наспех собравшись, он выпроводил безутешную Риту, и заверил её, что отложит все дела и непременно займётся поисками Болеслава Ковальского и малютки Розы. Когда, войдя в здание Управления, Зверев узнал от дежурного, что Корнева вызвали в Главк на какое-то срочное заседание, в душе порадовавшись тому, что не придётся объясняться с начальником, Зверев отыскал Шувалова в одном из кабинетов следственного отдела. Тот был хмур, и когда Зверев протянул напарнику руку, тот не ответил на рукопожатие и лишь буркнул в ответ:
– Ты мне вчера связки растянул. Я после нашего с тобой общения еле ручку в руках держу.
– Сам виноват! – Зверев пожал плечами. – Нечего было продуктами кидаться, за загривок меня хватать. Так что уж извини.
– Знаешь, где я твои извинения видал!
– Догадываюсь, но в гроб тебе пока ещё рановато! Поэтому давай закончим дрязги и займёмся делом?
– Закончим… пока!
– Тогда собирай манатки и дуй за мной! – Зверев вскинул руку к виску и щёлкнул пальцами. – У нас с тобой теперь отдельный кабинет!
Когда они вошли в кабинет, Шувалов скривился.
– Ну и дыра! Не так уж тебя и ценит начальник, раз засунул сюда и не нашёл местечка получше.
– Не бухти! Договорились же, что дело – прежде всего. Если хочешь, то можешь здесь прибраться. Пыль протереть, вымыть полы…
Видя, как Шувалов начинает скрипеть зубами, Зверев решил немного повременить с шутками.
Цель оправдывает средства! У него сегодня и без того много дел, поэтому очередная стычка с майором может и подождать.
Выслушав ещё несколько фраз об убогости их новой «обители», Зверев подробно изложил следователю их с Корневым общую версию о сложившейся обстановке.
– Значит, теперь у меня не только старик, а и ещё двое покойников! Вот так дела.
– Зато теперь есть от чего оттолкнуться. Ты ведь дело Дудукина, видимо, уже собирался закрывать?
– А что ты хотел, старик умер естественной смертью…
– Сержант Лискин тоже, вот только Комельков, мерзавец такой, всю статистику нам испортил…
«Опять двадцать пять! Я же, кажется, решил с шутками повременить», – подумав так, Зверев тут же придал себе строгий вид.
Узнав о том, что смерть Комелькова и конвойного, наделавшая столько шума в Управлении, наверняка связана со странной кончиной старика Дудукина, Шувалов продолжил в привычной ему манере бурчать и жаловаться на судьбу. Поспешив покончить со всем этим, и чтобы заняться делами Риты, Зверев вручил майору дубликат ключей от их нового кабинета и бросил перед ним на стол пачку бумаг. Порекомендовав Шувалову разобраться в бумагах и дождаться Корнева, Зверев сообщил, что уходит, чем вызвал новую волну негодования у своего ворчливого коллеги.
Посвящать Шувалова в Ритины проблемы Зверев не стал. Если Корнев узнает, что Зверь по собственной инициативе вместо того чтобы принять все меры по розыску Фишера, расследует пропажу какой-то девочки, он наверняка придёт в ярость. Поэтому, оставив все возмущения Шувалова без ответа, Зверев помахал рукой и выскочил из кабинета. Не задерживаясь больше нигде, он покинул здание Управления и отправился на улицу Пушкина, где располагался городской театр драмы.
Хотя и говорят, что театр начинается с вешалки, но сегодня для Зверева областной драматический начался с тотальной проверки. На входе за столиком сидела мощная бабулька в круглых очках и с огромной бородавкой на носу. Увидев незваного посетителя, она тут же вскочила, перегородила путь и пробасила:
– Куда прёшь? Не видишь, закрыты мы!
– Мне бы к директору, – Зверев показал документ.
Вахтёрша рассматривала удостоверение несколько минут, внимательно изучая каждую букву.
– Настоящее! Можете не сомневаться! На зуб пробовать не стоит, – улыбнувшись, сказал Зверев.
– Чего? – не поняв шутки, спросила бабка.
– Обычно золото на зуб пробуют. Впрочем, это к делу не относится. Мне бы к директору вашему попасть, – не утруждая вахтёршу объяснениями, повторил Зверев.
– К Мезенцову? Так нет его.
– А кто есть?
– Так все здесь: Гордеев, Санинский, ну и я, разумеется.
– С вами всё понятно, а Гордеев и Санинский – это кто?
– Ну темнота, – ухмыльнулась бабка, обнажив при этом несколько позолоченных зубных протезов. – Санинский – это же звезда! Настоящее светило!
Зверев пожал плечами:
– С астрономией у меня, признаться, не очень. А должность у этого выдающегося деятеля искусств есть?
– Так артист… народный!
– Понятно, а Гордеев кто? Тоже артист?
– Лев Иваныч! Режиссер! – дивясь неосведомлённости Зверева, хмыкнула бабка.
– Тогда мне к нему. Ко Льву этому вашему! Не волнуйтесь, я ненадолго. Задам пару вопросов и мгновенно испарюсь, исчезну как тень в горячий полдень.
Зверев попытался просочиться мимо хранительницы Мельпоменова храма, но бабка и не подумала сдавать своих позиций так просто.
– Не станет Гордеев с тобой говорить!
– Отчего же?
– Так… репетиция у него!
– Репетиция! Это же просто шик! А что нынче ставит Гордеев?
– Так этого… как его там? Фигаро!
– Замечательно! – манерно прижав руки к груди, воскликнул Зверев. – С удовольствием посмотрю, как готовят вашу постановку.
– А тебе оно зачем?
Зверев, собиравшийся было пройти к лестнице, застыл на месте. Раз заграждение уже преодолено, не стоит ли его использовать для укрепления своих позиций?
– Я разыскиваю одного из ваших артистов! – выпалил он напрямик.
– Кого? – хитро прищурилась вахтёрша.
– Да так… Простите, а как вас по имени-отчеству?
– Варвара Семёновна я…
– Скажите мне, уважаемая Варвара Семёновна, давно ли вы видели Болеслава Ковальского?
Бабка тут же поморщилась, махнула рукой.
– Этого пьянчугу? Так уж с неделю он сюда и носа не кажет. С тех пор как он сорвал нам спектакль, Гордеев тут же к Щепкину побежал. «Гоните, – говорит, – в шею этого проходимца, видеть его больше не желаю!»
– Гордеев, как я понял, – это режиссер! А Щепкин…
– Так директор Щепкин… Василь Юрич! Ты ж к нему вроде бы как и шёл, аль я напутала чего? – бабка тут же сощурила глазки.
Зверев хлопнул себя ладошкой по лбу.
– К нему, к нему! К кому же ещё? А что вы там говорили про срыв спектакля? Часом, ничего не перепутали?
– Я? Перепутала? – вахтёрша снова оскалилась. – Да тут такое было. Шёл спектакль. Фигаро этот самый.
– Тот самый, которого сейчас ваша труппа репетирует?
– Тот самый и есть! Раньше-то ваш Ковальский в том спектакле какого-то Альмавиву[7] играл. А тут как-то во время вечернего спектакля в антракте, смотрю, спустился наш Болеслав Янович в гримёрку и с Петькой Трошкиным там, значится, уединился.
– А Петька это…
– Гримёр наш! Я сперва подумала, что он так просто к нему зашёл, физиономию подпудрить, а спустя пять минут гляжу, выходят оба, рожи – как редис, глаза мутные, говорят громко, и у обоих языки заплетаются. Ну, думаю, – всё, накидались, касатики, под завязку! И быстро-то как! Что потом было, я точно не знаю, но, по слухам, все потом это обсуждали, Болеслав-то наш второй акт напрочь завалил: текст четыре раза путал; чуть в суфлёрскую кабинку не упал, а под конец так взял и непотребными словами браниться стал; когда зрители стали возмущаться, взял, сорвал с себя парик и в зал его швырнул. После этого Лев Иваныч к Щепкину пришёл и потребовал, чтобы Ковальского немедленно из театра выперли, а на роль Альмавивы этого Санинского взял. Вот они сейчас и репетируют целыми днями, чтобы остальные спектакли не срывать.
Зверев наморщил лоб, потёр подбородок и задал очередной вопрос, просто так, наудачу, но попал в точку:
– А Болеслав Янович ни с кем из ваших артисточек… Ну вы же понимаете… Вы ведь наверняка знаете, с кем у него из ваших отношения были.
Вахтёрша гортанно рассмеялась:
– Проще сказать, с кем у него их не было! Почитай со всеми.
– Так если он у вас пьяница! Кому ж такой понадобился? К тому же у него жена, дочка маленькая.
– И что? Жена не стена! Когда это кого останавливало? Он же ведь вон у нас какой красавец. Да сам погляди! Вон он – морда бесстыжая! – вахтёрша указала пальцем на вереницу фотографий, висевших по обеим сторонам длинного коридора в вестибюле. Зверев тут же приклеился взглядом к фотографии мужчины с зачёсанными назад волосами. Открытый лоб, расширенные скулы и ямочка на подбородке, способные, вне всякого сомнения, вызвать настоящий восторг у большей части представительниц прекрасной половины человечества. «Да уж, – подумал Зверев, – и впрямь красавец, аж гордость берёт от того, что от столь безукоризненного муженька Рита почитай через день бегает к нему».
– Значит, вот он какой – наш пан Ковальский! – усмехнулся Зверев.
– Он! Не сняли ещё прохиндея, а пора бы уж. Он ведь, гад, перед тем, как выперли его, успел ещё и денег у всех назанимать. И у вертихвосток наших, и у костюмеров, и даже у режиссера! Я, дура, тоже лопухнулась. Полтыщи ему заняла до получки, а он фьють… Ты, милок, коль найдёшь его, супостата, ты с него мои полтыщи уж стребуй, а я в долгу не останусь. На спектакль какой без билета пройти, иль ещё чего…
– Непременно стребую, если найду. Вот же какой негодяй, но мы ему ещё покажем. А вы мне не расскажете, что он вообще за человек, ваш Ковальский?
– Чего ж не рассказать? Болеслав Янович – он ежели при деньгах, то одевается как франт! Дамочки от него без ума. Он их по ресторанам водит, горы золотые сулит.
– А под этими дамочками вы кого ж имеете виду? Артисточек ваших?
– Да нет! То есть раньше – да, а сейчас нет. Наши уже давно от него плюются. Он же как напьётся, так тут же из ангела в чёрта превращается!
– В драку, что ли, лезет?
– Да нет! Какое там! Он же неженка и трус, только на словах герой. Просто он как пить начинает, то гудит целую неделю, а то и две. Из-за того его из театра нашего и попёрли.
– А когда он в запое, то где обычно останавливается, домой идёт?
– Не всегда. Бывает, что у бабы очередной уснёт, а бывает, что и в подворотне заночует. А бывает, что у собутыльника своего квартируется, у Петьки Трошкина.
– А вы адрес этого Петьки можете мне сказать?
– Конечно могу, только не надобен тебе его адрес, потому как Петька Трошкин – это наш гримёр. Он уже месяц как в завязке, а Ковальского Петька и сам ищет. Потому как тот и ему денег задолжал.
Зверев нахмурился, почесал подбородок.
– Получается, что где мне искать Ковальского, вы не знаете?
– Наверняка не знаю, но наколочку дать могу. Петька говорил, что этот алкаш частенько в «Трёх ершах» зависает. Ты туда наведайся, касатик! «Три ерша» – это кабак такой, в двух кварталах отсель.
– А сам Петька там Ковальского отчего ж не ищет?
Вахтёрша покрутила пальцем у виска.
– Ну ты, милок, даёшь! Да ежели наш Петька в «Три ерша» заявится, так в нашем театре тут же на одного гримёра меньше станет. Сейчас-то Петька совсем не пьёт, а как в этом гадюшнике окажется, так тут же сразу и сорвётся.
– Спасибо вам, Варвара Семёновна, пойду я, пожалуй. Раз уж вы сказали, что директора на месте нет, то я в другой раз к вам наведаюсь.
Вахтёрша деловито распрямила плечи, надула щёки, но тут же, опомнившись, ухватила Зверева за рукав.
– Ты, милок, только про полтыщи мои не забудь. Пусть этот гад сперва мне должок отдаст, а уж потом остальным. А то ведь сам понимаешь. Живу я одна-одинёшенька, едва ли не впроголодь…
– Всё понимаю, Варвара Семёновна! Обязательно денег у Ковальского для вас потребую. Можете не сомневаться, – высвободив рукав из цепких рук пожилой женщины, Зверев вышел из здания театра.
Над входом в заведение, про которое рассказала Звереву работница драматического театра, висела надпись – «Пивная». Чуть ниже располагалась ещё одна табличка с нарисованной на ней кружкой пива, размещённой в окружении трёх изогнутых рыбёшек. У самого входа, возле переполненной чугунной урны, валялись окурки, обрывки газеты и пара пустых бутылок из-под «Столичной». Одно из окон заведения было разбито.
Войдя в пивную, Зверев тут же ощутил себя «белой вороной». Уж не ошиблась ли многоуважаемая Варвара Семёновна, сообщив ему, что именно в этой дыре коротает дни столь привлекательный мужчина и известный деятель театрального искусства Болеслав Ковальский. Дым стоял коромыслом, запах рыбы и кислого пива сразу же заставил Зверева поморщиться. Здесь было довольно шумно и многолюдно. Заросшие щетиной подбородки, отёкшие глаза и дурковатые беззубые улыбки, от которых хотелось расплакаться – посетители сидели за столами в засаленных рубахах и драных пиджаках, большинство из них даже не потрудились снять с голов кепки. Почти весь прилавок заведения был заставлен алюминиевыми подносами, на которых скопились кружки с недопитым пивом и целые горы немытой посуды. Растрёпанная дама в грязном халате, стоявшая за стойкой, мечтательно смотрела в окно, курила «Казбек» и стряхивала пепел в одну из стоявших перед ней тарелок с остатками еды. Когда Зверев прошёл мимо, женщина одарила его скоротечным взглядом и снова уставилась в окно.
Потолкавшись между столиками и поймав на себе несколько недобрых взглядов, Зверев вдруг резко оживился. «А мне сегодня везёт! Вот что значит установить контакт и приятельские отношения с обслуживающим персоналом, – подумал Зверев, помянув добрым словом словоохотливую вахтёршу театра имени Пушкина, – и директора с режиссером тревожить не пришлось. Вот же он – незаслуженно изгнанный со сцены заслуженный деятель искусства!»
Сидевший за крайним столиком рослый мужчина отличался от окружавшего его контингента как наружностью, так и одеянием. Стильный пиджак, довольно помятый и сшитый по последней моде, широкие брюки и модные туфли на шнуровке выдавали его явно непролетарское происхождение. Рубашка и немного расслабленный жёлтый галстук в горошек опять же смотрелись неплохо, хотя, как и всё прочее одеяние Болеслава Яновича, тоже выглядели несвежими. На шее мужчины висел белый шёлковый платок, в одной руке Ковальского дымилась истлевшая до самого мундштука папироса, в другой он держал видимо давно уже опустевшую кружку из-под пива. Охватившей накануне Зверева гордости за умение отбивать жён у писаных красавцев у него почему-то тут же поубавилось.
Безусловно, когда-то безупречное лицо Ритиного муженька сейчас выглядело одутловатым и опухшим. Капилляры на носу и щеках местами полопались. Немытые по крайней мере пару недель волосы и опустошённый взгляд добавляли в этот печальный образ ещё больше негатива. Перед Ковальским на столе красовались голова и ободранный хребет закопченного леща, несколько измятых бумажных салфеток и забитая окурками пепельница. На скатерти и на брюках мужчины, равно как и повсюду под столом снежинками искрилась серебристо-жёлтая рыбья чешуя. «Да уж… найти тебя оказалось не так уж и сложно, вельможный пан Болеслав Янович», – усмехнулся про себя Зверев и подсел за столик к Ковальскому.
Тот встрепенулся, выпрямился и, вскинув голову, довольно пафосно поинтересовался:
– Чем обязан?
– Разговор имеется! – грубо ответил Зверев.
Словно вдруг что-то вспомнив, Ковальский вдруг съёжился. Вся его бравада моментально куда-то улетучилась. Он побледнел, шмыгнул носом и плаксиво промямлил:
– Вы насчёт денег? – Ковальского трясло, его язык слегка заплетался.
– Не совсем! – уклончиво ответил Зверев.
– То есть вы не от Артура?
– Нет! Я не от Артура!
Ковальский снова выпрямился и придал своему помятому лицу оскорблено-удивлённый вид.
– Тогда ещё раз повторюсь! Чем обязан… товарищ?