Свобода бесплатное чтение
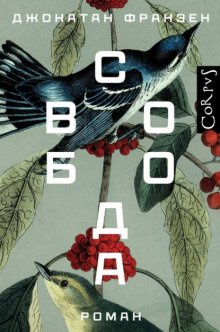
© 2010 by Jonathan Franzen. All rights reserved
© Д. Горянина, перевод на русский язык, 2011
© В. Сергеева, перевод на русский язык, 2011
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2017
© ООО “Издательство Аст”, 2017
Издательство CORPUS ®
Сьюзан Голомб и Джонатану Галасси
- Ступайте,
- Счастливцы, вместе! Радость вашу всем
- Дарите вы! Я ж, старая голубка,
- Укрывшись в обнаженных ветках, буду
- Одна навек потерянного друга
- Оплакивать до гроба[1].
Добрые соседи
Местная печать ничего не сообщала об Уолтере Берглунде – они с Патти уже два года как переехали в Вашингтон и больше не интересовали Сент-Пол, – но обитатели Рэмзи-Хилл были не настолько преданы своему городу, чтобы не читать “Нью-Йорк таймс”. Из длинной и нелестной статьи следовало, что в Вашингтоне Уолтер изрядно навредил своей карьере. Соседи не узнавали в описании Уолтера (газета называла его “надменным”, “зарвавшимся” и “нравственно ущербным”), великодушного, улыбчивого, легко краснеющего сотрудника “3М”[2], который даже под февральским снегом разъезжал на своем велосипеде по Саммит-авеню. Казалось невероятным, что Уолтера, который родился в сельской местности, а экологичностью взглядов перещеголял бы сам Гринпис, могут обвинять в незаконных махинациях с угольной промышленностью и в обмане сельских жителей. С другой стороны, в Берглундах всегда было что-то странное.
Уолтер и Патти были первопроходцами Рэмзи-Хилл – первыми выпускниками, купившими дом на Барьер-стрит с тех пор, как старая гвардия Сент-Пола тридцать лет назад сдалась под тяжестью времен. За этот викторианский дом они заплатили копейки и потом десять лет вкалывали, приводя его в порядок. Все началось с того, что кто-то очень целеустремленный поджег их гараж и, прежде чем Берглунды успели его отстроить, дважды влез к ним в машину. После полуночи на пустующем участке напротив их дома устраивались загорелые байкеры, чтобы выпить пива, поджарить чесночные сосиски и пореветь моторами, пока Патти не выйдет из дому в тренировочных штанах и не скажет им: “Знаете что, парни, шли бы вы отсюда”. Ее вид вряд ли мог кого-то напугать, но годы занятий спортом воспитали в ней присущее спортсменам бесстрашие.
С первого же дня стало понятно, что Патти не похожа на других. Высокая, слишком молодая женщина с завязанными в хвост волосами катала коляску по улице, полной ободранных автомобилей, битых пивных бутылок и заблеванного талого снега. Казалось, что авоськи, висевшие на ручках коляски, были набиты долгими часами ее дней. Позади были детско-хлопотные приготовления к утру, состоящему из беготни по детско-хлопотным делам, впереди – день, заполненный радио, готовкой, пеленками, шпаклевкой и эмульсионной краской, а потом – “Доброй ночи, луна”[3] и калифорнийское вино. Патти олицетворяла собой перемены, медленно овладевавшие улицей.
В те времена, когда еще можно было не стесняясь водить “вольво-240”, жители Рэмзи-Хилл сообща стремились вернуть себе те навыки, ради утраты которых наши родители переселялись из городов в провинцию. Как убедить местных копов выполнять свою работу? Как уберечь свой велосипед от крайне целеустремленного вора? Как выгнать пьяницу, расположившегося у вас в саду? Как заставить бродячих котов гадить не в вашей песочнице? Как определить, достигла ли местная государственная школа той степени дерьмовости, когда уже не стоит пытаться что-то изменить? Были и более современные вопросы – например, вопрос тканевых подгузников. Стоит ли с ними возиться? Правда ли, что молоко по-прежнему развозят в стеклянных бутылках? Все ли в порядке с бойскаутами с политической точки зрения? Так ли уж необходим организму булгур?[4] Куда сдавать севшие батарейки? Что ответить темнокожей нищенке, обвиняющей вас в том, что вы уничтожили ее район? Правда ли, что в глазури посуды фирмы “Фиеставэр” содержится опасное количество свинца? Насколько навороченным должен быть кухонный фильтр? Случалось ли у вас такое, что ваш “вольво” не реагировал на нажатие кнопки овердрайва? Давать попрошайкам еду или вообще ничего? Возможно ли вырастить необычайно уверенных в себе, счастливых, успешных детей, работая полный рабочий день? Можно ли молоть кофе накануне вечером, или это надо делать по утрам? Был ли у кого-нибудь в истории Сент-Пола позитивный опыт общения с кровельщиком? Где найти хорошего механика для “вольво”? Нет ли у вашего “вольво” проблем с тросиком? На передней панели есть какой-то выключатель с загадочной наклейкой, который так по-шведски убедительно щелкает, но, кажется, ни к чему не подключен, – зачем он нужен?
У Патти Берглунд, этой дружелюбной пчелки, радостной переносчицы социокультурной пыльцы, всегда был ответ на любой вопрос. Она принадлежала к малому числу неработающих матерей Рэмзи-Хилл и прославилась своей неспособно-стью говорить хорошо о себе или плохо – о ком-нибудь другом. Она утверждала, что одно из подъемных окон, на которых она заменила крепления, однажды ее “обезглавит”. Ее дети “наверняка” умирали от трихинеллеза, потому что она недостаточно прожарила свинину. Она подозревала, что ее “пристрастие” к запаху растворителя для красок могло быть связано с тем, что она больше “никогда” не читает книг. Она доверительно сообщала, что после “того случая” ей “запрещено” удобрять цветы Уолтера. Некоторым подобное самоуничижение было не по нраву – они видели в нем род снисхождения, как если бы Патти, преувеличивая свои недостатки, чересчур очевидно пыталась утешить менее одаренных домохозяек. Но большинство считали ее скромность искренней или по крайней мере забавной, да и в любом случае сложно устоять перед женщиной, которую так любят ваши дети и которая помнит не только их дни рождения, но и ваш и поздравляет вас блюдом печенья, открыткой или букетом ландышей в вазочке из магазина дешевых товаров, которую любезно предлагает не возвращать.
Было известно, что Патти выросла на востоке страны, в пригороде Нью-Йорка, и получила одну из первых женских баскетбольных стипендий в Миннесоте, где, согласно табличке в кабинете Уолтера, вошла во второй состав сборной США. Учитывая то, как сильно Патти была привязана к своей семье, казалось странным, что никакой тяги к корням у нее не наблюдалось. Она годами не выезжала за пределы Сент-Пола, и непохоже было, чтобы кто-то приезжал к ней с востока, даже родители. Если спросить ее в лоб, она отвечала, что ее родители помогли многим людям, что ее отец – адвокат в Уайт-Плэйнс, мать занимается политикой, да, член законодательного собрания штата Нью-Йорк. Затем она энергично кивала и как бы подводила черту, давая понять, что тема исчерпана:
– В общем, этим они и занимаются.
Можно было бесконечно пытаться заставить Патти признать, что кто-то дурно себя ведет. Когда ей рассказали, что Сет и Мерри Полсен устраивают для своих близняшек пышную вечеринку в честь Хеллоуина и демонстративно пригласили туда всех соседских детей, кроме Конни Монаган, Патти всего лишь заметила, что это очень “странно”. Когда они с Полсенами столкнулись на улице, те объяснили, что они все лето пытались заставить мать Конни Монаган, Кэрол, не бросать бычки из окна спальни в их детский бассейн.
– Очень странное поведение, – согласилась Патти, покачав головой, – но ведь Конни в этом не виновата.
Полсенов, однако, не удовлетворило это определение. Они бы предпочли “социопатичное”, “агрессивное” – словом, плохое. Они хотели, чтобы Патти, говоря о Кэрол Монаган, употребила один из этих эпитетов, но Патти была не способна продвинуться дальше “странного”, и Полсены отказались включить девочку в список приглашенных. Патти так рассердила эта несправедливость, что она в день вечеринки отвезла своих детей, Конни и их одноклассника на тыквенную ферму, где они катались в грузовике с сеном. Но худшим, что она сказала о Полсенах, было то, что ей кажется странной их злоба по отношению к семилетней девочке.
Кэрол Монаган была единственной матерью на Барьер-стрит, появившейся там примерно тогда же, когда и Патти. Она попала туда по своеобразной программе патронажного обмена после того, как забеременела от своего высокопоставленного начальника в Хеннепине, который поспешил выслать ее из своего округа. К концу семидесятых в городах-близнецах[5] осталось не так много мест, где посчитали бы хорошим тоном содержать на балансе госучреждения мать незаконного ребенка шефа. Кэрол сделалась одной из рассеянных, подолгу обедающих сотрудниц городского бюро лицензий, а какая-то залетка из Сент-Пола получила ее должность на другом берегу реки. Соседний с Берглундами дом на Барьер-стрит, видимо, был частью сделки: иначе сложно было объяснить, почему Кэрол согласилась жить в подобном бараке. Летом к ней раз в неделю после захода солнца на джипе неизвестной марки приезжал пустоглазый подросток в комбинезоне Департамента озеленения и проходился по лужайке газонокосилкой. Зимой тот же подросток появлялся, чтобы убрать снег с дорожки.
К концу восьмидесятых дом Кэрол оставался единственным неухоженным домом квартала. Она курила “Парламент”, обесцвечивала волосы, красила свои длинные ногти в кричащие цвета, кормила дочь переваренными полуфабрикатами и поздно возвращалась домой по четвергам (это мамочкин выходной, говорила она, как будто свой выходной был у каждой матери), бесшумно открывая дом Берглундов выданным ей ключом и забирая с дивана спящую Конни, заботливо укутанную одеялом. Патти проявляла безграничную щедрость, предлагая Кэрол присмотреть за Конни, пока та работала, ходила по магазинам или занималась своими четверговыми делами, и в результате Кэрол стала полностью зависеть от соседки. Патти не могла не видеть, что в ответ на ее щедрость Кэрол полностью игнорирует ее дочь Джессику, непомерно нянчится с ее сыном Джоуи (“Еще один маленький чмок!”) и, одетая в прозрачные блузки и туфли на высоченных каблуках, липнет к Уолтеру во время соседских собраний, превознося его домохозяйственные доблести и разражаясь хохотом в ответ на каждое его замечание. Но худшее, что Патти позволяла себе сказать о Кэрол на протяжении долгих лет, – это что одиноким матерям приходится нелегко, и если Кэрол порой вела себя странно, то это, должно быть, из гордости.
С точки зрения Сета Полсена, слишком часто, по мнению его жены, упоминавшего Патти, Берглунды относились к виноватым либералам, испытывающим потребность прощать всех и вся, чтобы получить прощение за свою счастливую судьбу; им не хватало смелости пользоваться тем, что им было дано. В теорию Сета не укладывался тот факт, что Берглундам ничего особенного дано не было: единственным их активом был дом, который они перестроили собственными руками. Другую брешь в теории указала Мерри Полсен: Патти не была особенно прогрессивной и уж точно не являлась феминисткой (целыми днями торчала дома и пекла свои чертовы именинные печенюшки, сообразуясь с календарем), а политика вызывала у нее явное отторжение. Если упомянуть при ней выборы или какого-нибудь кандидата, она теряла свое обычное дружелюбие, начинала нервничать, чрезмерно кивать и поддакивать.
Мерри, которая была на десять лет старше Патти и выглядела ровно на свой возраст, в прошлом активно участвовала в деятельности студенческого демократического общества в округе Мэдисон, а в настоящем активно увлекалась божоле нуво. Когда Сет за ужином в третий или четвертый раз упомянул Патти, Мерри приобрела цвет своего любимого вина и объявила, что в мнимом дружелюбии Патти Берглунд нет признаков развитого самосознания, нет солидарности, нет никакой политической подоплеки, нет гибкости и нет ни малейшего следа коммунитаризма, что сама она – не более чем отсталая домохозяйка. Если уж говорить начистоту, то Мерри уверена, что под приторной оболочкой скрывается жесткая, эгоистичная, соперническая и рейганистская натура. Ведь очевидно, что Патти полностью сосредоточена на детях и доме и ей наплевать на своих соседей, на бедных, на страну, на родителей и даже на собственного мужа.
Патти действительно была полностью сосредоточена на собственном сыне. Хотя Джессика давала больше поводов для гордости – по уши в книгах, обожает животных, играет на флейте, незаменима на футбольном поле, популярная нянька, не настолько хорошенькая, чтобы ее это испортило, и даже у Мерри Полсен вызывает только восхищение, – у Патти с языка не сходил Джоуи. В своей доверительно-хихикающей самоуничижительной манере она вываливала на собеседника тонны подробностей о том, как им с Уолтером трудно приходится с сыном. Большинство ее историй состояли из жалоб, но никто не сомневался, что она обожает мальчика. Она походила на женщину, жалующуюся на своего ублюдочного красавца мужа. Как если бы она гордилась тем, что он разбивает ей сердце, как если бы ее готовность к этому была главным, единственным фактом, который она хотела сообщить человечеству.
– Он меня доконал, – не раз сообщала она на протяжении долгой зимы Постельных Войн, когда Джоуи утверждал свое право ложиться одновременно с Уолтером и Патти.
– Капризничает? Плачет? – спрашивали ее остальные матери.
– Шутите? – говорила Патти. – Я была бы счастлива, если бы он плакал. Плач – это нормально, к тому же любой плач когда-нибудь заканчивается.
– Так что же он делает? – спрашивали матери.
– Он проверяет нас на прочность. Мы заставляем его выключить свет, но он стоит на том, что не должен отправляться спать, пока не ляжем спать мы, потому что он ничем от нас не отличается. Клянусь Господом, как будильник, каждые четверть часа! Он, видно, лежит с часами в руках, следит, чтобы прошло ровно пятнадцать минут, и тогда кричит: “Я не сплю! Я еще не сплю!” Таким презрительным, саркастичным тоном… очень странно. И я умоляю Уолтера не вестись на это, но поскольку уже без четверти двенадцать, Уолтер направляется в комнату Джоуи… И они в очередной раз спорят о разнице между детьми и взрослыми и о том, демократия у нас в семье или благонамеренная диктатура, пока я – я! – не сдаюсь. И я уже из кровати, представляете, кричу им: “Все, стоп, прекратите!”
Мерри Полсен не развлекали подобные рассказы. Позже, загружая оставшуюся после ужина посуду в посудомойку, она отметила, что нет ничего удивительного в том, что Джоуи не знает разницы между детьми и взрослыми – его собственная мать, кажется, не знает, к какой из этих категорий себя отнести. Заметил ли Сет, как в ее историях видно, что дисциплина всегда исходит от Уолтера, как если бы Патти была безучастной наблюдательницей с единственной задачей – быть милой?
– Интересно, любит ли она еще Уолтера, – оптимистично пробормотал Сет, открывая последнюю бутылку. – Физически, я имею в виду.
– Она все время намекает, что у нее выдающийся сын, – сказала Мерри. – Вечно жалуется, что он чрезмерно на всем концентрируется, слишком подолгу занимается одним и тем же.
– Ну, честно говоря, потому-то он такой и упрямый, – заметил Сет. – Терпеливо оспаривает авторитет Уолтера.
– Она вечно им хвалится.
– А ты разве никогда не хвалишься? – поддел ее Сет.
– Возможно, – ответила Мерри. – Но я хотя бы имею минимальное представление о том, как это звучит со стороны. И моя самооценка не строится на уникальности наших детей.
– Ты великолепная мать.
– Великолепная мать – это Патти, – ответила Мерри, подливая себе вина. – Я всего лишь очень хороша.
Патти жаловалась, что Джоуи все дается слишком легко. Он был прелестным белокурым мальчиком и, казалось, знал ответ на любой вопрос, который ему задавали в школе, как будто бесконечные последовательности ответов A, B и С в тестах были прописаны у него в ДНК. Он с поразительной легкостью общался с соседями в пять раз его старше. Когда в школе или в бойскаутской группе ему поручали распространять конфеты или лотерейные билеты, он честно признавался, что продает абсолютное дерьмо. Замечая у других детей игрушки или игры, которых ему не покупали, Джоуи пускал в ход особую, неприятно снисходительную улыбку. Чтобы только не видеть этой улыбки, друзья насильно впихивали ему свои приобретения, и он стал профи в видеоиграх, хотя родители недолюбливали их, а также приобрел глубокие познания в рэпе и хип-хопе, от которых родители тщились уберечь его юные уши. В возрасте одиннадцати-двенадцати лет он, по рассказам Патти, за ужином, случайно или намеренно, назвал отца “сынок”.
– Что с Уолтером было!.. – рассказывала она остальным матерям.
– Все подростки сейчас так друг с другом разговаривают, – сказали матери. – Это все из рэпа.
– Джоуи так и сказал, – ответила Патти. – Он сказал, что это всего лишь слово, и даже не дурное слово. И разумеется, Уолтер позволил себе с ним не согласиться. А я сижу и думаю – Уол-тер, Уол-тер, не на-чи-най, это все бес-смыс-лен-но, но нет, он же должен объяснить, ведь, скажем, “мальчик” – это не дурное слово, а к взрослым все равно нельзя так обращаться, особенно к черным. Основная проблема Джоуи в том, что он отказывается видеть различия между взрослыми и детьми, и в результате Уолтер заявляет, что Джоуи не получит сладкого, а тот отвечает, что он и не хочет, что он, в общем, не особенно и любит сладкое, а я сижу и думаю – Уол-тер, Уол-тер, не на-чи-най. Но Уолтер же не может остановиться, он должен доказать, что на самом деле Джоуи обожает сладкое. Но Джоуи не соглашается ни с чем из того, что говорит Уолтер. Он врет напропалую, конечно, но утверждает, что ест сладкое только потому, что так принято, а не потому, что ему нравится, а Уолтер не выносит лжи и предлагает ему месяц обходиться без сладкого. А я сижу и думаю – Уол-тер, Уол-тер, это к добру не при-ве-дет, потому что Джоуи отвечает, что может год не есть сладкого, что больше никогда не будет есть сладкого, кроме как в гостях из вежливости. А этому, как ни странно, можно верить, потому что он настолько упрямый, что у него получится. И тут я вмешиваюсь и заявляю, что, мол, ребята, давайте не будем увлекаться, сладкое – это важная часть рациона, чем полностью подрываю авторитет Уолтера, а поскольку весь спор на самом деле касался его авторитета, я разрушаю все то, чего он успел добиться.
Другим человеком, безгранично любившим Джоуи, была Конни Монаган. Это была серьезная и молчаливая маленькая личность, имевшая неприятную привычку немигающе смотреть вам в глаза, как будто у вас с ней не было ровным счетом ничего общего. Конни стала неотъемлемым элементом кухни Патти в послеобеденные часы – она усердно скатывала тесто для печенья, прилагая столько усилий, что масло таяло и тесто начинало сверкать. За то время, что требовалось Конни для создания одного шарика, Патти делала одиннадцать, и, доставая готовое печенье из духовки, Патти всегда спрашивала у Конни разрешения съесть “самую выдающуюся” (маленькую, плоскую, жесткую) печенюшку. Джессика, на год старше Конни, была рада уступить кухню соседке и почитать или повозиться со своими террариумами. Конни не представляла угрозы столь цельной и гармоничной личности, как Джессика. Конни не имела никакого понятия о цельности – в ней была глубина, но не ширина. Раскрашивая картинки, она заполняла одним цветом одну или две области и не прикасалась к остальным, оставаясь равнодушной к бодрым предложениям Патти взять другие фломастеры.
Сосредоточенность Конни на Джоуи быстро стала заметна всем матерям, кроме Патти: возможно, из-за того что она сама была полностью им поглощена. В парке Линвуд, где Патти иногда устраивала для детей занятия гимнастикой, Конни в одиночестве сидела на траве и мастерила никому не нужные колечки из клевера, коротая время в ожидании того момента, когда Джоуи брал биту или бросал мяч, моментально привлекая ее внимание. Она походила на воображаемого друга, случайно обретшего видимость. Джоуи с его не по годам развитым самообладанием редко находил нужным обижать ее на глазах у его друзей, а Конни, со своей стороны, умела без всяких упреков или просьб исчезать, когда становилось очевидным, что мальчики хотят побыть в мужской компании. Она знала, что завтра будет новый день. На протяжении долгого времени у нее всегда была Патти, стоящая на коленях в огороде или висящая на стремянке в запачканной шерстяной рубашке, поглощенная сизифовым трудом восстановления краски викторианской эпохи. Если Конни не могла быть рядом с Джоуи, она по крайней мере могла быть ему полезной, занимая его мать в его отсутствие.
– Как дела с уроками? – спрашивала Патти со стремянки. – Нужна помощь?
– Мама поможет мне, когда вернется.
– Она вернется поздно и будет усталой. Можно удивить ее и сделать все заранее. Хочешь?
– Нет, я подожду.
Никто не знал, когда точно Конни и Джоуи начали трахаться. Сет Полсен, не имея тому никаких доказательств, утверждал, чтобы позлить окружающих, что Джоуи в тот момент было одиннадцать, а Конни – двенадцать. Спекуляции Сета основывались на интимности, которую обеспечивал домик на дереве, построенный Уолтером и Джоуи на старой яблоне на пустующем участке напротив их дома. Когда Джоуи закончил восьмой класс, его имя стало постоянно звучать в ответах соседских мальчиков на натужно небрежные расспросы родителей о сексуальном поведении их одноклассников. Позже появилась версия, что Джессика к концу того лета уже о чем-то знала – внезапно и без видимых причин она стала очень презрительно обращаться с Джоуи и Конни. Но никто не видел их вместе до следующей зимы, когда они устроили совместный бизнес.
По словам Патти, урок, который Джоуи вынес из бесконечных споров с отцом, заключался в следующем: взрослые главнее детей, потому что у взрослых есть деньги. Это стало очередным подтверждением уникальности Джоуи: пока остальные матери жаловались на ту уверенность в своих правах, с которой их отпрыски требовали денег, Патти со смехом изображала горечь, с какой ее сын просил денег у Уолтера. Соседи, нанимавшие Джоуи, знали, как трудолюбиво он разгребает снег и убирает листья, но Патти рассказывала, что в душе он ненавидит ту мелочь, которую ему за это платят, и считает, что, расчищая для взрослого подъездную дорожку, он попадает в нежелательную зависимость от этого взрослого. Нелепые схемы добывания денег предполагали распространение подписки на скаутские журналы, демонстрацию фокусов за деньги или изучение основ таксидермии и набивку соседских призовых судаков – все это попахивало либо вассальной зависимостью (“Я – чучельник для правящего класса”), либо, хуже того, благотворительностью. Поэтому, стремясь освободиться от Уолтера, он неизбежно пришел к предпринимательству.
Кто-то – может, даже сама Кэрол Монаган – оплачивал учебу Конни в маленькой католической школе имени Святой Катерины, где девочки носили форму и где любые украшения были под запретом – разрешались только одно кольцо (“простое, металлическое”), одни часы (“простые, без камней”) и одна пара сережек (“простые, металлические, не более полудюйма в диаметре”). Одна из популярных девятиклассниц из школы Джоуи привезла из дома в Нью-Йорке дешевенькие часы, которые произвели фурор во время перерыва на обед. Продавец с Канал-стрит по просьбе девочки напечатал крохотными розовыми буковками на их жвачкоподобном желтом браслете цитату из песни Pearl Jam – Не называйте меня доченькой. Как Джоуи позже написал во вступительном сочинении в колледж, он немедленно выяснил, где такие часы продаются оптом и сколько стоит термопресс. Он вложил в оборудование накопленные четыреста долларов, сделал Конни пластиковый браслет-образец (к траху готова, гласил он) и, используя ее в качестве курьера, снабдил часами добрую четверть ее товарок, беря с них по тридцать долларов за штуку, прежде чем монахини спохватились и запретили носить часы с надписями. Как рассказывала Патти остальным матерям, Джоуи, естественно, воспринял это как грубое нарушение своих прав.
– Это не нарушение прав, – сказал ему Уолтер. – Ты зарабатывал на искусственном ограничении торговли. Что-то я не заметил, чтобы ты жаловался на правила, пока они работали на тебя.
– Я сделал вложение. Я рискнул.
– Ты использовал дырку в правилах, и они ее прикрыли. Разве ты этого не предвидел?
– Почему ты меня не предупредил?
– Я тебя предупреждал.
– Ты говорил, что я могу потерять деньги.
– А ты их и не потерял. Ты просто заработал меньше, чем хотел.
– Эти деньги должны были мне достаться.
– Джоуи, зарабатывать деньги – это не право. Ты продавал ерунду, которая на самом деле не была нужна этим девочкам и которую некоторые из них не могли себе позволить. Именно поэтому в школе Конни носят форму – это справедливо по отношению ко всем.
– Ко всем, кроме меня.
Из того, как Патти рассказывала об этом разговоре, посмеиваясь над невинным возмущением Джоуи, Мерри Полсен было ясно, что Патти по-прежнему не знает, чем ее сын занимается с Конни Монаган. Чтобы удостовериться, Мерри закинула удочку. Что, по мнению Патти, Конни получила за свои труды? Она работала за процент?
– Да, мы сказали ему, что он должен отдать ей половину заработка, – ответила Патти. – Но он бы и так это сделал. Он всегда ее защищал, хотя он младше.
– Он ей как брат…
– Вообще-то нет, – шутливо сказала Патти. – Он гораздо лучше. Спросите Джессику, каково быть его сестрой.
– Ха-ха, и правда, – ответила Мерри.
Позже Мерри заметила Сету:
– Потрясающе, она и в самом деле не в курсе.
– Я думаю, это неправильно, – заявил Сет, – радоваться незнанию подруги. Тебе не кажется, что ты искушаешь судьбу?
– Извини, просто это очень смешно, прямо восхитительно. Тебе придется не злорадствовать за двоих, чтобы судьба нас не покарала.
– Жалко ее.
– Прости уж, но я нахожу это забавным.
К концу той зимы мать Уолтера упала в обморок в магазине дамской одежды в Гранд-Рэпидс, где она работала. Причиной тому, как выяснилось позже, была легочная эмболия. Барьер-стрит была знакома с миссис Берглунд – та приезжала на Рождество, на дни рождения детей и на свой собственный день рождения. В этот день Патти всегда водила ее к местной массажистке и угощала лакрицей, макадамийскими орехами и белым шоколадом – ее любимыми лакомствами. Мерри Полсен беззлобно называла ее “мисс Бьянкой” – в честь почтенной госпожи мыши из детских книжек Марджери Шарп. На ее морщинистом лице виднелись следы былой красоты, у нее дрожала челюсть и руки, одна из которых была изуродована перенесенным в детстве артритом. Уолтер с горечью говорил, что она была истощена, измотана тяжелой жизнью с его пьяницей отцом и работой в придорожном мотеле близ Хиббинга. Но, овдовев, она твердо намеревалась сохранять независимость и элегантность и продолжала ездить на стареньком “шевроле-кавалере” в магазин одежды. Узнав о ее обмороке, Патти и Уолтер поспешили на север, оставив Джоуи под присмотром преисполненной презрения старшей сестры. Последовавший подростковый трахомарафон, который Джоуи провел в своей спальне при полном попустительстве Джессики, закончился с внезапной смертью и похоронами миссис Берглунд, после чего Патти стала совсем другой соседкой, гораздо более саркастичной.
– О, Конни, – говорила она теперь. – Такая милая девочка, такая тихая безобидная девочка, с такой прекрасной матерью. Говорят, у Кэрол новый парень, такой мачо, вдвое ее младше. Ужасно будет, если они переедут, ведь Кэрол просто внесла в нашу жизнь новые краски! А как я буду скучать по Конни. Ха-ха. Такая тихая, милая, благодарная девочка.
Патти выглядела ужасно – осунувшаяся, невыспавшаяся, с посеревшим лицом. Ей потребовалось много времени, чтобы начать соответствовать своему возрасту, но теперь Мерри Полсен наконец-то была вознаграждена за долгое ожидание.
– Теперь она все знает, – сказала Мерри Сету.
– Украли ее детеныша – самое тяжкое преступление.
– Украли, точно. Бедненький невинный безупречный Джоуи похищен злым гением из соседнего дома.
– Ну, она на полтора года старше.
– Технически.
– Говори что хочешь, – сказал Сет, – но Патти и правда любила маму Уолтера. Ей будет нелегко.
– Да знаю я, Сет, знаю. И теперь мне и правда ее жаль.
Те соседи, которые общались с Берглундами ближе, чем Полсены, сообщили, что мисс Бьянка оставила свою мышиную норку на берегу небольшого озера близ Гранд-Рэпидс Уолтеру, но не двум его братьям. По этому поводу между супругами произошло небольшое разногласие: Уолтер хотел продать дом и поделить выручку с братьями, Патти настаивала, что он должен уважить желание матери вознаградить своего лучшего сына. Младший брат был военным и жил на авиационной базе в пустыне Мохаве; старший же посвятил свою жизнь не в меру энергичной реализации питейной программы отца, вытягивая деньги из матери, в остальном же полностью ею пренебрегая. Каждое лето Уолтер и Патти на недельку-другую отвозили детей к его матери, часто прихватывая с собой пару подружек Джессики, впоследствии отмечавших, что хотя там “лес и глушь, но мошкары не так уж и много”.
Видимо, стремясь угодить Патти, которая, похоже, сама начала неумеренно пить (когда по утрам она забирала газеты – “Нью-Йорк таймс” в синей упаковке и “Стар трибьюн” в зеленой, – ее лицо напоминало пятно от шардоне), Уолтер в результате согласился оставить себе дом, чтобы проводить там отпуск. В июне, когда школьным занятиям пришел конец, Патти отвезла Джоуи на север, чтобы он помог ей опустошить шкафы и вымыть и перекрасить дом. Джессика тем временем оставалась с Уолтером и посещала дополнительные занятия по поэзии.
Некоторые соседи – Полсены не входили в их число – возили сыновей тем летом в домик у озера. Они обнаружили, что Патти изрядно приободрилась. Один из отцов втайне описал ее Сету – босую, загорелую, в черном купальнике и джинсах, – и этот образ пришелся Сету по душе. Прилюдно же все отмечали заботливость и беспечность Джоуи и то, как хорошо им с Патти вместе. Всех приезжающих они немедленно втягивали в некую сложную салонную игру, которая называлась “Ассоциации”. Патти допоздна сидела перед свекровиным телевизором, развлекая Джоуи глубокими познаниями в ситкомах шестидесятых – семидесятых годов. Джоуи, обнаружив, что их озеро не обозначено на карте – на самом деле это был огромный пруд, на берегах которого разместились два дома, – окрестил его Безымянным, и Патти нежно и сентиментально говорила о “нашем Безымянном озере”. Узнав, что Джоуи допоздна прочищает водостоки, стрижет кусты и отскребает старую краску, Сет Полсен задался вопросом, не платит ли Патти сыну за работу. Но этого никто не знал.
Что же касалось Конни, выглядывая из окна, выходившего на дом Монаганов, Полсены почти всегда заставали ее в ожидании. Она и в самом деле была очень терпеливой девочкой, а обмен веществ у нее был как у рыбы зимой. По вечерам она убирала со столов в заведении “В. А. Фрост”, но все остальное время в будние дни сидела на крыльце, наблюдая за проезжающими мимо тележками с мороженым и играющими детьми, а в выходные – в шезлонге, поглядывая на шумную и яростную рубку деревьев и стройку, которую Блейк, новый парень ее матери, затеял вместе со своими не состоящими в профсоюзе дружками. В основном она просто ждала.
– Что новенького, Конни? – спрашивал ее Сет через забор.
– Не считая Блейка?
– Да, не считая Блейка.
Поразмыслив немного, Конни качала головой:
– Ничего.
– Скучаешь?
– Да нет.
– А в кино ты ходишь? Книжки читаешь?
Конни смеривала Сета своим немигающим взглядом, говорившим: “У нас нет ничего общего”.
– Посмотрела “Бэтмена”.
– А Джоуи? Вы такие закадычные друзья, скучаешь, наверно, по нему.
– Он вернется, – отвечала она.
Когда дело о сигаретных бычках осталось в прошлом (Сет и Мерри признали, что, возможно, преувеличивали значимость горы окурков в бассейне и реагировали чересчур эмоционально), Полсены обнаружили в Кэрол Монаган неистощимый источник знаний о местной демократической политике, которой Мерри увлекалась все сильнее и сильнее. Кэрол между делом рассказывала жуткие истории о коррупции, подкупах, мошеннических сделках, дырах в системе безопасности, нечистых расчетах и явно тащилась от ужаса Мерри. Сама Мерри стала ценить Кэрол как живое воплощение городского упадка, с которым она намеревалась сразиться. В Кэрол восхищало то, что она как будто никогда не менялась – год за годом все так же наводила по четвергам марафет бог знает для кого, поддерживала патриархальные традиции в городской политике.
Но однажды она изменилась. В то время менялось все вокруг. Мэр города, Норм Коулман, обратился в республиканца, а бывший борец-профессионал нацелился на губернаторскую резиденцию. В случае с Кэрол катализатором послужил ее новый парень, Блейк, молодой козлобородый экскаваторщик, которого она встретила в бюро по выдаче водительских прав и ради которого радикально изменилась. Сложные прически и шлюховатые платья ушли в прошлое, на смену им пришли удобные штаны, простая взлохмаченная стрижка и более скромный макияж. Новая, счастливая Кэрол радостно выпрыгивала из блейковского пикапа и с грохотом захлопывала за собой дверь. Вскоре Блейк стал ночевать у нее, шляться по округе в майке “Викингов”, незашнурованных рабочих ботинках и с банкой пива в кулаке, а затем принялся спиливать деревья на заднем дворе и орудовать взятым напрокат экскаватором. На его бампере красовалась надпись, гласившая: я белый, и я голосую.
Полсены, недавно закончившие затяжной ремонт, не спешили жаловаться на шум и беспорядок, Уолтер был либо слишком занят, либо чересчур любезен, чтобы протестовать, но когда в конце августа, после двухмесячного отпуска, проведенного с Джоуи, вернулась домой Патти, ее отчаянию не было предела – она с выпученными глазами носилась по улице от двери к двери, кляня Кэрол Монаган.
– Простите, что тут происходит? Может кто-нибудь сказать мне, что случилось? – вопрошала она. – Кто-то объявил войну деревьям? Что это за Пол Баньян на грузовике? В чем дело? Она уже не снимает этот дом? Разве можно вырубать деревья на съемной территории? Разве можно сносить стену дома, который тебе не принадлежит? Она что, втайне купила дом? Как ей это удалось? Она же лампочку не может сменить без моего мужа! “Уолтер, прости, что отрываю от ужина, но у меня свет не включается, может, придешь прямо сейчас? Раз уж ты здесь, дорогой, можешь разобраться с моими счетами? Их надо оплатить до завтра, а у меня еще ногти не высохли”. Как ей дали кредит? Она же еще счета из “Виктория cикрет” не оплатила! Как ей разрешили завести парня? У нее же был какой-то толстяк в Миннеаполисе! Может, дать весточку толстяку?
Ответы на свои вопросы Патти получила лишь у Полсенов, значившихся в самом конце ее соседского списка. Мерри объяснила, что Кэрол Монаган уже не снимает дом. Ее дом входил в число тех, которые жилищное управление приобрело в годы кризиса и теперь распродавало по дешевке.
– Почему я ни о чем не знала?
– Ты не спрашивала, – ответила Мерри и, не удержавшись, добавила: – Ты вроде бы никогда не интересовалось политикой.
– Говоришь, она дешево его купила.
– Очень дешево. Главное – иметь связи.
– И что ты об этом думаешь?
– Отстойно, что ж тут думать, – сказала Мерри. – Потому я и работаю с Джимом Шибелем[6].
– Я всегда так любила наш район. Мне всегда здесь нравилось, даже в самом начале. А теперь все кажется каким-то грязным и мерзким…
– Не унывай, участвуй! – заявила Мерри и снабдила Патти рядом соответствующих книжек.
– Не хотел бы я оказаться на месте Уолтера, – заметил Сет, когда Патти ушла.
– Рада слышать, – ответила Мерри.
– Мне показалось или у нее промелькнула нотка недовольства супружеской жизнью? Насчет того, что он помогал Кэрол со счетами… Ты что-нибудь об этом знаешь? Очень любопытно. Я об этом не слышал. А тут он еще не сумел сберечь прекрасный вид на деревья Кэрол.
– Это все рейганистская отсталость, – сказала Мерри. – Она думала, что сможет жить в своем пузырике, в своем маленьком мирке. Кукольном домике.
Новое сооружение во дворе Кэрол, выраставшее на протяжении следующих девяти месяцев на месте грязного пустыря, напоминало гигантский лодочный сарай с тремя слепыми окнами, терявшимися на фоне виниловой обшивки. Кэрол и Блейк называли его “залой” – этот термин впервые прозвучал на Барьер-стрит. Помня о проблеме сигаретных бычков, Полсены обзавелись высокой изгородью и высадили вдоль нее декоративные ели, которые разрослись и закрыли им обзор. Полную видимость, таким образом, имели только Берглунды, и вскоре произошло то, чего раньше никогда не бывало, – соседи начали избегать Патти, потому что она совершенно зациклилась на “этом ангаре”. Они махали ей и здоровались издалека, но не замедляли шаг, чтобы не оказаться втянутыми в разговор. Работающие матери пришли к выводу, что у Патти слишком много свободного времени. Раньше она отлично управлялась с детьми, учила их физкультуре и рукоделию, но теперь большинство соседских детей выросло. Как бы она ни пыталась занять себя, ей все равно было видно и слышно, что творится по соседству. Каждые пару часов она выходила из дома и мерила шагами задний двор, поглядывая на “залу”, как встревоженный зверь, которого выкурили из норы, а вечерами то и дело принималась колотить во временную фанерную дверь залы.
– Как дела, Блейк?
– Отлично.
– Даже не сомневаюсь! Слушай, тебе не кажется, что циркулярная пила – это чересчур для половины девятого вечера? Как насчет того, чтобы сделать перерыв до завтра?
– Это вряд ли.
– А если я просто попрошу перестать?
– Не знаю. Лучше оставь меня в покое.
– Вообще-то нам мешает шум.
– Что я могу сказать – очень жаль.
Патти отвечала взрывом резкого, непроизвольного хохота, похожего скорее на ржание.
– Очень жаль?
– Извини за шум. Кэрол рассказывала, что вы пять лет шумели, пока ремонтировали дом.
– Не припомню, чтобы она жаловалась.
– Вы делали то, что вам было нужно. Теперь я делаю то, что нужно мне.
– Получается, кстати, какое-то уродство. Извини, но это и в самом деле жуть. Жуткое уродство. Честно. Ну это так, к слову. Дело не в этом. Дело в циркулярной пиле.
– Ты находишься на частной территории, так что уходи.
– О’кей, я вызываю полицию.
– Отлично, давай.
Затем Патти уходила к себе, дрожа от ярости. Она и в самом деле несколько раз вызвала полицию, они действительно приезжали и беседовали с Блейком, но вскоре устали от ее звонков и не возвращались до следующего февраля, когда кто-то порезал все четыре новенькие зимние шины пикапа, принадлежащего Блейку, и Блейк с Кэрол направили полицейских к соседке, которая столько жаловалась. После этого Патти снова принялась бродить по улице и стучаться во все двери, шумно разглагольствуя:
– Самый очевидный подозреваемый! Соседская мать двоих подростков! Я же особо опасная преступница, а? У него самый огромный и уродский автомобиль на всей улице, у него на бампере надписи, которые оскорбляют каждого, кто не верит в превосходство белой расы, но кто же, кроме меня, мог порезать ему шины – вот загадка!
Мерри Полсен была убеждена в том, что шины порезала именно Патти.
– Мне так не кажется, – сказал Сет. – Она и в самом деле страдает, но она же не лгунья.
– Так она и не говорит, что это не делала. Надо надеяться, что она найдет себе хорошего психотерапевта. Ей бы это пригодилось. И работа на полный день.
– Где Уолтер, вот что меня интересует.
– Уолтер убивается, чтобы она могла целыми днями сидеть дома и сходить с ума. Он хороший отец Джессике, своего рода сдерживающий фактор для Джоуи. Ему есть чем заняться.
Самой яркой чертой Уолтера – помимо любви к Патти – было его добродушие. Он был идеальным слушателем – считал всякого собеседника гораздо более интересной и глубокой личностью, чем он сам. У него были удивительно светлая кожа, безвольный подбородок, ангельские кудряшки и неизменные очки в круглой проволочной оправе. Он начал свою карьеру с должности адвоката в юридическом отделе компании “3М”, но не преуспел, и его перебросили на социальные программы и благотворительность – тупиковая отрасль, где дружелюбие являлось необходимым качеством. Уолтер вечно раздавал соседям отличные контрамарки в театр Гатри и на камерные концерты и рассказывал о своих встречах с местными знаменитостями – Гаррисоном Кейлором[7], Кирби Пакеттом[8] и даже – один-единственный раз – с Принцем. Затем он, ко всеобщему удивлению, покинул “3М” и стал директором по развитию Совета по охране природы. Никто, кроме Полсенов, не подозревал, что Уолтер втайне был недоволен своей работой, но он отдался природе с не меньшим энтузиазмом, чем до того – культуре, и единственное, что изменилось в его жизни внешне, – теперь он постоянно отсутствовал по выходным.
Возможно, его отсутствие было одной из причин, по которым он, против всеобщего ожидания, не вмешивался в противостояние Патти и Кэрол Монаган. Если спросить его в лоб, он принимался нервно хихикать и отвечал, что вроде как сохраняет нейтралитет. Он сохранял нейтралитет на протяжении весны и лета выпускного года Джоуи, вплоть до той осени, когда Джессика уехала на восток страны в колледж, а Джоуи переехал из родительского дома в соседний – к Кэрол, Блейку и Конни.
Это был немыслимый бунт – и нож в сердце Патти, начало конца ее жизни в Рэмзи-Хилл.
Июль и август Джоуи провел в Монтане, на ранчо одного из главных жертвователей Совета по охране природы. Он вернулся оттуда гордым обладателем широченных плеч и двух дополнительных дюймов роста. На августовском пикнике Уолтер, обычно не склонный к хвастовству, удостоил Полсенов сообщением о том, что благотворитель по телефону признался, что потрясен тем, как бесстрашно и неустанно Джоуи клеймил телят и мыл овец. Патти на том же пикнике ходила с опустевшими от боли глазами. В июне, прежде чем Джоуи отбыл в Монтану, они с матерью ездили на Безымянное озеро, чтобы продолжить ремонт домика, и единственный сосед, видевший их там, описывал безобразную сцену скандала, который длился весь день. Мать и сын орали друг на друга у всех на виду. Джоуи издевался над причудами Патти и в итоге назвал ее тупой, на что Патти разразилась истерическим смехом:
– Тупая! Браво, Джоуи! Как ты вырос! При всех называть свою мать тупой! Люди такое любят! Какой ты у нас взрослый и независимый!
К концу лета Блейк почти закончил залу и теперь оснащал ее такими блейковскими штуками, как настольный футбол, приставка, пивной бочонок, огромный телевизор, аэрохоккей, стеклянный подсвечник с эмблемой “Викингов” и автоматическое кресло. Соседям оставалось только воображать себе, как Патти за ужином отпускает ядовитые реплики по поводу этих усовершенствований, Джоуи обвиняет ее в тупости и нечестности, а Уолтер сурово требует извиниться. Но тот вечер, когда Джоуи перебрался в соседний дом, воображать не пришлось: Кэрол Монаган с большой охотой, громко и довольно злорадно пересказывала эту историю всем, кому хватало нелюбви к Берглундам ее выслушать.
– Джоуи был так спокоен, так спокоен, – вещала Кэрол. – Клянусь богом, тише воды ниже травы. Мы с Конни пошли с ним, чтобы поддержать его и дать всем понять, что я полностью за – вы же знаете Уолтера, он же такой деликатный, он мог решить, что мне это будет в тягость. А Джоуи, как всегда, сама ответственность. Он просто хотел все согласовать и прояснить. Он объяснил, что они с Конни все со мной обсудили, и я уверила Уолтера – я же знала, что он будет волноваться, – что с едой не будет никаких проблем. Мы же с Блейком теперь семья, и мы просто счастливы кормить еще одного человека, а Джоуи так ловко управляется с посудой, мусором и уборкой, да и к тому же, говорю я Уолтеру, вы с Патти были так добры с Конни, кормили ее и все такое. Они были реально добры к моей дочери, когда у меня все шло наперекосяк, тут не поспоришь, и я им всю жизнь буду за это благодарна. А Джоуи такой ответственный и спокойный мальчик! Он объяснил, что раз Патти мою дочку и на порог не пускает, то как же ему проводить с ней время, а я добавляю, что полностью одобряю их отношения – если бы только все молодые парочки были такими ответственными, как было бы хорошо! – и что им намного лучше быть у меня дома, в полной безопасности, чем мыкаться и искать неприятностей. Я к Джоуи всем сердцем, он в моем доме всегда желанный гость. Знаю, Патти меня не любит, она всегда задирала нос перед нами с Конни. Уж я-то знаю, на что Патти способна. Я с самого начала подозревала, что она закатит истерику. И тут, значит, она вся кривится и начинает, мол, думаешь, он любит твою дочь? Думаешь, он в нее влюбился? И все это эдаким писклявым голосочком. Как будто Джоуи не может полюбить Конни, потому что я, в отличие от его матушки, не училась в колледже, у меня не такой большой дом, я не из Нью-Йорка и по сорок часов в неделю торчу на работе. Вы даже не поверите, насколько она меня не уважает! Но с Уолтером-то, думаю, можно поговорить. Он такой душка, стоит красный как свекла, смутился, видно. Кэрол, говорит, идите с Конни домой, нам надо поговорить с Джоуи. А я не против. Я же не скандалить пришла. Я вообще не скандалистка. Только вот Джоуи говорит, что он ставит родителей в известность, а не спрашивает их разрешения и, дескать, нечего тут обсуждать. И тут Уолтер психанул, просто психанул. Весь в слезах, такой расстроенный – и я прекрасно его понимаю, Джоуи ведь его младшенький, и Уолтер не виноват, что Патти с чего-то не выносит Конни и Джоуи просто не может с ней жить. Но он начинает орать во всю глотку: ТЕБЕ ВСЕГО ШЕСТНАДЦАТЬ, И ТЫ НИКУДА НЕ ПОЙДЕШЬ, ПОКА НЕ ЗАКОНЧИШЬ ШКОЛУ! А Джоуи стоит и улыбается, тише воды ниже травы. Тут нет ничего противозаконного, говорит, я же всего лишь в соседний дом переезжаю. Очень разумно. Мне бы хоть капельку его мозгов в шестнадцать лет. Потрясающий ребенок. Мне прямо стало жаль Уолтера, потому что он начал вопить, что не будет платить за колледж, и что Джоуи больше не поедет в Монтану, и что, мол, он всего-то просит, чтобы Джоуи ужинал и ночевал дома и не отрывался от семьи. А Джоуи ему и говорит, я, мол, и не отрываюсь. Он же ничего такого и не говорил. Но Уолтер все носится и носится по кухне, я даже на секундочку подумала, что он сейчас его ударит, но он просто окончательно психанул и заорал: УБИРАЙСЯ, УБИРАЙСЯ, МЕНЯ ЭТО ДОСТАЛО, ПОШЕЛ ВОН! Ну и потом он помчался в спальню Джоуи и начал там вроде как рыться в ящиках, и Патти побежала за ним, и они там начали орать друг на друга, а мы с Конни обняли Джоуи, потому что он единственный нормальный в этой семейке, и нам было так его жаль, и тогда я поняла, что ему и впрямь надо поскорее переезжать. Тут Уолтер прибежал обратно, а Патти наверху визжала как ненормальная – она совсем съехала с катушек, – а Уолтер снова начал вопить: ВИДИШЬ, ДО ЧЕГО ДОВЕЛ МАТЬ? Все время дело в Патти, ей вечно надо быть жертвой. А Джоуи просто стоит и качает головой, так это все глупо. И с чего бы ему хотеть там жить?
Хотя кое-кто из соседей был явно доволен тем, что для Патти настало время пожинать плоды исключительности своего сына, в целом Кэрол Монаган на улице не любили, Блейка – порицали, Конни – побаивались, а Джоуи просто никто не доверял. Когда мятеж стал достоянием гласности, большинство соседей жалели Уолтера, тревожились за психику Патти и с огромным облегчением и благодарностью думали, какие же все-таки нормальные у них дети – как радуются они родительским щедротам, как невинно просят помочь им с уроками или с заявлением в колледж, как послушно сообщают о своем местонахождении после школы, как охотно повествуют о своих маленьких бедах, как предсказуемы они в своих проблемах с сексом, травкой и алкоголем. Боль, которой пульсировал дом Берглундов, была sui generis[9]. Уолтер – который, как можно было надеяться, ничего не знал про то, как он “психовал” по версии Кэрол, – неловко признался некоторым соседям, что их с Патти “уволили” с поста родителей и они стараются с этим справиться.
– Он иногда приходит позаниматься, – рассказывал Уолтер, – но ночевать ему теперь приятнее у Кэрол. Посмотрим, сколько это продлится.
– И как Патти? – спросил у него Сет Полсен.
– Неважно.
– Вы бы, ребята, зашли как-нибудь к нам поужинать.
– Было бы здорово, – сказал Уолтер. – Но Патти, наверное, пока поедет в мамин дом. Ей надо прийти в себя.
– Я за нее волнуюсь. – Голос Сета дрогнул.
– Я тоже волнуюсь. Но я видел, как она умеет преодолевать боль. Она порвала колено на третьем курсе и все равно провела еще две игры.
– Но ведь потом ей сделали операцию и спорт пришлось бросить, так ведь?
– Я скорее про ее стойкость, Сет. Про игру через боль.
– Точно.
Уолтер и Патти так и не поужинали у Полсенов. Патти не показывалась на Барьер-стрит, пережидая на Безымянном озере долгие зимние и весенние месяцы. Даже когда ее автомобиль появлялся на дороге – на Рождество, к примеру, когда Джессика вернулась из колледжа и, по рассказам знакомых, закатила Джоуи скандал, в результате которого он больше недели прожил в своей бывшей спальне, тем самым обеспечив своей несгибаемой сестричке достойные каникулы, – Патти избегала соседских собраний, неотъемлемой частью которых раньше бывали ее шутки и плюшки. Иногда к ней заезжали женщины лет сорока – судя по их прическам и наклейкам на машинах, это были ее бывшие товарки по баскетболу, – поговаривали, что она снова начала пить, но все это были только слухи, так как, несмотря на свое дружелюбие, Патти так и не обзавелась близкими друзьями на Рэмзи-Хилл.
К Новому году Джоуи вернулся к Кэрол и Блейку. Подразумевалось, что большая часть обаяния этого дома для него кроется в постели, которую он делит с Конни. Его приятели знали, что он идейный противник онанизма и одно упоминание этого занятия неизменно вызывает у него снисходительную улыбку. Он утверждал, что задался целью прожить жизнь, не прибегая к подобным средствам. Самые прозорливые соседи, в том числе Полсены, подозревали, что Джоуи наслаждается ролью самого умного в доме. Он стал властелином “залы”, допуская в этот чертог всех, кого удостаивал своей дружбой (а семейный пивной бочонок стал яблоком раздора во всех домах округи). Его поведение с Кэрол граничило с флиртом, а Блейка он очаровал любовью ко всему, что любил сам Блейк, в особенности к инструментам и грузовику, который он научился водить. Из того, как снисходительно он улыбался, видя энтузиазм своих однокашников по поводу Альберта Гора и сенатора Уэллстоуна – как будто либерализм был слабостью, сравнимой с мастурбацией, – можно было сделать вывод, что он усвоил некоторые политические взгляды Блейка. Следующим летом вместо Монтаны он работал на стройке.
И все полагали, справедливо или нет, что всему виной было пресловутое добродушие Уолтера. Вместо того чтобы за волосы притащить Джоуи домой и привести его в чувство, дать Патти подзатыльник и привести ее в чувство, он растворился в своей работе по охране природы, где вскоре получил должность генерального директора штатского подразделения и позволил дому пустовать на протяжении многих вечеров подряд, позволил клумбам пойти в семена, изгороди – зарасти, окнам – запылиться, а грязному городскому снегу – засыпать покоробившуюся табличку “ГОР – ЛИБЕРМАН”, все еще торчавшую перед входом. Даже Полсены утратили интерес к Берглундам, так как Мерри теперь работала в городском совете. Все следующее лето Патти провела на Безымянном озере, и вскоре после ее возвращения – через месяц после того, как Джоуи отправился в университет штата Вирджиния при финансовых обстоятельствах, оставшихся тайной для Рэмзи-Хилл, и через две недели после национальной трагедии, – перед домом в викторианском стиле, в который они с Уолтером вложили полжизни, появился знак “продается”. Уолтер уже начал ездить на новую работу в Вашингтон. Хотя цены на рынке жилья вскоре должны были взлететь на небывалую высоту, местный рынок по-прежнему переживал спад после 11 сентября. Патти за небольшие деньги продала дом серьезной чернокожей паре с трехлетними двойняшками. В феврале чета Берглундов в последний раз прошлась по своей улице, прощаясь со всеми с подобающей вежливостью. Уолтер спрашивал о каждом из детей и передавал им самые лучшие пожелания, Патти больше молчала, но выглядела странно молодо – как та девушка, которая катала по улице коляску в то время, когда этот район был совсем другим.
– Просто чудо, что эти двое еще вместе, – сказал Сет Полсен позже своей жене.
Мерри покачала головой:
– Не думаю, что они понимают, как им жить дальше.
Работа над ошибками
Автобиография Патти Берглунд, написанная самой Патти Берглунд (по предложению ее психотерапевта)
Глава 1. Покладистая
Не будь Патти атеисткой, она бы возблагодарила Всевышнего за предусмотренные школьной программой спортивные курсы. Именно они спасли ей жизнь и дали возможность реализовать себя как личность. Особенно она благодарна Сандре Мошер из средней школы в Северном Чаппакуа, Элейн Карвер и Джейн Нэйджел из школы Хораса Грили, Эрни и Розе Сальваторе из женского баскетбольного лагеря Геттисберг и Айрин Тредвелл из Университета Миннесоты. Эти замечательные тренеры научили Патти терпению, дисциплине, сосредоточенности, привили командный дух и спортивные идеалы, что помогло ей справиться как с болезненным стремлением быть во всем первой, так и с низкой самооценкой.
Патти выросла в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк. Она была старшей из четырех детей, при этом трое остальных в гораздо большей степени соответствовали ожиданиям родителей. Она была заметно Крупнее остальных, Банальнее и ощутимо Глупее. Строго говоря, не глупой, но глупее остальных. Она вымахала в пять футов девять дюймов, почти сравнявшись с братом и на множество дюймов превзойдя прочую родню. Иногда ей хотелось дорасти до шести футов, раз уж она все равно так не вписывалась в семью. Тогда бы она лучше видела кольцо, жестче ставила корпус и свободнее разворачивалась, играя в защите. Возможно, это как-то смягчало бы ее зуд соперничества и после колледжа она могла бы зажить куда счастливее. Хотя, может быть, и нет, но размышлять об этом было любопытно. К тому времени, когда Патти начала играть за университетскую команду, почти все на площадке были выше ее ростом, что странным образом напоминало ее положение в семье, помогая поддерживать адреналин на максимуме.
Патти вспоминала, как мать в первый и чуть ли не единственный раз наблюдала за ее игрой. Она тогда посещала занятия в дневном спортлагере для Заурядных Личностей, который располагался на той же территории, что и дневной лагерь искусств для Выдающихся Личностей, куда ходили две ее сестры. Как-то мать и сестры пришли на матч по софтболу. Патти просто извелась на своем левом краю, пока менее опытные девочки на внутреннем поле ляпали ошибку за ошибкой. Она ждала, чтобы хоть кто-нибудь наконец выбил мяч подальше, и даже начала свое продвижение к центру, чем, собственно, и завершила матч. Игроки были на первой и второй базе. Бэттер посылает мяч крайне некоординированному шортстопу, и тут Патти перебегает ей дорогу, чтобы самой отбить его, осалить главного игрока и помчаться за следующим – милой девочкой, которая в любом случае наверняка бы ошиблась. Патти летела прямо на нее, и та с визгом помчалась на внешнее поле, покидая свою зону и тем самым автоматически выбывая из игры. Но Патти не отставала и в конце концов осалила ее. Девочка же заорала так, словно ей причинили невыносимую боль, хотя до нее всего лишь слегка дотронулись перчаткой.
Патти понимала, что это не был ее звездный час в спорте. Что-то просто нашло на нее в присутствии семьи. Когда они уже сидели в своем универсале, мать спросила, стоило ли ей быть такой… аг-грессивной? Голос ее дрожал сильнее обычного. Неужели это необходимо – быть настолько, м-м-м, аг-грессивной. Разве от нее убудет, если она иногда немножко поделится мячом со своими товарищами по команде? Патти ответила, что она вообще не получала мяча на левом краю.
– Я не против того, чтобы ты занималась спортом, но только в том случае, если это поможет тебе научиться взаимодействию в коллективе, – сказала мать.
– Тогда отправь меня в НАСТОЯЩИЙ лагерь, где не только я буду хорошо играть! Я не могу взаимодействовать с людьми, которые даже мяч поймать не могут!
– Не уверена, что стоит поощрять подобную агрессию и страсть к соперничеству, – ответила мать. – Я, конечно, не болельщик, но не понимаю, что за радость одержать над кем-то победу ради победы. Разве не лучше поработать всем вместе и построить что-то сообща?
Мать Патти была профессиональной демократкой. Даже сейчас, в момент написания этих строк, она не кто-нибудь, а член Законодательного собрания штата, достопочтенная Джойс Эмерсон, известная своей поддержкой идеи открытого пространства, бедных детей и искусств. Рай в представлении Джойс – это открытое пространство, где бедные дети могут заниматься искусствами за счет штата. Джойс родилась в Бруклине в 1934 году под фамилией Маркович, но, похоже, недолюбливала свое еврейство уже с первых проблесков сознания. (Автор задается вопросом: не потому ли голос Джойс всегда дрожит, что она всю жизнь отчаянно пытается отделаться от бруклинского выговора?) Джойс получила стипендию для изучения гуманитарных наук в лесах штата Мэн, где встретила отца Патти, ярко выраженного гоя. Они поженились в унитарианской универсалистской церкви Всех Душ в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене. По мнению автора этого повествования, Джойс родила первого ребенка прежде, чем оказалась эмоционально готова к материнству, хотя приходится признать, что и автор в этом отношении ничем не лучше. Выдвижение Джона Кеннеди в 1960 году от Демократической партии дало Джойс превосходный предлог вырваться из дома, который она, похоже, просто не могла не заселять все новыми детьми. Затем пришла очередь гражданских прав, Вьетнама, Бобби Кеннеди – новых достойных поводов держаться подальше от дома, недостаточно большого для четырех малых детей и няни с Барбадоса, обретавшейся в подвале. В 1968 году Джойс впервые отправилась на партийный съезд в качестве делегатки и активистки штаба Бобби. Она была партийным казначеем, а затем и председателем в своем графстве, а в 1972 и 1980 годах руководила поддержкой Тедди[10]. Каждое лето через открытые двери дома круглосуточно текли стада добровольцев, нагруженных ящиками с предвыборными материалами. Патти могла по шесть часов кряду упражняться с мячом и отрабатывать броски из-под кольца – никто не возражал и не замечал.
Отец Патти, Рэй Эмерсон, был адвокатом и юмористом-любителем с репертуаром, состоящим из сортирных шуток и злобных пародий на знакомых, соседей и учителей его чад. Пытка, которой он любил подвергать Патти, состояла в том, что он изображал няню Евлалию, когда та не могла их слышать. Он повторял все громче и громче: “Хватит играться, ну-ка перестали играться”, пока Патти от стыда не вылетала из-за стола под визгливый хохот брата и сестер. Источником бесконечной радости было также вышучивание Сэнди Мошер, капитана команды и наставницы Патти, – Рэю нравилось называть ее “Са-а-а-андра”. Он постоянно спрашивал Патти, не было ли у Са-а-а-андры в последнее время каких-нибудь посетителей или же, хи-хи, посетительниц? “Са-а-а-андра, Са-а-а-андра!” – вторили сестры и брат. Кроме того, очень весело было прятать их пса, Элмо, и пытать Патти рассказами, что его усыпили, пока она была на тренировке по баскетболу. Или же припоминать Патти ее детские ошибки, спрашивая, как поживают кенгуру в Австрии, не попадался ли ей последний роман знаменитой современной писательницы Луизы Мэй Олкотт[11] и по-прежнему ли она считает, что грибы принадлежат к животному царству.
– Я на днях видел, как один из грибов Патти погнался за грузовиком, – заявлял отец. – Смотрите, смотрите, вот как он гнался за ним.
Обычно отец Патти снова уходил после ужина, чтобы встречаться с бедняками, которых он защищал в суде бесплатно или за совсем смешные деньги. Его офис находился через дорогу от суда в Уайт-Плэйнс, а среди его бесплатных клиентов были пуэрториканцы, гаитяне, трансвеститы и неполноценные – психически или физически – люди. Некоторые из них попали в такой переплет, что даже он не пытался насмешничать у них за спиной. Впрочем, их проблемы его по большей части забавляли.
В десятом классе Патти в рамках школьного проекта побывала на двух судебных заседаниях, в которых участвовал ее отец. На одном из них слушалось дело безработного из Йонкерса, который, напившись в День пуэрториканца[12], отправился на поиски свояка с целью его зарезать, но не нашел его и зарезал какого-то незнакомого парня в баре. Не только отца, но и судью и даже прокурора, казалось, забавляли тупость и никчемность подзащитного. Они почти подмигивали друг другу, словно горе, уродство и тюремный срок были необязательным вставным номером, помогавшим скрасить их скучный день.
Когда они ехали в поезде домой, Патти спросила отца, на чьей он стороне.
– Ха, хороший вопрос! – ответил тот. – Ты должна понимать, что мой клиент лжет. И жертва лжет – как и хозяин бара. Все они лгут. Мой клиент, конечно, имеет право на полноценную защиту. Но нельзя забывать и о служении правосудию. Иногда мы с судьей и обвинителем действуем сообща – так же как обвинитель действует сообща с жертвой, а я – с подзащитным. Ты слышала о нашей состязательной системе правосудия?
– Да.
– Хорошо. Иногда у нас с прокурором и судьей один противник. Мы пытаемся установить факты и избежать судебных ошибок. Хотя нет, хм, это не записывай.
– Я думала, что разбором фактов занимаются присяжные.
– Правильно. Запиши это. Суд равных[13]. Это важно.
– Но большинство твоих клиентов невиновны, так ведь?
– Не все из них заслуживают такого строгого приговора, который им пытаются вынести.
– Но многие из них совсем невиновны, правда? Мама говорила, что они плохо знают английский, а полиция не очень вникает, кого надо арестовать, к ним предубежденное отношение и у них мало возможностей.
– Все так, детка. Вместе с тем… э-э-э… твоя мать иногда витает в эмпиреях.
Патти не так задевали его шпильки, когда их объектом была ее мать.
– Ты же видела этих людей, – сказал он. – Господь всемогущий. El ron me puso loco[14].
Важно помнить, что семья Рэя была очень богата. Его родители жили в большом родовом имении на холмах в северо-западной части Нью-Джерси. Красивый каменный дом в стиле модерн, проект предположительно Фрэнка Ллойда Райта, был увешан второстепенными работами знаменитых французских импрессионистов. Каждое лето клан Эмерсонов устраивал пикники у озера в своем поместье. Патти редко получала от них удовольствие. Ее дедушка Август любил ухватить старшую внучку поперек живота и усадить на свои подпрыгивающие колени, находя в этом одному богу известный кайф; он явно не уважал неприкосновенность личной территории Патти. С седьмого класса ей приходилось в паре с отцом играть в теннис против его младшего партнера с женой на дедушкином земляном корте. Младший партнер откровенно пялился на нее, одетую в открытый теннисный костюм, и она чувствовала себя неловко под его взглядами.
Как и Рэй, дед приобрел право быть эксцентриком в семье, занимаясь адвокатской работой на общественных началах. Он сделал себе имя на трех войнах[15], защищая разных знаменитостей, ставших отказниками по религиозным соображениям или уклонистами от призыва. В свободное время, которого у него было предостаточно, он выращивал виноград и делал из него вино в одной из построек поместья. Его “винодельня” называлась “Бедро лани” и была главным предметом шуток в семье. Во время пикников Август топтался в шлепанцах и мешковатых пляжных шортах, прижимая к себе бутылку с аляповатой наклейкой и наполняя стаканы, которые его гости втайне выплескивали в траву или в кусты.
– Как вам? – спрашивал он. – Недурное вино? Нравится?
Он был одновременно похож на страстно увлеченного мальчишку и на инквизитора, озабоченного тем, чтобы никого не обделить своей пыткой. Копируя европейский обычай, Август поил вином детей. Когда молодые матери отвлекались, чтобы налущить кукурузы или посоревноваться в украшении салатов, он разбавлял свое вино водой и вливал его детям – вплоть до трехлеток, – осторожно придерживая, если нужно, за подбородок и следя за тем, чтобы они глотали.
– Знаете, что это? – спрашивал он. – Это вино.
Если же ребенок после этого начинал странно себя вести, он говорил:
– Ты чувствуешь опьянение. Ты слишком много выпил. Ты пьян.
Патти, старшая из детей, наблюдала эти сцены с молчаливым ужасом, предоставляя кому-нибудь из младших поднять тревогу: “Дедушка поит детей вином!” Пока матери ругали Августа и разбирали своих чад, а отцы отпускали скабрезные шуточки насчет его пристрастия к ляжкам олених, Патти погружалась в озеро и там бесконечно плескалась на теплой отмели, отключая свой слух от голосов галдящих родственников.
Тут была одна подробность: на кухне каменного дома всегда имелась бутылка-другая сказочного старого бордо из легендарного Августова погреба. Это вино появлялось на сцене стараниями отца Патти и стоило ему невероятной лести. Именно он давал знак – едва заметный кивок – своим братьям и друзьям мужского пола слинять с пикника и двинуться за ним. Несколько минут спустя мужчины возвращались с большими пузатыми бокалами, до краев наполненными восхитительной красной жидкостью. Кроме того, Рэй нес французскую бутылку, в которой оставалось, быть может, на дюйм вина, – для жен и не столь почтенных гостей. Никакие мольбы не заставили бы Августа достать из погреба еще одну бутылку; вместо этого он предлагал “выдержанное “Бедро лани”.
На Рождество всегда повторялось то же самое: бабка с дедом приезжали на “мерседесе” последней модели (Август обновлял машину каждый год-другой) из Нью-Джерси в перенаселенный одноэтажный дом Рэя и Джойс за час до того времени, раньше которого Джойс умоляла их не появляться, и раздавали оскорбительные подарки. В памяти навсегда остался тот год, когда Джойс получила в подарок два потрепанных посудных полотенца. Рэю, как правило, доставался один из больших альбомов по искусству с распродажи в магазине “Барнс-энд-Нобл”, иногда на них сохранялись этикетки “$3,99”. Детей одаривали дешевой пластмассовой дрянью, сделанной в Азии: крохотными неработающими дорожными будильниками, кошельками для мелочи с названием некоего страхового агентства в Нью-Джерси, пугающе грубыми китайскими куклами на палец, наборами палочек для коктейля. Тем временем в альма-матер Августа строилась библиотека его имени.
Так как брат и сестры Патти были возмущены скупердяйством дедушки и себе в утешение выдвигали возмутительные требования к рождественским дарам от родителей (Джойс каждый сочельник до трех часов ночи заворачивала подарки, сверяясь с бесконечно подробными списками), сама Патти пошла другим путем и решила не интересоваться ничем, кроме спорта.
Ее дед когда-то был настоящим атлетом, звездой колледжа на беговой дорожке и футбольном поле. Возможно, она унаследовала свой рост и реакции от него. Рэй тоже играл в футбол, но в его школе в штате Мэн едва набиралась одна команда. Настоящей игрой для него был теннис, единственный вид спорта, который Патти ненавидела, хотя играла хорошо. Она считала, что Бьерн Борг[16] на самом деле слабак. Были исключения (например, футболист Джо Намат), но в целом спортсмены ее не впечатляли. Ее слабостью были популярные мальчики, которые были или настолько старше, или настолько привлекательнее, чем она, что шансов у нее не было. Будучи покладистой по натуре, она ходила на свидания почти со всеми, кто ее звал. Она полагала, что застенчивым и непопулярным мальчикам живется тяжело, и как могла жалела их. Почему-то многие из них занимались борьбой. Ее опыт говорил, что борцы были храбрыми, молчаливыми, увлеченными, хмурыми, вежливыми и не боялись спортсменок. Один из них признался, что в средней школе он и его друзья называли ее Обезьянкой.
Первым сексуальным опытом для семнадцатилетней Патти стала та вечеринка, где ее изнасиловал старшекурсник Итан Пост. Единственным видом спорта, которым увлекался Итан, был гольф, но он был на шесть дюймов выше и на пятьдесят фунтов тяжелее Патти. Как выяснилось, женские мускулы сильно проигрывают мужским. У Патти не было и мысли, что ее насилуют. Когда она начала отбиваться, она отбивалась от всей души, хотя и не слишком успешно и не слишком долго, поскольку впервые в жизни была пьяна. При этом она ощущала невероятную свободу! Возможно, в эту дивную теплую майскую ночь Итан превратно понял поведение Патти в просторном бассейне у Ким Маккласки. Она и в трезвом виде была довольно покладистой, а в бассейне у нее просто голова кружилась от желания нравиться и готовности услужить. Короче, ей было за что себя винить. Ее представления о романтике были словно почерпнуты из сериала “Остров Гиллигана” – “примитивнее некуда”. Что-то среднее между Белоснежкой и Нэнси Дрю[17]. Итан, без сомнения, выглядел надменно, а именно это привлекало ее в то время. Он походил на любовника из девичьего романа, где на обложке красуются парусники. Изнасиловав Патти, он заявил, что сожалеет, что “это” вышло грубее, чем ему бы хотелось, и ему очень жаль.
Лишь на следующее утро, когда действие пинаколады закончилось, Патти, лежа в своей крохотной спальне, которую она в силу своей покладистости делила с младшей сестрой, чтобы у их средней сестры была своя комната, где она могла бы творить и мусорить, – так вот лишь тогда она позволила себе возмутиться. Ее возмутило то, что Итан счел ее ничтожеством, которое можно просто изнасиловать и как ни в чем не бывало отвезти домой. А она не была ничтожеством.
Помимо всего прочего, она, юниор, уже была постоянной рекордсменкой по пасам в школе Хораса Грили! А в следующем году она побьет свой же рекорд. Кроме того, она была членом основного состава сборной штата, в который входили Бруклин и Бронкс. И тем не менее практически незнакомый гольфист почему-то решил, что может ее изнасиловать. И сделал это!
Чтобы не будить младшую сестру, она поплакала под душем. Это был без преувеличения худший час ее жизни. Даже теперь, думая о чувствах жертв несправедливости во всем мире, она вспоминает этот час. Ей вдруг открылись вещи, не приходившие в голову раньше: несправедливость того, что старшая дочь должна делить комнату с младшей только потому, что бывшую комнату Евлалии в подвале завалили до самого потолка древними предвыборными материалами. Несправедливость (только что осознанная), что мать, так увлеченная театральными ролями средней дочери, не пришла ни на один матч с участием Патти. Она была в таком негодовании, что почти решилась с кем-нибудь поговорить. Но нет, она бы не рискнула рассказать тренеру или товарищам по команде, что употребляла спиртное.
История выплыла наружу, как она ни пыталась ее скрыть, благодаря тому что на следующий день тренер Нэйджел заподозрила неладное и после игры подкараулила ее у раздевалки. Она усадила Патти в своем кабинете и потребовала отчета по поводу синяков и унылого вида. Патти унизительно сломалась, с рыданиями рассказав обо всем. К ее полному изумлению, тренер предложила отвезти ее в больницу и уведомить полицию. Патти только что засчитали три подачи из четырех, две пробежки, и она несколько раз отлично показала себя в защите. Было ясно, что случившееся не слишком ей повредило. А тут еще ее родители были политическими друзьями родителей Итана – короче, это было абсолютно невозможное дело. Она понадеялась, что смиренное извинение за пропуск тренировки плюс сочувствие и доброта Нэйджел закроют дело. Но она заблуждалась.
Тренер позвонила Патти домой. Трубку взяла ее запыхавшаяся мать, которая, как всегда, убегала на встречу и не имела ни времени для разговоров, ни моральных сил заявить, что у нее нет времени для разговоров. В бежевую трубку телефона, стоящего в физкультурном кабинете, были произнесены нестираемые слова: “Ваша дочь только что сказала мне, что вчера вечером ее изнасиловал парень по имени Итaн Пост”. Послушав с минутку, тренер вновь заговорила:
– Нет, она только что мне рассказала… Да… Вчера вечером. Да, здесь.
Она передала трубку Патти.
– Патти? Ты в порядке? – спросила мать.
– В порядке.
– Миссис Нэйджел рассказала мне о вчерашнем происшествии.
– Об изнасиловании.
– Боже мой. Вчера вечером?
– Да.
– Я же была дома утром. Почему ты мне не рассказала?
– Не знаю.
– Почему? Почему ты мне ничего не сказала?
– Подумала, что это неважно.
– Но ведь миссис Нэйджел ты рассказала.
– Нет, – ответила Патти. – Она просто оказалась более наблюдательной.
– Я тебя почти не видела утром.
– Я тебя не обвиняю. Просто говорю.
– И ты думаешь, что это действительно… что это могло быть…
– Изнасилование.
– Не могу поверить, – сказала ее мать. – Я сейчас за тобой приеду.
– Тренер Нэйджел хочет, чтобы я поехала в больницу.
– Что-то не так?
– Я же говорю, все нормально.
– Тогда оставайся там и ничего не делай, пока я не приеду.
Патти повесила трубку и сказала тренеру, что сейчас приедет ее мать.
– Мы засадим его в тюрьму надолго, очень надолго, – произнесла тренер.
– Нет, нет, нет, – запротестовала Патти. – Не надо.
– Патти.
– Этого не будет.
– Будет, если ты захочешь.
– Нет, не будет. Мои родители и его – политические партнеры.
– Слушай, – сказала тренер. – Это вообще не имеет отношения к делу. Понимаешь?
Патти была уверена, что тренер ошибается. Доктор Пост был кардиологом, а его жена происходила из богатой семьи. Им принадлежал один из тех домов, куда заглядывали Тедди Кеннеди, Эд Маски и Уолтер Мондейл, оказавшись на мели. На протяжении многих лет Патти постоянно слышала, как ее родители расхваливают “задний двор” Постов – по их словам, он был размером с Центральный парк, но еще живописнее. Возможно, одна из ее сестер – Круглых Отличниц, Вундеркиндов и Творческих Личностей – могла бы доставить Постам неприятности, но представить себе, что им наносит ущерб неуклюжая дылда-хорошистка, было невозможно.
– Я просто больше никогда не буду пить, – сказала она. – И дело с концом.
– Для тебя, но не для других, – возразила тренер. – Посмотри на свои руки. Посмотри, что он с тобой сделал. Он сделает то же с кем-нибудь еще, если его не остановить.
– Это всего лишь синяки и царапины.
Тренер произнесла программную речь о том, как важно стоять грудью за своих – подразумевались все молодые женщины, которые могли оказаться на пути Итана. Из речи выходило, что Патти ради команды должна идти до конца, подтвердить обвинение и позволить тренеру связаться с Нью-Хэмпширской частной школой, где учился Итан, дабы его могли исключить без диплома. Иначе Патти подведет свою команду.
Патти вновь зарыдала, поскольку больше всего на свете боялась подвести команду. Зимой, когда у нее был грипп, она провела на поле почти полматча, после чего упала в обморок на боковой линии и впоследствии лежала под капельницами. Проблема была в том, что накануне она была не со своей баскетбольной командой. Она пошла на вечеринку с подругой из команды по хоккею на траве Амандой. И пока в Патти не влили всю пинаколаду, обильно представленную в баре у Маккласки, подруга не успокоилась. El ron me puso loca. Среди остальных девушек у бассейна спортсменок не было. В общем-то, просто появившись там, Патти предала свою настоящую команду. И понесла за это наказание. Итан изнасиловал не одну из доступных девочек, а Патти, потому что она была чужой, она даже не умела пить.
Она пообещала тренеру, что хорошенько все обдумает.
Увидеть мать в спортзале для Патти было шоком, для той же, очевидно, было шоком там оказаться. Как всегда, на каблуках, она бросала неуверенные взгляды на металлическое оборудование, покрытые плесенью полы и сетчатые авоськи с мячами, всем своим видом напоминая Златовласку, заблудившуюся в темном лесу. Патти подошла к ней и дала себя обнять. Мать была гораздо меньше ростом, и Патти почувствовала себя дедушкиными напольными часами, которые та тщилась поднять и переставить. Она отстранилась и повела мать в маленький кабинет со стеклянными стенами, где должны были состояться намеченные переговоры.
– Здравствуйте, меня зовут Джейн Нэйджел, – представилась тренер.
– Да, мы уже встречались, – ответила мать.
– А, вы правы, мы один раз виделись.
К натужному красноречию Джейн прилагались неестественно прямая осанка и похожая на маску Доброжелательная Улыбка, уместная практически в любой ситуации. Она никогда не повышала тон (даже когда была в ярости, ее голос всего лишь дрожал сильнее, чем обычно, и звучал более напряженно), и Доброжелательная Улыбка могла сиять даже во время грандиозного скандала.
– Не один раз, – поправила она. – Несколько.
– В самом деле?
– Я в этом абсолютно уверена.
– Мне так не кажется.
– Я подожду снаружи, – сказала Патти, закрывая за собой дверь.
Переговоры длились недолго, и вскоре Джойс вышла из кабинета, постукивая каблуками.
– Пойдем, – сказала она.
Тренер, стоя в дверях, многозначительно взглянула на Патти. “Помни о команде!” – говорил ее взгляд.
Автомобиль Джойс остался последним на гостевой парковке. Она вставила ключ, но не повернула его. Патти спросила, что они будут делать теперь.
– Твой отец у себя в офисе, – сказала Джойс. – Мы едем к нему.
Но она не повернула ключ.
– Мне жаль, что так вышло, – сказала Патти.
– Я не понимаю, – вспыхнула мать, – как такая великолепная спортсменка, как ты… В смысле, как Итану, или кто это был, удалось…
– Итану. Это был Итан.
– Как кому-либо – или Итану – удалось… Ты уверена в том, что это был Итан? Как так получилось, что он – если это он… – Она зажала себе рот. – Господи, был бы это кто-нибудь другой. Доктор Пост с женой – такие хорошие друзья… друзья стольких хороших начинаний. И хотя я плохо знаю Итана, но…
– Я его вообще не знаю!
– Тогда как это могло произойти?
– Давай поедем домой.
– Нет. Ты должна мне все рассказать. Я твоя мать.
Услышав собственные слова, Джойс смутилась, как будто осознав, как это странно – напоминать Патти, кто ее мать. Сама Патти была рада, что этот вопрос наконец-то был озвучен. Если Джойс была ее матерью, почему ее не было на первом туре соревнования штатов, где Патти получила тридцать два очка, побив тем самым абсолютный рекорд женских соревнований в школе Хораса Грили? Остальные матери нашли время прийти на эту игру.
Она показала Джойс запястья.
– Вот что произошло, – сказала она. – В смысле, это часть того, что произошло.
Джойс взглянула на синяки, поежилась и отвернулась, словно не желая вторгаться на личную территорию дочери.
– Какой ужас, – сказала она. – Ты права, это ужасно.
– Тренер Нэйджел говорит, что мне надо обратиться к врачу и сообщить полиции и директору школы Итана.
– Да, я слышала, чего хочет твой тренер. Она, кажется, считает, что оптимальным наказанием была бы кастрация. Мне бы хотелось понять, чего хочешь ты.
– Я не знаю.
– Если ты хочешь обратиться в полицию, мы это сделаем, – сказала Джойс. – Просто скажи, что хочешь именно этого.
– Наверное, сначала надо все рассказать папе.
Они двинулись в путь по аллее Соу-Милл. Джойс регулярно отвозила остальных детей на уроки Рисования, Игры на Гитаре, Балета, Японского, Риторики, Сценического Мастерства, Фортепиано, Фехтования и Юриспруденции, но Патти ездила с ней очень редко. Как правило, по будням она возвращалась домой поздним вечером на школьном автобусе. На игры ее подвозили чьи-нибудь родители. Если они с друзьями где-нибудь застревали, она даже не пыталась звонить родителям, а доставала двадцатидолларовую банкноту, которые ей “на всякий случай” выдавала мать, и заказывала такси. Ей никогда не приходило в голову потратить двадцатку на что-нибудь, кроме такси, или направиться после тренировки куда-нибудь, кроме дома, где она в десять или одиннадцать часов снимала фольгу со своей порции ужина и спускалась в подвал, чтобы постирать форму, поесть и посмотреть запись игры. Часто там она и засыпала.
– У меня есть чисто гипотетический вопрос, – сказала Джойс. – Как ты думаешь, достаточно ли было бы, если бы Итан официально извинился?
– Он уже извинился.
– За…
– За то, что был груб.
– И что ты ответила?
– Ничего. Сказала, что хочу домой.
– Но он извинился.
– Это было не настоящее извинение.
– Хорошо. Верю тебе на слово.
– Я просто хочу, чтобы он знал, что я существую.
– Все будет так, как ты захочешь… милая.
Слово “милая” прозвучало в устах Джойс как первое слово в новом для нее иностранном языке. В качестве то ли проверки, то ли наказания Патти произнесла:
– Может, если он действительно искренне извинится, этого и правда будет достаточно.
И она осторожно взглянула на мать, которая, как показалось Патти, пыталась скрыть свою радость.
– Мне кажется, что это практически идеальное решение, – сказала Джойс. – Но только в том случае, если ты считаешь, что этого действительно будет достаточно.
– Не будет.
– Что-что?
– Я сказала, что этого не будет достаточно.
– Мне показалось, что только что ты сказала, что будет.
Патти отчаянно зарыдала.
– Извини, – сказала Джойс. – Я неправильно тебя поняла?
– ОН ВЗЯЛ И ИЗНАСИЛОВАЛ МЕНЯ! МОЖЕТ БЫТЬ, Я ДАЖЕ НЕ ПЕРВАЯ!
– Патти, этого ты не можешь знать.
– Я хочу к врачу.
– Слушай, мы уже почти приехали в папин офис. Если у тебя нет серьезных повреждений, может…
– Я и так знаю, что он скажет. Я заранее знаю, что он скажет делать.
– Он поступит наилучшим для тебя образом. Ему порой трудно выражать свои чувства, но он любит тебя больше всего на свете.
Больше всего на свете Патти хотелось поверить, что ее мать говорит правду. Всем своим существом она мечтала в это поверить. Ведь ее отец столько дразнил и высмеивал ее, что это могло бы показаться жестокостью, если бы под этим на самом деле не таилась безграничная любовь. Но ей было уже семнадцать и на самом деле она не была тупой. Она знала, что можно любить больше всего на свете и вместе с тем не так уж и любить, если у тебя много других дел.
В кабинете отца пахло нафталином. Этот кабинет достался ему от заболевшего старшего партнера, и он не стал менять ковры и занавески. Откуда именно исходил запах нафталина, было загадкой.
– Вот ведь мелкий уродец! – воскликнул Рэй, услышав рассказ о преступлении Итана Поста.
– Не такой уж мелкий, увы, – заметила Джойс с сухим смешком.
– Мелкий гадкий уродец, – сказал Рэй. – Выродок.
– Ну что, мы поедем в больницу или в полицию? – спросила Патти.
Ее отец сказал матери позвонить и выяснить, свободен ли доктор Слипперштейн, старый педиатр, состоявший в демократах со времен Рузвельта. Пока Джойс звонила, Рэй спросил Патти, знает ли она, что такое изнасилование.
Патти уставилась на отца.
– Проверяю, знаешь ли ты юридическое определение.
– Он совершил со мной половой акт без моего согласия.
– Ты говорила “нет”?
– “Нет”, “не надо”, “прекрати”. Это было очевидно. Я пыталась царапать и отталкивать его.
– Тогда он просто ничтожное дерьмо.
Она никогда не слышала, чтобы он выражался подобным образом, и ей это было приятно, но как-то абстрактно: слишком это было не похоже на отца.
– Дэйв Слипперштейн говорит, чтобы мы приехали к нему в пять часов, – доложила Джойс. – Он так любит Патти, он бы даже ужин отменил, если бы потребовалось.
– Конечно, – сказала Патти. – Я наверняка первая среди двенадцати тысяч его пациентов.
Затем она рассказала отцу все с начала до конца, а отец объяснил ей, почему тренер Нэйджел была неправа, утверждая, что надо сразу идти в полицию.
– Честер Пост – непростой человек, – говорил он, – но дело в том, что он сделал для округа много хорошего. Учитывая, гм, их позицию, такое обвинение получит широчайшую огласку. Все будут знать, кто их обвиняет. Все. Их проблемы тебя, конечно, не касаются. Но в результате предварительного заседания, самого суда и всей этой шумихи ты практически наверняка пострадаешь больше, чем уже пострадала. Даже если он признает свою вину до суда, даже если он получит условный срок, даже если разглашение информации будет запрещено. Все равно останется протокол заседания.
– Но это ей решать, – вмешалась Джойс.
– Джойс, – Рэй поднял руку, призывая ее умолкнуть, – Посты могут нанять любого адвоката. А когда обвинение предадут гласности, худшее для обвиняемого будет позади. Ему нет нужды форсировать события. На самом деле ему выгодно, чтобы до признания или заседания твоя репутация пострадала как можно сильнее.
Патти кивнула и спросила, как, по мнению отца, ей следует поступить.
– Я сейчас позвоню Честеру, – ответил он. – А ты езжай к доктору Слипперштейну, и пусть он тебя осмотрит.
– И выступит свидетелем.
– Да, при необходимости он может дать показания. Но суда не будет, Патти.
– И ему ничего не будет? И через неделю он сможет все повторить с кем-нибудь еще?
Рэй поднял руки:
– Позволь мне, э-э, позволь мне поговорить с мистером Постом. Ему может прийтись по вкусу идея отсрочки наказания. Испытательный срок, так сказать. Меч, зависший над головой Итана.
– Но это же просто ничто.
– Вообще-то, милая, это довольно много. Это послужит гарантией, что он больше так ни с кем не поступит. И ему придется признать свою вину.
Странно было представлять Итана в оранжевом комбинезоне, сидящим в тюрьме за нанесение ущерба, который существовал только в ее сознании. Ей доводилось участвовать в забегах, от которых все болело гораздо сильнее, чем после изнасилования. После баскетбольного матча, например, она чувствовала себя еще более истерзанной, чем сейчас. К тому же, занимаясь спортом, привыкаешь к касанию чужих рук – тебе массируют сведенную судорогой мышцу, растягивают связки, тебя толкают и пинают во время защиты или борьбы за мяч.
И все же почему-то она физически чувствовала несправедливость. Несправедливость была даже более реальной, чем ее ноющее, дурно пахнущее, потеющее тело. У несправедливости были форма, вес, температура, текстура и очень плохой вкус.
В кабинете доктора Слипперштейна она, как хорошая спортсменка, покорно перенесла обследование. Когда она оделась, он спросил, имела ли она половые сношения до того.
– Нет.
– Я так и думал. А контрацепция? Он предохранялся?
Она кивнула.
– Я тогда и попыталась убежать. Когда увидела, что у него в руках.
– Презерватив.
– Да.
Эти и другие сведения доктор Слипперштейн занес в ее карту. Затем он снял очки.
– Патти, у тебя все будет хорошо. Секс – замечательная штука, и ты будешь наслаждаться им всю жизнь. Но это был не лучший день, да?
Ее сестры и брат были дома. Кто-то из них пытался жонглировать разновеликими отвертками на заднем дворе. Кто-то читал неадаптированного Гиббона. Одна из сестер, питавшаяся исключительно редиской и йогуртом, в очередной раз красила волосы в ванной. Настоящим домом для Патти была заплесневелая, обитая поролоном встроенная скамья в подвале у телевизора. Все эти годы, прошедшие с тех пор, когда Евлалию отпустили, скамья сохраняла слабый запах ее масла для волос. Патти взяла упаковку мороженого с пеканом, устроилась на скамье и, когда мать спросила сверху, будет ли она ужинать, ответила отрицательно.
Выпив мартини и поужинав, отец спустился к ней в тот момент, когда началась “Мэри Тайлер Мур”[18], и предложил прокатиться. В тот период “Мэри Тайлер Мур” была единственным источником знаний о Миннесоте в жизни Патти.
– Можно я сначала посмотрю сериал? – спросила она.
– Патти.
Чувствуя себя ущемленной в правах, она выключила телевизор. Отец отвез ее к школе и остановил автомобиль под фонарем на парковке. Они опустили окна, и в салон проник аромат весеннего газона – вроде того, на котором ее не так давно поимели.
– Итак, – произнесла Патти.
– Итак, Итан все отрицает, – сказал ее отец. – Говорит, что все произошло по взаимному согласию.
Девичьи слезы автор описал бы как дождь, который начинается внезапно, но на удивление быстро успевает намочить все вокруг. Она спросила, говорил ли отец с самим Итаном.
– Нет, только с его отцом, два раза, – ответил он. – Было бы ложью утверждать, что разговор прошел удачно.
– Очевидно, мистер Пост мне не верит.
– Ну, Патти, Итан его сын. Он знает тебя не так хорошо, как мы.
– Ты мне веришь?
– Да, я тебе верю.
– А мама?
– Конечно, верит.
– И что мне делать?
Отец обратился к ней как юрист. Как взрослый, обращающийся к взрослому.
– Брось это, – сказал он. – Забудь. Живи дальше.
– Что?
– Стряхни это. Живи дальше. Учись осторожности.
– Как будто ничего не было?
– Патти, на вечеринке были только его друзья. Они скажут, что видели, как ты выпила и вела себя агрессивно. Они скажут, что вы были за навесом не больше чем в тридцати метрах от бассейна, и они не слышали ничего подозрительного.
– Было очень шумно. Играла музыка, все кричали.
– Еще они скажут, что видели, как вы вдвоем потом садились в его машину. Общество увидит в нем юношу из Эксетера, который собирается в Принстон, настолько ответственного, что он позаботился о предохранении, и настолько галантного, что он покинул вечеринку и отвез тебя домой.
Предательский дождик намочил воротник футболки Патти.
– На самом деле ты не на моей стороне, – сказала она.
– На твоей, конечно.
– Ты все время повторяешь “конечно”, “конечно”.
– Послушай. Прокурор захочет знать, почему ты не кричала.
– Я стеснялась! Это же были не мои друзья.
– Ты же знаешь, что судья или присяжные вряд ли это поймут. Тебе всего лишь надо было закричать, и ничего бы не случилось.
Патти не помнила, почему она не закричала. Ей пришлось признать, что задним числом такая покладистость выглядела странно.
– Но я отбивалась.
– Но ты же выдающаяся спортсменка. Вы постоянно получаете синяки и царапины, так ведь? На руках, на бедрах.
– Ты сказал мистеру Посту, что я девственница? В том смысле, что была.
– Я счел, что его это не касается.
– Может, еще перезвонишь ему и скажешь?
– Слушай, – сказал отец. – Милая. Я понимаю, это чудовищно нечестно. Мне тебя страшно жалко. Но иногда лучше всего просто сделать выводы и больше не попадать в подобные истории. Сказать себе: я сделала ошибку, и к тому же мне не повезло – и забыть об этом. Проехали – и все.
Он повернул ключ зажигания наполовину, на приборной панели зажглись огоньки.
– Но он совершил преступление, – сказала Патти.
– Да, но лучше… Гм. Жизнь – не всегда справедливая штука, милая. Мистер Пост сказал, что Итан, возможно, хочет извиниться за неджентльменское поведение, но… Гм. Тебе бы этого хотелось?
– Нет.
– Я тоже так считаю.
– Тренер Нэйджел говорит, что мне надо обратиться в полицию.
– Пусть тренер Нэйджел занимается своими мячами и корзинами.
– Софтбол, – сказала Патти. – Сейчас сезон софтбола.
– Если ты только не хочешь, чтобы тебя прилюдно унижали весь выпускной год.
– Баскетбол зимой. Софтбол весной, когда тепло.
– Я спрашиваю, ты так хочешь провести выпускной год?
– Карвер – бейсбольный тренер, – сказала Патти. – Нэйджел – софтбольный. Ты слышишь?
Отец завел двигатель.
Вместо того чтобы подвергаться прилюдному унижению, в выпускном классе Патти из просто одаренного игрока превратилась в настоящую спортсменку. Она только что не ночевала в спортзале. Ее дисквалифицировали на три игры за удар в спину форварда Нью-Рошель, который пихнул локтем партнершу Патти, Стефани. Однако она по-прежнему каждый год била школьный рекорд, который сама же и установила. Вдобавок к упорной работе по периметру площадки она полюбила вести мяч к кольцу. Теперь она уже не обращала внимания на физическую боль.
Весной местный член законодательного собрания штата покинул свое кресло после долгих лет службы, и руководство Демократической партии выдвинуло на его место мать Патти. Супруги Пост предложили организовать прием по сбору средств, который должен был пройти в зеленом великолепии их тенистого двора. Перед тем как принять предложение, Джойс спросила разрешения у Патти, говоря, что она не будет делать ничего, что было бы неприятно дочери. Но Патти были безразличны намерения Джойс, о чем она ей и сообщила. Когда семья кандидата позировала для обязательной семейной фотографии, никто особенно не горевал из-за ее отсутствия. Колючий взгляд Патти мог только все напортить Джойс.
Глава 2. Лучшие подруги
Автор решительно не может вспомнить, в каком состоянии пребывало ее сознание на протяжении первых трех лет в колледже, а потому делает вывод, что тот период она провела без сознания. Ей казалось, что она бодрствует, но на самом деле это больше походило на лунатизм. Иначе трудно объяснить, к примеру, тот факт, что ее ближайшей подругой стала влюбленная в нее психопатка.
Автору больно признавать это, но частично вина лежит на Большой Десятке[19] и порожденном ею искусственном закрытом мире. В основном страдали мальчики, но, даже в конце семидесятых годов, в эту ловушку попадались и девочки. В июле Патти отправилась в Миннесоту в летний лагерь для студентов-спортсменов. Потом в колледже состоялось отдельное, раньше, чем у всех, организационное собрание для студентов-спортсменов, после чего Патти поселилась с ними в общежитии, водила дружбу только с ними, ела с ними за отдельным столом в столовой, плясала с ними на вечеринках и записывалась только на те курсы, которые посещали ее товарки, чтобы вместе сидеть – ну и иногда, если позволяло время, учиться. Спортсменов никто не заставлял так жить, но в Миннесоте большинство из них жили именно так, а Патти окунулась в этот мир спорта еще глубже, чем остальные, – просто потому, что у нее была такая возможность. Потому что она сбежала из Уэстчестера!
– Езжай куда хочешь, – сказала Джойс. Читай: имея великолепные предложения из Северо-западного университета и Университета Вандербильта (более близких моему сердцу), ехать в посредственный государственный колледж в Миннесоте – это абсолютный идиотизм. – Это тебе решать, мы поддержим тебя, что бы ты ни выбрала, – сказала Джойс. Читай: когда твоя жизнь рухнет из-за очередного дурацкого решения, мы с папой будем ни при чем.
Очевидное отвращение Джойс к Миннесоте и удаленность этого штата от Нью-Йорка решили дело. Сейчас автор видит в себе типичного несчастного подростка, который так зол на своих родителей, что ему обязательно нужно примкнуть к какому-нибудь культу, кругу посвященных: там он будет гораздо дружелюбнее, великодушнее и обходительнее, чем дома. Для Патти таким культом стал баскетбол.
Первым человеком, который отвлек ее от этого мира и стал ей близок, стала психопатка Элиза, о ненормальности которой Патти, разумеется, поначалу ничего не знала. Элиза была ровно наполовину красива. Ее голова была восхитительна сверху и заметно портилась книзу. У нее были великолепные густые каштановые кудри, огромные выразительные глаза и симпатичный носик пуговкой, но ниже черты лица становились мелкими и расплывчатыми, вызывая неприятные ассоциации с недоношенными детьми. Подбородок у нее был крохотный. Обычно она носила мешковатые вельветовые штаны, чудом державшиеся на бедрах, обтягивающие рубашки с короткими рукавами, которые покупала в магазинах для подростков и застегивала только на пару средних пуговиц, красные кеды и большой овчинный жакет цвета авокадо. От нее несло пепельницей, но она старалась не курить рядом с Патти в помещении. По иронии судьбы, тогда ускользавшей от Патти, но теперь очевидной автору, у Элизы было много общего с творческими сестричками Патти. У нее была черная электрогитара с дорогостоящим усилителем, но те несколько раз, когда Патти удавалось уговорить ее сыграть что-нибудь, Элиза в результате набрасывалась на нее с проклятиями, чего в остальное время (по крайней мере поначалу) практически не происходило. Она заявляла, что присутствие Патти давит на нее, стесняет и именно поэтому она каждый раз срывается после нескольких аккордов. Она приказывала Патти делать вид, что та не слушает, но даже если Патти отворачивалась и утыкалась в журнал, все было не слава богу. Элиза клялась, что в ту секунду, когда Патти уйдет, она божественно сыграет эту песню.
– Сейчас – без вариантов.
– Прости, – говорила Патти. – Прости, что я на тебя так действую.
– Когда ты не слушаешь, я играю блестяще.
– Я знаю, знаю. Я уверена, что ты потрясающе играешь.
– Это факт. Мне плевать, веришь ли ты.
– Но я верю!
– Я говорю, что мне плевать, веришь ли ты мне, потому что я действительно играю эту песню блестяще, когда ты не слышишь.
– Может, что-то другое сыграешь? – умоляла Патти.
Но Элиза уже отключала провода.
– Хватит. Ладно? Мне не нужны твои утешения.
– Прости, прости, прости, – говорила Патти.
Впервые она увидела Элизу на единственной лекции, где могли встретиться спортсмен и поэт – на Введении в Естествознание. Патти вошла в огромную аудиторию с десятью новыми подругами – большинство выше нее ростом. Все они были в серых или коричневых спортивных костюмах с эмблемой “Золотых сусликов”[20], волосы у всех были разной степени влажности. В этой стайке были отличные девчонки – в том числе Кэти Шмидт, с которой автор дружит всю жизнь и которая впоследствии стала государственным защитником[21] и как-то раз два вечера подряд выступала по телевизору в телевикторине “Джепарди”, – но душная аудитория, неизменные спортивные костюмы, влажные волосы и постоянная близость утомленных спортсменских тел вгоняли Патти в какой-то ступор. Притупляли контакт.
Элиза предпочитала сидеть за спортсменами, прямо позади Патти, но она так горбилась, что над партой торчали только ее пышные темные кудри. Впервые она обратилась к Патти в начале лекции, прошептав ей на ухо:
– Ты самая лучшая.
Патти обернулась, чтобы понять, кто это говорит, и увидела копну волос.
– Что-что?
– Я вчера вечером видела, как ты играешь, – сказали волосы. – Ты потрясающая и очень красивая.
– Ох, спасибо большое.
– Тебе должны давать больше времени.
– Какое совпадение, мне тоже так кажется!
– Ты должна потребовать, чтобы тебе давали больше времени. Хорошо?
– У нас в команде полно крутых игроков. Не я же решаю.
– Да, но ты лучшая, – упрямо сказали волосы.
– Спасибо за комплимент, – весело сказала Патти, чтобы поставить точку в этой беседе.
Тогда она полагала, что персональные комплименты смущают ее потому, что она переполнена бескорыстным командным духом. Теперь автор склонен полагать, что она подсознательно отказывалась от сладкого нектара лести, понимая, что ее жажда никогда не будет утолена.
После лекции она смешалась со своими товарками и избегала бросать взгляды на задний ряд, где сидели волосы. Тот факт, что ее фанатка оказалась на естествознании прямо за ней, Патти сочла простым совпадением. В университете училось пятьдесят тысяч студентов, но едва ли пятьсот из них (не считая бывших игроков, их друзей и родственников) считали женские матчи достойным времяпрепровождением. Если вы были Элизой и хотели занять место прямо за скамьей “Сусликов” (чтобы Патти, выйдя с поля, сразу увидела ваши волосы и вас, склоненную над блокнотом), вам следовало явиться за четверть часа до начала игры. И не было ничего проще, чем после финального свистка и традиционных рукопожатий перехватить Патти у раздевалки, протянуть ей листок из блокнота и спросить:
– Ты попросила побольше времени, как я сказала?
Патти до сих пор не знала, как зовут эту девочку, но та определенно ее знала: на листке десятки раз повторялось слово ПАТТИ, написанное потрескавшимися мультяшными буквами и многократно обведенное, как будто это было эхо, отдающееся в спортзале, как будто неуправляемая толпа скандировала ее имя. Последнее было далеко от реальности: зал почти пустовал, а Патти училась на первом курсе, имела всего лишь десять минут за всю игру и ее имя пока что не было у всех на устах. Растрескавшиеся карандашные крики заполняли весь лист, за исключением небольшого пробела, на котором была схематически изображена баскетболистка, ведущая мяч. Можно было предположить, что это была сама Патти – на майке у баскетболистки был написан ее номер, да и потом, кто еще может быть нарисован на листе, исписанном ее именем? Как и все, что делала Элиза (в этом Патти предстояло скоро убедиться), рисунок был наполовину гениален, наполовину неуклюж и откровенно плох. Поза девушки, пригнувшейся к земле перед резким рывком, была передана восхитительно, но лицо и голова принадлежали некоей собирательной женщине из буклета об оказании первой помощи.
Взглянув на листок, Патти ощутила предвестник того чувства падения, которое охватит ее через несколько месяцев, когда они с Элизой будут есть кексы с марихуаной. Что-то очень неправильное и нездоровое, от чего трудно защититься.
– Спасибо за рисунок, – сказала она.
– Почему тебе не дают больше времени? – спросила Элиза. – Ты почти всю вторую половину просидела на скамье.
– Вот когда мы вырвемся вперед…
– Ты круче всех, а тебя отправляют на скамью? Не понимаю.
Кудряшки Элизы метались, как ветви ивы под яростным ветром, она явно была на взводе.
– Дон, Кэти и Шона отлично себя проявили, – сказала Патти. – Сохраняли преимущество.
– Но ты гораздо лучше!
– Мне пора в душ. Спасибо за рисунок.
– Может, не в этом году, максимум – в следующем, но все обязательно захотят тебя, – сказала Элиза. – Ты будешь привлекать внимание. Тебе надо начать учиться защищать себя.
Это было так нелепо, что Патти пришлось остановиться и поправить ее.
– Слишком много внимания – это не та проблема, с которой сталкиваются в женском баскетболе.
– А мужчины? Ты знаешь, как защитить себя от мужчин?
– Ты о чем?
– Я о том, что с мужчинами надо держать ухо востро.
– Сейчас у меня нет времени ни на что, кроме спорта.
– Ты просто не понимаешь, какая ты удивительная. И как это опасно.
– Я просто хорошая баскетболистка.
– Это чудо, что с тобой еще ничего не произошло.
– Ну, я не пью, это помогает делу.
– А почему ты не пьешь? – немедленно поинтересовалась Элиза.
– В период тренировок – нельзя, ни глоточка.
– Ты круглый год тренируешься, что ли?
– Ну, и еще у меня был неприятный опыт, так что…
– Что случилось? Тебя изнасиловали?
Патти вспыхнула, и на лице ее одновременно отразились пять совершенно разных чувств.
– Ого, – сказала она.
– Да? Именно это и случилось?
– Мне надо в душ.
– Видишь? Я об этом и говорю! – возбужденно воскликнула Элиза. – Ты меня совсем не знаешь, мы с тобой едва пару минут проговорили, и ты мне уже, можно сказать, сообщаешь, что стала жертвой насилия. Ты совершенно беззащитна!
В тот момент Патти была слишком встревожена и смущена, чтобы указать на пробелы в этом умозаключении.
– Я могу себя защитить, – сказала она. – У меня все в порядке.
– Ну хорошо. Ладно, – пожала плечами Элиза. – Это твоя безопасность, не моя.
По залу прогромыхали тяжелые щелчки выключателей – гасили лампы.
– Ты занимаешься спортом? – спросила Патти, чтобы загладить свою непокладистость.
Элиза опустила взгляд на свои широкие бедра и крошечные косолапые ножки, обутые в кеды.
– А что, похоже?
– Ну, не знаю, может… бадминтон?
– Терпеть не могу спорт, – продолжала Элиза со смехом. – Любой.
Патти тоже рассмеялась, радуясь, что они сменили тему. Однако она чувствовала, что что-то здесь не то.
– Я не то что подаю “по-девчачьи” или бегаю “как девчонка”, – сказал Элиза. – На уроках я просто отказывалась подавать или бегать, и все. Если мне бросали мяч, я просто ждала, чтобы кто-нибудь подошел и забрал его. Когда мне надо было бежать, например, на первую базу, я немножко ждала, а потом просто шла.
– Боже, – сказала Патти.
– Да, мне даже не хотели давать аттестат, – похвасталась Элиза. – Я выпустилась только потому, что родители были знакомы со школьным психологом. В итоге я отрабатывала занятия на велосипеде.
Патти неуверенно кивнула.
– Но баскетбол-то ты любишь?
– Ну да, – согласилась Элиза. – Баскетбол – это весело.
– То есть на самом деле ты не ненавидишь спорт. Ты ненавидишь заниматься спортом.
– Ты права. Точно.
– Ну, как бы там ни было.
– Ну, как бы там ни было, будем дружить?
Патти рассмеялась.
– Если я скажу “да”, я только докажу, что недостаточно осторожна с малознакомыми людьми.
– Звучит как “нет”.
– Может, поживем – увидим?
– Хорошо. Очень осторожно с твоей стороны, одобряю.
– Видишь? Видишь? – Патти снова рассмеялась. – Я осторожнее, чем ты думала!
Автор не сомневается, что если бы Патти отдавала себе отчет в том, что с ней происходило, и хотя бы частично обращала внимание на окружающий мир, она бы далеко не так преуспевала в баскетболе. Практически пустая голова – это обязательное условие спортивных успехов. Если бы она могла оценить Элизу по достоинству (и увидеть ее ненормальность), она бы хуже играла. Обращая внимание на всякие мелочи, не станешь игроком, который забивает 88 процентов штрафных.
Элиза невзлюбила остальных друзей Патти и даже не пыталась общаться с ними. Она называла их “твои лесбиянки” или “эти лесбиянки”, хотя половина из них были традиционной ориентации. Довольно быстро Патти начала чувствовать, что живет в двух взаимоисключающих мирах. Одним из них был Мир Спорта, в котором она проводила большую часть своего времени и где она скорее завалила бы экзамен по психологии, чем отказалась бы сходить в магазин за вкусностями для подруги, растянувшей лодыжку или подхватившей простуду. В другом мире, маленьком темном Мире Элизы, она не так старалась произвести хорошее впечатление. Единственной точкой, где соприкасались эти два мира, был стадион “Уильямс”, где Патти, пробиваясь через защиту, чтобы сделать двух-очковый бросок или передачу вслепую, испытывала особую гордость и удовольствие, если со скамьи за ней наблюдала Элиза. Но и эта точка соприкосновения прожила недолго, так как чем больше времени Элиза проводила с Патти, тем реже она вспоминала о своей любви к баскетболу.
У Патти всегда было много приятелей, но не было друзей. Когда она видела Элизу, ждущую ее с тренировки, ее сердце ликовало, потому что она знала, что ее ждет вечер наставлений. Элиза водила ее смотреть фильмы с субтитрами и заставляла внимательно слушать Патти Смит (“Здорово, что тебя зовут так же, как мою любимую певицу”, – говорила она, не обращая внимания на то, что имена пишутся по-разному[22], и не зная, что полное имя Патти – Патриция: Джойс назвала ее так, чтобы дочь выделялась среди других, а Патти стеснялась произносить это имя вслух). Она давала Патти сборники стихов Дениз Левертов и Фрэнка О’Хары. Когда баскетбольная команда закончила игры с восемью победами и одиннадцатью проигрышами, не пройдя в 1/8 финала (несмотря на 14 очков, добытых Патти, и ее многочисленные пасы), Элиза приучила ее к шабли “Поль Масcон”.
Чем Элиза занималась в свободное время – оставалось тайной. В ее жизни вроде бы присутствовали какие-то “мужчины” (т. е. мальчики) и она иногда упоминала о каких-то концертах, но когда Патти спрашивала про эти концерты, Элиза заявляла, что сначала Патти должна прослушать все сборники, которые та для нее записала, а с этими сборниками Патти пришлось нелегко. Ей нравилась Патти Смит, которая, казалось, понимала, что она чувствовала в ванной наутро после изнасилования, но The Velvet Underground нагоняли на нее тоску. Как-то она призналась Элизе, что больше всего любит The Eagles. Ничего страшного, сказала Элиза, The Eagles – отличная группа. Но в комнате у нее так и не появилось ни одной их кассеты.
Родители Элизы были крутыми психотерапевтами в городах-близнецах и жили в Уэйзате, прибежище богачей. Еще у нее был старший брат, третьекурсник в колледже Бард, которого она называла особенным. Когда Патти интересовалась, что в нем особенного, Элиза отвечала:
– Все.
Сама Элиза получила среднее образование в трех разных школах и поступила в университет только потому, что в противном случае родители отказались ее субсидировать. Она была хорошисткой, но по-другому, чем Патти: Патти получала В по всем предметам, Элиза же получала А с плюсом по литературе и D по всем остальным. Насколько было известно, помимо баскетбола ее интересовали только поэзия и удовольствия.
Элиза вознамерилась уговорить Патти попробовать травку, но Патти чрезвычайно заботилась о своих легких, поэтому на сцене появились кексы. На Элизином “фольксвагене-жуке” они отправились в дом в Уэйзате, где было полно африканских скульптур и не было родителей, уехавших на выходные на конференцию. Они собирались устроить затейливый ужин а-ля Джулия Чайлд, но выпили слишком много вина и в результате поедали сыр и крекеры и готовили кексы с огромным количеством травки. На протяжении шестнадцати часов, пока Патти была под кайфом, она думала, что больше никогда этого не сделает. Она чувствовала себя так, как будто пропустила столько тренировок, что больше уже ничего не поправить, и это было ужасное чувство. Кроме того, ее пугала Элиза – она внезапно ощутила, что ее как-то странно тянет к Элизе и что самое важное сейчас – сидеть неподвижно, сдерживаться и не показывать свою бисексуальность. Элиза беспрерывно спрашивала ее, как дела, и Патти всякий раз отвечала, что все отлично, что неизменно казалось им безумно смешным. Послушав The Velvet Underground, Патти гораздо лучше поняла их музыку, это была очень грязная группа, и их грязь утешительным образом сочеталась с тем, как она чувствовала себя в этом доме в Уэйзате в окружении африканских масок. Начав приходить в себя, Патти с облегчением поняла, что даже под сильным кайфом держала себя в руках и Элиза не притронулась к ней: абсолютно ничего лесбийского не намечалось.
Патти заинтересовали родители Элизы, и она хотела дождаться их и познакомиться, но Элиза твердо заявила, что это плохая идея.
– Они любят друг друга больше жизни, – сказала она. – Они все делают вместе. У них соседние кабинеты, и они вместе пишут все статьи и книги, и делают на конференциях сдвоенные презентации, и никогда не разговаривают о работе дома, потому что это неконфиденциально. У них даже велосипед-тандем есть.
– И?
– И они странные и не понравятся тебе, и тогда ты меня разлюбишь.
– У меня родители тоже не подарок, – сказала Патти.
– Тут другое, поверь мне. Я знаю, о чем говорю.
Они ехали обратно в “жуке”, и позади них подымалось бескровное миннесотское солнце. Тогда они впервые до некоторой степени поссорились.
– Ты должна остаться здесь на лето, – говорила Элиза. – Не уезжай.
– Это вряд ли, – сказала Патти. – Мне надо работать в офисе у папы и быть в Геттисберге в июле.
– Почему ты не можешь остаться здесь и поехать в лагерь отсюда? Мы можем найти работу, и ты будешь каждый день ходить в спортзал.
– Мне надо домой.
– Почему? Тебе же там было ужасно.
– Если я останусь здесь, то буду каждый вечер пить вино.
– Не будешь. У нас будут строгие правила. Мы придумаем любые правила, какие захочешь.
– Я вернусь осенью.
– Тогда мы будем жить вместе?
– Нет, я уже обещала Кэти, что буду жить с ней. Мы будем жить вчетвером.
– Скажи, что передумала.
– Не могу.
– Это бред! Я тебя почти не вижу!
– Я тебя вижу чаще других. Мне с тобой хорошо.
– Тогда почему ты не останешься тут на лето? Ты мне не доверяешь?
– С чего вдруг?
– Не знаю. Просто не могу понять, почему ты предпочитаешь работать на своего папочку. Он о тебе не заботился, он тебя не защитил, а я защищу. Он не принимает близко к сердцу твои потребности, а я принимаю.
Действительно, когда Патти думала о поездке домой, у нее опускались руки, но ей представлялось необходимым наказать себя за марихуанные кексы. К тому же ее отец пытался что-то наладить и присылал ей написанные от руки письма (“Нам не хватает тебя на теннисном корте”) и предлагал взять старый бабушкин автомобиль, который, как он полагал, бабушке уже не подходит. После года разлуки она сожалела, что была с ним так холодна.
Может, это была ошибка? И она отправилась домой на все лето и обнаружила, что ничего не изменилось и это не была ошибка. Она смотрела телевизор до полуночи, каждое утро просыпалась в семь и пробегала пять миль и проводила дни, подчеркивая имена в юридических документах и ожидая прибытия почты, с которой, как правило, приходили длинные, отпечатанные на машинке письма от Элизы с сообщениями о том, как она скучает по подруге, рассказами о “похотливом” боссе в кинотеатре повторного фильма, где она торговала билетами, и требованиями немедленно написать ответ, что Патти и делала, используя для этого старые фирменные бланки и пишущую машинку “Селектрик” в пропахшем нафталином отцовском кабинете.
В одном из писем Элиза написала: Думаю, нам надо придумать правила друг другу – для защиты и самосовершенствования. Патти это не вдохновило, но она написала три правила для своей подруги: Не курить до обеда; Каждый день делать зарядку и развиваться физически; Ходить на все занятия и делать все задания по ВСЕМ предметам (а не только по английскому). Ей, конечно, следовало бы встревожиться, увидев, как сильно отличались от ее правил правила Элизы: Пить только по субботам и только в присутствии Элизы; Не ходить на смешанные вечеринки без Элизы; Рассказывать Элизе ВСЕ, – но здравый смысл у нее работал плохо, и вместо этого она обрадовалась тому, что у нее такая заботливая подруга. Среди всего прочего наличие такой подруги давало Патти защиту и оружие против ее средней сестры.
– Как дела в Миннесо-о-оте-е? – так начиналась их обычная перепалка. – Ты съела много кукурузы? Ты видела быка Малыша[23]? Была в Брейнерде[24]?
Можно было бы предположить, что Патти, привыкшая к соревнованиям, со временем научилась справляться с унизительной глупостью сестры, которая была на три с половиной года ее младше (хотя в школе их разделяли только два класса). Однако сердцу Патти от рождения не хватало защитной оболочки: ее никогда не переставало задевать отсутствие у сестры сестринских чувств. Кроме того, та была Творческой Личностью, а потому постоянно изобретала новые способы огорошить Патти.
Лучшей защитой, на которую была способна Патти, всегда оказывался вопрос:
– Почему ты вечно разговариваешь со мной таким голосом?
– Я просто спросила, как поживает старая добрая Ми-иннесоо-о-ота-а.
– Ты кудахчешь. Похоже на кудахтанье.
Ответом ей был взгляд блестящих глаз. И после паузы:
– Это же Земля Десяти Тысяч Озер!
– Иди отсюда, пожалуйста.
– У тебя там завелся парень?
– Нет.
– Девушка?
– Нет. Но у меня появилась отличная подруга.
– Та, что тебе шлет все эти письма? Она спортсменка?
– Нет. Поэт.
– Ого. – Сестру, похоже, это заинтересовало. – Как ее зовут?
– Элиза.
– Элиза Дулитл. Письма она писать мастер. Она точно не твоя девушка?
– Она писательница, ясно? Очень интересная писательница.
– Да мне тут просто кое-кто напел, что у вас там творится в раздевалке. Тот гриб, что о себе молчит.
– Какая же ты дрянь, – сказала Патти. – Она очень крутая и встречается с тремя парнями сразу.
– Брейнерд, штат Миннесо-о-ота-а-а, – ответила сестра. – Пришли мне открытку с Малышом из Брейнерда.
Она удалилась, распевая вибрато: “Утром я выхожу замуж…”[25]
Вернувшись в школу осенью, Патти познакомилась с Картером, который стал ее, за неимением лучшего слова, скажем, первым парнем. Тот факт, что они познакомились сразу после того, как Патти, покоряясь Третьему Правилу, доложила Элизе, что ее пригласил на ужин второкурсник из команды борцов, теперь кажется автору глубоко неслучайным. Элиза возжелала предварительно познакомиться с этим борцом, но даже у покладистости Патти были границы.
– Он, похоже, славный парень, – сказала она.
– Извини, но ты все еще на испытательном сроке, – покачала головой Элиза. – Изнасиловал тебя тоже славный малый.
– Да он не был славным, мне просто льстило, что я ему нравлюсь.
– А теперь ты нравишься этому борцу.
– Да, но я же трезвая.
Они порешили, что сразу же после ужина Патти придет к Элизе (в награду за работу летом родители сняли ей комнату за пределами кампуса), а если этого не произойдет до десяти часов, Элиза отправится на ее поиски. Ужин прошел не блестяще, и в половине десятого Патти поднялась в Элизину комнату, расположенную на последнем этаже, где и застала подругу с юношей по имени Картер. Они сидели на разных концах дивана так, что их ступни упирались друг в друга. Определить интимность происходящего не представлялось возможным. Стереосистема исполняла последний альбом DEVO.
Патти замерла в дверях.
– Мне прийти потом?
– Ни за что, мы тебя так ждали! – воскликнула Элиза. – У нас с Картером все в давнем прошлом.
– Очень давнем, – подтвердил Картер с достоинством и, как Патти казалось позже, легким раздражением. Он спустил ноги на пол.
– Потухший вулкан, – пояснила Элиза, представляя их друг другу.
Патти раньше не доводилось видеть подругу с парнем, и ее потрясло то, насколько другой казалась Элиза – она зарумянилась и стала запинаться и время от времени издавать явно нарочитые смешки. У нее, казалось, вылетело из головы, что Патти следует подвергнуть допросу касательно прошедшего ужина.
Дело было в Картере, который оказался ее другом по одной из школ, – он взял академический отпуск и теперь работал в книжном магазине и ходил по концертам. У Картера были идеально прямые темные волосы странного оттенка (хна, как выяснилось позже), красивые глаза с длинными ресницами (тушь, как выяснилось позже) и ни одного заметного недостатка, кроме неровных, удивительно мелких и острых зубов (как выяснилось позже, расходы на основные детские нужды – например, на ортодонта, – канули в омуте болезненного развода его родителей). Патти сразу же понравилось, что он не стесняется своих зубов. Она решила произвести на него хорошее впечатление и показать себя достойным другом Элизы, но тут Элиза сунула ей в лицо стакан вина.
– Нет, спасибо, – отказалась Патти.
– Но сегодня же суббота!
Патти хотела заметить, что правила не обязывали ее пить по субботам, но присутствие Картера на секунду помогло ей осознать всю нелепость этих правил, как и того, что она должна была докладывать Элизе об ужине с борцом. Так что она взяла стакан, выпила его, за ним следующий и ощутила восхитительное тепло. Автор в курсе, как скучно читать о том, как герой постепенно напивается, но иногда такие подробности важны для сюжета. Когда Картер около полуночи собрался уходить, он предложил Патти подбросить ее в общежитие и, прощаясь, спросил, можно ли ее поцеловать (все в порядке, отчетливо подумала она, это же друг Элизы). После того как они некоторое время потискались на холодном октябрьском ветру, он спросил, увидятся ли они завтра, и она подумала: а он не тормозит.
Надо отдать должное: эта зима стала лучшим спортивным сезоном ее жизни. Патти ни разу не пропустила тренировки по состоянию здоровья, и тренер Тредвелл, прочтя ей строгую лекцию о вреде эгоизма и сути лидерства, каждую игру ставил ее в защиту. Раз за разом Патти поражалась тому, как медленно вдруг стали двигаться старшие игроки, как легко было выхватить у них мяч и забить его в прыжке. Даже играя в паре с другим защитником, что случалось все чаще и чаще, она ощущала внутреннюю связь с корзиной: всегда инстинктивно знала, где она находится, и чувствовала себя ее любимым игроком, лучшим кормильцем ее округлого рта. Даже вне поля она чувствовала непрекращающееся давление где-то за бровями, постоянно пребывая в состоянии чуткой дремы, сосредоточенного отупения. Всю эту зиму она дивно проспала, так ни разу до конца и не проснувшись. Она едва замечала, когда получала локтем по голове или когда после сигнала об окончании игры на нее налетали счастливые товарищи по команде.
Частично дело было в Картере. Он совершенно не интересовался ее спортивными успехами и, казалось, не обращал внимания на то, что в особо загруженные недели она уделяла ему не больше нескольких часов, которых иногда хватало только на то, чтобы торопливо заняться сексом в его квартире и вернуться в кампус. В определенном смысле автор и теперь полагает это идеальной разновидностью отношений, хотя надо признать, что она становится менее идеальной, если представить себе, сколько девчонок Картер трахнул за те полгода, что Патти считала его своим парнем. Эти шесть месяцев были первым из тех двух безусловно счастливых периодов в жизни Патти, когда все сходилось один к одному. Она любила неровные зубы Картера, его неподдельную скромность, его умелые ласки, его терпение. У Картера было немало достоинств. Давал ли он ей натужно ласковые указания в том, что касалось секса, или признавался в отсутствии планов на будущее (“Моего образования как раз хватит, чтобы стать скромным шантажистом”), голос его был неизменно мягким, невнятным и стыдливым – бедняга Картер был невысокого мнения о себе как о представителе человеческой расы.
Патти же была о нем чрезмерно высокого мнения вплоть до одной апрельской субботней ночи – она раньше времени вернулась с церемонии награждения национальной сборной в Чикаго (Патти заняла второе место среди защитников в баскетболе), чтобы сделать Картеру сюрприз в день его рождения. С улицы она увидела свет в его окне, но ей пришлось четырежды позвонить в домофон, прежде чем она услышала голос Элизы:
– Патти? Ты что, не в Чикаго?
– Вернулась пораньше. Впусти меня.
Последовал треск, а за ним – пауза, настолько долгая, что Патти позвонила еще дважды. Наконец в двери показалась Элиза в кедах и овчинном жакете.
– Привет, привет, привет! – закричала она. – Не верю своим глазам!
– Почему ты меня не впустила? – спросила Патти.
– Не знаю, решила сама спуститься, там такой дурдом, и я решила спуститься, чтобы мы могли поговорить. – Глаза Элизы сверкали, она беспокойно ломала пальцы. – Там сплошная наркота, может, пойдем куда-нибудь, я так тебя рада видеть, привет! Как ты? Как Чикаго? Как все прошло?
Патти нахмурилась:
– Я не могу подняться к своему парню?
– М-м, нет, погоди – парню? Не слишком сильно сказано? Я думала, это просто Картер. В смысле, я знала, что он тебе нравится, но…
– Кто там?
– Ну, всякие знакомые.
– Кто?
– Ты никого не знаешь. Пойдем куда-нибудь?
– Кто, например?
– Он думал, что ты возвращаешься завтра. Вы же завтра ужинаете, так?
– Я улетела пораньше, чтобы увидеть его.
– О боже, ты же в него не влюблена? Нам надо поговорить о том, как ты себя защищаешь, я-то думала, что вы просто развлекаетесь, ты же никогда не называла его своим парнем, я-то об этом должна была бы знать, так? Если ты мне не будешь всего рассказывать, я не смогу тебя защитить. Ты нарушила правило, так?
– Ты мои правила тоже не соблюдала, – заметила Патти.
– Богом клянусь, все не так, как ты думаешь. Я твой друг. Просто там есть кое-кто, с кем ты вряд ли подружишься.
– Девушка?
– Слушай, я ее выгоню. Мы от нее избавимся и потусим втроем. – Элиза захихикала. – У него есть очень, очень, очень крутой кокс.
– Погоди. Вас там трое? Это и есть вечеринка?
– Так круто, так круто, обязательно попробуй. Сезон ведь закончился, так? Мы от нее избавимся, ты сможешь подняться, и мы затусим. Или можем вдвоем пойти ко мне, если подождешь, я возьму наркоты, и мы пойдем ко мне. Ты должна это попробовать. Пока не попробуешь, не поймешь.
– Оставить Картера с кем-то и пойти с тобой пробовать кокаин? Отличная идея.
– Боже, Патти, прости. Это не то, что ты думаешь. Он сказал, что устроит вечеринку, но потом достал кокс и немножко поменял свои планы, а потом оказалось, что он позвал меня только потому, что тот человек не пришел бы, если бы оказалось, что они будут вдвоем.
– Могла бы уйти, – сказала Патти.
– Нам уже было весело. Попробуешь – поймешь, почему я не ушла. Я тебе клянусь, я здесь только поэтому.
Вопреки здравому смыслу, эта ночь не привела к охлаждению или прекращению дружбы с Элизой. Вместо этого Патти порвала с Картером и попросила у Элизы прощения за то, что не рассказала ей все об их отношениях, а та попросила прощения у нее за то, что уделяла ей мало внимания, и пообещала в будущем следовать их правилам и не употреблять больше тяжелых наркотиков. Теперь автору ясно, что представления Картера об идеальном именинном подарке явно включали в себя наличие пары доступных девушек и белого муравейничка на прикроватной тумбочке. Но Элиза исступленно корила себя и от беспокойства была весьма убедительна. На следующее утро, прежде чем Патти успела все обдумать и сделать вывод, что ее предполагаемая лучшая подруга делала что-то не то с ее предполагаемым парнем, Элиза уже, запыхавшись, колотилась к ней в дверь с сообщением, что уже три раза пробежала трек в четверть мили и теперь Патти должна научить ее каким-нибудь упражнениям. С ее точки зрения, она была одета как заправский бегун (майка с изображением Лены Лович, боксерские шорты до колен, черные носки, кеды). Она горела идеей совместных занятий по вечерам, пылала любовью к Патти и страшилась ее потерять; и Патти, которой только что открылось истинное лицо Картера, закрыла глаза на то, что представляла из себя Элиза.
Элиза продолжала массированное наступление, пока Патти не согласилась провести с ней лето в Миннеаполисе, после чего снова стала пропадать и потеряла всякий интерес к спорту. Большую часть этого жаркого лета Патти провела одна в снятом через третьи руки клоповнике в Динкитауне, жалея себя и чувствуя, как рушится ее самооценка. Она не понимала, почему Элиза была так одержима идеей совместной жизни: как правило, она возвращалась домой не раньше двух часов ночи или не возвращалась вовсе. Правда, она продолжала уговаривать Патти употребить что-нибудь новенькое, сходить на концерт или найти себе нового любовника, но Патти питала временное отвращение к сексу и постоянное – к наркотикам и сигаретному дыму. К тому же зарплаты за летнюю работу на кафедре физвоспитания едва ли хватало на покрытие ренты, а она не хотела, уподобляясь Элизе, просить родителей о денежных вливаниях. Поэтому Патти чувствовала себя все более и более несовершенной и одинокой.
– Почему мы дружим? – спросила она наконец, пока Элиза наводила марафет перед очередным выходом.
– Потому что ты потрясающая, ты красавица и мой самый любимый человек в мире, – ответила Элиза.
– Я спортсменка. Со мной скучно.
– Нет! Ты Патти Эмерсон, мы живем вместе, и это круто.
Ее слова переданы дословно – автору они врезались в память.
– Но мы ничего не делаем, – сказала Патти.
– А что бы ты хотела делать?
– Я думаю поехать к родителям на некоторое время.
– Что? Ты шутишь? Ты их не любишь! Ты должна остаться со мной.
– Но ты каждый вечер уходишь.
– Тогда давай займемся чем-нибудь вместе.
– Но ты же знаешь, что я не хочу заниматься такими вещами.
– Хорошо, тогда пойдем в кино. Можем пойти прямо сейчас. Что ты хочешь посмотреть? Хочешь посмотреть “Дни жатвы”?
Так началось очередное массированное наступление, продолжавшееся достаточно долго, чтобы перетянуть Патти через перевал лета и не дать ей сбежать. Во время этого – третьего по счету – медового месяца, изобиловавшего двойными сеансами в кино, вином с содовой и заезженными до дыр альбомами Blondie, Патти впервые услышала о музыканте Ричарде Каце.
– О боже, – стонала Элиза. – Кажется, я влюбилась. Кажется, я теперь буду хорошей девочкой. Он такой большой. Как будто на тебя падает нейтронная звезда. Как будто тебя стирают гигантским ластиком.
Гигантский ластик только что закончил Макалистер-колледж, устроился на работу в компанию, сносящую дома, и организовал панк-группу под названием “Травмы”, в успехе которой Элиза не сомневалась. Единственным, что не вписывалось в ее идеальный образ Каца, был его выбор друзей.
– Он живет с каким-то зацикленным придурком, Уолтером, – рассказывала она. – Такой, знаешь, безумный фанат, но при этом весь из себя пуританин. Очень странно. Я сначала решила, что это менеджер Каца, но он оказался каким-то лузером. Я утром выхожу из комнаты Каца, а Уолтер сидит на кухне, ест фруктовый салат и читает “Нью-Йорк таймс”. Знаешь, о чем он меня спросил? Видела ли я какие-нибудь хорошие пьесы в последнее время. Пьесы – это типа театр. Очень Странная Парочка. Познакомишься с Кацем – сама поймешь.
В конечном итоге некоторые обстоятельства оказались для автора более болезненными, чем дружба Уолтера и Ричарда. На первый взгляд они казались еще более странной парой, чем даже Патти с Элизой. Неизвестный гений из отдела расселения Макалистер-колледжа поселил душераздирающе ответственного провинциала из Миннесоты в одной комнате с замкнутым и ненадежным городским гитаристом из Йонкерса, склонным к различного рода зависимостям. Единственным их сходством, в котором мог быть уверен гений из отдела расселения, было то, что они оба получали пособие для малоимущих. Тонкий светлокожий Уолтер был выше, чем Патти, но гораздо меньше смуглого широкоплечего Ричарда, в котором было шесть футов четыре дюйма роста. Ричард обладал сильным сходством (которое впоследствии отмечали многие, не только Патти) с ливийским диктатором Муаммаром эль-Каддафи. Те же черные волосы, те же смуглые рябые щеки, та же удовлетворенная улыбка властителя, осматривающего войска и пусковые установки[26]. Он выглядел на пятнадцать лет старше своего друга. Уолтер напоминал назойливого помощника тренера, какие иногда встречаются в школьных спортивных командах, – хилый мальчик, который во время игр стоит с папкой у края поля в пиджаке и галстуке. Игроки терпят его, потому что он хорошо разбирается в правилах. Это казалось одной из составляющих отношений между Ричардом и Уолтером: Ричард, во многих отношениях раздражительный и ненадежный человек, бесконечно серьезно относился к своей музыке, а Уолтер обладал необходимыми познаниями для того, чтобы ценить подобную музыку. Позже, когда Патти узнала их лучше, она поняла, что на самом деле они не так уж и различались – оба изо всех сил старались, пусть и по-разному, быть хорошими людьми.
Патти познакомилась с гигантским ластиком душным августовским воскресеньем: она вернулась с пробежки и обнаружила его на диване, словно бы съежившемся под огромным Ричардом. Элиза тем временем принимала душ в их неописуемой ванной. Ричард, одетый в черную футболку, читал книгу, на мягкой обложке которой была большая буква V. Только после того как обливающаяся потом Патти налила себе стакан холодного чая, он обратился к ней:
– А ты что?
– Прошу прощения?
– А ты что тут делаешь?
– Я тут живу.
– Понял.
Ричард медленно и тщательно оглядел ее. Ей показалось, что, по мере того как его взгляд скользил по ее телу, она постепенно впечатывалась в стену, и когда он отвернулся, она, абсолютно плоская, оказалась пришпилена к обоям.
– Ты видела альбом? – спросил он.
– Э-э. Альбом?
– Я тебе покажу, – сказал он. – Тебе, должно быть, интересно.
Он сходил в комнату Элизы и протянул Патти папку на трех кольцах, после чего вновь уткнулся в книгу и как будто забыл о ней. Это была старомодная папка, обитая бледно-голубой тканью, на которой крупными буквами было написано ее имя: патти. В нем были, как показалось Патти, все ее фотографии, когда-либо печатавшиеся в спортивном разделе газеты “Миннесота дейли”, все открытки, которые она когда-либо посылала Элизе, все полоски фотографий из фотобудок, где они снимались вдвоем, и все фотографии с тех выходных, когда они наелись кексов с марихуаной. Патти сочла альбом странным и чересчур подробным, но главным образом она почувствовала жалость к Элизе – жалость и стыд, что спрашивала у подруги, любит ли та ее.
– Странная она девочка, – заметил Ричард с дивана.
– Где ты это взял? Ты всегда копаешься в вещах людей, с которыми спишь?
Он рассмеялся.
– J’accuse![27]
– Всегда?
– Остынь. Он лежал за кроватью. На самом виду, как говорят копы.
Шум воды в ванной оборвался.
– Верни на место, – сказала Патти. – Пожалуйста.
– Я подумал, что тебя это заинтересует, – сказал Ричард, не двигаясь с места.
– Пожалуйста, положи его туда, откуда взял.
– Начинаю подозревать, что у тебя такого альбома нет.
– Пожалуйста.
– Очень странная девочка, – повторил Ричард, забирая у нее альбом. – Потому я и заинтересовался.
Фальшь, сквозившая в обращении Элизы с мужчинами, – она непрестанно хихикала, сюсюкала и ерошила волосы – могла настроить против нее даже друзей. В сознании Патти переплелись ее постоянное стремление угодить Ричарду, ее странный альбом и неуверенность в себе, которую он символизировал. Она впервые начала стесняться своей подруги. Это было странно, учитывая, что Ричард не стеснялся спать с Элизой, а у Патти вроде как не было причин интересоваться его мнением об их дружбе.
В следующий раз она увидела Ричарда чуть ли не в последний день житья в клоповнике. Он снова сидел на диване, сложив руки и тяжело притопывая правым сапогом, и наблюдал за Элизой, которая играла на гитаре именно так, как привыкла слышать Патти: крайне неуверенно.
– Ты не попадаешь, – сказал он. – Отстукивай ритм.
Но Элиза, вспотевшая от сосредоточенности, остановилась, как только заметила Патти.
– Я не могу играть при ней.
– Можешь, почему нет, – сказал Ричард.
– Вообще-то не может, – запротестовала Патти. – Я ее нервирую.
– Интересно. С чего вдруг?
– Понятия не имею, – ответила Патти.
– Она слишком меня поддерживает, – сказала Элиза. – Я прямо чувствую, как она хочет, чтобы у меня все получилось.
– Какой ужас, – обратился Ричард к Патти. – Ты должна хотеть, чтобы она слажала.
– О’кей, – согласилась Патти. – Я хочу, чтобы ты слажала. Можешь? У тебя вроде неплохо это получается.
Элиза изумленно на нее посмотрела. Патти сама удивилась своим словам.
– Извините, я пойду к себе, – сказала она.
– Сначала послушаем, как она налажает, – предложил Ричард. Но Элиза уже отключала провода.
– Тебе надо играть с метрономом, – сказал ей Ричард. – У тебя есть метроном?
– Это была плохая идея.
– Может, ты сам что-нибудь сыграешь? – спросила Патти.
– В другой раз, – ответил он.
Но Патти вспомнила смущение, охватившее ее, когда он вручил ей альбом.
– Одну песню, – взмолилась она. – Один аккорд. Сыграй один аккорд. Элиза говорит, что ты круто играешь.
Он покачал головой.
– Приходи как-нибудь на концерт.
– Патти не ходит на концерты, – вмешалась Элиза. – Ей не нравится дым.
– Я занимаюсь спортом, – сказала Патти.
– Да, я уже видел, – ответил Ричард, взглянув на нее со значением. – Звезда баскетбола. Кто ты – нападающий, защитник? Я не знаю, какой рост у девушек считается высоким.
– Я считаюсь невысокой.
– Но ты довольно высокая.
– Да.
– Мы собирались идти, – сказала Элиза, вставая.
– Ты сам выглядишь как баскетболист, – сказала Патти Ричарду.
– Неохота ломать пальцы, – фыркнул он.
– Неправда, – запротестовала она. – Это редко случается.
Но она мгновенно поняла, что эта реплика не была интересной или продуктивной. Ричарду явно было плевать на ее баскетбол.
– Может, я схожу на какой-нибудь твой концерт, – сказала она. – Когда следующий?
– Как ты туда пойдешь, там же накурено? – с неудовольствием спросила Элиза.
– Это неважно, – сказала Патти.
– Да? Вот это новости.
– Захвати с собой беруши, – посоветовал Ричард.
После того как они ушли, Патти поплакала в своей комнате – причины для слез были слишком неутешительны, чтобы формулировать их. В следующий раз она увидела Элизу тридцать шесть часов спустя и извинилась за свою стервозность, но Элиза уже была в отличном настроении и сказала ей, чтобы та ни о чем не беспокоилась, что она продает гитару и с удовольствием сводит Патти на концерт Ричарда. Концерт состоялся субботним сентябрьским вечером в слабо вентилируемом клубе под названием “Лонгхорн”. “Травмы” играли на разогреве у Buzzcocks. Первым, кого Патти увидела, был Картер. Он намертво вцепился в гротескно хорошенькую блондинку в блестящем коротком платье.
– Вот дерьмо, – сказала Элиза.
Патти храбро помахала Картеру, который – сама учтивость – направился к ней, сверкнув своими плохими зубами. Блестки семенили следом. Элиза протащила Патти через сцепление дымящих сигаретами панков к сцене. Там они наткнулись на светловолосого юношу, в котором Патти распознала знаменитого соседа Ричарда раньше, чем Элиза громко и монотонно выпалила: “Привет-уолтер-как-дела”.
Не будучи знакомой с Уолтером, Патти не осознала, насколько необычным было то, что вместо дружелюбной улыбки ее подруга получила в ответ холодный кивок.
– Это моя лучшая подруга, Патти, – сказала ему Элиза. – Можно она тут с тобой постоит, пока я сбегаю за сцену?
– Они сейчас начнут, – заметил Уолтер.
– Я на секунду, – ответила Элиза. – Присмотри за ней, хорошо?
– Мы можем туда вместе пойти.
– Нет, займи нам место. Я сейчас.
Уолтер с неудовольствием проследил за тем, как она ввинтилась в толпу и исчезла. Он выглядел вовсе не таким чудиком, как описывала Элиза, – на нем был свитер с V-образным вырезом, а волосы его представляли собой кудрявую рыжеватую копну. Он был похож именно на того, кем являлся, – на первокурсника с юридического факультета, но он выделялся в окружении панков с их уродливыми прическами и нарядами, и Патти, внезапно застеснявшаяся своей одежды, которая еще минуту назад полностью ее устраивала, была благодарна ему за его обычность.
– Спасибо, что стоишь тут со мной, – сказала она.
– Я думаю, нам еще долго тут стоять, – заметил Уолтер.
– Рада познакомиться.
– Я тоже рад. Ты же звезда баскетбола?
– Да, это я.
– Ричард рассказал мне про тебя. – Он повернулся к ней. – Ты употребляешь много наркотиков?
– Нет! Боже. С чего вдруг?
– Сужу по твоей подруге.
Патти не знала, как ей справиться со своим выражением лица.
– Я не знала.
– Ну, за сцену она пошла именно за этим.
– Ясно.
– Извини. Я знаю, вы дружите.
– Да нет, такие вещи стоит знать.
– Она, кажется, неплохо обеспечена.
– Да, родители дают ей деньги.
– Точно, родители.
Уолтер, казалось, был так озабочен отсутствием Элизы, что Патти умолкла. Она вновь ощутила угрюмый дух соперничества. Едва осознавая свой интерес к Ричарду, она находила нечестным, что Элиза использует не только себя, свою наивную полупривлекательную личность, но и родительские возможности, чтобы привлекать Ричарда и покупать доступ к нему. Какой слепой была Патти! Как она отстала от окружающих! И как уродливо выглядела сцена! Голые провода, холодный хром барабанов, невзрачные микрофоны, изолента вроде той, которой залепляют рот похищенным, и прожекторы, похожие на пушки: жесткое и откровенное зрелище.
– Ты часто ходишь на концерты? – спросил Уолтер.
– Нет, никогда. Один раз была.
– У тебя есть беруши?
– Нет. А надо?
– Ричард играет очень громко. Можешь взять мои. Они почти новые.
Он достал из кармана рубашки мешочек с двумя белесыми резиновыми личинками. Патти взглянула на них и старательно улыбнулась.
– Нет, спасибо, – поблагодарила она.
– Я очень чистоплотный, – сказал он серьезно. – Никакого риска для здоровья.
– А как же ты?
– Я их разорву на половинки. Тебе понадобится заткнуть уши.
Патти наблюдала за тем, как старательно он рвет беруши.
– Я их пока подержу и надену, если понадобится, – сказала она.
Они простояли там еще пятнадцать минут. Элиза выскользнула из толпы, покачиваясь и сияя, огни погасли, и слушатели сгрудились перед сценой. Патти тут же уронила беруши. Все пихались куда сильнее, чем было необходимо. Толстяк, затянутый в кожу, врезался ей в спину и толкнул к сцене. Элиза уже трясла волосами и подпрыгивала от нетерпения, поэтому Уолтеру пришлось самому оттолкнуть толстяка и помочь Патти выпрямиться.
“Травмы”, высыпавшие на сцену, состояли из Ричарда, его неизменного басиста Эрреры и двух костлявых пареньков, которые, судя по виду, едва закончили школу. В ту пору в Ричарде было больше от шоумена, чем потом, когда стало ясно, что звездой ему не стать и лучше быть антизвездой. Он скакал на цыпочках и крутился, пошатываясь, ухватив гитару за гриф. Он сообщил публике, что его группа сыграет все песни, которые знает, и на это уйдет двадцать пять минут. Затем члены группы пошли вразнос и принялись штурмовать аудиторию яростным шумом, в котором Патти не слышала ни малейших признаков ритма. Музыка напоминала еду, слишком горячую, чтобы ощутить вкус, но отсутствие ритма или мелодии не мешало скопищу панков скакать, врезаться друг в друга и топтаться по всем наличествующим женским ступням. Пытаясь держаться от них подальше, Патти потеряла Уолтера и Элизу. Шум стоял невыносимый.
Ричард вместе с двумя другими “Травмами” орал в микрофон: “Я ненавижу солнце! Ненавижу солнце!” – и Патти, которая любила солнце, использовала все свои баскетбольные навыки, чтобы вырваться из зала. Она врубилась в толпу, растопырив локти, выбралась из давки, наткнулась на Картера и его блестящую подружку и продолжала пробираться к выходу, пока не очутилась на улице, в теплом и свежем сентябрьском воздухе, под миннесотским небом, на котором каким-то чудом еще сохранились следы сумерек.
Она помедлила у двери клуба, наблюдая за опоздавшими фанатами Buzzcocks и ожидая, что в дверях появится Элиза. Вместо этого она увидела Уолтера.
– Все в порядке, – сказала она. – Оказалось, что это не в моем вкусе.
– Тебя отвезти домой?
– Нет, возвращайся. Скажешь Элизе, что я поеду домой одна, чтобы она не волновалась.
– Не похоже, что она волнуется. Давай я провожу тебя домой.
Патти отказалась, Уолтер настаивал, она протестовала, он продолжал настаивать. Затем она поняла, что у него нет машины и он предлагает поехать с ней на автобусе, и начала протестовать с новой силой, а он настаивал на своем. Позже он сказал, что тогда, на остановке, начал влюбляться в нее, но ничего похожего на эту симфонию не звучало в сердце Патти. Она жалела, что оставила Элизу, потеряла беруши и не осталась еще поглядеть на Ричарда.
– Я, кажется, не прошла тест, – сказала она.
– Тебе вообще нравится такая музыка?
– Мне нравится Blondie. Мне нравится Патти Смит. Видимо, нет, мне не нравится такая музыка.
– Можно тогда спросить, почему ты пришла?
– Ну, Ричард меня пригласил.
Уолтер кивнул, как будто сделав для себя какой-то вывод.
– Ричард хороший человек? – спросила Патти.
– Очень! – воскликнул Уолтер. – Как посмотреть, конечно. Его мать бросила его, когда он был маленький, и помешалась на религии. Его отец работал на почте, пил, и, когда Ричард заканчивал школу, у него начался рак легких. Ричард до самой смерти заботился о нем. Он очень верный, хотя, наверное, не с женщинами. С женщинами он не так хорош, если ты об этом спрашивала.
Патти уже поняла это интуитивно, и ее почему-то не оттолкнуло это сообщение.
– А ты? – спросил Уолтер.
– Что – я?
– Ты хороший человек? Похоже, что да. И все же…
– И все же?
– Я ненавижу твою подругу! – взорвался он. – Мне не кажется, что она хороший человек. Вообще-то она мне кажется ужасной. Она лгунья и способна на подлость.
– Она моя лучшая подруга, – сказала Патти оскорбленно. – Со мной она ведет себя нормально. Может, вы просто не поладили.
– Она часто тебя куда-нибудь отводит, а потом бросает, пока нюхает кокс с кем-нибудь еще?
– Нет. Между прочим, это произошло впервые.
Уолтер промолчал, пыхтя от негодования. Автобус все не шел.
– Иногда я вижу, как нужна ей, и мне это очень, очень приятно, – сказала Патти после паузы. – Это бывает нечасто, но когда бывает…
– Не верю, что на свете мало людей, которым ты нужна.
– Со мной что-то не так. Других своих друзей я тоже люблю, но постоянно чувствую, что между нами стена. Как будто все они принадлежат к одному виду, а я – к другому. Более ревнивому, более эгоистичному. В общем, к худшему. Рядом с ними я все время чувствую, что притворяюсь. С Элизой мне притворяться не нужно – я могу просто быть собой и все равно буду лучше, чем она. Я же не слепая. Я вижу, что она двинутая. Но мне нравится с ней общаться. Ты никогда не чувствуешь того же по отношению к Ричарду?
– Нет, – ответил Уолтер. – С ним на самом деле очень тяжело общаться. Но он мне понравился с первого взгляда, когда мы только поступили. Он полностью погружен в свою музыку, но он очень любознательный, пытливый. Я это ценю.
– Видимо, дело в том, что ты просто по-настоящему хороший человек, – подытожила Патти. – Ты любишь его за то, какой он, а не за то, как ты себя с ним чувствуешь. Возможно, именно в этом разница между тобой и мной.
– Но ты кажешься очень хорошим человеком! – запротестовал Уолтер.
В глубине сердца Патти понимала, что произвела на него ошибочное впечатление. Ошибка всей ее жизни состояла в том, что она позволила Уолтеру верить в то, что ему казалось, зная, что это не соответствует истине. Он так верил в ее совершенство, что в конце концов убедил ее саму.
Когда в тот первый вечер они наконец вернулись в кампус, Патти вдруг осознала, что уже битый час говорит о себе, не замечая, что вопросы задает только Уолтер. Но мысль о том, чтобы проявить вежливость и заинтересованность, утомляла ее, потому что он ее не интересовал.
– Можно тебе как-нибудь позвонить? – спросил он у двери.
Она объяснила, что из-за тренировок будет не слишком общительна в ближайшее время.
– Но было ужасно мило с твоей стороны проводить меня до дома, – сказала она. – Спасибо.
– Тебе нравится театр? У меня есть знакомые, с которыми я хожу в театр. Это не должно быть свидание или что-то в этом роде.
– Я очень занята.
– В этом городе отличные театры, – настаивал он. – Я уверен, тебе понравится.
Бедный Уолтер, знал ли он, что на протяжении последующих месяцев, когда Патти узнавала его все ближе, больше всего в нем ее интересовало то, что он был другом Ричарда Каца? Замечал ли он, что при каждой встрече Патти удавалось непринужденно перевести разговор на Ричарда? Возникло ли у него подозрение в тот первый вечер, когда она позволила ему позвонить ей, что она думает о Ричарде?
На двери она обнаружила бумажку с сообщением от Элизы. Она сидела в своей комнате, и глаза ее слезились от дыма, пропитавшего волосы и одежду. Наконец Элиза перезвонила на телефон, стоящий в холле, и, перекрикивая шум на заднем фоне, напустилась на нее за внезапное исчезновение.
– Это ты исчезла, – сказала Патти.
– Я просто пошла поздороваться с Ричардом.
– Тебя не было полчаса.
– Что случилось с Уолтером? – спросила Элиза. – Он ушел с тобой?
– Он отвез меня домой.
– Хреново. Он тебе говорил, что ненавидит меня? По-моему, он ревнует. По-моему, его тянет к Ричарду. В этом есть что-то гейское.
Патти оглядела холл, чтобы убедиться, что ее никто не слышит.
– Это ты принесла наркоту на день рождения к Картеру?
– Что? Я тебя не слышу!
– Это ты принесла то, что вы с Картером употребляли на его дне рождения?
– Я не слышу!
– КОКС НА ДНЕ РОЖДЕНИЯ КАРТЕРА! ЭТО ТЫ ПРИНЕСЛА?
– Нет! Боже! Ты поэтому ушла? Ты из-за этого расстроилась? Это тебе Уолтер наговорил?
Патти с дрожащими губами повесила трубку и битый час стояла под душем.
За этим последовало очередное наступление Элизы, но уже не такое мощное, поскольку теперь она преследовала еще и Ричарда. Когда Уолтер исполнил свою угрозу и позвонил Патти, она обнаружила, что не против его увидеть – он был связан с Ричардом, а ей хотелось изменить Элизе. Уолтер был слишком тактичен, чтобы снова упоминать ее подругу, но Патти не забывала о его мнении, и некая добродетельная часть ее наслаждалась культурным времяпрепровождением, не включавшим в себя вино с содовой и бесконечное прослушивание одних и тех же пластинок. В ту осень она сходила с Уолтером на две пьесы и один фильм. Когда начался сезон игр, он сидел на трибуне, радостный и румяный, и махал каждый раз, когда она смотрела в его сторону. После матчей он звонил ей, чтобы восхититься ее игрой и продемонстрировать тонкое понимание стратегии, которое Элиза никогда не трудилась имитировать. Если он, не дозвонившись, оставлял сообщение, Патти с дрожью набирала его номер, надеясь поговорить с Ричардом, но, увы, Ричард, казалось, никогда не бывал дома один.
В перерывах между ответами на расспросы Уолтера Патти удалось выяснить, что он приехал из Хиббинга, штат Миннесота, подрабатывает плотником в той же компании, что и Ричард, и каждое утро встает в четыре часа, чтобы успеть позаниматься. Часам к девяти вечера он, как правило, начинал зевать, и, когда они начали встречаться, вечно занятую Патти это полностью устраивало. Как он и обещал, к ним присоединились три его подруги, с которыми он учился в школе и колледже, три эрудированные творческие девушки. Элиза бы наверняка высмеяла их полноту и сарафаны, если бы ей довелось с ними познакомиться. Глядя на эту восторженную троицу, Патти постепенно начала ценить Уолтера по достоинству.
Как рассказывали его подруги, Уолтер вырос в квартирке на задворках мотеля “Шепчущие сосны”. Отец был алкоголиком, старший брат регулярно колотил Уолтера, младший прилежно повторял издевательства старшего, а мать была слишком слаба духом и телом, чтобы справляться с работой кастелянши и ночного портье, поэтому летом, во время наплыва туристов, Уолтер целыми днями убирал комнаты, а затем допоздна размещал прибывающих, пока его отец напивался с дружками-ветеранами, а мать спала. Помимо этого, он во всем помогал отцу – мыл автостоянку, прочищал трубы, чинил титан. Отец зависел от его помощи, и Уолтер вкалывал, надеясь когда-нибудь заслужить похвалу. По словам его подруг, надежда эта была тщетной, поскольку Уолтер был слишком чувствительным и интеллигентным мальчиком и, в отличие от братьев, не увлекался охотой, грузовиками и пивом. Несмотря на круглосуточную и круглогодичную занятость, Уолтеру удавалось блистать в школьных спектаклях и мюзиклах, иметь множество преданных друзей, учиться у матери готовке и шитью, интересоваться природой (в круг его интересов входили тропические рыбы, муравьиные фермы, спасение осиротевших птенцов и составление гербариев). Школу он закончил с отличными результатами. Ему предлагали стипендию Лиги плюща, но он поступил в Макалистер, чтобы иметь возможность по выходным ездить домой и помогать матери в битве с упадком, царившим в мотеле (отец страдал эмфиземой и был совершенно бесполезен). Уолтер мечтал стать режиссером или актером, но учился на юридическом факультете и, по слухам, объяснял это следующим образом: “Хоть кто-то в семье должен зарабатывать”.
Странным образом Патти – хотя она не была влюблена в Уолтера – обижало присутствие других девушек на встречах, которые могли бы быть свиданиями, и она радовалась, замечая, что именно ее присутствие заставляет его сиять и беспрерывно краснеть, пока они болтают в антракте. Этой девчонке нравилось быть звездой. Практически в любой ситуации. На последний, декабрьский, спектакль он примчался перед самым началом, весь в снегу, держа в руках пакеты с подарками. Патти он вручил огромную пуансеттию, которую вез в автобусе, тащил по слякоти и с трудом пронес в зал. Всем, даже самой Патти, было очевидно, что подаренный ей цветок – остальные девушки получили интересные книжки – символизировал глубокое расположение. То, что Уолтер ухаживал не за более стройной версией его славных восторженных подружек, а за Патти, которая употребляла всю свою смекалку на изобретение новых поводов невзначай упомянуть Ричарда Каца, озадачило и встревожило ее – но и польстило. После спектакля Уолтер лично доставил пуансеттию в общежитие – сначала на автобусе, а затем пешком, по слякотным улицам. Оставшись одна, Патти открыла прикрепленную к горшку открытку, гласившую: Патти – с нежностью от преданного поклонника.
Примерно в то же время Ричард бросил Элизу. Как оказалось, бросатель из него был весьма жестокий. Элиза в истерике позвонила Патти, завывая, что “этот пидор” настроил Ричарда против нее, что Ричард не желает дать ей ни малейшего шанса и что Патти должна помочь ей и устроить им свидание, потому что он не желает с ней разговаривать или впускать в квартиру…
– У меня выпускные экзамены, – холодно сказала Патти.
– Давай вместе туда съездим! Мне надо все ему объяснить.
– Что объяснить?
– Что он должен дать мне шанс! Может он меня хотя бы выслушать?
– Уолтер не гей, – сказала Патти. – Ты это выдумала.
– О господи, он и тебя против меня настроил.
– Нет, – сказала Патти. – Это не так.
– Сейчас я приеду, и мы разработаем план действий.
– У меня утром экзамен по истории. Мне надо заниматься.
Далее Патти услышала, что Элиза уже полтора месяца не ходит на занятия, так как слишком увлеклась Ричардом. Он во всем виноват, она всем ради него пожертвовала, а теперь он ее бросил, а ей надо скрыть от родителей, что она запустила учебу, поэтому она сейчас приедет к Патти, пусть та никуда не уходит и ждет ее, потому что им надо придумать, как быть дальше.
– Я устала, – сказала Патти. – Мне надо заниматься, а потом я лягу спать.
– Черт, он вас обоих против меня настроил! Самых родных мне людей!
Патти удалось свернуть разговор, и она поспешила в библиотеку, где просидела до закрытия. Она была уверена, что Элиза ждет ее у выхода с сигаретой и планирует не давать ей уснуть до утра. Ей безумно не хотелось выполнять свои дружеские обязанности, но она сочла это своим долгом и почти разочаровалась, не встретив Элизу по пути в общежитие. Она почти что решилась позвонить ей, но облегчение и усталость перевесили чувство вины.
Прошло три дня, от Элизы ничего не было слышно. Перед тем как уехать на рождественские каникулы, Патти позвонила ей, чтобы убедиться, что все в порядке, но та не взяла трубку. Она улетела в Уэстчестер, окутанная облаком вины и беспокойства, и с каждой безуспешной попыткой дозвониться до подруги с кухонного телефона это облако сгущалось. В сочельник она позвонила в мотель “Шепчущие сосны” в Хиббинге, штат Миннесота.
– Твой звонок – это лучший рождественский подарок! – воскликнул Уолтер.
– Ну спасибо. Вообще-то я хотела узнать, как дела у Элизы. Она как-то пропала.
– Тебе еще повезло, – заметил Уолтер. – Нам с Ричардом в конце концов пришлось выключить телефон.
– Когда?
– Два дня назад.
– Тогда я спокойна.
Патти долго болтала с Уолтером, отвечая на его бесчисленные вопросы и описывая безумную рождественскую жадность, охватившую ее сестер и брата, ежегодные унизительные семейные напоминания о том, как поздно она перестала верить в Санта-Клауса, странные сексуально-сортирные шуточки, которыми отец обменивался с ее средней сестрой, “жалобы” этой же сестры на то, какие легкие задания дают первокурсникам в Йеле, и внезапное решение матери пересмотреть свое решение двадцатилетней давности перестать праздновать Хануку и прочие еврейские праздники.
– А у тебя как дела? – спросила Патти спустя полчаса.
– Нормально, – ответил Уолтер. – Печем с мамой сладости. Ричард с отцом играют в шашки.
– Как мило. Жаль, что меня там нет.
– Мне тоже ужасно жаль. Пошли бы с тобой на снегоступах.
– Было бы здорово.
Было бы и правда здорово, и Патти уже не могла сказать, сделало ли Уолтера привлекательным присутствие Ричарда или же он привлекал сам по себе – своим умением создавать уют везде, где бы ни находился.
Ужасные новости от Элизы поступили рождественской ночью. Патти подошла к телефону в подвале, где в одиночестве смотрела матч НБА. Прежде чем она успела попросить прощения, Элиза сама извинилась за долгое молчание и рассказала, что ходила по докторам.
– Мне сказали, что у меня лейкемия.
– О господи!
– После Нового года начнется лечение. Я сказала только родителям. Никому не рассказывай. Особенно Ричарду. Поклянись, что никому не скажешь.
Облако вины и беспокойства пролилось бурей сожалений. Патти рыдала и спрашивала Элизу, уверена ли она, уверены ли доктора. Элиза объяснила, что всю осень чувствовала себя все более и более вяло, но не хотела никому жаловаться, потому что боялась, что Ричард бросит ее, если окажется, что у нее мононуклеоз[28], но в конечном итоге все же обратилась к врачу, и два дня назад ей поставили диагноз – лейкемия.
– Опасная разновидность?
– Они все опасны.
– Но есть шанс выздороветь?
– Есть вероятность, что лечение поможет, – сказала Элиза. – Через неделю я буду знать точнее.
– Я вернусь пораньше. Я побуду с тобой.
Но Элиза, как это ни удивительно, больше не хотела, чтобы Патти была с ней.
Кстати о Санта-Клаусе: автор считает, что родители не должны врать, но тем не менее случаи бывают разные. Можно соврать человеку и устроить ему сюрприз, соврать ради шутки, а можно соврать, чтобы выставить дураком того, кто тебе поверит. Однажды, будучи подростком, Патти так обиделась на насмешки над ее долгой верой в Санта-Клауса (она верила в него даже тогда, когда ее младшие сестры и брат уже перестали), что отказалась выходить к рождественскому ужину. Отец пришел к ней в комнату и очень серьезно заявил, что от нее скрывали правду, потому что восхищались ее невинностью, и они очень ценят в ней это качество. Это одновременно было и самыми желанными словами на свете, и очевидной чушью, поскольку все с очевидным удовольствием дразнили ее. Патти верила в то, что родительский долг – учить детей отличать реальное от вымышленного.
Остаток зимы Патти изображала Флоренс Найтингейл – она таскала сквозь метель кастрюльки супа, отмывала кухню и ванную Элизы, оставалась у нее допоздна, вместо того чтобы отсыпаться перед матчем, часто засыпала, обняв свою изможденную подругу, подвергалась бесконечным проявлениям нежности (“Ты мой ангел-хранитель”, “Видеть тебя – все равно что быть в раю” и т. д., и т. п.) – и все это время не отвечала на звонки Уолтера, хотя бы чтобы объяснить, почему у нее теперь нет на него времени. Достаточно сказать, что все это время Патти не замечала красных флажков. Нет, говорила Элиза, от этого вида химиотерапии не выпадают волосы. И нет, она не может записываться на процедуры в то время, когда Патти могла бы забрать ее домой из больницы. И нет, она не хочет съехать с квартиры и перебраться к родителям, и да, родители постоянно ее навещают, просто они с Патти не совпадают, и да, больные раком постоянно делают себе противорвотные уколы иглами для подкожных инъекций – вроде той, что Патти нашла под тумбочкой.
Вероятно, самым большим красным флагом было то, как Патти избегала Уолтера. Она видела его на двух январских матчах, и они перебросились парой слов, но после этого он долго не появлялся на стадионе, и она понимала, что не отвечает на его звонки потому, что стесняется признать, сколько времени проводит с Элизой. Но что постыдного в том, чтобы заботиться о подруге, больной раком? Кроме того, разве она в пятом классе не поверила бы насмешкам одноклассников над Сантой-Клаусом, если бы хотя бы в глубине сердца хотела знать правду? Она выбросила пуансеттию, хотя та еще не увяла.
Уолтеру наконец удалось поймать ее в конце февраля, в снежный день, когда должен был состояться матч “Сусликов” и команды Калифорнийского университета – их главных соперников в этом сезоне. С самого утра Патти была настроена против всего мира благодаря телефонному разговору с матерью, которую она поздравляла с днем рождения. Патти твердо решила не рассказывать о своих делах и в очередной раз обнаружила, что Джойс абсолютно плевать на соперников ее команды, потому что она в полном восторге от успехов средней сестры Патти. Та по настоянию своего йельского профессора пробовалась на главную роль в новой нью-йоркской постановке “Участницы свадьбы”[29], прошла во второй состав и, возможно, на время оставит Йель, вернется домой и полностью посвятит себя театру. Джойс была на седьмом небе от счастья.
Заметив Уолтера, топчущегося на продуваемом всеми ветрами углу Уилсоновской библиотеки, Патти поспешила отвернуться, но он догнал ее. На его огромной меховой шапке покоился сугроб снега, а лицо покраснело, как навигационный маяк. Хотя он пытался улыбаться, голос его дрожал, когда он спросил Патти, получила ли она хотя бы одно из его сообщений.
– Я была очень занята, – сказала она. – Прости, что ни разу тебе не перезвонила.
– Я что-то не так сказал? Я тебя обидел?
Он был зол и задет, и она почувствовала себя ужасно.
– Нет, совершенно нет.
– Я бы еще чаще звонил, просто не хотел тебе надоесть.
– Просто ужасно занята, – пробормотала она. Снег не прекращался.
– Девушка, отвечавшая на звонки, должно быть, возненавидела меня, потому что я все время просил передать одно и то же.
– Ну, телефон стоит рядом с ее комнатой. Ее можно понять. Она все время кому-то что-то передает.
– Я не понимаю, – сказал Уолтер, чуть не плача. – Ты хочешь, чтобы я оставил тебя в покое? Да?
Она ненавидела, просто ненавидела подобные сцены.
– Я правда очень занята, – сказала она. – И у меня сегодня важный матч.
– Нет, – покачал головой Уолтер, – что-то случилось. Что? У тебя такой расстроенный вид.
Она не хотела упоминать разговор с матерью, потому что пыталась настроиться на игру, и лучше было на этом не зацикливаться. Но Уолтер так отчаянно молил об ответе – не ради своих чувств, но ради справедливости, – что Патти почувствовала, что должна что-то объяснить.
– Слушай, – сказала она. – Поклянись, что не скажешь Ричарду.
Сказав это, она осознала, что так и не понимает смысл этого запрета.
– У Элизы лейкемия. Это ужасно.
К ее изумлению, Уолтер расхохотался:
– Ну это вряд ли.
– Это правда, – сказала она. – Веришь ты в это или нет.
– Ладно. И она по-прежнему принимает героин?
– У нее лейкемия, – повторила Патти. – О героине я ничего не знаю.
– Даже Ричард этим не балуется, а это, поверь мне, говорит о многом.
– Я ничего об этом не знаю.
Уолтер с улыбкой кивнул.
– Тогда ты и вправду замечательный человек.
– Об этом я тоже ничего не знаю. Мне надо пообедать и пойти готовиться к игре.
– Прости, я не смогу сегодня прийти на матч, – сказал он, когда она повернулась, чтобы уйти. – Я хотел, но сегодня будет выступать Гарри Блэкман[30]. Я должен его послушать.
Она раздраженно обернулась:
– Без проблем!
– Это член Верховного суда. Автор вердикта по делу Роу против Уэйда.
– Я знаю, – сказала она. – Моя мать ему практически поклоняется. Можешь не объяснять, кто это.
– Ладно. Извини.
Между ними закрутился снежный вихрь.
– Ладно, тогда больше не буду тебе надоедать, – сказал Уолтер. – Мне жаль насчет Элизы. Надеюсь, у нее все будет хорошо.
В том, что произошло дальше, автор винит только себя – не Элизу, не Джойс, не Уолтера. Как всякого игрока, ее мучило, что периоды незаброса часто затягиваются: она честно отыгрывала второстепенные встречи, но даже в моменты худших вечерних дум находила утешение в чем-то большем – в своей команде, в мысли, что спорт важен, – извлекая истинную усладу из ободряющих воплей товарок по команде и подшучивания “на счастье” между таймами: вечные вариации про дырявые руки и мазилу, из тех, что и ей самой случалось выкрикивать тысячу раз. Она всегда стремилась завладеть мячом, потому что мяч всегда спасал ее, был надежной частью жизни и в детстве преданно сопровождал ее каждое лето. И все эти церковные ритуалы, которые неверующим кажутся бессмысленными или фальшивыми: когда мяч попадает в корзину, хлопают по ладоням так, когда член команды покидает поле – эдак, а после удавшегося штрафного – непременная куча-мала. И конечно, выкрики “Шона, давай!”, или “Кэти, молодец!”, или “Впе-ред! Впе-ред!”. Все это стало для нее настолько родным, настолько понятным, настолько необходимым сопровождением хорошей игры, что ей не приходило в голову этого стыдиться – так же как того, что она потела, носясь по полю. Женский спорт, конечно, был далек от пасторали. Помимо объятий здесь присутствовали яростное соперничество, ссоры и жестокая нетерпимость. Шона обвиняет Патти в том, что та делает слишком много пасов Кэти и слишком мало – ей; Патти негодует, видя, как тупоголовая Эбби Смит, центральный игрок, в очередной раз упустила мяч и не справилась с ним; Мэри Джейн Рорабэкер затаила злобу на Кэти, потому что та не пригласила ее снимать квартиру с ней, Патти и Шоной, хотя в Сент-Поле они дружили в десятом классе; каждый игрок испытывает виноватое облегчение, видя, как нервничает и лажает многообещающий новичок и потенциальный соперник, и т. д., и т. п. Но соревновательные виды спорта подразумевают наличие особой веры и полной самоотдачи, и когда в тебя окончательно вобьют этот образ мышления – в средней или по крайней мере старшей школе – тебе уже не о чем волноваться по пути в спортзал: ты знаешь Ответ на Вопрос, и Ответ этот – Команда, и все пустяковые личные переживания остаются за пределами зала.
Возможно, Патти, переволновавшись из-за разговора с Уолтером, забыла как следует поесть. Что-то определенно пошло не так в ту самую секунду, когда она вошла на стадион “Уильямс”. Команда Калифорнийского университета сплошь состояла из качков – трое игроков были шести футов росту, а то и больше, – и тренер Тредвелл задумала заставить их выдохнуться, чтобы самые низкорослые члены команды, особенно Патти, могли проскальзывать и забивать мячи прежде, чем “Мишки” выстроят свою защиту. Планировалось, что они будут вести себя максимально агрессивно и спровоцируют двух лучших бомбардиров “Мишек” на нарушения. Никто не ждал, что “Суслики” победят, но в случае победы они могли войти в двадцатку лучших команд в неофициальном национальном рейтинге – а так высоко при Патти они еще не забирались. Так что это был крайне неудачный вечер для утраты веры.
Патти ощущала какую-ту странную слабость. Во время разминки она двигалась так же, как и всегда, но ее мускулы словно утратили эластичность. Ее раздражала бодрость товарищей по команде, но стеснение в груди и медлительность мыслей мешали ей утихомирить их. Мысли об Элизе удалось прогнать, но вместо этого теперь она размышляла о том, что через полтора сезона с ее карьерой будет покончено, а ее сестра может стать знаменитой актрисой, так что спорт был сомнительным объектом приложения времени и сил, и ведь мать годами намекала на это, а она беспечно игнорировала ее предупреждения. Можно с уверенностью сказать, что подобные размышления перед игрой категорически не рекомендуются.
– Будь собой, будь крутой! – наставляла ее тренер Тредвелл. – Кто наш лидер?
– Я лидер.
– Громче.
– Я лидер.
– Громче!
– Я лидер!
Если вы когда-нибудь занимались командными видами спорта, вы поймете, что после произнесения этих слов Патти немедленно ощутила собранность и сосредоточенность. Странно, что подобные фокусы работают и простые слова придают уверенности. Она спокойно размялась и спокойно пожала руки капитану “Мишек”, чувствуя на себе оценивающие взгляды соперников и зная, что их предупредили: она – очень опасный игрок и руководит нападением в “Сусликах”; ее репутация была чем-то вроде брони. Но когда начинаешь терять уверенность во время игры, никакие фокусы не помогают. Патти прорвалась к кольцу и сделала двухочковый бросок, и в этот момент вечер для нее закончился. К концу второй минуты она почувствовала комок в горле и поняла, что в эту игру налажает так, как не лажала никогда раньше. Ее противник был на два дюйма длиннее, на тридцать фунтов тяжелее и прыгал бог знает насколько выше, но проблема была не в ее теле – или, скажем так, не только в теле. Ощущение проигрыша угнездилось в ее сердце. Вместо того чтобы бурлить яростью из-за физического превосходства “Мишек”, она переживала из-за этой несправедливости, жалела себя. “Мишки” попробовали устроить массированное наступление по всему полю и с удивлением обнаружили, что у них это отлично получается. Шона отбила мяч в сторону Патти, но та упустила его, оказавшись в углу. Ей снова достался мяч, и она снова упустила его. Ей снова достался мяч, и она бросила его прямо в руки защитнику, словно желая порадовать его. Тренер объявила перерыв и потребовала, чтобы она встала дальше на поле и играла на передаче; но “Мишки” уже ждали ее там.
Она бросила мяч, тот описал длинную траекторию и приземлился куда-то на трибуны. Пытаясь сглотнуть ком в горле и разозлиться, она получила штрафной за нарушение. Прыгала Патти уже совсем без энтузиазма. В трехочковой зоне она дважды упустила мяч, и тренер вызвала ее на пару слов.
– Так, где моя девочка? Где мой лидер?
– У меня сегодня не получается.
– У тебя все получится. Все в твоих руках.
– Ладно.
– Покричи на меня. Выпусти пар.
Патти потрясла головой:
– Не хочу выпускать.
Тренер нагнулась и взглянула ей в лицо, и Патти с огромным усилием заставила себя взглянуть ей в глаза.
– Кто наш лидер?
– Я.
– Крикни!
– Не могу.
– Хочешь, чтобы я тебя удалила? Ты этого хочешь?
– Нет!
– Тогда иди. Ты нам нужна. Поговорим потом, ладно?
– Ладно.
Прилив сил тут же схлынул, ненадолго задержавшись в теле Патти. Она продолжала играть ради своих товарищей, но играла бесхарактерно, совсем как когда-то, – она участвовала в игре, а не вела ее, передавала мяч, а не забивала его; а затем скатилась к еще более старым привычкам и торчала на краю поля, иногда бросая оттуда мяч в прыжке – в другой вечер ей бы удался подобный трюк, но не сегодня. Как сложно спрятаться на баскетбольном поле! Патти вновь и вновь терпела неудачи, и каждая новая неудача словно бы приближала следующую. Повзрослев и узнав, что такое депрессия, она привыкла к чувству, которое испытывала в тот февральский вечер. Но тогда для нее было внове видеть, как вокруг бурлит игра, полностью вышедшая из-под ее контроля, и ощущать, что все происходящее – приближение и удаление мяча, тяжелые удары ног по полу, каждая новая попытка противостоять целеустремленным и решительным “Мишкам”, каждый добродушный хлопок по плечу в перерыве – имеет один смысл: это ее поражение, ее беспросветное будущее, тщетность ее усилий.
В конце третьего периода тренер наконец усадила ее на скамью. “Суслики” отставали на двадцать пять очков. Оказавшись на скамье, Патти немного пришла в себя. У нее вновь прорезался голос, и она подбадривала своих товарищей и хлопала их по ладоням, как неугомонная первокурсница, упиваясь унижением и стыдом из-за их чрезмерно деликатных утешений – она была низвергнута до болельщицы в игре, в которой должна была блистать. Но она считала, что заслужила этот позор, наломав дров на поле. Купаясь в собственном дерьме, Патти впервые за день отлично себя чувствовала.
В раздевалке она пропустила мимо ушей отповедь тренера, после чего проплакала добрых полчаса. Друзьям хватило мудрости оставить ее в покое.
Надев пуховик и вязаную шапочку с эмблемой “Сусликов”, она отправилась в лекторий, надеясь, что Блэкман еще выступает, но здание уже было заперто. На секунду Патти задумалась, не вернуться ли ей к себе, чтобы позвонить Уолтеру, но тут же поняла, что больше всего ей сейчас хочется нарушить режим и напиться вина. По заснеженным улицам она добрела до квартиры Элизы и тут поняла, что на самом деле ей больше всего хочется наорать на подругу.
Элиза возразила по домофону, что сейчас поздно и она устала.
– Впусти меня, – потребовала Патти. – Без вариантов.
Элиза впустила ее и улеглась на диван. Она валялась в пижаме и слушала какой-то пульсирующий джаз. Густой воздух был пропитан апатией и застоявшимся сигаретным дымом. Патти, упакованная в пуховик, стояла у дивана, и с ее кроссовок стекал растаявший снег. Элиза медленно дышала и очень долго собиралась заговорить – случайные подергивания лицевых мускулов наконец утратили хаотичность, и ей удалось пробормотать:
– Как игра?
Патти не ответила. Вскоре стало очевидно, что Элиза забыла о ее присутствии.
Не было смысла начинать орать на нее прямо сейчас, поэтому Патти быстро обыскала квартиру. Она сразу же нашла у дивана героин – Элиза просто бросила сверху подушку. Среди поэтических и музыкальных журналов лежала синяя папка на трех кольцах. На первый взгляд, с лета ее содержимое не изменилось. Она порылась в бумагах и счетах в поисках чего-нибудь, имеющего отношения к медицине, но ничего не нашла. Пластинка пошла по второму кругу. Патти перевернула ее и уселась на журнальный столик – перед ней лежал альбом и героин.
– Подъем, – сказала она.
Элиза зажмурилась еще крепче. Патти потрясла ее за ногу.
– Подъем!
– Мне нужна сигарета. Химия меня просто вырубает.
Патти усадила ее попрямее.
– Привет, – сказала Элиза, слабо улыбаясь. – Рада тебя видеть.
– Я больше не хочу с тобой дружить, – заявила Патти. – Мы больше не будем встречаться.
– Почему?
– Просто не хочу.
Элиза закрыла глаза и потрясла головой.
– Ты должна помочь мне, – сказала она. – Я принимала наркотики из-за боли. Из-за рака. Я хотела сказать тебе, но не решалась…
Она откинулась на спину.
– У тебя нет рака. Ты это выдумала, потому что двинулась на мне.
– У меня лейкемия. Сто процентов.
– Я пришла из вежливости, чтобы поговорить с тобой лично. Теперь я пошла.
– Останься! У меня проблемы с наркотиками, ты должна мне помочь.
– Мне нечем тебе помочь. Обратись к родителям.
Последовала долгая пауза.
– Дай сигарету, – попросила Элиза.
– Меня бесят твои сигареты.
– Я думала, что ты меня понимаешь насчет родителей. В том плане, что я не та, кем они хотели бы меня видеть.
– Я тебя вообще не понимаю.
Последовала еще одна пауза.
– Ты же понимаешь, что будет, если ты уйдешь? – спросила Элиза. – Я покончу с собой.
– Тогда нам определенно следует остаться друзьями! – съязвила Патти. – Чувствую, будет весело.
– Я просто тебя предупреждаю. Ты – единственная прекрасная вещь в моей жизни.
– Я не вещь, – уверенно сказала Патти.
– Ты когда-нибудь видела, как кто-нибудь колется? Я неплохо наловчилась.
Патти убрала шприц и героин в карман куртки.
– Какой телефон у твоих родителей?
– Не звони им.
– Позвоню. Без вариантов.
– Ты меня не бросишь? Ты будешь меня навещать?
– Обязательно, – солгала Патти. – Скажи мне номер.
– Они все время о тебе спрашивают. Они считают, что ты хорошо на меня влияешь. Ты не уйдешь?
– Не уйду, – снова солгала Патти. – Какой номер?
Родители прибыли после полуночи и выглядели именно так, как должны выглядеть люди, которых оторвали от приятного времяпрепровождения по подобному поводу. Патти обрадовалась знакомству с ними, но это чувство определенно не было взаимным.
Бородатый отец с глубоко посаженными темными глазами и миниатюрная мать в кожаных сапогах на шпильках словно распространяли вокруг себя сексуальные вибрации: Патти подумала о французском кино и вспомнила слова Элизы, что они жизни друг без друга не мыслят. Патти была бы не против услышать парочку извинений за поведение их чокнутой дочурки в присутствии посторонних, или благодарность за заботу об их дочери на протяжении последних двух лет, или по крайней мере признание, что именно они проспонсировали последний кризис. Но как только семейка очутилась в одной комнате, немедленно начала разворачиваться странная диагностическая драма, в которой явно не было роли для Патти.
– Какие наркотики, говори! – потребовал отец.
– М-м, герыч, – ответила Элиза.
– Герыч, сигареты, бухло. Что еще?
– Иногда чуть-чуть кокаина. Теперь уже реже.
– Что еще?
– Все.
– А твоя подружка тоже употребляет?
– Нет, она чемпионка по баскетболу. Я же вам говорила. Она правильная и крутая. Она потрясающая.
– Она знала, что ты употребляешь?
– Нет, я сказала, что у меня рак. Она ничего не знала.
– Сколько это продолжалось?
– С Рождества.
– И она тебе поверила. Ты нагородила всякой чуши, и она тебе поверила.
Элиза захихикала.
– Да, я ей поверила, – сказала Патти.
Отец даже не взглянул в ее сторону.
– А это что еще? – сказал он, показывая на голубой альбом.
– Это мой альбом “Патти”, – объяснила Элиза.
– Похоже на какую-то фанатскую тетрадь, – заметил отец матери.
– Она сказала, что бросает тебя, и ты заявила, что покончишь с собой, – подытожила мать.
– Что-то вроде того, – кивнула Элиза.
– Фанатизм какой-то, – прокомментировал отец, листая страницы.
– Ты и правда собиралась покончить с собой? – спросила мать. – Или это была просто угроза?
– В основном угроза.
– В основном?
– Ладно, я и не собиралась умирать.
– Но ты же понимаешь, что мы должны воспринять это всерьез. У нас просто нет выбора, – сказала мать.
– Я, пожалуй, пойду, – вмешалась Патти. – У меня утром занятия, так что…
– Какую разновидность рака ты себе выдумала? – спросил отец. – В какой части тела?
– Лейкемия.
– В крови, значит. Выдуманный рак крови.
Патти положила шприц и героин на кресло.
– Я положу сюда, хорошо? – сказала она. – Мне уже пора.
Родители посмотрели на нее, переглянулись и кивнули. Элиза поднялась с дивана.
– Когда мы увидимся? Ты придешь завтра?
– Нет, – ответила Патти. – Не думаю.
– Подожди! – Элиза подбежала и вцепилась Патти в руку. – Я все испортила, но я поправлюсь, и мы снова будем дружить, ладно?
– Ладно, – солгала Патти. Родители направились к ним, чтобы отцепить свою дочь.
Небо прояснилось, и температура поднялась до нуля. Патти жадно дышала, и чистый воздух лился в ее легкие. Свобода! Свобода! Больше всего на свете ей хотелось отмотать время назад и снова сыграть против Калифорнийского университета. Даже в час ночи, даже на голодный желудок она чувствовала, что способна победить. Она помчалась по улице Элизы, и в ушах ее звучали слова тренера – впервые за три часа, которые прошли с того момента, как они были произнесены. Тренер говорила, что это всего лишь игра, что у всех бывают неудачные дни, что завтра она снова будет в норме. Патти твердо вознамерилась плотнее, чем когда-либо, заняться поддержанием формы и тренировками, ходить с Уолтером в театр, сказать своей матери, что она рада за сестру. Вознамерилась стать лучше во всем. Охваченная восторгом, она не смотрела под ноги и заметила черный лед на тротуаре только тогда, когда ее левая нога ужасающим образом поехала куда-то в сторону, и, разбив ко всем чертям колено, она рухнула на землю.
Последующие шесть недель прошли однообразно. Она перенесла две операции – вторая понадобилась из-за того, что во время первой ей занесли инфекцию, – и в совершенстве выучилась ходить на костылях. Ее мать прилетела на первую операцию и разговаривала с врачами как с необразованными провинциальными мужланами. Патти пришлось извиняться за нее и быть особенно любезной, когда мать выходила из комнаты. Когда оказалась, что Джойс, возможно, была права, не доверяя врачам, Патти так расстроилась, что сообщила матери о второй операции лишь накануне. Она уверила Джойс, что той нет нужды прилетать – за ней здесь присматривают все друзья.
Уолтер Берглунд научился у своей матери ухаживать за больными женщинами и воспользовался временной неподвижностью Патти, чтобы вновь обосноваться в ее жизни. После первой операции он принес ей четырехфутовую норфолкскую сосну и предположил, что живое дерево понравится ей больше, чем срезанные цветы, которые все равно долго не протянули бы. После этого он навещал Патти почти каждый день – за исключением выходных, когда он ездил в Хиббинг помогать родителям. Он быстро очаровал ее друзей по спорту. Неказистым подружкам нравилось, что он слушает их внимательнее, чем парни, озабоченные лишь своей внешностью, а Кэти Шмидт, самая умная подруга Патти, объявила, что Уолтер так умен, что мог бы работать в Верховном суде. Спортсменки не привыкли находиться в обществе мужчины, с которым им было бы так комфортно, который бы так легко общался с девушками в перерывах между занятиями. Все видели, что он без ума от Патти, и все, кроме Кэти Шмидт, считали, что это потрясающе.
Кэти, как сказано выше, была умнее остальных.
– Он тебе не нравится, – сказала она.
– Ну в каком-то смысле нравится. А в каком-то и нет.
– То есть вы двое не…
– Нет. Вообще ничего. Не надо было ему рассказывать, что меня изнасиловали. Он чуть с ума не сошел, когда услышал. Тут же стал таким… нежным, и… заботливым, и… грустным. А теперь словно ждет письменного разрешения, чтобы сделать ход. Костыли, сама понимаешь, делу не помогают. Такое впечатление, что за мной повсюду ходит очень милый воспитанный пес.
– Ничего хорошего, – заметила Кэти.
– Да уж. Но я не могу от него избавиться, потому что он ужасно заботливый, и мне очень нравится с ним болтать.
– Он все-таки тебе немного нравится.
– Да. Может, даже не немного. Но…
– Но не безумно.
– Точно.
Уолтеру было интересно все, он читал газеты и “Тайм” от первого до последнего слова. В апреле, когда Патти перевели на полуамбулаторный режим, он начал приглашать ее на лекции, артхаусные и документальные фильмы, на которые ей бы иначе не удалось попасть.
Впервые кто-то заглянул в нее и увидел что-то за спортивным фасадом – любовь ли была тому причиной или тот факт, что из-за травмы у нее появилось много свободного времени. Чувствуя, что почти во всем, кроме спорта, она разбирается хуже Уолтера, Патти тем не менее была благодарна за то, что он признавал, что у нее может быть мнение и их мнения могут различаться. (Это было приятной переменой после Элизы – та на вопрос о том, как зовут президента Америки, со смехом отвечала, что понятия не имеет, и меняла пластинку на проигрывателе.) Уолтер носился с самыми разными идеями – он ненавидел Папу и католическую церковь, но одобрял исламскую революцию в Ираке, благодаря которой, как он надеялся, в Штатах будет экономней расходоваться энергия; ему нравилась новая программа контроля над рождаемостью в Китае, и он полагал, что США стоит устроить что-то подобное; авария на острове Три-Майл[31] волновала его в меньшей степени, чем низкие цены на бензин и необходимость постройки высокоскоростных железных дорог, которые сделали бы ненужными автомобили, и т. д., и т. п. Патти пристрастилась хвалить то, что ему не нравилось. Особенно ей нравилось спорить с ним об “угнетении женщин”[32]. Как-то раз, ближе к концу семестра, за кофе в студенческом совете у них состоялся знаменательный разговор, касающийся профессора Патти по наивному искусству, о котором она отзывалась весьма одобрительно, тем самым давая Уолтеру понять, каких качеств ей в нем не хватает.
– Фу! – воскликнул Уолтер. – Похоже, это обычный тип средних лет, который только и говорит что о сексе.
– Он говорит о символах плодородия, – запротестовала Патти. – Не его вина, если единственная скульптура, пережившая эти пятьдесят тысяч веков, говорит нам о сексе. К тому же у него белая борода, поэтому я его жалею. Сам подумай. Он бы мог много чего сказать о “нынешних юных леди”, об “этих костлявых созданиях”, и он знает, что мы его стесняемся, а у него эта борода, и он уже немолод, а мы, сам понимаешь, гораздо моложе. Но он все равно не может удержаться. Ему, должно быть, так сложно. Ничего не может поделать и сам себя унижает.
– Но это оскорбительно!
– И все же, – продолжала Патти. – Думаю, ему на самом деле нравятся полные ляжки. В этом все и дело: он правда тащится от каменного века. От толстых. И ужасно мило и очень грустно, что он так увлечен древним искусством.
– Но разве тебя как феминистку это не оскорбляет?
– А я и не считаю себя феминисткой.
– Невероятно! – Уолтер покраснел. – Ты не поддерживаешь реформу образования?
– Да я не особо разбираюсь в политике.
– Но ты учишься в Миннесоте потому, что получила спортивную стипендию, а пять лет назад этого не могло произойти. Ты здесь благодаря женскому федеральному законодательству, благодаря девятому пункту.
– Но суть девятого пункта в банальной справедливости, – заметила Патти. – Если половина студентов женского пола, им должна доставаться половина денег на спорт.
– Это феминизм!
– Обычная справедливость. Например, Энн Майерс. Ты о ней слышал? Она была звездой команды Калифорнийского университета и только что подписала контракт с НБА. Это чушь. Она ростом около пяти с половиной футов, она девушка, как она будет играть? В спорте мужчины превосходят женщин, и так будет всегда. Именно поэтому на мужские баскетбольные матчи ходит в сто раз больше людей, чем на женские – мужчины способны на гораздо большее, чем женщины. Глупо это отрицать.
– А если бы ты хотела быть врачом и тебе нельзя было бы учиться в медицинском колледже, потому что там предпочитают студентов мужского пола?
– Это тоже было бы нечестно, хотя я и не хочу быть врачом.
– А чего ты хочешь?
Поскольку мать Патти неустанно строила впечатляющие карьеры своих дочерей, не преуспев, по мнению Патти, на материнском поприще, сама Патти склонялась к мечтам о карьере домохозяйки и выдающейся матери.
– Я хочу жить в красивом старом доме и воспитывать двоих детей, – сказала она Уолтеру. – Я хочу быть лучшей матерью в мире.
– Но ты же хочешь сделать карьеру?
– Моей карьерой будут дети.
Он нахмурился и кивнул.
– Видишь, – сказала она. – Я скучная. Я гораздо скучнее твоих друзей.
– Это ерунда, – запротестовал он. – Ты безумно интересная.
– Очень мило с твоей стороны, но чем докажешь?
– Мне кажется, что у тебя внутри гораздо больше, чем ты сама думаешь.
– Боюсь, что ты заблуждаешься. Спорим, что ты не назовешь ни одного моего интересного качества.
– Ну, для начала – ты многого добилась в спорте, – сказал Уолтер.
– Бум-бум. Очень интересно.
– И твой образ мышления, – добавил он. – То, что ты считаешь ужасного препода милым и трогательным.
– Но ты же со мной не согласен!
– И то, как ты говоришь о своей семье. Какие истории ты о них рассказываешь. То, что ты уехала так далеко и живешь сама по себе. Это все жутко интересно.
Патти никогда раньше не видела, чтобы кто-нибудь был так очевидно в нее влюблен. На самом деле они, разумеется, говорили о желании Уолтера присвоить ее. Чем больше времени они проводили вместе, тем сильнее Патти ощущала, что, хотя она не была милой девочкой – или, возможно, как раз из-за этого – и хотя ее одолевало мрачное стремление во всем быть первой и у нее были вредные привычки, – на самом деле она была интересным человеком. И Уолтер, яростно настаивая на ее интересности, в свою очередь становился все более и более интересен ей.
– Если ты такой феминист, то как ты можешь дружить с Ричардом? – спросила Патти. – Он же вроде нас не особо уважает, нет?
Лицо Уолтера затуманилось.
– Если бы у меня была сестра, я бы никогда их не познакомил.
– Почему? Потому что он бы с ней дурно обошелся? Он так ужасен с женщинами?
– Он не нарочно. Он любит женщин. Просто они довольно быстро ему надоедают.
– Потому что мы взаимозаменяемы? Потому что мы всего лишь вещи?
– Дело не в политике, – сказал Уолтер. – Он за равные права. Это скорее вредная привычка. Его отец страшно пил, а Ричард не пьет совсем. Но с девушками он поступает как с пустыми бутылками после пьянки – выбрасывает их, и все тут.
– Звучит ужасно.
– Да, это мне в нем не нравится.
– Но ты продолжаешь с ним дружить, хотя ты и феминист.
– Друзей не бросают из-за их несовершенств.
– Да, но надо же попытаться помочь им стать лучше. Объяснить, в чем они не правы.
– Ты так делала с Элизой?
– Ладно, победил.
В следующий раз Уолтер наконец пригласил ее на настоящее свидание, с кино и ужином. Это был бесплатный киносеанс, где показывали (как это было похоже на Уолтера!) черно-белый греческий фильм под названием “Афинский дьявол”. Пока они сидели в кинозале отделения искусств, ожидая начала сеанса, Патти описала свои планы на лето: пожить с Кэти Шмидт в загородном доме ее родителей, продолжать лечение и подготовиться к возвращению в следующем сезоне. Внезапно Уолтер спросил, не хочет ли она вместо этого пожить в комнате Ричарда – тот уезжает в Нью-Йорк.
– Ричард уезжает?
– Да. Вся музыка происходит в Нью-Йорке. Они с Эррерой хотят восстановить группу и попытать удачи там. А у меня еще три месяца оплачено.
– Ого! – Патти осторожно выстроила выражение лица. – И я буду жить в его комнате.
– Ну, это уже будет не его комната. Она будет твоей, – сказал Уолтер. – Оттуда недалеко до спортзала. Гораздо ближе, чем от Эдины.
– И ты предлагаешь мне жить с тобой.
Уолтер покраснел и опустил взгляд.
– Ну, у тебя же будет отдельная комната. Но вообще, если бы тебе как-нибудь захотелось поужинать и прогуляться, было бы здорово. Мне можно доверять в том, что касается личного пространства, и я буду рядом, если тебе захочется пообщаться.
Патти уставилась на него, силясь осмыслить услышанное. Она чувствовала смесь а) обиды и б) сожаления из-за того, что Ричард уезжает. Она почти предложила Уолтеру поцеловать ее, прежде чем предлагать переехать к нему, но от обиды ей совершенно не хотелось целоваться. И тут в зале погас свет.
Насколько автор помнит, сюжет “Афинского дьявола» заключался в следующем: однажды мягкосердечный афинский бухгалтер в роговых очках по пути на работу видит в газете свою фотографию. Заголовок гласит – АФИНСКИЙ ДЬЯВОЛ ПО-ПРЕЖНЕМУ НА СВОБОДЕ. Прохожие афинцы немедленно начинают гнаться за ним, и его едва не арестовывают, но тут ему на помощь приходит банда не то террористов, не то обычных преступников, которые принимают его за своего демонического главаря. Банда планирует что-то вроде взрыва Парфенона, и главный герой пытается объяснить им, что он – всего лишь мягкосердечный бухгалтер и вовсе не Дьявол, но они так рассчитывают на его помощь, а жители города так твердо вознамерились покончить с ним, что тот наконец впечатляющим жестом срывает очки и становится их бесстрашным главарем – Афинским Дьяволом! Ладно, ребята, говорит он, слушайте мой план.
На протяжении всего фильма Патти видела на месте бухгалтера Уолтера и представляла себе, будто это он решительно снимает очки. Затем за ужином в “Вешо” Уолтер истолковал фильм как иносказательное изображение коммунизма в послевоенной Греции и объяснил Патти, как Америка, нуждаясь в партнерах по НАТО в юго-восточной Европе, долгое время поддерживала политические репрессии в той области. Бухгалтер, сказал он, олицетворял собой Обычного Человека, который осознает необходимость вступить в жестокую схватку с правыми.
Патти попивала вино.
– Мне так не кажется, – сказала она. – Мне кажется, дело в том, что у главного героя никогда не было своей жизни, потому что он был очень ответственным, и всего стеснялся, и не знал, на что способен на самом деле. Ему незачем было жить, пока его не приняли за Дьявола. Хотя после этого он прожил всего несколько дней, ему не страшно было умереть, потому что он наконец-то чего-то достиг и осознал свои возможности.
Уолтер был шокирован.
– Довольно бессмысленная смерть, – заметил он. – На самом деле он же ничего не достиг.
– Тогда зачем?
– Потому что он почувствовал солидарность с теми, кто спас ему жизнь. Он понял, что несет за них ответственность. Они были его подчиненными и нуждались в нем, и он был верен им. Он умер ради верности.
– Боже! – изумленно сказала Патти. – Ты все-таки удивительный.
– Все не так, – запротестовал Уолтер. – Иногда я себя чувствую самым большим идиотом в мире. Я бы хотел уметь врать. Я бы хотел быть таким эгоистом, как Ричард, и хотел бы попробовать себя в творчестве. И я не могу не потому, что я какой-то удивительный. Мне чего-то для этого не хватает.
– Но бухгалтер тоже не считал, что способен на подобное. Он удивил самого себя!
– Да, но это не реалистичное кино. На фотографии в газете был не просто похожий человек, там был он! И если бы он сдался властям, все тут же прояснилось бы. Ошибка в том, что он побежал. Поэтому я и говорю, что это притча, а не реалистическая история.
Патти чувствовала себя странно с бокалом вина в присутствии Уолтера, потому что он абсолютно не пил, но у нее было лихое настроение, и она довольно быстро залила в себя довольно много.
– Сними очки, – сказала она.
– Нет. Тогда я не буду тебя видеть.
– Ничего. Это всего лишь я. Просто Патти. Сними.
– Но мне нравится видеть тебя! Я люблю смотреть на тебя!
Их глаза встретились.
– Поэтому ты хочешь, чтобы я переехала к тебе? – спросила Патти.
Он покраснел.
– Да.
– Тогда, может, взглянем на твою квартиру, чтобы я решила?
– Сейчас?
– Да.
– Ты не устала?
– Нет, я не устала.
– А как твое колено?
– Мое колено в порядке, спасибо.
Она наконец-то думала только об Уолтере. Если бы ее спросили тогда, когда она ковыляла по Четвертой улице, вдыхая мягкий, соблазнительный майский воздух, надеется ли она столкнуться в квартире с Ричардом, Патти ответила бы отрицательно. Она хотела секса немедленно, и будь у Уолтера хотя бы капля здравого смысла, он бы повернул обратно, услышав за своей дверью бурчание телевизора – увел бы ее куда-нибудь, куда угодно, хоть в ее комнату. Но Уолтер верил в настоящую любовь и, очевидно, боялся делать следующий шаг, не будучи уверенным во взаимности. Он привел Патти в квартиру. В гостиной, положив босые ноги на кофейный столик, сидел Ричард. На коленях у него лежала гитара, рядом на диване валялся блокнот на спирали. Он смотрел какой-то фильм о войне, пил пепси из огромной бутылки и сплевывал табак в банку из-под томатного соуса. В остальном в комнате царил образцовый порядок.
– А я думал, ты на концерте, – сказал Уолтер.
– Дерьмо, а не концерт, – ответил Ричард.
– Это Патти, помнишь ее?
Патти застенчиво проковыляла на передний план.
– Привет, Ричард.
– Патти, которая считается невысокой.
– Это я.
– И все-таки ты довольно высокая. Рад, что Уолтеру удалось наконец затащить тебя сюда. Я уж боялся, что этого никогда не произойдет.
– Патти думает пожить здесь летом, – вмешался Уолтер.
Ричард приподнял брови:
– В самом деле?
Он был тоньше, моложе и сексуальнее, чем запомнилось Патти. Как это ни ужасно, но внезапно ей захотелось сказать, что все это не так, что она вовсе не думала переезжать к Уолтеру или переспать с ним сегодня. Но, стоя здесь, глупо было отрицать очевидное.
– Я ищу квартиру поближе к спортзалу, – объяснила она.
– Конечно. Очень разумно.
– Она хотела взглянуть на твою комнату, – сказал Уолтер.
– Там сейчас не прибрано.
– Ты так говоришь, как будто там хоть иногда бывает прибрано, – радостно рассмеялся Уолтер.
– Случаются периоды относительной прибранности, – ответил Ричард и выключил телевизор пальцем ноги. – Как поживает твоя подружка Элиза? – спросил он у Патти.
– Она мне больше не подружка.
– Я же тебе говорил, – заметил Уолтер.
– Хотел услышать из первых рук. Она совершенно двинутая, правда? Сначала это не бросалось в глаза, но потом… Потом бросилось.
– Я совершила ту же ошибку, – призналась Патти.
– Только Уолтер сразу же все понял. Все об Элизе. Неплохое название.
– У меня было преимущество – она возненавидела меня с первого взгляда, – сказал Уолтер. – Мне было лучше видно.
Ричард захлопнул блокнот и сплюнул в банку коричневую кашицу.
– Я вас оставлю, дети мои.
– Над чем ты работаешь? – спросила Патти.
– Обычная херня, которую невозможно будет слушать. Пытался придумать что-нибудь с этой телочкой, Маргарет Тэтчер. Новый английский премьер-министр.
– “Телочка” звучит как-то притянуто по отношению к Маргарет Тэтчер, – сказал Уолтер. – “Дама” больше подходит.
– А тебе как “телочка”? – обратился Ричард к Патти.
– Да я вообще не из придирчивых, – ответила она.
– Уолтер утверждает, что так говорить нельзя. Он говорит, что это унизительно, хотя, по моему опыту, телки обычно не против.
– Звучит так, как будто ты еще в шестидесятых.
– Звучит так, как будто этот неандерталец еще с дерева не слез, – сказал Уолтер.
– У неандертальцев, по слухам, были прочные черепушки.
– Как и у быков, – заметил Уолтер. – И прочих жвачных животных.
Ричард рассмеялся.
– По-моему, сейчас уже никто не жует табак, кроме бейсболистов, – вмешалась Патти. – На что это похоже?
– Можешь попробовать, если есть желание блевануть, – сказал Ричард, вставая. – Я пошел. Оставляю вас, ребятки, наедине.
– Стой, я хочу попробовать, – сказала Патти.
– Это не лучшая твоя идея, – предупредил ее Ричард.
– Нет, я правда хочу.
То настроение безвозвратно ушло, и теперь ей было интересно, сумеет ли она удержать Ричарда. Ей наконец представилась возможность продемонстрировать то, что она пыталась объяснить Уолтеру с вечера их знакомства, – она недостаточно хороша для него. Разумеется, Уолтеру тоже представилась некая возможность – сорвать очки, принять демонический облик и изгнать соперника. Но Уолтер, как обычно, хотел, чтобы все было как хочет Патти.
– Дай ей попробовать, – сказал он.
Патти благодарно улыбнулась:
– Спасибо, Уолтер.
У табака был ментоловый вкус, и она тут же обожгла десны. Уолтер принес ей кофейную кружку для сплевывания, и Патти, как объект исследования, присела на диван, ожидая, пока подействует никотин, и наслаждаясь всеобщим вниманием. Но Уолтер порой поглядывал на Ричарда, и у нее вдруг заколотилось сердце: она вспомнила убежденность Элизы в том, что Уолтер по-особенному относился к своему другу; вспомнила ее ревность.
– Ричард восхищается Маргарет Тэтчер, – сказал Уолтер. – Он считает, что она олицетворяет собой капиталистическую “избыточность”, которая неизбежно приведет к падению капитализма. Думаю, Ричард пишет любовную балладу.
– Ты меня знаешь, – протянул Ричард. – Любовная баллада для волосатой дамочки.
– Мы пока не пришли к согласию по поводу вероятности марксистской революции, – объяснил Уолтер.
– М-м, – сказала Патти и сплюнула.
– Уолтер считает, что либеральное государство способно к саморегуляции, – сказал Ричард. – Он считает, что американская буржуазия с энтузиазмом примет все возрастающие ограничения их персональных свобод.
– У меня есть куча крутых идей для песен, а Ричард их почему-то все отвергает.
– Песня про экономичное топливо. Песня про общественный транспорт. Песня про национальную систему здравоохранения. Песня про налог на детей.
– Эти темы – белое пятно на карте рок-музыки, – заявил Уолтер.
– Два ребенка хорошо, а четыре – плохо.
– Два ребенка хорошо, а без них – еще лучше.
– Уже вижу, как толпы выходят на улицы.
– Тебе просто надо приобрести мировую известность, – сказал Уолтер. – Тогда тебя послушают.
– Запишу, чтобы не забыть. – Ричард повернулся к Патти: – Ты как?
– М-м! – ответила она, сплевывая в кофейную кружку. – Я, кажется, поняла, что ты имел в виду, говоря про “блевануть”.
– Попробуй не загваздать диван.
– Как ты себя чувствуешь? – спросил Уолтер.
Комната плыла и пульсировала.
– И тебе это нравится? – спросила Патти у Ричарда.
– Нравится.
– Как ты себя чувствуешь? – повторил Уолтер.
– Нормально. Главное – не шевелиться.
На самом деле ее сильно тошнило. Делать было нечего – приходилось сидеть на диване и слушать беззлобную перебранку Уолтера с Ричардом о политике и музыке. Уолтер с энтузиазмом продемонстрировал ей пластинку “Травм” и уговорил Ричарда проиграть сначала одну сторону, а потом и вторую. Первой шла песня “Ненавижу солнце”, которую она слышала осенью в клубе и которая сейчас казалась точным звуковым эквивалентом никотинового передоза. Хотя громкость была минимальная (стоит ли говорить, что Уолтер патологически стремился не беспокоить соседей), музыка вызывала у Патти жуткое, тошнотворное чувство. Слушая ужасающий баритон Ричарда, она чувствовала на себе его взгляд и понимала, что совершенно правильно истолковывала то, как он смотрел на нее в предыдущие встречи.
Около одиннадцати часов Уолтер начал неудержимо зевать.
– Прости, – сказал он. – Я отведу тебя домой.
– Я сама дойду. Если что, буду отмахиваться костылями.
– Нет, – сказал он. – Мы поедем на машине Ричарда.
– Нет, тебе пора спать, бедный ты, бедный. Может, Ричард меня отвезет? Согласишься на это ради меня?
Уолтер закрыл глаза и печально вздохнул, словно переступая через себя.
– Конечно, – сказал Ричард. – Я тебя отвезу.
– Сначала пусть посмотрит твою комнату, – пробормотал Уолтер, не открывая глаз.
– Добро пожаловать. Порядок говорит сам за себя.
– Мне понадобится экскурсовод, – со значением посмотрела на него Патти.
Стены и потолок комнаты были выкрашены в черный цвет, и панковская разруха, которую Уолтер свел на нет в гостиной, здесь цвела пышным цветом. Повсюду валялись пластинки и конверты от них, а также пустые заплеванные банки; пейзаж дополняли несколько гитар, переполненные книгами полки и кровать со смятыми черными простынями – было интересно и почему-то не противно думать о том, что на этих простынях происходило яростное стирание Элизы.
– Жизнерадостный цвет! – прокомментировала Патти.
Уолтер снова зевнул.
– Я это, разумеется, перекрашу.
– Если Патти не предпочитает черный, – заметил Ричард, стоя в дверях.
– Никогда об этом не думала, – ответила она. – Черный – это интересно.
– По-моему, очень успокаивающий цвет, – сказал Ричард.
– Так ты уезжаешь в Нью-Йорк.
– Да.
– Круто. Когда?
– Через две недели.
– О, я тоже в это время еду туда же. У родителей двадцать пятая годовщина свадьбы. Планируется какое-то омерзительное Празднество.
– Ты из Нью-Йорка?
– Уэстчестер.
– Я тоже. Хотя, видимо, из другой его части.
– Мы жили в пригороде.
– Определенно это не Йонкерс.
– Я кучу раз проезжала там на автобусе.
– Именно.
– И ты едешь в Нью-Йорк на машине? – спросила Патти.
– А что? Тебя надо подвезти?
– Возможно. Это предложение?
Он потряс головой:
– Мне надо об этом подумать.
Глаза бедняги Уолтера закрывались, и он в буквальном смысле слова не видел этого разговора. У Патти перехватывало дыхание от чувства вины и смущения, и она торопливо заковыляла ко входной двери, откуда и поблагодарила его за приятный вечер.
– Прости, что я так устал, – сказал он. – Тебя точно не отвезти?
– Я ее отвезу, – сказал Ричард. – Иди ложись.
Уолтер выглядел очень несчастным, но, возможно, он просто очень устал. Снаружи был прекрасный воздух, и Патти и Ричард в молчании дошли до его старой “импалы”.
Ричард, казалось, старался не прикасаться с ней, пока она усаживалась. Патти протянула ему свои костыли.
– А я думала, у тебя фургон, – сказала она, когда он уселся рядом. – Думала, у всех групп есть фургоны.
– У Эрреры есть фургон. Это мой личный транспорт.
– Значит, так я поеду в Нью-Йорк.
– Да, слушай. – Он вставил ключ в замок зажигания. – Ты уж либо рыбачь, либо снимай наживку. Понятно? Это нечестно по отношению к Уолтеру.
Она уставилась прямо на ветровое стекло.
– Что нечестно?
– Давать ему надежду.
– Вот как ты обо мне думаешь.
– Он удивительный человек и очень, очень серьезный. С ним надо обращаться бережно.
– Я знаю, – сказала она. – Можешь не объяснять.
– Хорошо, и зачем вы сюда пришли? Мне показалось…
– Что? Что тебе показалось?
– Мне показалось, что я чему-то помешал. Но когда я попытался уйти…
– Ну ты и сволочь.
Ричард кивнул, как будто ему было совершенно наплевать на то, что она о нем думает, или как будто он устал от глупых женщин, говорящих ему глупости.
– Когда я попытался уйти, – сказал он, – ты как будто не поняла намека. Ладно, дело твое. Просто хотел узнать, понимаешь ли ты, что просто убиваешь Уолтера.
– Я не хочу говорить с тобой об этом.
– Ладно. Не будем говорить об этом. Но ты с ним часто видишься? Почти каждый день, да? Уже много недель.
– Мы друзья. Мы гуляем.
– Отлично. И ты знаешь про ситуацию в Хиббинге.
– Да. Его маме нужна помощь в отеле.
– Это все, что он тебе сказал.
– У его отца эмфизема. Мать – инвалид.
– И он двадцать пять часов в неделю работает на стройке и учится на отлично в юридической школе. Но у него тем не менее есть время каждый день гулять с тобой. Как здорово, правда, что у него столько свободного времени? Но у тебя ведь симпатичная мордашка, ты же этого заслуживаешь, правда? И такая ужасная травма. Травма и мордашка, и это дает тебе право ни о чем даже не спрашивать.
В Патти бурлило чувство несправедливости.
– Знаешь что, – нервно сказала она, – он рассказывал мне, как ты по-скотски обращаешься с женщинами. Рассказывал.
Это, казалось, совершенно не заинтересовало Ричарда.
– Я все пытался понять, как это вы так подружились с малышкой Элизой, – сказал он. – Теперь понятно. Сначала я удивился. Ты показалась такой славной девчушкой из пригорода.
– То есть я тоже сволочь. Ты это хочешь сказать? Я сволочь и ты сволочь.
– Конечно. Как хочешь. Я не в порядке, ты не в порядке. Не важно. Я всего лишь прошу тебя не быть сволочью с Уолтером.
– Чушь!
– Говорю о том, что вижу.
– Значит, не то видишь. Уолтер мне нравится. И мне на него не плевать.
– И все же ты понятия не имеешь, что его отец умирает от заболевания печени, старший брат признан виновным в аварии с пострадавшими и сидит в тюрьме, а второй брат тратит армейскую зарплату на взносы за свой старенький “корвет”. А Уолтер спит по четыре часа в день, пока ты с ним просто дружишь и болтаешься повсюду, чтобы иметь возможность приходить сюда и заигрывать со мной.
Патти притихла.
– Я и правда всего этого не знала, – сказала она после паузы. – Всех этих подробностей. Но тебе не следует с ним дружить, если тебе не нравится, когда с тобой заигрывают.
– Ах, так это моя вина. Ясно.
– Извини, но, по-моему, да.
– Я сказал. Тебе надо разобраться в себе.
– Я в курсе, что мне это нужно. Но ты все же сволочь.
– Слушай, я отвезу тебя в Нью-Йорк, если хочешь. Две сволочи путешествуют, может быть забавно. Но если ты хочешь этого, сделай одолжение, не динамь Уолтера.
– Хорошо. Теперь, пожалуйста, отвези меня домой.
Возможно, из-за никотина она всю ночь не могла заснуть и без конца прокручивала в голове события вечера, пытаясь, как требовал Ричард, разобраться в себе. Но мысли ее играли какую-то странную пьесу кабуки: как бы она ни задавалась вопросом, кем на самом деле является и что станется с ее жизнью, в центре картины упрямо торчал один непреложный факт – она хотела поехать с Ричардом в путешествие и, более того, собиралась это сделать. Печальная правда заключалась в том, что их разговор в машине взбудоражил и успокоил ее – взбудоражил потому, что ее будоражил Ричард, а успокоил потому, что наконец после многих месяцев, потраченных на попытки стать кем-то, кем она на самом деле не была или была не до конца, теперь она ощущала себя и действовала в соответствии со своим истинным внутренним “я”. Именно поэтому она знала, что найдет способ совершить это путешествие.
Оставалось только подавить чувство вины, которое вызывал у нее Уолтер, и грусть из-за того, что она не была той девушкой, которая была нужна и ему, и ей самой. Как он был прав, не торопя события! Как он был прав в своих суждениях о ней! Осознавая, как верно и точно он ее оценивал, Патти все сильнее охватывали грусть и чувство вины из-за того, что она собиралась разочаровать его, и она еще глубже погружалась в омут неуверенности.
Затем почти неделю от Уолтера ничего не было слышно. Патти заподозрила, что он держался на расстоянии по предложению Ричарда, что Ричард прочел ему женоненавистническую лекцию о девичьем вероломстве и необходимости защищать свое сердце. В ее воображении Ричард считал, что оказывает тем самым услугу своему другу, а тот был в шоке от крушения иллюзий. Она не переставала думать об Уолтере, который возил ей в автобусе горшки с крупными растениями и краснел в тон пуансеттии. Она вспоминала вечера в ее общежитии, когда его заставала врасплох местная зануда, Сюзанна Сторс, – она зачесывала волосы на одну сторону, оставляя с другой несколько жидких прядей, болтающихся над ухом, – и как терпеливо он выслушивал монотонную кислятину насчет диеты Сюзанны, тягот инфляции, духоты в ее спальне и ее многочисленных разочарований в администрации и преподавателях университета, в то время как Патти, Кэти и другие девочки хохотали над “Островом фантазий”[33]. Как Патти, якобы обездвиженная травмой, отказывалась встать и спасти Уолтера от Сюзанны, боясь, что та придет и будет изливать свою тоску на всех остальных, и как Уолтер, который вместе с Патти подшучивал над Сюзанной и прекрасно помнил, сколько работы у него впереди и как рано ему предстоит завтра вставать, все же раз за разом попадал в ее сети, потому что Сюзанна увлеклась им, а он жалел ее.
Короче, Патти не находила в себе сил снять наживку. Они не разговаривали, пока Уолтер не позвонил из Хиббинга – извиниться за долгое молчание и сообщить, что его отец впал в кому.
– Уолтер, я по тебе соскучилась! – воскликнула она именно то, что Ричард попросил бы ее не произносить.
– И я по тебе скучаю.
Она додумалась расспросить его об отце, хотя демонстрировать свою заботу стоило только в одном случае: если она намеревалась перейти с ним к следующему этапу. Уолтер рассказал об отказе печени, отеке легких и дерьмовых прогнозах.
– Мне ужасно жаль, – сказала она. – Слушай, по поводу комнаты…
– Тебе не обязательно решать прямо сейчас.
– Но тебе же нужен ответ. Если хочешь сдать ее кому-нибудь еще…
– Я бы лучше тебе сдал.
– Да, и я бы, может, и сняла, но на следующей неделе мне надо съездить домой, и я думала добраться до Нью-Йорка с Ричардом. Раз уж он все равно едет.
Все опасения, что Уолтер не уловит подтекста этого сообщения, утонули в его внезапном молчании.
– У тебя ведь уже был билет на самолет? – спросил он наконец.
– Его можно сдать, – солгала она.
– Это хорошо, – сказал он. – Но, знаешь, не стоит полагаться на Ричарда.
– Знаю, знаю. Ты прав. Я просто подумала, что сэкономлю деньги и они пойдут на оплату комнаты.
Двойная ложь. Билет купили ее родители.
– Я в любом случае заплачу за июнь.
– Зачем, если ты все равно не собираешься здесь жить.
– Может и собираюсь, говорю же, я пока не знаю.
– Ладно?
– Мне хочется, правда. Я просто не уверена. Так что, если найдешь другого съемщика, не сомневайся. Но за июнь я точно заплачу.
Последовала очередная пауза, после чего Уолтер разочарованным голосом сказал, что ему надо освободить телефон.
Преисполнившись бодрости после проведения этого тяжелого разговора, Патти позвонила Ричарду и уверила его, что произвела все необходимые действия по снятию наживки, на что Ричард ответил, что пока что не определился с датой выезда и хочет по пути остановиться в Чикаго, чтобы сходить на пару концертов.
– Мне главное – добраться до Нью-Йорка к субботе.
– Точно, годовщина свадьбы. Где это будет?
– В “Мохонк маунтин хаус”, но мне нужно будет доехать до Уэстчестера.
– Посмотрим.
Нет ничего веселого в том, чтобы путешествовать с человеком, который считает, что от тебя, как и ото всех женщин, одни проблемы, но Патти не знала об этом до начала пути. Все началось с даты отправления, которую пришлось менять по ее просьбе. Затем оказалось, что из-за проблем с грузовиком должен задержаться Эррера, а поскольку в Чикаго Ричард планировал остановиться у друзей Эрреры, а Патти в его планы не входила, ситуация обещала быть неловкой. Кроме того, Патти не умела рассчитывать расстояния, поэтому, когда Ричард забрал ее на три часа позже обещанного и они выехали из Миннеаполиса только во второй половине дня, она не осознавала, как поздно они приедут в Чикаго и как важно не терять времени на трассе И-94. Они опаздывали не по ее вине. Она не постеснялась попросить сделать остановку у городка О-Клэр, чтобы освежиться, а через час – еще одну, неизвестно у чего, чтобы поужинать. Это было ее путешествие, и она твердо решила насладиться им! Но заднее сиденье было завалено оборудованием, которое Ричард не решался оставлять без присмотра, а его собственные нужды удовлетворял жевательный табак (на полу стояла большая плевательница), и хотя он не злился на то, что из-за костылей Патти делала все медленнее обычного, он и не предлагал ей расслабиться и не торопиться. И всю дорогу, каждую минуту, несмотря на немногословие Ричарда и плохо скрываемую досаду на ее вполне понятные человеческие потребности, она почти физически чувствовала, что он хочет ее трахнуть, и это тоже не добавляло непринужденности их беседе. Не то чтобы Патти не тянуло к нему. Но ей нужно было немного времени и пространства, и автор смущенно признает, что, несмотря на юность и неопытность, Патти отвоевывала себе это время и пространство, переводя разговор на Уолтера.
Сначала Ричард уходил от этой темы, но когда Патти удалось его разговорить, она много узнала о прошлом Уолтера. Об организованном им симпозиуме, посвященном перенаселению и реформе коллегии выборщиков, на который почти никто не пришел. О новаторском музыкальном шоу “Новая волна”, которое он четыре года вел на университетской радиостанции. О том, как он собирал подписи, чтобы в общежитии Макалистера лучше конопатили окна. О колонках, которые он писал для газеты колледжа, одна из которых была посвящена подносам с едой (он тогда работал в столовой): Уолтер подсчитывал, сколько семей в Сент-Поле можно накормить тем, что выбрасывается за вечер, напоминал своим однокашникам, что работникам приходится возиться с размазанным повсюду ореховым маслом, сражался со студенческой привычкой наливать в хлопья в три раза больше молока, чем нужно, а потом оставлять на подносах чашки, переполненные молоком, – неужели они думают, что молоко – это бесплатный и бесконечный ресурс вроде воды? Ричард говорил об этом тем же покровительственным тоном, какой он принял в разговорах с Патти две недели назад, тоном нежного сожаления по отношению к Уолтеру, как будто ему было больно оттого, что тот тратит столько сил, бодаясь с жестокой реальностью.
– А девушки у него были? – спросила Патти.
– Ему не везло, – ответил Ричард. – Он западал на недоступных телок. Тех, у кого были парни. Творческих телок, которые вращались в других кругах. По одной второкурснице он весь выпускной год страдал. Он отдал ей свое время в радиосетке – пятничный вечер – и вместо этого взял дневное время в четверг. Я узнал слишком поздно, чтобы помешать. Он переписывал ее работы, водил ее на концерты. Противно было видеть, как она на нем ездила. Вечно ни с того ни с сего приходила к нам.
– Как странно, – заметила Патти. – С чего бы?
– Он никогда меня не слушает. Дико упрямый. И по нему вроде бы не скажешь, но он всегда западает на хорошеньких. Красивых, с хорошей фигурой. Он в этом плане амбициозный парень. В колледже его это счастливым не сделало.
– А та девушка, которая все время к вам заходила? Она тебе нравилась?
– Мне не нравилось, как она обращалась с Уолтером.
– Это, похоже, для тебя больной вопрос.
– У нее был дерьмовый вкус, и она забрала его время в радиосетке. Существовал единственный способ достучаться до него. Показать, с кем он связался.
– А, так ты сделал ему одолжение. Понятно.
– Все вокруг такие праведники.
– Нет, правда, я понимаю, почему ты нас не уважаешь. Ты год за годом видишь девушек, которые хотят, чтобы ты предал своего лучшего друга. Странная ситуация.
– Тебя я уважаю.
– Ха-ха.
– У тебя есть мозги. Я бы не против повидаться с тобой летом, если ты захочешь дать Нью-Йорку шанс.
– Это вряд ли.
– Я просто говорю, что было бы здорово.
У нее было около трех часов, чтобы насладиться этой фантазией: уставившись на огни машин, спешивших въехать в мегаполис и покинуть его, она воображала, каково быть девушкой Ричарда, гадая, могла ли бы изменить его женщина, которую он уважает, представляя, как она бросает Миннесоту, представляя их будущую квартиру, наслаждаясь мыслью о том, как она спустит Ричарда на свою высокомерную среднюю сестру и как оцепенеет вся семья, увидев, какой Патти стала крутой, и рисуя себе, как он будет стирать ее каждую ночь, – пока они не въехали в реальность южного района Чикаго. Было два часа ночи, и Ричард не мог найти дом друзей Эрреры. Им все время преграждали путь сортировочные станции и темная, наводящая ужас река. Улицы пустовали, если не считать цыганских повозок и отдельных представителей Ужасной Черной Молодежи из тех, о ком пишут в газетах.
– Нам бы пригодилась карта, – заметила Патти.
– Здесь все улицы пронумерованы, не заблудимся.
Друзья Эрреры были художниками. Их дом, который Ричард нашел с помощью таксиста, выглядел абсолютно необитаемым. Болтающийся на двух проводах дверной звонок, как ни странно, работал. Кто-то отодвинул кусок холста, прикрывающий переднее окно, после чего спустился вниз, чтобы выразить Ричарду свое недовольство.
– Прости, чувак, – сказал Ричард. – Нам пришлось задержаться. Нам нужна вписка на пару ночей.
Художник был одет в дешевые мешковатые кальсоны.
– Мы только начали клеить обои в той комнате, – сказал он. – Там еще ничего не высохло. Эррера вроде говорил что-то о выходных?
– Он вам вчера не звонил?
– Звонил, и я сказал, что в свободной комнате полный бедлам.
– Ерунда. Мы очень благодарны. Мне надо кое-что занести внутрь.
Патти не могла таскать вещи и стерегла машину, пока Ричард медленно опустошал ее. В отведенной им комнате стоял тяжелый запах того, в чем она по молодости не распознала штукатурку, – и этот запах по молодости же не показался ей домашним и уютным. Единственным источником света был алюминиевый фотофонарь, прицепленный к усыпанной штукатуркой стремянке.
– Боже, – сказал Ричард. – У них здесь что, шимпанзе штукатурили?
Под грязной и пыльной кучей полиэтилена обнаружился двойной матрас, покрытый пятнами ржавчины.
– Не тот “Шератон”, к которому ты привыкла, полагаю, – сказал Ричард.
– А простыни здесь есть? – застенчиво спросила Патти.
Он обыскал соседнюю комнату и вернулся с вязаным пледом, индийским покрывалом и вельветовой подушкой.
– Будешь спать здесь, – сказал он. – Я лягу на кушетку.
Она бросила на него вопросительный взгляд.
– Уже поздно, – сказал он. – Тебе надо поспать.
– Ты уверен? Тут куча места. А на кушетке тебе будет тесно.
Она устала, но хотела его и захватила с собой все необходимое, и инстинкт подсказывал ей, что надо решить вопрос прямо сейчас, решить раз и навсегда, прежде чем у нее будет время подумать. Ей потребовалось много лет, почти полжизни, на то, чтобы понять причины, заставившие Ричарда вдруг повести себя по-джентльменски в ту ночь, – и поразиться им. Но тогда, в пыльной и сырой ремонтируемой комнате, она могла предположить только, что ошибалась на его счет или же что он отверг ее потому, что от нее были одни проблемы и она не помогала таскать вещи.
– Здесь есть что-то типа ванной, – сказал Ричард. – Может, тебе повезет больше, и ты найдешь выключатель.
Она тоскливо на него посмотрела, и он торопливо отвернулся. Обида и потрясение, напряженная поездка, недружелюбный прием и мрачность комнаты. Она вырубила свет, легла прямо в одежде и долго плакала, стараясь не издавать никаких звуков, пока ее разочарование не растворилось во сне.
Наутро она проснулась в шесть от яростных лучей солнца и успела изрядно разозлиться, пока ждала, чтобы проснулся кто-нибудь еще, после чего действительно причиняла всем одни проблемы. В этот день она была такой непокладистой, как никогда в жизни. Друзья Эрреры оказались грубиянами и заставили ее почувствовать себя ничтожеством, потому что она не понимала их высококультурных намеков. Ей дали три шанса проявить себя, после чего перестали обращать на нее внимание. Затем, к облегчению Патти, они покинули квартиру вместе с Ричардом, который через некоторое время вернулся с коробкой пончиков к завтраку.
– Я собираюсь сегодня поработать с этой комнатой, – сказал он. – Тошнит от их кривых рук. Не хочешь пошлифовать немножко?
– Я думала, мы пойдем на озеро или еще куда-нибудь. Здесь так жарко. Или в музей?
Он смерил ее серьезным взглядом:
– Ты хочешь в музей?
– Куда-нибудь выбраться и насладиться Чикаго.
– Это можно сделать вечером. Будет играть Magazine. Знаешь их?
– Я ничего не знаю, ты еще не понял?
– У тебя плохое настроение. Ты хочешь уехать.
– Я ничего не хочу.
– Если мы уберемся в комнате, ты лучше выспишься.
– Мне плевать. Я не хочу заниматься шлифовкой.
Кухня представляла из себя тошнотворный свинарник, от которого пахло безумием. Сидя на кушетке, на которой спал Ричард, Патти пыталась читать одну из книг, которые она взяла, надеясь впечатлить его: роман Хемингуэя. Но из-за жары, вони, усталости, комка в горле и пластинок Magazine, которые Ричард ставил одну за другой, она не могла сосредоточиться на чтении. Когда жара стала невыносимой, она отправилась к Ричарду, который штукатурил стены, и сообщила, что собирается прогуляться.
На нем не было рубашки, а волосы на груди выпрямились и разгладились под ручейками пота.
– Не лучший район для прогулок, – сказал он.
– Тогда пойдем вместе.
– Дай мне еще часок.
– Нет, забудь, – сказала она. – Я пойду сама. У нас есть ключ от этой квартиры?
– Ты правда хочешь отправиться гулять в одиночку на костылях?
– Да, если ты не хочешь пойти со мной.
– Я же говорю, освобожусь через час.
– А я не хочу ждать час.
– В таком случае, – сказал Ричард, – ключ на столе.
– Почему ты так плохо ко мне относишься?
Он закрыл глаза и, казалось, мысленно сосчитал до десяти. Было видно, как он ненавидит женщин и все, что они говорят.
– Может, ты примешь холодный душ и подождешь, пока я закончу?
– Знаешь, вчера мне казалось, что я тебе нравлюсь.
– Ты мне нравишься. Но я занят.
– Отлично, – сказала она. – Трудись.
На улице, залитой пополуденным солнцем, было еще жарче, чем в квартире. Патти немного побродила вокруг, стараясь не плакать слишком явно и выглядеть так, как будто она знает, куда идет. Река, когда она подошла поближе, оказалась более мирной, чем ночью, теперь она была просто заросшей и грязной, а не зловещей и всепоглощающей. На противоположном берегу располагался мексиканский квартал, украшенный не то к какому-то прошедшему, не то к грядущему, не то к постоянному мексиканскому празднику. Она обнаружила забегаловку с кондиционером, где на нее пялились, но не приставали, и выпила там кока-колы, страдая над своим девичьим горем. Ее тело жаждало Ричарда, но мозг понимал, что она сделала Ошибку, приехав с ним сюда, что все ее ожидания были всего лишь бесплодной фантазией. В окружающем гомоне то и дело всплывали фразы, знакомые по школьным урокам испанского: lo siento, и hace mucho calor, и ¿qué quiere la señora[34]? Она набралась храбрости, заказала три тако и съела их, наблюдая за бесконечными автобусами, катящимися мимо окон, – каждый вздымал волну вони. Время тянулось на особый лад – автор, имея теперь богатый опыт убивания времени, склонен расценивать его как депрессивный (одновременно бесконечный и тошнотворно стремительный; бесчисленные секунды не складываются в часы). Наконец рабочий день закончился, и вокруг стали появляться группы рабочих, которые обращали на нее слишком много внимания и обсуждали ее muletas[35]; ей пришлось уйти.
Когда она вернулась к дому, солнце превратилось в оранжевый шар, висящий над улицами. Теперь она позволила себе осознать, что намеревалась исчезнуть надолго, чтобы испугать Ричарда. Этот план провалился: дома никого не было. Стены ее комнаты были практически готовы, пол подметен, кровать застелена настоящими простынями и подушками. На индийском покрывале лежала записка от Ричарда, написанная крохотными заглавными буквами, с адресом клуба и указаниями, как добраться дотуда подземкой. В конце было приписано: ПРЕДУПРЕЖДАЮ, МНЕ ПРИШЛОСЬ ПРИГЛАСИТЬ ТУДА ХОЗЯЕВ.
Раздумывая, стоит ли ей туда идти, Патти прилегла и проснулась через несколько часов, ничего не понимая. Ее разбудило возвращение хозяев дома. Она на одной ноге прискакала в соседнюю комнату, где самый неприятный из них, тот, кто без штанов встречал их накануне, сообщил, что Ричард ушел с кем-то еще и просил передать, чтобы Патти не ждала его – он вернется, чтобы отвезти ее в Нью-Йорк.
– Который сейчас час? – спросила она.
– Час.
– Ночи?
Друзья Эрреры заухмылялись.
– Нет, у нас тут солнечное затмение.
– А где Ричард?
– Он познакомился с какими-то девушками и ушел с ними. Куда – не сказал.
Как уже было сказано, Патти не умела рассчитывать расстояния. Чтобы добраться до Уэстчестера вовремя, им с Ричардом надо было выехать из Чикаго в пять утра. Она проснулась гораздо позже, серым дождливым утром, в совершенно другом городе, в другом времени года. Ричарда по-прежнему не было. Она съела зачерствевшие пончики и до одиннадцати читала Хемингуэя, после чего наконец поняла, что уже никуда не успевает.
Она закусила губу и позвонила родителям за их счет.
– Чикаго! – воскликнула Джойс. – Какой кошмар. Аэропорт далеко? Ты можешь взять билет на самолет? Мы думали, что ты скоро будешь. Папа хочет выехать пораньше, чтобы не попасть в пробку.
– Я все перепутала, – сказала Патти. – Извините.
– Может, ты хотя бы завтра утром приедешь? Ужин будет вечером.
– Я постараюсь, – сказала Патти.
Джойс уже три года состояла в законодательном собрании штата. Если бы она не начала перечислять Патти всех родственников и друзей, собирающихся в Мохонке, чтобы отдать дань уважения их браку, описывать нетерпение, с которым сестры и брат Патти ждали этих выходных, и свою признательность тем, кто летел к ним в буквальном смысле со всех концов страны, Патти, возможно, сделала бы все необходимое, чтобы добраться до отеля. Но, слушая мать, она вдруг ощутила странное умиротворение и уверенность. На Чикаго пролился мелкий дождь, из-за холстяных занавесок донесся приятный аромат остывающего бетона и озерной воды. С незнакомым ей ранее спокойствием Патти заглянула себе в душу и поняла, что никого не обидит и не огорчит, пропустив праздник. Все было уже почти готово. Она поняла, что почти свободна, осталось сделать только последний шаг – и этот шаг казался ужасным, но не в плохом смысле этого слова, если можно так выразиться.
Когда позвонил Ричард, она сидела у окна, вдыхая аромат дождя и наблюдая, как ветер треплет траву и кусты на крыше заброшенной фабрики.
– Я очень извиняюсь, – сказал он. – Буду через час.
– Не торопись. Уже поздно.
– Но праздник же будет завтра.
– Нет, Ричард, завтра будет ужин. Мне надо было быть там сегодня. К пяти часам.
– Черт. Серьезно?
– Ты правда забыл?
– Я как-то перепутал. Не выспался.
– Неважно. Уже можно не торопиться. Теперь я поеду домой.
И она поехала домой. Столкнула чемодан с лестницы, проковыляла следом на костылях, села в такси на Хэлстед-стрит, доехала на автобусе до Миннеаполиса и пересела на другой автобус, идущий до Хиббинга, где в лютеранской больнице умирал Джин Берглунд. Уолтер покраснел сильнее обычного. В провонявшем дымом тарантасе его отца, стоявшем у автобусной остановки, Патти обняла его за шею и с радостью выяснила, что он отлично целуется.
Глава 3. Свободные рынки стимулируют конкуренцию
Опасаясь, что на страницы могла вкрасться жалобная или даже обвиняющая нота, автор хочет поблагодарить Джойс и Рэя хотя бы за одно: они никогда не поощряли ее заняться Творчеством. Мучившее ее в детстве пренебрежение родителей теперь кажется Патти настоящим благословением, особенно когда она вспоминает о своих сестрах, которым сейчас за сорок: они в одиночестве живут в Нью-Йорке, потому что слишком эксцентричны и/или переполнены чувством собственной важности, чтобы создать семью; они по-прежнему принимают дотации от родителей и пытаются достигнуть творческого успеха, в неизбежности которого их когда-то убедили. Оказывается, лучше, когда тебя считают серой дурочкой, а не многообещающим вундеркиндом. Так можно гордиться наличием у себя хоть каких-то талантов, а не страдать из-за их малочисленности.
Огромным достоинством Уолтера было то, что он целиком и полностью был на стороне Патти. В свое время Элизе приходилось буквально по каплям выдавливать из себя необходимую Патти поддержку. Теперь же поддержка Уолтера (которая выражалась в том, что он открыто и прямо выражал враждебность к ее неприятелям – т. е. родственникам) хлынула долгожданной полноводной рекой. А поскольку во всем остальном он отличался абсолютной честностью, у него был неограниченный кредит доверия и он мог беспрепятственно нападать на семью Патти и поддерживать сомнительные планы по ее ниспровержению. Пусть Уолтер и не полностью воплощал мечты Патти об идеальном мужчине, но он был идеальным болельщиком, а в то время Патти нуждалась в этом куда больше, чем в романтике.
Теперь понятно, что Патти стоило бы подождать несколько лет, чтобы сделать карьеру, выстроить свою новую личность, не связанную со спортом, набраться опыта с мужчинами и вообще немного повзрослеть, прежде чем становиться матерью. Но, хотя с победами на баскетбольном поле было покончено, она больше чем когда-либо нуждалась в новых победах – в голове ее словно беспрестанно тикал секундомер, отсчитывающий время для атаки. И лучшим способом мгновенно оставить позади сестер и мать было выйти замуж за самого славного парня Миннесоты, поселиться в роскошном доме, какого в семье ни у кого не было, нарожать детей и стать такой матерью, какой никогда не была Джойс. Несмотря на то что Уолтер был признанным феминистом и членом программы контроля рождаемости, он безоговорочно принял этот план, поскольку Патти как раз полностью воплощала его мечты об идеальной женщине.
Они поженились спустя три месяца после ее выпуска из колледжа – почти ровно через год после того, как она приехала на автобусе в Хиббинг. Дороти хмурилась и тревожилась – как обычно, мягко, нерешительно, но весьма упорно – из-за того, что Патти предпочла регистрацию в Хеннепинском муниципалитете достойной свадьбе в Уэстчестере под руководством ее родителей. Может быть, мягко спрашивала Дороти, все же пригласить Эмерсонов? Конечно, она понимает, что Патти не близка с родственниками, но не пожалеет ли она позже о том, что их не было при таком значительном событии? Патти попыталась описать Дороти, как будет выглядеть свадьба в Уэстчестере: Джойс и Рэй пригласят человек двести своих ближайших друзей и крупнейших спонсоров кампании Джойс, заставят Патти выбрать среднюю сестру своей подружкой и позволить младшей сестре исполнить интерпретационный танец во время церемонии, после чего Рэй, напившись шампанского, будет отпускать шуточки про лесбиянок – так, чтобы слышали подруги Патти по команде. Глаза Дороти увлажнились – то ли от жалости к Патти, то ли от огорчения ее холодностью и жесткостью. Неужели не получится устроить маленькую церемонию, продолжала настаивать она, где все было бы так, как хочет Патти?
Патти стремилась избежать свадьбы не в последнюю очередь потому, что свидетелем Уолтера стал бы Ричард. Причины были отчасти очевидны, а отчасти – имели отношение к страху перед возможным знакомством Ричарда и средней сестры. (Здесь автор берет себя в руки и наконец сообщает имя этой сестры: Эбигейл.) Достаточно того, что Элиза встречалась с Ричардом; увидеть же его вместе с Эбигейл – пусть даже на один вечер – это бы просто прикончило Патти. Понятно, что Дороти она этого не сообщила, а сказала, что вообще не очень любит церемонии.
В качестве уступки весной, накануне их свадьбы, она отвезла Уолтера на восток, чтобы познакомить со своей семьей. Автор с болью признает, что немного стеснялась представить его своим родственникам и, что еще хуже, это было одной из причин, по которой она не хотела устраивать свадьбу. Она любила его (и любит, продолжает любить) за качества, которые были основополагающими в их уютном личном мире, но эти качества не были заметны со стороны – особенно под испытующим чужим взглядом, которым, несомненно, будут его рассматривать сестры, особенно Эбигейл. Патти любила нервный смех Уолтера, его склонность то и дело заливаться румянцем, его благодушие. Она даже гордилась этим. Но недобрая часть ее души, вечно вылезающая на свет при встречах с родственниками, жалела, что он не крутой парень шести футов ростом.
Надо отдать должное Джойс и Рэю: они вели себя как нельзя лучше, возможно, по причине тайного облегчения, которое испытали, убедившись, что Патти гетеросексуальна (тайного, так как Джойс рьяно декларировала свою Толерантность Ко Всем Меньшинствам). Узнав, что Уолтер никогда раньше не был в Нью-Йорке, они проявили крайнее гостеприимство, понуждая Патти водить его по выставкам, на которые сама Джойс не ходила, так как дела требовали ее пребывания в Олбани, а затем ужинать с ними в ресторанах, одобренных “Таймс”. Один из них располагался в Сохо, который в ту пору еще был мрачным и удивительным местом. Боязнь, что родители будут насмехаться над Уолтером, уступила в сердце Патти место страху, что он примет их сторону и не поймет, почему она их терпеть не может, начнет подозревать, что корень всех проблем кроется в самой Патти, и утратит ту слепую веру в ее хорошие качества, которая меньше чем за год, проведенный вместе, стала для нее серьезной опорой. К счастью, Эбигейл, которая была профессиональным ходоком по ресторанам и несколько вечеров превращала своим появлением компанию за столом в расстроенный квинтет, проявила себя во всей красе. Будучи не в силах вообразить, что люди могут собираться вместе не затем, чтобы послушать ее, она без умолку трещала о нью-йоркском театральном мире (по определению вероломном, так как с момента своего впечатляющего дебюта во втором составе она ничего не добилась); об одном из йельских профессоров – “убогом ничтожестве”, с которым у нее возникли непреодолимые Творческие Разногласия; об одной из своих подруг, Тамми, которая профинансировала постановку “Гедды Габлер”, где она (Тамми) блестяще проявила себя; о похмельях, квартплате и отвратительных сексуальных приключениях совершенно посторонних людей, – Рэй, подливая себе вина, требовал осветить малейшие подробности последнего предмета. В середине последнего ужина в Сохо Патти так опротивело то, что Эбигейл крадет внимание, которое по справедливости должно быть уделено Уолтеру (вежливо внимавшему каждому ее слову), что она прямым текстом велела сестре заткнуться и дать поговорить другим. Последовала мучительно молчаливая возня со столовыми приборами. Затем Патти, комически изображая жестами, что таскает воду из колодца, заставила Уолтера говорить о себе. Что, как оказалось, было ошибкой, поскольку Уолтер был страстно увлечен государственной политикой и, не будучи знакомым ни с одним настоящим политиком, полагал, что члену законодательного собрания штата будет интересно узнать его мнение по некоторым вопросам.
Он спросил Джойс, слышала ли та что-нибудь о Римском клубе[36]. Джойс призналась, что не слышала. Уолтер объяснил, что деятельность Римского клуба (одного из членов которого он два года назад приглашал прочесть лекцию в Макалистере) заключалась в изучении пределов роста. Общепринятая экономическая теория – как марксистская, так и теория свободного рынка – считала экономический рост неизменно позитивным процессом. Увеличение ВВП на один или два процента считалось средним, а увеличение населения на один процент считалось желаемым, но если посчитать, каким будет идущий такими темпами прирост за сто лет, говорил Уолтер, результаты будут ужасающими: мировая популяция перевалит за 18 миллиардов человек, а мировое потребление энергии возрастет в десять раз. А еще через сто лет устойчивого роста цифры взлетят до космических высот. Римский клуб искал более рациональные и гуманные пути остановить рост, чем уничтожение планеты, всеобщий голод и массовые убийства.
– Римский клуб, – повторила Эбигейл. – Это что-то типа Итальянского клуба плейбоев?
– Нет, – тихо сказал Уолтер. – Это группа людей, которые противостоят всеобщей озабоченности ростом. Все помешаны на росте, но, если подумать, для созревшего организма рост – это все равно что рак, не так ли? Если у вас нарост во рту или в толстой кишке, это же плохо, так? А небольшая группа интеллектуалов и филантропов стремится выйти за пределы всеобщей зашоренности и повлиять на государственную политику на самом высшем уровне, как в Европе, так и в западном полушарии.
– Римские кролики, – сказала Эбигейл.
– А знаете, что итальянцы делают руками в постели? Жестикулируют! – воскликнул Рэй.
Джойс громко прочистила горло. En famille[37], когда Рэй напивался и вел себя нелепо и вульгарно, она могла укрыться в своих джойсовских фантазиях, но в присутствии будущего зятя ей пришлось смутиться.
– Уолтер говорит об интересных вещах, – сказала она. – Мне не приходилось сталкиваться с подобными взглядами или с этим… клубом. Но это, конечно, очень провокационная точка зрения на ситуацию в мире.
Уолтер, не видя, как Патти украдкой пилит себя по горлу, поднажал.
– Мы нуждаемся в чем-то, подобном Римскому клубу, – сказал он, – так как разумное обсуждение роста должно начинаться с обсуждения проблем, лежащих вне обычного политического процесса. Вы, разумеется, и сами это знаете, Джойс. Если вы хотите победить на выборах, вы не должны и заикаться о замедлении роста, не говоря уж о его прекращении. Это просто политический яд.
– Пожалуй, – со смешком отвечала Джойс.
– Но кто-то должен заговорить об этом и попытаться повлиять на политику, потому что иначе мы разрушим нашу планету. Мы захлебнемся в размножении.
– Кстати о захлебывающихся, папуль, – сказала Эбигейл. – У тебя там персональная бутылка стоит или мы тоже можем из нее выпить?
– Закажем еще одну, – сказал Рэй.
– Не думаю, что нам нужна еще одна бутылка, – заметила Джойс.
Рэй поднял руку – это был особый, джойсосмиряющий жест.
– Джойс. Пожалуйста. Просто… Просто успокойся. Все хорошо.
Патти с застывшей улыбкой разглядывала блестящие плутократические компании за другими столиками, освещенные уютным неярким светом. В мире, конечно, не было места лучше, чем Нью-Йорк. Этот факт лежал в основе самодовольства ее семьи – это был постамент, с которого можно было глумиться над всеми остальными, залог взрослой искушенности, дававшей им право вести себя по-детски. Быть Патти и сидеть в этом ресторане в Сохо означало вступить в схватку с силой, победить которую у нее не было ни малейшего шанса. Ее семья заявила свое право на Нью-Йорк и не собиралась двигаться с места. Единственным выходом было никогда сюда не возвращаться и просто забыть о подобных сценах.
– Ты не любитель вина, – сказал Рэй Уолтеру.
– Наверное, я мог бы его полюбить, если бы захотел, – ответил тот.
– Это недурное амароне, попробуй.
– Нет, спасибо.
– Ты уверен? – Рэй помахал бутылкой.
– Да, он уверен! – воскликнула Патти. – Он всего лишь четыре вечера это твердит! Алло! Рэй! Не все хотят напиваться, хамить и пошлить! Некоторым нравится просто вести взрослые беседы, а не отпускать пошлые шуточки два часа кряду.
Рэй ухмыльнулся, как будто его это все только насмешило. Джойс надела свои очки для чтения, чтобы заглянуть в десертное меню, Уолтер покраснел, а Эбигейл, нервно дернув головой и нахмурившись, повторила:
– “Рэй”? “Рэй”? Теперь мы будем называть папу “Рэй”?
На следующее утро Джойс дрожащим голосом обратилась к Патти:
– Уолтер гораздо более… не знаю, правильно ли будет сказать “консервативен”, наверное, все же не консервативен, хотя с позиции демократического процесса, и народной власти, и всеобщего благосостояния не совсем деспотичен, но, пожалуй, почти консервативен, – чем я ожидала.
Два месяца спустя, во время выпускного вечера Патти, Рэй, с трудом подавляя ухмылку, заявил:
– Уолтер так покраснел, пока говорил о росте, господи, я боялся, что его удар хватит.
А полгода спустя, на единственном Дне благодарения, который Уолтер и Патти имели глупость провести в Уэстчестере, Эбигейл спросила Патти:
– Как дела у Римского клуба? Вы еще не вступили в Римский клуб? Вы уже знаете все пароли? Уже сидели в кожаных креслах?
Всхлипывая в аэропорту Ла Гуардиа, Патти сказала Уолтеру:
– Ненавижу свою семью!
И Уолтер ответил по-рыцарски:
– Мы создадим свою собственную семью!
Бедный Уолтер. Сначала он выбросил из головы свои актерские и режиссерские мечты, чтобы иметь возможность помогать родителям деньгами, а как только его отец умер, тем самым освободив его, он объединился с Патти, оставил свои планы по спасению планеты и пошел работать в “3М”, чтобы дать Патти возможность сидеть с детьми в чудесном старом доме. Все это произошло практически без обсуждений, само собой. Его воодушевили ее планы, и он посвятил себя ремонту дома и противостоянию ее семье. Только годы спустя – когда Патти стала разочаровывать его – он стал более терпимо относиться к Эмерсонам и настаивать, что ей повезло, потому что она единственная спаслась с тонущего корабля, единственная выжила. Он говорил, что Эбигейл, которой приходилось питаться объедками чужих эмоциональных пиршеств на острове скудости (имелся в виду остров Манхэттен!), следует простить стремление перевести разговор на себя, чтобы насытиться чужим вниманием. Он говорил, что Патти следует пожалеть своих сестер и брата, а не обвинять их за то, что у них не было ни сил, ни везения спастись, – за то, что они были так голодны. Но все это случилось много лет спустя. Первые годы он был совершенно ослеплен любовью к Патти, она была непогрешима. И это были очень счастливые годы.
Амбиции Уолтера никак не были связаны с его семьей. К моменту их знакомства он уже победил в этой игре. За покерным столом Берглундов ему достались все тузы, кроме, возможно, внешней привлекательности и умения обращаться с женщинами (последний туз достался его старшему брату, который сейчас живет на содержании у своей третьей молодой жены). Уолтер не только знал о существовании Римского клуба, читал трудные романы и ценил Игоря Стравинского, он мог запаять стык медной трубы, умел столярничать, различать птиц по голосам и заботиться о женщинах с проблемами. Он был абсолютным победителем в семье и потому мог позволить себе регулярно навещать родственников и помогать им.
– Теперь, наверное, следует показать тебе, где я вырос, – сказал он Патти на автобусной станции в Хиббинге, где встречал ее после долгого путешествия из Чикаго. В седане его отца окна запотели от их жаркого и тяжелого дыхания.
– Я хочу увидеть твою комнату, – сказала Патти. – Я хочу видеть все! Ты чудесный.
После таких слов им пришлось еще некоторое время целоваться, прежде чем Уолтер снова забеспокоился.
– Как бы то ни было, мне неловко вести тебя к себе.
– Не стесняйся. Видел бы ты мой дом. Это вообще дурдом.
– Да, но у нас-то ничего похожего. Просто трущоба в “Ржавом поясе”[38].
– Так пойдем. Я хочу все увидеть. Я хочу с тобой спать.
– Звучит здорово, – сказал он. – Но маме может не понравиться.
– Я хочу спать рядом с тобой. А потом хочу с тобой завтракать.
– Это можно устроить.
По правде сказать, “Шепчущие сосны” подействовали на Патти отрезвляюще и на секунду заставили ее задуматься, правильно ли она поступила, приехав в Хиббинг; это поколебало спокойную уверенность, с которой она сбежала к парню, не сделавшему для нее того, что сделал его лучший друг. Снаружи мотель выглядел не так плохо, к тому же на парковке стояло ободряющее количество машин, но жилые комнаты за офисом были совсем не похожи на Уэстчестер. Они пролили свет на дотоле невидимую вселенную благополучия, на благополучие ее собственной жизни в пригороде, и она почувствовала неожиданный укол тоски по дому. Ковры количеством дырок напоминали губки, а полы имели ощутимый уклон в сторону бухты, что была за домом. В гостиной, служившей заодно и столовой, в пределах досягаемости от дивана, на котором Джин Берглунд читал свои рыбацкие и охотничьи журналы и смотрел все каналы, которые местная антенна (привязанная, как Патти выяснила наутро, к обрезанной сосне за выгребной ямой) была способна поймать из близнецов – Сент-Пола и Миннеаполиса – и Дулута, стояла зубчатая керамическая пепельница размером с покрышку. Крохотная спальня Уолтера, которую он делил с младшим братом, располагалась в самом низу склона и периодически отсыревала из-за испарений, поднимавшихся от бухты. По середине ковра бежал липкий след изоленты, которую Уолтер в детстве налепил, чтобы отгородить свои личные владения. Все полки были уставлены свидетельствами его насыщенного детства: скаутские справочники и награды, полное собрание адаптированных биографий президентов, отдельные тома Всемирной энциклопедии, скелеты мелких животных, пустой аквариум, коллекции марок и монет, научный термометр/барометр с проводами, протянутыми за окно. На покоробившейся поверхности двери висела пожелтевшая от времени самодельная табличка, на которой красным карандашом было написано: “Не Курить!”. “Н” и “К” были кривоватыми, но вызывающе высокими.
– Мой первый акт неповиновения, – сказал Уолтер.
– Сколько тебе было? – спросила Патти.
– Не знаю. Десять, наверное. У младшего брата была ужасная астма.
Снаружи шел ливень. Дороти уснула в своей комнате, но Уолтера и Патти по-прежнему снедала похоть. Он показал ей “комнату отдыха”, устроенную его отцом, – на стене висело чучело судака впечатляющих размеров – и фанерно-березовую барную стойку, которую они построили вместе с отцом. Пока Джина не положили в больницу, он простаивал за этой стойкой целыми днями, дымя сигаретой и выпивая в ожидании, пока его друзья закончат работу и дадут подзаработать ему.
– Это я, – сказал Уолтер. – Здесь я вырос.
– Хорошо, что ты здесь вырос.
– Не очень понимаю, о чем ты, но ладно.
– Я просто так тобой восхищаюсь.
– Это хорошо. Наверное. – Он подошел к панели с ключами. – Как тебе комната 21?
– Хорошая комната?
– Примерно такая же, как и все остальные.
– Мне как раз двадцать один. Так что отлично.
Комната 21 состояла из потертых и полинявших поверхностей, которые, вместо того чтобы отремонтировать, на протяжении десятилетий подвергали бурной эксплуатации. Сырость была заметна, но не слишком. Кровати были низкими и не особенно широкими.
– Можешь не оставаться, если не хочешь, – сказал Уолтер, ставя ее сумку. – Утром я могу отвезти тебя на станцию.
– Нет! Все в порядке. Я не отдыхать приехала. Просто хотела увидеть тебя и помочь тебе.
– Хорошо. Я просто боюсь, что не тот, кто тебе нужен.
– Так не бойся.
– Но все же меня это беспокоит.
Она заставила его лечь и постаралась успокоить его своим телом. Вскоре, однако, в нем опять забурлило беспокойство. Он сел и спросил, зачем она поехала с Ричардом. Она надеялась, что он не задаст этот вопрос.
– Не знаю, – ответила Патти. – Наверное, хотела узнать, каково это – путешествовать на машине.
– Хм.
– Мне надо было кое-что узнать. Это все, что я могу сказать. Я хотела кое-что выяснить. И я все выяснила и приехала сюда.
– И что ты выяснила?
– Я выяснила, где хочу быть и с кем.
– Быстро тебе это удалось.
– Это была ошибка, – сказала она. – Он умеет так смотреть на человека, ну ты знаешь как. Человеку требуется время, чтобы понять, что истинно, а что – нет. Не вини меня за это.
– Меня просто удивляет, что ты так быстро все поняла.
Ей захотелось плакать, и она не стала сдерживаться, и Уолтер тут же проявил все свои утешающие способности.
– Он был со мной груб, – сказала она сквозь слезы. – А ты – полная ему противоположность. А мне так нужна сейчас эта противоположность. Будь со мной ласков, пожалуйста.
– Буду, буду, – сказал он, гладя ее по голове.
– Клянусь, ты не пожалеешь.
Автор с сожалением вынужден признать, что это были ее точные слова.
Дальше произошло то, что также запомнилось автору: ярость, с которой Уолтер схватил ее за плечи, опрокинул на кровать и навалился сверху, оказавшись между ее ног. На лице его было совершенно незнакомое выражение: это была ярость, и ярость была им. Как будто занавес внезапно поднялся, показав нечто мужественное и прекрасное.
– Дело не в тебе! – прорычал он. – Ты понимаешь? Я люблю тебя. Всю. Абсолютно всю. С первой минуты нашего знакомства. Понимаешь?
– Да, – сказала она. – То есть спасибо. Я догадывалась, но все равно, приятно слышать.
Он, однако, не закончил.
– Ты понимаешь, что у меня… – он замялся, – проблемы? С Ричардом. У меня проблемы.
– Какие?
– Я ему не доверяю. Я люблю его, но не доверяю ему.
– О боже, – сказала Патти. – Можешь ему доверять. Он тоже тебя любит. И очень о тебе заботится.
– Не всегда.
– Со мной было так. Ты хотя бы знаешь, как он тобой восхищается?
Уолтер свирепо уставился на нее:
– Тогда зачем ты с ним поехала? Почему он был с тобой в Чикаго? Какого хрена? Я не понимаю!
Слыша от него слово “хрен” и видя, в каком он ужасе от собственной ярости, она вновь заплакала.
– Боже, пожалуйста, боже, пожалуйста, боже. Я здесь. Ясно? Я здесь, с тобой! В Чикаго ничего не было! Абсолютно ничего.
Она плотнее прижалась к нему бедрами. Но вместо того, чтобы коснуться ее груди или стянуть с нее джинсы, как это, разумеется, сделал бы Ричард, он встал и принялся мерить шагами комнату 21.
– Я не уверен, что это правильно, – сказал он. – Потому что я не идиот. У меня есть глаза и уши, я не идиот. Я не знаю, что мне делать.
Было облегчением узнать, что он не заблуждается насчет Ричарда, но она понимала, что исчерпала способы убедить его. Она просто лежала на кровати, слушая дождь, стучащий по крыше, понимая, что этой сцены не было бы, не сядь она в машину с Ричардом, понимая, что заслужила наказание. И все же трудно было не воображать, как все могло бы быть. Все это было предвестьем ночных сцен последующих лет: прекрасная ярость Уолтера тратилась впустую, пока она плакала, он наказывал ее и просил за это прощения, говоря, что они оба устали и уже поздно – в самом деле было так поздно, что скорее рано.
– Я пойду в душ, – сказала она наконец.
Он сидел на другой кровати, спрятав лицо в ладонях.
– Прости, – сказал он. – Дело не в тебе.
– Знаешь что? Мне не то чтобы очень нравится все время это слышать.
– Извини. Веришь ли, я не имел в виду ничего плохого.
– “Извини” тоже нет в этом списке.
Не убирая рук от лица, он спросил, помочь ли ей с ванной.
– Я справлюсь, – сказала она, хотя купаться с зафиксированным и забинтованным коленом, которое не следовало мочить, было непросто. Когда она через полчаса вышла из ванной в пижаме, то обнаружила, что Уолтер за это время, казалось, не шевельнул ни единым мускулом. Она стояла перед ним, глядя на его светлые кудри и узкие плечи.
– Слушай, Уолтер, – сказала она. – Я могу уехать утром, если хочешь. Но сейчас мне надо поспать. Тебе тоже пора спать.
Он кивнул.
– Мне жаль, что я поехала с Ричардом в Чикаго. Это была моя идея, не его. Вини меня, а не его. Но сейчас ты заставляешь меня чувствовать себя довольно дерьмово.
Он кивнул и встал.
– Поцелуешь меня на ночь? – спросила она.
Он поцеловал ее, и это оказалось настолько лучше ссор, что вскоре они забрались под одеяло и выключили свет. За занавесками меркнул дневной свет – на севере в мае солнце встает рано.
– Я почти ничего не знаю о сексе, – признался Уолтер.
– Ничего страшного, – сказала она. – Это несложно.
Так начались лучшие годы ее жизни. Для Уолтера это было особенно счастливое время. Он заполучил девушку, которую хотел, девушку, которая могла быть с Ричардом, но выбрала его, а три дня спустя его вечная борьба с отцом закончилась смертью последнего. (Умереть – это наивысшая форма поражения, которую может испытать отец.)
В то утро Патти была в больнице вместе с Уолтером и Дороти, и ее настолько тронули их слезы, что она немного поплакала сама, и, пока они в молчании ехали обратно в мотель, она чувствовала себя практически замужем.
Когда Дороти ушла прилечь, Патти увидела, как Уолтер делает что-то странное на парковке мотеля. Он вприпрыжку носился из одного конца парковки в другой, кружась на цыпочках на поворотах. Утро было ясным и свежим, с севера дул ветер, и сосны, растущие вдоль бухты, шептались в буквальном смысле этого слова. В очередной раз пробежав по парковке, Уолтер высоко подскочил и умчался вниз по трассе 73, скрывшись за поворотом. Его не было час.
На следующее утро, когда солнце светило в открытые окна комнаты 21, а полинявшие занавески развевались на ветру, они смеялись, плакали и трахались с радостью, о невинности и торжественности которой автору теперь больно вспоминать, и снова плакали, и снова трахались, и лежали рядом, взмокшие, с полными до краев сердцами, и слушали вздохи сосен. Патти чувствовала себя так, как будто приняла какой-то мощный наркотик, чье действие ее не отпускало, или как будто ей снился необычайно живой и яркий сон, от которого она никак не могла пробудиться, хотя каждую секунду она осознавала, что это не наркотик и не сон, а просто жизнь, в которой существует только настоящее и нет прошлого, любовь, которой она и представить себе не могла. Ведь это была комната 21! Как она могла представить себе комнату 21? Это была очаровательно чистая старомодная комната, а Уолтер был очаровательно чистым старомодным юношей. И ей было двадцать один, и ее юность была в свежем сильном ветре, дующем из Канады. Маленький глоток вечности.
На похороны его отца пришло более четырехсот человек. Даже не зная Джина, Патти чувствовала гордость за него. (Если хочется пышных похорон, лучше умереть рано.) Джин был гостеприимным человеком, любившим рыбачить, охотиться и выпивать с дружками, большинство из которых были ветеранами, но случилось так, что он толком не получил образования, стал алкоголиком и женился на женщине, сосредоточившей все свои надежды, мечты и заботу на их среднем сыне, а не на нем. Уолтер никогда не простил Джину, что тот заездил мать в мотеле, но, честно говоря, автор полагает, что Дороти, хотя и была очень милая, принадлежала к типу вечной мученицы. На приеме после похорон, в лютеранском церемониальном зале, где всех угощали кексом, Патти прошла экспресс-курс с полным погружением по изучению огромной семьи Уолтера, твердо вознамерившись видеть во всем светлую сторону. Там были все пятеро братьев и сестер Дороти, старший брат Уолтера, только что вышедший из тюрьмы, вместе со своей вульгарно-хорошенькой женой и двумя их маленькими детьми и их молчаливый младший брат в армейской форме. Единственным человеком, чье отсутствие ощущалось, был Ричард.
Уолтер, разумеется, сообщил ему новость по телефону, хотя это было нелегко, поскольку потребовалось сначала найти в Миннеаполисе неуловимого басиста Эрреру. Ричард только что приехал в Хобокен, Нью-Джерси. Выразив свои соболезнования Уолтеру, Ричард сказал, что он сидит на мели и просит прощения, что не сможет приехать на похороны. Уолтер уверил его, что все в порядке, а затем на несколько лет затаил на Ричарда обиду за то, что он не приложил никаких усилий, чтобы приехать, что было не совсем честно, учитывая, что Уолтер втайне злился на Ричарда и не хотел его видеть. Но Патти предпочитала не указывать ему на это обстоятельство.
Когда годом позже они были в Нью-Йорке, она предложила Уолтеру встретиться с Ричардом, но Уолтер заявил, что за последние месяцы дважды звонил Ричарду, а тот ему – ни разу. Но он же твой лучший друг, сказала Патти, а Уолтер в ответ заявил, что его лучший друг – Патти.
– Значит, он твой лучший друг среди мужчин, – сказала она, – и ты должен ему позвонить.
Но Уолтер ответил, что так было всегда – что он всегда дружил с Ричардом крепче, чем тот с ним; что между ними существовала вечная конфронтация: каждый стремился не звонить первым и не выказывать свою нужду в друге; и ему это надоело. Он сказал, что Ричард не впервые так исчезает. Если он по-прежнему хочет дружить, сказал Уолтер, пусть хотя бы раз утрудит себя звонком. Хотя Патти подозревала, что Ричард по-прежнему переживает из-за эпизода в Чикаго и не хочет вмешиваться в семейное счастье Уолтера и что, возможно, следовало бы убедить Уолтера в том, что он не прав, она снова предпочла не форсировать события.
Там, где Элизе виделось нечто гомосексуальное, автор теперь видит братскую связь. Когда Уолтер вырос из того, чтобы лежать под старшим братом, пока тот колотит его по голове, как и из того, чтобы сидеть верхом на младшем брате и колотить по голове его, ему больше не с кем было соревноваться в своей семье. Ему нужен был новый брат, чтобы любить его, ненавидеть и соперничать с ним. И, как теперь понимает автор, Уолтера вечно мучил вопрос, младшим или старшим братом был Ричард, занозой в заднице или героем, любимым двинутым другом или опасным соперником.
Как и в случае с Патти, Уолтер утверждал, что полюбил Ричарда с первого взгляда. Это произошло в его первый вечер в Макалистере, после того как отец высадил его и заторопился обратно в Хиббинг, где его ждал Канадский клуб. Летом Уолтер послал Ричарду милое письмо по адресу, который ему сообщили в отделе по расселению, но Ричард не ответил. На одной из кроватей в их спальне лежал чехол от гитары, упаковки таблеток и спортивная сумка. Владельца этих скромных пожитков Уолтер увидел лишь после ужина, на встрече в холле общежития. Он много раз описывал Патти этот момент: как в углу, отдельно от всех, стоял мальчик, от которого нельзя было отвести глаз, высокий прыщавый юнец с кудрявой шевелюрой, одетый в майку с Игги Попом, не похожий на всех остальных, не трудившийся смеяться или хотя бы вежливо улыбаться шуткам руководителя во время игры-ориентации для новичков. Сам Уолтер всегда сочувствовал людям, пытающимся развеселить остальных, и громко смеялся, чтобы вознаградить их усилия, но тем не менее он сразу же понял, что хочет подружиться с этим высоким неулыбчивым человеком. Он надеялся, что это и есть его сосед по комнате, и так и вышло.
Как ни странно, Ричард полюбил Уолтера. Сначала он выяснил, что его новый знакомый родом из города, где вырос Боб Дилан. Когда после собрания они вернулись в свою комнату, Ричард принялся расспрашивать Уолтера, как выглядел Хиббинг и знал ли он лично кого-нибудь из Циммерманов. Уолтер объяснил, что их мотель находился в нескольких милях от города, но, услышав про мотель, Ричард снова пришел в восторг. Также его впечатлило, что Уолтер, имея отца-алкоголика, все же получил стипендию. Ричард объяснил, что он не ответил на письмо, потому что его собственный отец умер от рака легких пять недель назад. Он рассказал, что Боб Дилан был говнюком, образцовым представителем вида говнюков, что каждый начинающий музыкант хочет сам стать говнюком и что Хиббинг всегда представлялся ему местом скопления говнюков. Уолтер – с легким пушком на щеках, жадно слушающий своего нового соседа и пытающийся произвести на него впечатление, – был живым опровержением этой теории.
Тем же вечером Ричард отпустил несколько замечаний о девушках, которые произвели неизгладимое впечатлении на Уолтера. Он сказал, что его неприятно поразило количество жирных телок в Макалистере. По словам Ричарда, он провел день, шатаясь по окрестностям и пытаясь вычислить, где тусуются городские, и его поразило, как много людей улыбались и здоровались с ним. Даже симпатичные телки улыбались и здоровались. Что, в Хиббинге тоже так? Он рассказал, что на похоронах отца познакомился со своей знойной кузиной, которой, увы, оказалось всего 13 лет, и теперь она шлет ему письма, в которых описывает свои похождения на ниве мастурбации. Хотя Уолтер и без того был бесконечно чуток по отношению к женщинам, автор этих строк напоминает себе, что результатом детского соперничества обычно бывает полярное расхождение жизненных целей, и задается вопросом: уж не одержимость ли Ричарда подсчетом своих побед дала Уолтеру лишний повод не состязаться с ним на этом поле?
Важно, что Ричард не поддерживал отношений со своей матерью. Она даже не приехала на похороны его отца. Сам Ричард рассказал Патти (гораздо позже), что его мать была истеричной особой и с годами двинулась на почве религии, а перед этим превратила в ад жизнь мужчины, от которого забеременела в девятнадцать лет. В ту пору отец Ричарда был богемным саксофонистом из Гринвич-Виллидж, а мать – высокой неуравновешенной бунтаркой из хорошей семьи. После четырех безумных лет пьянства и постоянных измен она оставила мистера Каца заниматься воспитанием их сына (сначала в Виллидже, потом в Йонкерсе), а сама отправилась в Калифорнию, где обрела Иисуса и произвела на свет еще четверых детей. Мистер Кац бросил музыку, но, увы, не алкоголь. В конце концов он пошел работать на почту и так никогда и не женился. Можно с уверенностью сказать, что многочисленные молоденькие подружки, водившиеся у мистера Каца, пока пьянство не разрушило его окончательно, не особенно старались заменить Ричарду мать. Одна из них ограбила их квартиру и скрылась, другая лишила Ричарда девственности, пока присматривала за ним. Вскоре после этого случая мистер Кац отправил Ричарда на лето к его матери, но он не протянул там и неделю. В день его прибытия вся семья собралась вокруг него и взялась за руки, чтобы возблагодарить Господа за его благополучное прибытие; дальше все было еще хуже.
Родители Уолтера, посещавшие церковь только по привычке, открыли двери своего дома для долговязого сироты. Особенно к Ричарду привязалась Дороти – может быть, она питала к нему какое-то тайное, целомудренное на свой особый лад чувство – и приглашала его приезжать на каникулы в Хиббинг. Ричарда не требовалось долго уговаривать, поскольку больше ему ехать было некуда. Джина он покорил интересом к охотничьим ружьям и тем, что не был самодовольным легкомысленным типом, которого тот втайне боялся увидеть в друзьях у сына. Дороти была сражена энтузиазмом, с которым Ричард взялся помогать ей по дому. Как уже говорилось выше, Ричард упорно (хотя и не беспрерывно) пытался стать хорошим человеком, и с людьми, которых он считал Хорошими, – вроде Дороти – он бывал особенно вежлив. Уолтеру казалась необыкновенно фальшивой и покровительственной манера Ричарда расспрашивать Дороти о рецепте какого-нибудь совершенно обычного рагу, которое она состряпала к обеду, и принципах сбалансированного рациона: шансы на то, что Ричард будет покупать продукты и возиться на кухне, равнялись нулю, к тому же, когда Дороти выходила из комнаты, он тут же возвращался к своему обычному грубоватому поведению. Но между Уолтером и Ричардом существовало постоянное соперничество, и, хотя Уолтер не преуспевал в обольщении городских телок, в разговорах с женщинами ему безусловно не было равных, и он рьяно отстаивал это преимущество. Таким образом, автор полагает, что оценивает стремление Ричарда к хорошим людям более объективно, чем Уолтер.
Необыкновенно притягательным в Ричарде было его стремление к внутреннему росту: он пытался заполнить пустоту, образовавшуюся в нем из-за недостатка родительского внимания. Он пережил детство, играя на гитаре и читая книги сообразно собственному идиосинкразическому выбору, и в Уолтере его привлекали в том числе ум и трудолюбие. В некоторых областях Ричард был весьма и весьма начитан (французский экзистенциализм, например, или латиноамериканская литература), но он не знал никакого метода и системы и трепетал перед образованностью Уолтера. Хотя он понимал, что не стоит обращаться к Уолтеру с преувеличенной вежливостью, с которой он говорил с Хорошими Людьми, Ричард любил слушать его рассуждения и требовал, чтобы Уолтер объяснял ему свои непонятные политические взгляды.
Автор подозревает, что подружиться с ботаником с севера значило для Ричарда еще и получить дополнительные очки в его соревновании с миром. Таким образом он как бы противопоставлял себя макалистеровским пижонам из богатых семей. Ричард презирал этих пижонов (в том числе и женского пола, что не мешало ему трахать их при каждом удобном случае) с той же силой, с какой сами пижоны презирали Уолтера и ему подобных. Документальный фильм Боба Дилана “Не оглядывайся” оказал такое влияние на Уолтера и Ричарда, что Патти как-то раз, когда дети были маленькими, взяла его напрокат и посмотрела вместе с Уолтером. Так она увидела знаменитую сцену, в которой Дилан затмевает и унижает певца Донована на самой крутой вечеринке Лондона – просто потому, что ему нравится быть говнюком. Хотя Уолтер жалел Донована и, что хуже, ругал себя за то, что не хочет стать более похожим на Дилана и менее – на Донована, Патти безумно понравился этот эпизод. От откровенного стремления Дилана к победе захватывало дух! Что ж, никуда не денешься – победа сладка, думала Патти. Эта сцена помогла ей понять, почему Ричард предпочитал дружить с далеким от музыки Уолтером, а не с битниками.
Что касалось мозгов, Уолтер определенно был старшим братом, а Ричард следовал за ним. Однако для Уолтера быть умным – как и быть добрым – было всего лишь интермедией в его стремлении к победе. Говоря, что не доверяет своему другу, Уолтер имел в виду именно это. Ему никогда не удавалось отделаться от ощущения, что Ричард от него что-то скрывает; что темная сторона его натуры каждую ночь ищет приключений, в которых он никогда не признается; что он дружит с Уолтером потому, что подразумевается, что в их паре альфа-самец – это Ричард. В особенности ненадежным Ричард становился, когда на сцене появлялась девушка, и Уолтер ненавидел этих девушек за то, что они – пусть даже на мгновение – затмевали его. Сам Ричард никогда не смотрел на все это с такой позиции, потому что он быстро уставал от девушек и неизменно выставлял их вон пинком под зад, после чего возвращался к Уолтеру, от которого не уставал никогда. Но Уолтеру такое поведение Ричарда казалось нечестным по отношению к нему – зачем вкладывать столько энергии в преследование людей, которые ему даже не нравились? Из-за этого Уолтер чувствовал себя слабым и незначительным, ведь к нему всегда можно было вернуться, он всегда был доступен. Его мучило подозрение, что он любил Ричарда больше, чем тот любил его, и что он делал для их дружбы больше, чем Ричард.
Первый кризис произошел, когда они оба учились на последнем курсе, за два года до того, как Патти с ними познакомилась. Уолтер тогда был без ума от ужасной второкурсницы по имени Номи. Если послушать Ричарда (что Патти однажды и сделала), все было просто: его сексуально неопытного друга эксплуатировала ничтожная баба, которой он не был нужен, и Ричард взял на себя труд продемонстрировать ему всю ее ничтожность. По версии Ричарда, девушка не стоила того, чтобы из-за нее соперничать, – она была всего лишь комаром, которого следовало прихлопнуть. Но Уолтер так не считал. Он так разозлился на Ричарда, что несколько недель с ним не разговаривал. Они жили в двухкомнатной квартире, как и положено старшекурсникам, и каждый раз, когда Ричард следовал через комнату Уолтера в свою, более удобную, между ними происходила односторонняя беседа, которая, пожалуй, могла бы показаться забавной незаинтересованному слушателю.
Р и ч а р д. Все еще молчишь. Интересно. И сколько это будет длиться?
У о л т е р (молчит).
Р и ч а р д. Если не хочешь, чтобы я сидел и смотрел, как ты читаешь, скажи хоть слово.
У о л т е р (молчит).
Р и ч а р д. Книга хоть интересная? Что-то ты ни одной страницы не перевернул.
У о л т е р (молчит).
Р и ч а р д. Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Бабу. Бабы так себя ведут. Дерьмо какое-то, Уолтер. Меня это бесит.
У о л т е р (молчит).
Р и ч а р д. Если ждешь извинений, не дождешься, говорю тебе сразу. Мне жаль, что все так вышло, но моя совесть чиста.
У о л т е р(молчит).
Р и ч а р д. Ты же понимаешь, что я здесь только из-за тебя. Если бы ты меня спросил четыре года назад, какова вероятность того, что я окончу колледж, я бы тебе сразу сказал – практически нулевая.
У о л т е р (молчит).
Р и ч а р д. Но если честно, я немного разочарован.
У о л т е р (молчит).
Р и ч а р д. Ладно. Хрен с тобой. Будь бабой. Мне плевать.
У о л т е р (молчит).
Р и ч а р д. Слушай, если бы у меня были проблемы с наркотиками и ты бы выбросил мою наркоту, я бы на тебя разозлился, но я бы понял, что ты хотел мне помочь.
У о л т е р (молчит).
Р и ч а р д. Ладно, не лучшая аналогия, учитывая, что я, так сказать, употребил наркотик, вместо того чтобы выбросить его. Но если бы ты сидел на чем-то смертельно опасном, в то время как я бы просто развлекался, поскольку жалко выбрасывать хорошую наркоту…
У о л т е р (молчит).
Р и ч а р д. Ладно, пример неудачный.
У о л т е р (молчит).
Р и ч а р д. Вообще-то это была шутка. Тут нужно смеяться.
У о л т е р (молчит).
Опираясь на позднейшие показания обеих сторон, автор полагает, что примерно так все и происходило. Уолтер молчал до Пасхи и на каникулы приехал домой один. Дороти удалось вытянуть из него причину отсутствия Ричарда.
– Надо принимать людей такими, какие они есть, – сказала ему Дороти. – Ричард хороший друг, и ты должен быть предан ему.
(Дороти знала о преданности все – из-за нее она вела не слишком приятную жизнь, и Патти не раз слышала, как Уолтер цитирует материнский наказ, которому, казалось, придавал почти сакральное значение.) Уолтер заметил, что Ричард продемонстрировал полное отсутствие преданности, уведя у него девушку, но Дороти, которая сама, возможно, подпала под обаяние Каца, заявила, что не верит, будто Ричард поступил бы так специально, чтобы сделать Уолтеру больно.
– Если хочешь, чтобы у тебя были друзья, следует помнить, что никто не совершенен.
Дополнительным досадным обстоятельством в вопросе девушек было то, что вокруг Ричарда увивались почти сплошь фанатки его музыки[39] и Уолтеру, самому давнему и преданному фанату Ричарда, приходилось с ними соперничать. Девушки, которые при другом раскладе могли бы дружелюбно или хотя бы снисходительно относиться к лучшему другу их любовника, были с ним предельно холодны: настоящим фанатам нужно чувствовать, что с объектом обожания их соединяет уникальная связь, они ревниво охраняют все крохотные, а то и вовсе воображаемые точки соприкосновения, чтобы подкрепить это ощущение уникальности. Девушки, разумеется, считали, что самым надежным способом сблизиться с Ричардом было соитие, настоящий обмен флюидами. Уолтер казался им всего лишь докучливым, ничего не значащим насекомым, хотя именно Уолтер познакомил Ричарда с Антоном Веберном[40] и Бенджамином Бриттеном[41], именно Уолтер придал политическую окраску ранним яростным песням Ричарда, именно Уолтера Ричард любил всерьез. Мало приятного было чувствовать постоянный холод, исходящий от сексуальных девчонок, но гораздо тяжелее было подозревать – в этом Уолтер признался Патти в те годы, когда они ничего не скрывали друг от друга, – что на самом деле он ничем не отличался от этих девушек, что он так же паразитировал на Ричарде, пытаясь почувствовать себя круче и счастливее с помощью их уникальной связи.
В случае с Элизой все было особенно тяжело, потому что ей недостаточно было игнорировать Уолтера, она из кожи вон лезла, чтобы испортить ему настроение. Уолтер не понимал, почему Ричард продолжает спать с особой, которая так мерзко обращается с его лучшим другом. К тому моменту Уолтер был уже слишком взрослым, чтобы играть в молчанку, но он перестал готовить еду для Ричарда и теперь ходил на его концерты только для того, чтобы продемонстрировать свою неприязнь к Элизе, а затем – чтобы пристыдить Ричарда и уговорить его отказаться от кокаина, которым его снабжала Элиза. Разумеется, добиться чего-либо от Ричарда упреками было невозможно. Как тогда, так и теперь.
Подробности их разговоров о Патти, увы, неизвестны, но автору приятно полагать, что они отличались от разговоров о Номи или Элизе. Возможно, Ричард уговаривал Уолтера быть понапористее, а Уолтер мямлил что-то об изнасиловании или костылях. Мало что сложнее вообразить, чем то, что о тебе говорят другие. Со временем Патти поняла, что Ричард на самом деле чувствовал по отношению к ней, – автор постепенно подбирается к этому, пусть и медленно. На данный момент достаточно будет отметить, что он уехал в Нью-Йорк и следующие несколько лет Уолтер так увлеченно занимался своей жизнью с Патти, что, кажется, даже не скучал по нему.
В сущности тогда происходило вот что: Ричард все больше становился Ричардом, а Уолтер – Уолтером. Ричард осел в Джерси-Сити, решил, что может теперь позволить себе выпивать в компаниях, а затем, после периода, который он позже характеризовал как “довольно разгульный”, решил, что все же не может. Пока они жили вместе с Уолтером, он избегал употреблять алкоголь, убивший его отца, нюхал кокаин, только когда за него платили другие, и семимильными шагами продвигался в музыке. Им с Эррерой понадобилось три года, чтобы восстановить “Травмы” – вокалисткой теперь была хорошенькая надломленная блондинка Молли Тремэйн – и выпустить в крохотной звукозаписывающей компании свою первую пластинку “Привет из глубин моей вагины”. Когда группа приехала в Миннеаполис, Уолтер отправился в клуб “Вход”, чтобы послушать их, но к половине одиннадцатого вечера он уже вернулся домой и принес Патти и малышке Джессике шесть экземпляров альбома. Днем Ричард клал крыши: он работал на манхэттенского воротилу, который кайфовал от общения с музыкантами и не протестовал, если их рабочий день начинался в два часа дня и заканчивался несколькими часами позже и если из-за этого пятидневная работа растягивалась на три недели. Вторая пластинка – “Если вы не заметили” – привлекла не больше внимания, чем первая, зато третью, “Реакционную роскошь”, выпустила компания покрупнее, и в конце года ее упомянули в нескольких списках десяти лучших альбомов. В этот раз, собираясь в Миннесоту, Ричард позвонил заранее и провел день в доме Патти и Уолтера с вежливой, но скучающей и молчаливой Молли, которая то ли была, то ли не была его девушкой.
Тот день – насколько помнится автору, а помнится, как ни странно, довольно мало – не был особенно удачным для Ричарда. Патти была занята детьми и попытками выудить из Молли больше одного слога за раз, зато Уолтер мог похвастаться преобразованиями, сделанными им в доме, прекрасными энергичными отпрысками, понаблюдать за тем, как Ричард и Молли поглощают лучший обед за весь их гастрольный тур, и, что не менее важно, получить от Ричарда массу сведений об альтернативной музыке. Этими сведениями Уолтер широко пользовался на протяжении последующих месяцев: он купил пластинки всех музыкантов, упомянутых Ричардом, слушал их, занимаясь ремонтом, поражал соседей и коллег, которые считали себя подкованными в музыке, и чувствовал, что берет от мира все. В тот день он был удовлетворен итогом их соперничества. Ричард был беден, покорен и худ, а его женщина казалось странной и несчастной. Уолтер – теперь, несомненно, старший брат – мог расслабиться и насладиться успехом Ричарда: это пикантное дополнение словно бы делало более значимыми его собственные достижения.
Вернуть Уолтера в то состояние, в котором он пребывал в колледже, терзаемый ощущением потери человека, которого он слишком любил, чтобы не стремиться превзойти, на том этапе могла бы лишь странная и маловероятная последовательность событий. Семейная жизнь должна была бы очень серьезно испортиться. Уолтеру надо было бы постоянно конфликтовать с Джоуи, не cуметь его понять, и не завоевать его уважение, и в итоге обнаружить, что повторяется история с его собственным отцом. Карьера Ричарда должна была бы в последнюю секунду взлететь на небывалые высоты, а Патти должна была по уши влюбиться в Ричарда. Каковы были шансы, что все это может произойти?
Увы, не нулевые.
Сексу, как правило, стесняются придавать слишком много значения, и все же автор пренебрежет своими обязанностями, если не посвятит ему хотя бы одного стыдливого абзаца. Печальная истина заключалась в том, что Патти вскоре стала считать секс скучным, бессмысленным и монотонным занятием и занималась им только ради Уолтера. И разумеется, не слишком преуспевала. Всегда находилось что-то, чем она занялась бы с бо́льшим удовольствием. Поспала бы, например. Иногда она отвлекалась на умеренно тревожные звуки из детских. Или же мысленно считала, сколько увлекательных минут баскетбольного матча Западнобережной лиги успеет посмотреть, когда ей наконец-то разрешат снова включить телевизор. Даже повседневные заботы вроде садоводства, уборки или походов по магазинам казались восхитительными и неотложными. Но стоило решить, что сейчас надо быстро расслабиться, чтобы в тебя быстро кончили и можно было бы спуститься вниз, чтобы рассадить ростки, изнывающие в своих пластиковых коробочках, и дело было проиграно. Она пробовала ускорять процесс, пробовала превентивно ласкать Уолтера ртом, пробовала уверять, что ей хочется спать, поэтому пусть он делает что хочет, не заботясь о ней. Но бедный Уолтер был органически не способен заботиться о ее удовлетворении меньше, чем о своем, а его ощущения зависели от ее реакции. Патти так и не удалось придумать деликатный способ объяснить ему, что тем самым он загоняет ее в угол, потому что в конечном итоге ей следовало бы сказать, что она хочет его меньше, чем он хочет ее, что она с радостью бы отдала страстный секс за все то хорошее, что есть в их совместной жизни. Сложно сказать такое любимому мужчине. Уолтер перепробовал все, чтобы улучшить их интимную жизнь, за исключением единственного способа, который мог сработать: перестать беспокоиться о ее удовольствии и просто периодически укладывать ее на кухонный стол и иметь сзади. Но Уолтер, способный на такое, не был бы Уолтером. Он был тем, кем был, и хотел, чтобы именно он был нужен Патти. Он хотел, чтобы все было взаимно! Поэтому, если она сосала у него, он непременно хотел проделать с ней то же самое, а ей было щекотно. Постепенно, сопротивляясь год за годом, ей удалось отучить его даже пытаться. Она чувствовала вину – но и злобу и раздражение из-за того, что ей приходится чувствовать себя так. Когда Ричард и Молли приехали к ним в гости, Патти показалось, что они устали потому, что всю ночь трахались. Она им даже не позавидовала, и это многое говорит о ее состоянии в те годы, о ее безразличии к сексу, о поглощенности детьми. Секс казался ей развлечением для молодежи, которой больше нечего делать. К тому же ни Ричард, ни Молли не выглядели особо воодушевленными.