Белая ель бесплатное чтение
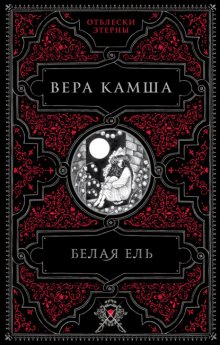
© Камша В.В., текст, 2022
Пролог
F. Schubert. Serenade[1]
«Шел 328 год Круга Молний, когда Виктор-Антониан, король агаров и алатов, усомнился в верности господаря нашего Матяша Медвежьи Плечи и решил укрепить союз с Алатом посредством брака племянницы своей Анны-Паолы-Рафаэлы и Миклоша, старшего сына и наследника господаря нашего…»
Хроника монастыря Святого Ласло Алатского
Миклош осадил жеребца, любуясь на белый дворец у реки, такой непохожий на суровые алатские крепости. Любопытно, какова живущая там девица, которую, если все сладится, придется называть женой? Кошки б разодрали агарисских святош, выдумавших и навязавших добрым людям законный брак. В былые времена мужчине, чтоб обзавестись наследником, не требовалось привязывать себя к одной-единственной женщине. Старые боги ценили кровь, а не слова, любовь, а не браслет, что запросто может оказаться кандальным.
– Красивые места, – Янош, побратим алатского наследника и знатный весельчак, с нескрываемым удовольствием глядел на цветущую равнину, – если б не агары, цены бы не было.
– Ты этого только при хозяевах не брякни, – хмыкнул Миклош. – Мы сюда не за яблоками приехали, а за агарийкой.
– Да помню я, – отмахнулся Янош. – Только из змеюки птичку не сделать. Мало в Алати красоток, чужачка занадобилась.
– Красоток и впрямь много, – согласился наследник, – на всех не женишься, а с чужачкой никому обидно не будет. И потом, ты же сам знаешь…
– Знаю. – Лицо побратима сразу поскучнело. В его семье агаров ненавидели даже больше, чем в доме господаря, но сила была на стороне короля и церкви, которой нравилось держать в одной запряжке кошку и собаку. Считалось, что Агария и Алат объединились добровольно. Как бы не так! Сидящий в Крионе хитрохвостый агар с двойной короной на плешивой голове спал и видел превратить алатов в баранов для стрижки. Зимой ему стрельнуло в голову привязать дом Мекчеи к Агарии еще крепче. Отцу предложили на выбор – либо отдать в Агарию дочь, либо женить сына на агарийке.
Витязи не торгуют сестрами и дочерьми, а жена – не стена, можно и подвинуть. Господарь при полном согласии семьи и вассалов выбрал меньшее из зол. И теперь Миклош должен привезти это зло, которое зовут Анна-Паола-Рафаэла, в свой дом.
Алатский наследник задумчиво подкрутил темный ус и поправил шапку с журавлиным пером.
– Не робей, Янчи, вывернемся. Считай, что мы на охоте.
– Отродясь на мармалюц не охотился, – не смог не огрызнуться Янош. – А, была не была, пересолим да выхлебнем.
У Миклоша Мекчеи были черные глаза, дерзкие и веселые. Самые красивые в мире. Рафаэла смотрела в них и не понимала, как жила без алатского рыцаря почти восемнадцать лет. Подумать только, утром она едва не расплакалась, узнав о приезде жениха, а вечером готова идти в Алат пешком через все горы и реки.
– Прекрасная Рафаэла покажет мне сад? – поклонился Миклош, и отец довольно улыбнулся.
– О да, сударь, – пролепетала девушка и поднялась, благословляя родных, заставивших ее надеть лучшее платье – белое с изумрудной, в цвет глаз, отделкой. Миклош тоже улыбнулся и подал обернутую плащом руку. Вздрогнула, выронила хрустальный бокал мать, кто-то – Рафаэла не поняла кто – пробормотал «к счастью». Братья громко заговорили о соколиной охоте, Миклош тронул свободной рукой темный ус:
– Если прелестная Рафаэла боится, что роса намочит ее милые ножки, найдется рыцарь, готовый ее нести хоть до Рассветных садов.
Прелестная Рафаэла предпочла идти сама, хотя ноги держали плохо, а голова кружилась, как в детстве, когда она нечаянно хлебнула розового ликера. Миклош что-то говорил, она понимала и не понимала одновременно, потому что главное было в другом, в том, что он здесь, рядом. Он нашел ее, а ведь они могли никогда не встретиться. Как страшно!
– Что ответит моя звезда? – требовательный голос прорвался сквозь сияющую стену, отделившую Рафаэлу от ставшего вдруг прошлым мира. – Могу ли я надеяться?
На что? От нее что-то зависит, что-то важное для него? Да она отдаст все – сердце, жизнь, душу, только б он не исчез, не рассыпался белыми лепестками, как рыцари ее снов.
– Прелестная Рафаэла молчит, но молчание может значить так много. Оно может убить, а может дать жизнь.
– Что? – выдохнула девушка. – Что я должна сделать?
– Красота не может быть никому должна. – Голос алата стал хриплым, словно он был болен, или это она больна? – Но я воин, я должен знать правду. Если прекрасная Рафаэла велит мне уйти, я уйду. Я смогу жить, смогу сражаться, но мир для меня погаснет.
Она все еще не понимала, только сердце билось часто-часто. Миклош опустился на колено и склонил голову:
– Каков будет приговор?
– Приговор? – пролепетала племянница короля. – Какой приговор?
– Рафаэла отдаст мне свою руку, – рыцарь резко поднял голову, в темных глазах сверкнули золотые искры, – и сердце?
Девушка вздрогнула, лунный свет разбился о шитую золотом перевязь любимого. Из раскрытых окон донеслись звуки лютни – пришел менестрель, тот самый, что пел о любви, победившей саму смерть.
– Одно слово, – потребовал ответа Миклош, – только одно. Да или нет?
– Не здесь, – Рафаэла, поразившись собственной смелости, схватила чужую руку, горячую и сильную, – не здесь. Идем.
Они почти бежали через белую от ночных маков поляну, а вокруг плясали светлячки, а может, это были звезды? Миклош молчал, но, когда девушка споткнулась, подхватил ее на руки.
– Куда? – спросил алат, и агарийка, не в силах разлепить губы, махнула рукой. Вперед, туда, где заросли были всего гуще, но сквозь них упрямо светила вечерняя звезда.
– Голубка, – шептал Миклош, – белая голубка с зелеными глазами… Моя голубка…
Поляна кончилась, над ними сомкнулись усыпанные невидимыми в темноте колокольчиками ветки, пылающие щеки остудила роса. Сюда музыка не доносилось, но где-то рядом заливался соловей.
– Куда? – повторял Миклош, и Рафаэла, все еще не в силах говорить, показывала.
Заросли барбариса, поляна уже увядших примул, форелевый ручей, живая изгородь, старая акация… Девушка тронула гостя за плечо, не находя нужных слов.
– Это здесь? То, что ты хочешь мне показать?
Это здесь, но как рассказать о повязанной ночью ленте, засыпанном колодце, алой бабочке, предсказавшей счастье?
– Сударь…
– Да?
– Это… это очень старое место. Раньше тут было… были…
– Сюда приходили спутники Прежних? – в голосе Миклоша не было удивления, напротив… – В Алате много таких мест – Ве́шани, Ра́дица, Са́каци…
– Они и сейчас здесь. – Она не будет иметь тайн, нет, не от супруга – от любимого, единственного, бесценного. – Миклош, я люблю тебя, только тебя и навсегда. Я умру за тебя, я… Ты – моя жизнь, я не верила… Не понимала…
– И я не понимал, – рыцарь сжал ее руку до боли, – не знаю, тут ли те, кто помнит, но кровью своей клянусь: ты будешь со мной счастлива! И будь я проклят во веки веков, если я тебя обману.
– Миклош… Я не предам тебя, никогда не предам. Только не тебя!
Это был ее первый поцелуй, и он был таким же, как в балладах. Нет, в четыре, в сорок четыре раза прекраснее. Стена из белых лепестков сомкнулась, отделяя двоих от пиров, разговоров, войн, боли, смерти, старости. Рафаэла смеялась, плакала, шептала что-то безумное и слышала в ответ самые нужные в мире слова, а рядом, захлебываясь от весны и радости, пел соловей.
Часть I
J. Brahms. Ungarische TÄnz Nr 8[2]
Был у господаря нашего Матяша друг и побратим Пал Ка`рои. Небогатого он был роду и незнатного, но мужество и верность витязя вознесли его превыше первейших вельмож. Матяш не раз хотел пожаловать Карои за службу богатые владения, но тот отказывался. Так и шли кони Матяша и Пала рядом, пока в бою с беззаконными гайифскими разбойниками Карои не был тяжело ранен. Смерть пощадила витязя, но он ослеп. Матяш просил друга принять лучшие в Алате виноградники, но Пал сказал, что по воле Создателя он одинок и ему некому оставить богатства. Тогда господарь назначил Пала Карои пожизненным управителем Черной Алати и подарил ему замок Са`каци и все окрестные земли.
Хроника монастыря Святого Ласло Алатского
Глава 1
Ба́рболка Че́кеи любила петь, а в этот день не петь было невозможно. Особенно на лесной дороге. Близился полдень, внизу, в долине, стояла иссушающая жара, но поросшие буками склоны защищали от зноя.
Дорога была не то чтоб заброшенной, просто в будний день все при деле. Те, кто торопился на торги, проехали утром, остальные – кто в поле, кто на виноградниках, а господа по жаре не ездят, вот Барболка и пела в свое удовольствие. Слышать девушку могли разве что облака да старая собака, увязавшаяся за хозяйкой то ли со скуки, то ли в надежде перехватить в Яблонях пару косточек.
Правду сказать, отправляясь в Яблони к материнской родне, Барболка была зла на весь свет и на отца, пропившего ее монисто и оставшуюся после матери шаль, но долго злиться девушка не умела. Пьяненький родитель и лесная лачуга остались позади, светило солнце, цвела кошачья роза, синие стрекозы гонялись за мухами, и обида куда-то делась. Барболка сошла с дороги, нарвала гвоздики‐травянки, соорудила себе венок и поняла, что счастлива, несмотря на папашу и жениха. Хорошего жениха – молодого, красивого, богатого. Фе́руш был сыном мельника, Барболка – дочкой спившегося пасечника, за которой приданого – пара черных глаз да косища, хоть на четырех невест дели.
На свой счет девушка не обольщалась, глядеть-то на нее глядели, да женихов у бесприданницы было раз, два да и обчелся. Кто побогаче да повидней, тот или женат, или родители за хвост держат. Когда в Золотую Ночку[3] Феруш напоил голодранку молодым вином, мельничиха чуть собственным языком не подавилась, но сын уперся. Или Барболка, или никто. Мельник принял сторону Феруша, и Барболка надела браслет. Серебряный, с сердоликами, любая обзавидуется. Жаль, папаша его не пропил. Тогда бы от нее все отстали.
Барболка упрямо мотнула головой и запела о веселой малиновке.
- – Птичка моя птиченька,
– выпевала пасечница, шагая между серебристыми расписными стволами, —
- где летала,
- Птичка моя птиченька, что видала?
- Над горами черными я летала,
- Молодых охотников я видала,
- Платье в золоте у них, кони быстрые,
- И летят из-под копыт звезды искрами.
- Кони быстрые у них, стрелы острые
- И летят из-под копыт искры звездами…
Это не го́ре, что она встала на рассвете и выскочила из дома натощак. Это не горе, что ноги начинают уставать, а до Яблонь еще далеко. Это не горе, что ей не в чем идти в церковь, а Феруш носит синюю жилетку и нос у него утиный…
- В синем небе радуга, радуга,
- Кони пляшут, радуйся, радуйся!
- В синем небе ласточка, ласточка,
- Ты целуй меня, целуй ласково…
Жужа остановилась и тявкнула. Чего это она? Стук копыт за спиной. Всадники, и много, ну да чего ей бояться среди бела дня? Барболка отступила к обочине и обернулась. Так, из любопытства.
Человек двадцать на сытых конях, в ярких доломанах. Не иначе, в замок сакацкий гостевать едут. Рука Барболки метнулась вверх, поправляя венок. Зачем? Они сейчас мимо проскачут, только пыль и останется, а она пойдет дальше. К троюродной тетке и суженому.
Витязи уже совсем близко. Впереди, конь о конь, молоденький парнишка и cедой темноусый воин. Наверное, главный. На всякий случай Барболка поклонилась. Конечно, ее не заметят, но мало ли.
Старший придержал коня и что-то велел молодому. Серый жеребец свернул с дороги. Какая богатая сбруя! Галуны на седле лучше, чем у Феруша на праздничной куртке. А уздечка золоченая, не иначе.
– Это ты сейчас пела на дороге? – голос у парня ломался, как у молодого петушка, а глаза были карими, телячьими.
– Я, гици[4], – призналась Барболка, проклиная босые ноги и путающуюся в ногах облезлую Жужу.
– Господарь хочет с тобой говорить.
Господарь? С ней? Девушка вскинула подбородок и пошла вперед. Жужа тявкнула и потрусила за хозяйкой. Ну и пусть! Она не гица, а дочка пасечника, вот и ходит босиком.
– Звал, гици? – выпалила Барболка, и в эти два слова ушла вся ее смелость.
– Звал, – подтвердил проезжий, – хорошо поешь. Охотнички б вечные тебе то же сказали, хорошо поешь.
– Благодарствую, – девушка поклонилась и подняла глаза. Господарь был в годах, но хорош собой. Таких в песнях называют горными кедрами и седыми волками. Только вот смотрел как-то странно, вроде на Барболку, а вроде и мимо. А вот спутники его, те не терялись, знай себе подмигивали да подкручивали усы. Настоящие витязи, сразу видать, только куда ястребам до орла.
– Куда идешь, красавица? – Старший по-прежнему смотрел куда-то вдаль.
– До Яблонь, если гици дозволит, – выдохнула Барболка, чувствуя: сейчас что-то случится. – Тетка у меня там. Троюродная.
– Тетка? – Статный злой жеребец дернулся и всхрапнул, показывая белки глаз, но всадник с легкостью его удержал, только камни на цепи сверкнули. Дорогие камни, может, даже рубины… – А живешь-то ты с кем?
– С отцом, – нехотя признала девушка, так как питейные подвиги Га́шпара Чекеи прославили его на всю округу, – здесь, недалече.
– Недалече? – все еще черная бровь дернулась кверху. – Тут же лес кругом.
– А мы и живем в лесу, чай, не гици, – опять вздернула подбородок Барболка, чувствуя, как румянец заливает щеки. Что на нее все мужики пялятся, будь хоть седые деды, хоть сопливые мальчишки, красотка-пасечница привыкла, но отрешенный взгляд завораживал и бесил.
– Что ж, диво лесное, – красивые губы раздвинула улыбка, по всему видать, нечастая, – давай сговариваться. Мы тебя до Яблонь подвезем, а ты нам споешь.
Барболка как стояла, так и обмерла. Въехать в Яблони на одном коне с проезжим господарем было ну никак нельзя.
– Так что скажешь, красавица? – Золотистые да гнедые жеребцы нетерпеливо переступали с ноги на ногу, звякали удила, на щеке гици был шрам, а глаза у него были черными и глубокими, как ночной омут. – Не бойся, не обидим.
– А я и не боюсь, – соврала Барболка, пытаясь поймать ускользающий взгляд, – я ж дома.
Феруш был статным и сильным, у него были кожаные башмаки и шапка с пером. И еще он был ревнивым, а мать его, как и положено мельничихе, с нечистью зналась. Она «приблуду» и так на чем свет костерит, да и тетка озлится. Гици приехал и уехал, а ей здесь жить.
Барболка тряхнула головой и выпалила:
– А и везите, что-то устала я. С вас – кони, с меня – песня.
Лес сменился виноградниками, виноградники – садами и показались Яблони. Как быстро! Барболка и заметить не успела, как они доехали. Нужно было прощаться, пока ее не заметили, хотя шила в мешке не утаишь. Кто-то их наверняка видел, а вот девушка не видела никого. Только настороженные конские уши да бегущую впереди дорогу.
На господаря Барболка решила не смотреть, зачем смотреть, если ей до смерти любоваться на Феруша? И потом, она и так все запомнила – шапку с орлиным пером, шрам на щеке, густые усы, глаза-звезды под сведенными темными бровями. Кто он? Куда едет? Неужто это сам Матяш Медвежьи Плечи? Только какие ж они медвежьи? Молчаливый господарь больше на волка смахивает. Или, того вернее, на горного барса.
Впереди, в зелени садов, замаячила церковь. Теперь точно приехали.
– Где тебя ссадить, красавица?
Где? Не все ли равно, жизнь ее так и так пропащая.
– Да здесь и станьте, я сойду.
Сойти ей не дали. Витязь в синем доломане соскочил с коня и бережно снял Барболку с седла. Дай ему волю, еще б и поцеловал, но пасечница умела так глянуть, что руки опускались у самых нахальных ухажеров. До сельчан девушке дела не было, все равно болтать станут и мельничихе донесут, но как бы господарь не решил, что с ней всякий закрутить может.
– Спасибо, красавица. – Улыбается? Наверное, но смотреть она не будет. – Вот, возьми на сережки.
Кошель был большим, шитым золотом и тяжелым. Страшно подумать, сколько в него влезло серебра! Только бросил его не господарь, а тот юнец, что с ней заговорил у обочины. Барболка мотнула головой:
– Вы меня везли, я вам пела. В расчете мы.
Кошелек снова взмыл в воздух. Вместе с ним взмыли новая шаль, монисто, красная юбка, шитый шелками полушубок. Парень растерялся, но тяжелый мешочек все же ухватил, а господарь даже не пошевелился в своем седле. И смотрел он не на нее, а на церковь. Зачем ему смотреть на пасечниц? У него небось по красотке в каждом замке и все в замшевых сапожках.
– Прощевайте, господа хорошие, – голос Барболки зазвенел, – доброй дороги вам.
– Постой, – лицо со шрамом оставалось все таким же каменным, – скажи, как тебя зовут и который год тебе?
– Отец с теткой Барболкой кличут, – буркнула девушка, – а лет после Золотой Ночки семнадцать будет.
– Ну, а я Пал Карои, – витязь зачем-то тронул саблю, – новый господарь Сакацкий. Денег тебе не надо, так возьми мое слово. Если что, приходи. Помогу, чем смогу.
– Благодарствую, – сердце девушки подскочило к самому горлу, а на щеках расцвели маки, – только не надо мне ничего.
– Не загадывай, красавица, – Пал Карои улыбнулся, но как-то невесело, – жизнь, она сегодня добра, а завтра – хуже зверя. Счастья тебе всем сердцем желаю, а в Сакаци тебя всегда примут. Хоть с отцом, хоть с мужем, хоть одну.
Последний витязь исчез за церковкой, и тут Барболка поняла, что стоит посреди улицы, а на нее все смотрят. Ну и кошки с ними! Девушка поправила венок и пошла вперед, прямо на двух судачащих кумушек. Прятаться глупо, чем больше прячешься, тем больше болтают.
– Барболка, – запела толстая Ка́та, – и где ж ты господаря подцепила?
– На дороге, – Барболка то ли улыбнулась, то ли оскалилась, – подвез он меня от Лисьего ручья.
– И то сказать, – встряла тетушка Ма́ргит, – чего ножки-то бить. Ну и как он?
– Что – как? – Барболка постаралась пошире раскрыть глаза. – Господарь и господарь. В Сакаци ехал.
– И чего хотел? – Ноздри Каты раздувались, словно принюхиваясь к жареной колбасе.
– Песен хотел, – девушке вдруг стало смешно, – ну я ему и пела всю дорогу.
– Оно так, – глаза Маргит стали сладкими и тухлыми, как сливовая падалица, – певунья ты знатная. Только что на мельнице скажут?
– А то их дело, – пожала плечиками Барболка, – уж и спеть добрым людям нельзя?
– А кто говорит, что нельзя? – Откуда взялась мельничиха, Барболка не поняла. – Ты, дочка, пой, пока поется. Добрым людям на радость.
Скупердяйка Магна назвала ее дочкой? Девушка, не веря собственным ушам, уставилась на будущую свекровь, а та разулыбалась не хуже Маргит.
– Пойдем, дочка. Дела у нас. А вам тут счастливо оставаться.
Барболка пошла, чувствуя, что увязает в гнилых сливах все глубже и глубже. Ее не ругали, наоборот, но от этого было еще хуже. Мельничиха затащила ее в лавку к кривому Петё и принялась выбирать сукно. Девушка стояла, не зная, что сказать. Больше всего хотелось выскочить на улицу и припуститься бегом из ставших вдруг склизкими Яблонь, но куда ей бежать? К отцу на пасеку?
– Тебе нужно красное, – пыхтела Магна, выговаривавшая сыну за алую ленту в косе невесты, – красная юбка, шитая золотом. И сапожки тоже красные. И монисто. И эту синюю, с ягодами, тоже возьмем…
– Матушка, – выдавила из себя Барболка, – не надо… Меда в этом году неизвестно сколько будет.
– Забудь, – бросила мельничиха, роясь в коробке с гребнями, – ты – невеста Феруша. Нельзя тебе в обносках ходить!
– Благодарствую. – Барболка поймала на себе взгляд Петё и чуть не запустила в лавочника его же горшком. – Не надо… Дорого ж.
– Не дороже денег, – проворковала знаменитая своей скупостью Магна, расплачиваясь со сладкомордым лавочником и подхватывая будущую невестку под локоток. – До Соловьиной Ночки всего ничего, нужно успеть тебя обрядить. А то перед господарем стыдно будет.
Перед господарем? Барболка не поняла, произнесла она эти слова вслух или нет, но перед глазами встало худое строгое лицо, и девушке захотелось взвыть в голос. Матери Феруша было не до сыновней невесты, она следила за руками Петё – упаси Создатель отмерит на палец меньше. Барболка с тоской глянула в распахнутое оконце. На дворе Жужа обнюхивалась со злющим цепным кобелем, в пыли копошились куры, на заборе, наблюдая за суетливыми женами, расправлял крылья петух. Мимо распахнутых ворот проехал возчик с бочками, прошли два винодела и кузнец.
– Помогай, дочка, – пропела мельничиха, примериваясь к узлам. Барболка послушно подхватила свалившееся на нее богатство. На невзятые деньги она бы купила в десять раз больше. Петё суетился, открывал двери, цыкал на пса. Петух на заборе прикрыл один глаз и издевательски заорал.
– А я… – Барболка поудобней перехватила узел, – я думала, вы с Ферушем ругаться станете.
– Вот овца дурная, – хмыкнула мельничиха, – что я, сыну своему враг? Пока у тебя всего добра было пьянычка да сучка, не хотела я тебя в дом пускать. А ты господаря нового прихватила! Слыхала я, как он тебя в Сакаци зазывал, да не просто, а с мужем. Старая кровь за молодую дорого дает.
– Матушка, – у Барболки который раз за день запылали щеки, – не взяла я его денег. И не возьму.
– А и правильно, – кивнула мельничиха. – За песни он тебе серебро давал, за рубашку Ферушу золото выложит, а чтоб не понесла ты, когда не надо, я тебе травку дам. Хорошая травка, на себе пробовала.
– Матушка! – Ну за что ей такое? – А что… что Феруш скажет?
– А что ему говорить-то? – удивилась Магна. – Не нами заведено, не нами и кончится. Гици любую невесту взять может, только чтоб рубашку выкупил.
Они шли мимо харчевни, их все видели – люди, лошади, пегий мул, кот на крыше. Мать Феруша считала господарское золото, а Барболка тащилась за ней, волоча узлы со своим приданым. Из-за угла выполз лысый Винци, надо думать, из кабака. Отец наверняка тоже успел напиться, один рой он вчера уже проворонил. Проворонит и второй, а в Сакаци денег и впрямь куры не клюют. Она больше не бесприданница, все довольны, даже Жужа. Барболка остановилась и положила проклятые тряпки прямо в сухую, горячую пыль.
– Устала? – пропела мельничиха. – Сейчас помогу.
– Не устала, – выдохнула Барболка, понимая, что назад ходу не будет, – забирайте ваши узлы. Совсем забирайте! Не нужны они мне. И браслет ваш не нужен. И Феруш. Другую покупайте и продавайте, а я вам не кобыла и не коза.
– Барболка! – завопила оторопевшая мельничиха. – Куда? Сдурела?! А ну стой, кошка скаженная!
Но девушка уже мчалась по заросшей красавками и еще не жгучей крапивой улице. Все кончено, она не станет оглядываться, возвращаться, просить прощения. И упырей этих с мельницы тоже не простит. Никогда и ни за что!
Глава 2
Отец валялся на траве у забора, доползти до дома он не смог, ну и пусть его! Барболка была сильной, зимой она бы затащила пьянчугу в дом, как это делала не раз, но стояла почти летняя жара. Девушка с отвращением отвернулась от храпящего родителя и оглядела убогое хозяйство. Подумать только, еще четыре года назад они жили не хуже других, потом умерла мать, и отец запил пуще прежнего. Не с горя, от лени…
Подошла Жужа, заскулила. Хочет есть. Барболка размочила хлеб в остатках похлебки, вынесла собаке и села за дощатый, вкопанный в землю стол, подперев щеки руками. Она давно подумывала уйти, но кому нужна пасечница? Податься в город в служанки? С ее косами ни одна хозяйка в дом не пустит. Остаются харчевни, а там пьяные гости, да и трактирщики с работниками не лучше. Попробуй уйми, да так, чтоб тебя в первый же вечер не выставили.
Жужа оторвалась от вылизанной до блеска миски и завиляла хвостом. Хорошо ей! Девушка вернулась в дом, отыскала желтую праздничную юбку, посмотрела на свет. Пятна и прожженные отлетевшими угольками дырки никуда не делись. На праздник такую не наденешь, а новую взять негде. Барболка немного подумала и отправилась за материнским платком, таким дряхлым, что даже отец не сумел его пропить. В юности мать была красавицей, жизнь превратила ее в сухонький стручок, и с ней будет то же, если не хуже. Молодость и красота – они уходят, но пока еще весна!
Барболка потрепала по голове тявкнувшую Жужу и принялась кромсать старенький атлас, вырезая то ли звезды, то ли гвоздики. Приложила к пятнам, получилось даже лучше, чем думалось. Никогда не скажешь, что под черными лепестками прячется что-то непотребное. Девушка бросилась вдевать нитку в иголку – через минуту она вдохновенно шила, напевая о черноглазом витязе:
- Темной ночкой встречу я его,
- Никому о встрече не скажу.
- На дороге слышен стук копыт,
- Это скачет милый мой ко мне…
Отец спал, Жужа тоже, гудели предоставленные самим себе пчелы, неистово цвела калина, ветер играл белыми лепестками. Она не пойдет в Сакаци, нечего ей там делать! Пасечница господарю неровня. И не возьмет она ничего, пусть не думает, что Барболка Чекеи побежит за любым, кто мошной тряханет. Эх, был бы Пал Карои простым витязем или хотя бы удальцом-разбойником, что агарийских кровопийц по лесам караулят…
- На рассвете милый мой уйдет,
- Я его до леса провожу.
- Никому о встрече не скажу.
- Буду снова темной ночки ждать…
– Барболка!
– Феруш? – девушка с нескрываемым удивлением уставилась на бывшего жениха.
– Ты браслетами-то не кидайся, – молодой мельник протянул Барболке знакомую вещицу. – Мать, она того… Зря она.
Девушка отложила шитье и встала. Феруш улыбался, Жужа остервенело крутила хвостом, надеялась на подачку. Выходит, все как шло, так и идет? Ничего не было – ни седого господаря на дороге, ни песен, ни ссоры с Магной. Она снова невеста Феруша, ей не нужно идти в наймы. Надо только вильнуть хвостом и получить косточку и муженька.
Барболка осторожно взяла браслет; он был теплый, как молоко из-под коровы… Как же она ненавидит парное молоко!
– А что мать говорит?
– Злится, – признался Феруш, – ну да у отца с ней свой разговор. Он-то ее с довеском взял. С того и мельница у нас.
– Вот оно как… – протянула Барболка, не зная, что говорить.
– А с тобой мы так и так окрутимся, – заверил Феруш, – я, чай, не голодранец. Кого хочу, того и беру.
Он-то хочет, а вот она? Барболка смотрела на статного крепкого парня. Молодой, богатый. Нарядная безрукавка, дорогие сапоги, круглое лицо, русые кудри… Красавец не красавец, а лучше найти трудно.
– Я мамаше сразу сказал, – отрезал Феруш, – так, мол, и так, хоть лопайтесь, а Барболкину рубашку[5] на заборе к Соловьиной Ночке повешу.
– Повесишь, значит? – расхохоталась Барболка. Она сама не поняла, как это случилось, просто запершило в горле, и смех рванулся наружу. Девушка зажимала ладонью рот, кусала пальцы, но остановиться не могла.
Феруш замолк на полуслове, вытаращив глаза, отчего стало еще смешнее.
– Ты что?
– Ни… ничего, – выдавила из себя Барболка, пытаясь совладать с охватившим ее смехом, – ой… повесишь… ха-ха-ха!..
Лицо Феруша стало медленно белеть, это смешным уже не было. Совсем.
– Ты уже? – выдохнул Феруш, сжимая и разжимая кулаки. – Уже?!
– Ты чего? – пробормотала Барболка прерывающимся голосом.
– Ты ему дала? – Феруш сделал шаг вперед, лицо его было белым, а шея красной, как у рака ошпаренного. – Господарю тому подлому?
– Сдурел? – не очень уверенно произнесла девушка. – Белены объелся?
– Я тебе покажу «сдурел»!
Парень ухватил Барболку за талию и рывком притянул к себе. Больно, неумело, грубо. В нос ударил запах пота, лука и чего-то еще, сразу сладкого и кислого. Барболка дернулась, но горячие руки вцепились в нее еще крепче. Ноздри Феруша раздувались, ставшее вдруг незнакомым лицо пошло красными пятнами, мокрый, пакостно пахнущий рот впился в Барболкины губы, девушка всхлипнула, пытаясь оттолкнуть набросившегося на нее зверя, но тот лишь урчал, наваливаясь все сильнее. Затрещало, разрываясь, сукно, запах стал нестерпимым. Барболка сама не поняла, как ее зубы сжались на чем-то склизком и мягком, раздался вой, хватка ослабла, девушка рванулась и оказалась на свободе.
Феруш тряс головой, изо рта вытекала алая струйка. На человека он не походил. Барболка прикрыла руками вырывавшуюся из разодранной сорочки грудь и отступила к сараю. Ее трясло, ноги не слушались, рядом оказалась колода для колки дров, а в ней – топор. Барболка не подняла его, нет, только глянула. Она не понимала, что у нее перед глазами. Она вообще ничего не понимала!
– Вот так, да?! – орал Феруш. – Убить хочешь? Сучка! Ты ему уже дала, уже! И выжлятникам[6] евойным, а мне не хочешь?!
Девушка молчала, тиская фартук. Зверь в сапогах и синей безрукавке сжимал кулаки и тяжело, хрипло дышал. Лицо исчезло, осталось какое-то рыло. Отвратное, пористое, блестящее от пота.
Барболка ухватила топор:
– Только сунься!.. Бык скаженный!
Бык сунулся. С каким-то то ли ревом, то ли всхлипом он бросился вперед, споткнулся на случайном полене, упал, с руганью вскочил, растирая ушибленную ногу. Барболка глянула на дверь хибары. Запереться? Еще подпалит! Лучше в лес, там ее не поймать.
Не выпуская топора, девушка метнулась вдоль забора к лопухам, за которыми была дыра. Как хорошо, что ее не заделали!
– Сучка господарева, – проорал Феруш, – все равно раскатаю!
– Уходи! – Барболка махнула тяжеленным топором, словно платочком, лихо свистнул рассеченный воздух. Охотнички вечные, как же это она?
– Ну… тебя… сейчас…
Если он догонит, она ударит… как есть ударит.
– Не подходи!
– Подстилка господарская!
– Ты чего творишь, хряк недоделанный?!
Отец! Проспался! Этого еще не хватало. Гашпар Чекеи был силен, как медведь, а спьяну сила эта дополнялась звериной злобой. Феруш был не из слабых, но пасечник отшвырнул его, как шелудивого щенка. Парень шлепнулся на землю у покосившегося – никак не доходили руки починить – сарая и сел, смешно разинув рот. Громко и визгливо залаяла Жужа. Папаша выхватил из кучи дров полено поухватистей и с ревом пошел на незваного гостя.
– Сопляк шляпчатый, – здоровенный обрубок порхал в отцовских ручищах, как птичка, – да чтоб тебя… и через нос, и через ухо. А Магну твою я в … и к… Задница крысиная, да…
– А твоя Барболка… – взвизгнул Феруш, выхватывая нож, – да ноги ее в Яблонях не будет… Сучка порченая, я…
– Ах ты, выкормыш свинячий! – Полено взмыло вверх и обрушилось на голову жениха, из носа брызнула кровь, но Феруш не растерялся и наудачу махнул ножом. Пасечник отбросил дубинку, ухватил парня за плечо и добротный воловий пояс. Феруш взлетел не хуже давешнего полена. На сей раз ему было суждено отправиться в крапивную чащу, окружавшую заброшенный нужник. Нож Феруш выронил в полете, но сдаваться не собирался. Дурень с бранью вскочил и бросился к подпиравшему дверь лому. Гашпар расхохотался и ухватил подвернувшийся дрын. Отчаянно взвыла Жужа. Барболка выронила топор, зажала руками рот и бросилась к заветному лазу.
За спиной рычали озверевшие мужчины, но девушка мчалась куда глаза глядят отнюдь не от страха. Это была не первая драка, которую она видела, случалось ей и бросаться между пьяным отцом и матерью, и выуживать расходившегося родителя из кабацких свар, но то было другое. Теперь Барболка чувствовала себя вымазанной в самой вонючей и липкой грязи, какая только может быть. Да неужто она собиралась прожить с Ферушем всю жизнь?! С Ферушем, его матерью, его отцом на мельнице, которой вештский гици расплатился за свои забавы? И Магна еще глядит на нее свысока?! Да пошли они все…
Лес, как всегда, гасил и ярость, и страх. Убаюкивал, окутывал зеленым покоем. Вот так бы идти и идти и никогда не возвращаться. Барболка остановилась на любимой ландышевой поляне, посреди которой росла огромная шатровая ель – пересидишь ливень и не заметишь. Недалеко от ели лежало несколько валунов, меж которых пробирался ручей, и девушка старательно смыла с себя поцелуи Феруша, переплела волосы и в который раз за последние дни задумалась о своей доле.
– Ты не поешь? Почему? – голосок был детским и капризным. – Спой, мне нравится.
Барболка подняла голову и на соседнем валуне обнаружила растрепанную девчонку лет десяти, совсем голую, если не считать длиннющих черных волос, на которых топорщился венок из ландышей, да на шейке блестела серебряная звезда-эспера. Откуда она у нее?
– Спой, – повторила девочка, надув губы, – а то ску-учно.
– Не поется, – вздохнула Барболка, с удивлением разглядывая странное создание. Солнце стояло высоко, Барболка видела собственную тень и рядом вторую – маленькую, кудлатую. Закатные твари средь бела дня не разгуливают, выходцы тем более.
– На! – Лохматое чудо сдернуло свой венок и протянуло Барболке, которой ничего не оставалось, как надеть его на голову. – Ты красивая, ты мне нравишься.
– Ты тоже красивая, – засмеялась пасечница, ничуть не погрешив против истины. Личико девочки было точеным, в голубых, как небо, глазах плясали ясные искры.
– Ты кто?
– Я.. – Барболка замялась, голышка не казалась опасной, но имя кому попало не называют, особенно в лесу, – я с пасеки, а вот ты кто?
– Я здесь танцую. – Тоненькая ручка ухватила Барболку за запястье. – Хочешь потанцевать?
Девушка покачала головой, однако незваная собеседница в ответ лишь рассмеялась и, не выпуская Барболкиной ладошки, вскочила в полный рост на камень. Барболка, сама не зная как, тоже оказалась на ногах. Они стояли на скользких валунах, держась за руки, а между ними бежал ручей.
– Видишь, как весело? – Девчонка тряхнула волосами, и Барболка услышала дальний звон колокольчиков, наверное, его донес ветер. – Почему ты не танцуешь?
Танцевать на камне среди ручья, да еще когда тебя держат за руки?!
– Кто тебя держит? – В волосах девчонки вновь белели ландыши. – И кого держишь ты?
– Никого! – огрызнулась Барболка и вдруг увидела Феруша с искаженным от ярости лицом. Парень показался из-за ели, в руке его был нож. Барболка не выдержала и закричала.
– Фу, – девочка свела бровки, – он плохой. Иди вон! Вон!
Феруш остановился, словно налетел на невидимую веревку, покачнулся и исчез.
– А теперь? Теперь тебе весело? Теперь ты будешь танцевать?
Весело? Феруш исчез, но все равно было плохо… Все равно! Потому что седой витязь – господарь сакацкий, а она – пасечница!
– Идем танцевать, – маленькая проказница вновь вцепилась в руку, – ну идем же!
Девушка сделала шаг, еще один, еще… Ландыши пахли все сильнее, тени были черными и четкими, словно в лунную ночь.
– Спой, – потребовала лохматая непоседа, – только веселое!
А почему бы и не спеть?
- В синем небе радуга, радуга,
- Кони пляшут, радуйся, радуйся.
- В синем небе ласточка, ласточка,
- Ты целуй меня, целуй ласково.
А радуга в самом деле зажглась, дождя не было, а радуга горит, первая радуга в этом году.
– Танцуй! – кричала девчонка, и они кружились, взявшись за руки, и вместе с ними кружилось небо с облаками-птицами.
– Танцуй! – Радуга раздвоилась, сквозь нее пролетела птичья стая!
– Танцуй! – В разноцветном вихре мелькнуло худое орлиное лицо со шрамом на щеке.
– Танцуй! – Это не птицы, птицы не смеются, у них нет рук, только крылья.
Танцуй, танцуй, танцуй!..
– Барболка! – кто-то ее тряс, потом девушка почувствовала у своих губ горлышко фляги и отпила жидкого сладкого огня.
– Жива! – голос, такой знакомый, и как же нежно он звучит. – А я уж невесть что подумал.
«Я»? Кто «я»? Девушка приоткрыла глаза и увидела Пала Карои! На этот раз седой господарь смотрел Барболке прямо в глаза и лукаво улыбался. Светила луна, одуряюще пахли ландыши, так они еще никогда не пахли. Уже ночь? Какой странный сон ей снился.
– Что ты тут делаешь? – Сакацкий господарь отбросил фляжку и уселся на камень, подогнув под себя одну ногу. – Что-то случилось?
– Ничего, – заверила Барболка и тут же вспомнила про разорванную блузку. Девушка торопливо вскочила, прикрывая руками грудь.
– Тебя что, кошки рвали? – покачал головой Карои, его глаза больше не смеялись. – Или хуже?
– Феруш, – призналась Барболка, – только я сбежала от него. Укусила и сбежала!
– Укусила, – господарь поднял темную бровь, – кошечка закатная. И как же ты его укусила?
– За язык. – Что за чушь она несет, что гици о ней подумает?!
– Что же он делал, – удивился господарь, – что ты его за язык ухватила?
Ответить Барболка бы не смогла, даже если б захотела, потому что ее руки каким-то образом оказались на плечах Пала Карои, а губы гици приникли к ее губам, и как же это было дивно, только слишком быстро кончилось. Господарь отстранился и, склонив голову к плечу, разглядывал задыхающуюся Барболку, словно диковину.
– Так было дело?
Так?! Сравнил жабу с ласточкой! Девушка замотала головой, не находя слов.
– Что же ты не кусаешься?
Он был рядом, он был совсем другим, не таким, как на дороге. И она тоже была другой. Тогда он давал деньги, она не брала. Тогда рядом было два десятка витязей, и все глазели на нее. Все, кроме господаря.
– Так что же ты не кусаешься? – повторил Карои, стягивая с плеча девушки злополучную кофтенку и осторожно касаясь губами кожи. – Не хочешь?
– Нет. – Было непонятно, чудесно и страшно, и Барболка не знала, что хуже – если он уйдет или если останется.
– Нет? – бровь снова взмыла вверх. – Но почему? Потому что тебе хорошо или потому что плохо?
– Когда хорошо, даже кошки не царапаются! – выпалила Барболка, обомлев от собственной смелости.
– Царапаются, – расхохотался господарь, сильные руки толкнули девушку, она не удержалась и упала в ландыши. – Еще как царапаются. И кусаются. А еще они мяучат. Ты будешь мяукать?
Как хорошо, что она сбежала от Феруша. Как хорошо, что уснула на этой поляне. Как хорошо, что Пал Карои ходит теми же тропами!
– Я все сделаю, как гици хочет, – прошептала девушка, – все…
– Ты сказала, – он посмотрел ей в глаза, – а я слышал. Сними все, что на тебе, и отпусти волосы, пусть летают.
Барболка кивнула. Вот так и бывает: знаешь же, что нельзя, а не можешь остановиться. И не хочешь.
Юбка упала к ногам темной лужицей, рядом легла многострадальная кофта. Как же она все это завтра наденет?
– Расплети косу. – В лунном свете он был совсем молодым и невероятно, невозможно красивым.
Барболка лихорадочно вырвала и отбросила ленту, которой так гордилась, налетевший ветер подхватил освобожденные пряди.
– Волосы – это твои крылья, – засмеялся Пал Карои, – их нельзя связывать, их нельзя резать.
Крылья? А разве она сейчас не полетит к огромным пляшущим звездам? Полетит!
– Ты рада? – Почему ей казалось, что у него черные глаза. Они светлые, как лунные озера. – Тогда зачем плачешь?
Разве она плачет? Не может быть, это роса!
– Весной не плачут. Весной поют. Всему свое время, пойми это и будешь счастлива.
Она и так счастлива, безумно, невозможно, неповторимо.
– Любишь?
– Гици… Мой гици…
И неважно, что про нее скажут… Пусть… Сейчас весна, какое ей дело до осени?! Сейчас он с ней, сейчас он здесь…
– То, что мне назначено, я взял, – губы господаря коснулись сначала одного соска, затем другого, – а остальное – мужу. Или мне, если придешь.
– Приду, – выдохнула Барболка, цепляясь за горячие плечи, – куда скажешь, когда скажешь…
– Смотри же, – господарь шутливо коснулся пальцем губ девушки, – я долгов не прощаю.
Ручеек звенел совсем близко. Барболка подняла разламывающуюся голову. Все осталось на месте – шатровая ель, ландыши, камни, родник, не было только господаря Карои. И не могло быть. Седой витязь ей приснился, отчего же так худо? Неужели от того, что она уснула среди ландышей?
Цветы вчера так сильно пахли, а она позабыла, что эти нежные белые колокольчики ядовиты. Девушка кое-как доковыляла до родника и поняла, что тень от ели смотрит совсем в другую сторону. Выходит, она проспала чуть ли не сутки, хорошо, что вообще проснулась. Нужно бежать домой, объясняться с папашей, идти за хлебом и молоком. В Яблони им теперь ходу нет, остаются Колодцы, потому как в Сакаци ноги ее не будет, хоть он и ближе.
Девушка еще раз хлебнула воды и встала. Елка с длинной острой тенью, белые цветы и кусты кошачьей розы немедленно начали кружиться. Больше она никогда не уснет на поляне с ландышами. А это что такое? Барболка с ужасом оглядела свои пожитки, на которых лежал белый венок, и только сейчас поняла, что стоит в чем мать родила.
Как же так?! Она не плела венки и не раздевалась, все было сном, сном о том, чего никогда не будет. Случись все на самом деле, осталась бы кровь. Нет, она просто сорвала одежку, когда смывала в ручье запах Феруша, а потом уснула, и ландыши выпили память. Недаром их запрещают приносить в церковь!
Барболка окончательно изувечила и без того разодранную кофту, намочила отодранный лоскут, обвязала раскалывающуюся голову и принялась натягивать влажную от росы одежку. Охотнички вечные, на кого она похожа, хотя кому какое дело! Отец не заметит, даже если она голой будет, а Феруш давным-давно на мельнице, и хорошо! Она этого скота видеть не желает и через порог! Барболка нагнулась, подняла венок и решительно нахлобучила на голову. Пусть все было сном, она Леворукому поклонится, лишь бы увидеть седого гици еще раз.