Отель последней надежды бесплатное чтение
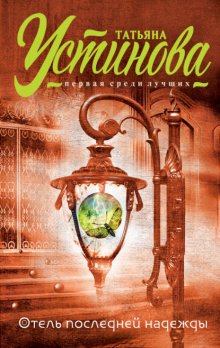
Будь таким, какой ты есть. Или же будь таким, каким ты кажешься.
Джелаладдин Руми
– Я тебя разлюбил, – сказал муж и посмотрел в сторону. – Ничего не поделаешь! Я же предупреждал тебя, что я человек сложный!..
– Когда предупреждал? – спросила Надежда.
В голове было пусто, на душе тоже пусто. Так пусто, что она цеплялась к словам, придумывала вопросы, чтобы не сидеть в пустоте.
– Еще давно! – энергично произнес муж и сморщился. Ему тягостна была сцена прощания, и хотелось, чтобы она поскорее закончилась. Желательно без потерь. – Помнишь, я говорил тебе, что со мной очень сложно, я быстро устаю от жизни с одним человеком, начинаю скучать… Помнишь?
Надежда пожала плечами. Возможно, он и говорил, но она ничего такого не помнила, конечно.
А может, и не слышала вовсе. Она была в него влюблена, а когда человек влюблен, его трудно напугать тем, что объект его вселенской, неземной, единственной в мире любви «быстро устает» или «начинает скучать»!..
Какая разница, начинает или нет! Уж со мной-то точно не заскучает! Ведь такой вселенской, неземной, единственной в мире любви не было ни у кого с момента сотворения мира!
Они помолчали, сидя по разные стороны дивана и глядя друг на друга.
Он же мой, думала Надежда. Он мой, вон и царапина на руке моя – он ободрался, когда на прошлой неделе я его попросила на участке у мамы наломать сирени. Он наломал, но поцарапался, и мы вместе заклеивали руку пластырем, чтобы было не так заметно. И кружка, из которой он пьет чай, тоже моя. Белая кружка с красным сердцем и надписью «Я люблю Калифорнию», которую я привезла из этой самой Калифорнии, он кружку обожает!.. И рубашка моя – я ее покупала к лету на распродаже и страшно гордилась собой, что удалось так ловко сэкономить, почти вдвое!.. И глаза, в которые я люблю смотреть, очень темные, черные почти, ни у кого на свете я больше не видела таких темных глаз, и длинные ресницы, и смешная ямочка на одной щеке – все мое!
Или… уже не мое?
– Ты… кого-нибудь встретил? – вдруг спросила Надежда.
Нельзя так спрашивать, она прекрасно это знает, и во всех книгах по психологии написано, что нельзя спрашивать мужчину о его личной жизни и нельзя задерживать его, когда он уходит. Нельзя, потому что можно утратить чувство собственного достоинства. Кажется, согласно этим книгам, можно спросить о его планах относительно раздела имущества. Можно, но немыслимо, потому что раздел имущества – это конец, точка, финишная ленточка, забежав за которую ничего не остается, только упасть замертво.
И еще гордость, да, да!.. У меня же есть гордость.
Но что с ней делать, когда он бросает меня и вот-вот бросит навсегда?!.
– Да никого я не встретил! – сказал он с досадой. Видимо, не следует спрашивать мужчину о его личной жизни. Также нельзя препятствовать ему, когда он вознамерился уйти, ибо все равно уйдет, но гордость может пострадать…
– А если не встретил, то почему ты уходишь?.. – произнесла Надежда страшным шепотом и прижала кулаки к сухим глазам. – Зачем?!
– Ну вот, – пробормотал муж. – Началось.
– Нет, нет, нет, – забормотала Надежда, отняла руки от глаз и поморгала, чтобы он видел, что она не плачет, и посмотрела умоляющим собачьим взглядом.
– Не бросай меня, а?.. Ну пожалуйста!.. Ну, разлюбил, так хоть пожалей меня, вот прямо сейчас возьми и пожалей, как жалел всегда, если я температурила или ушибала палец!.. Ты брал меня за руку, целовал в ладонь, шептал какие-то глупые слова, и становилось не больно и не страшно. А сейчас ты раздражаешься оттого, что мне больно из-за тебя, и тебе хочется на свободу, и совсем не хочется страдать, и уж тем более разделять мои страдания!..
Я же вижу. Я столько лет тебя знаю!..
– Мне скучно, – сказал он решительно. Он все время говорил решительно, наверное, потому, что долго готовился к разговору. – Тебя никогда нет дома, а я должен тебя ждать! Мне неинтересно с твоей тусовкой, а больше ты никуда не ходишь, потому что ты все время на своей гребаной работе!
– Давай ходить! – пылко и страстно крикнула Надежда. – Давай, я согласна!
– Поздно, – сказал муж. – Я тебя все-таки разлюбил, Надь. Ты понимаешь?
И тут она поняла.
Он никогда в жизни не называл ее Надей. Только Надюха или Надежда. Надя – персонаж из другой жизни, в которую они сейчас, должно быть, только вступали.
– Ты меня разлюбил… совсем? – жалобно спросила она. Слезы подступили к последнему рубежу обороны, и никак нельзя было допустить, чтобы они прорвали плотину и затопили все вокруг. – Или еще все-таки не совсем?.. Если еще не совсем, давай… ну хоть до Нового года назначим срок, а? Ты… отдохнешь от меня, а там посмотрим…
– Да ничего мы не посмотрим, Надь! Все же и так ясно.
– Ясно, – повторила Надежда. – Ясно. И до Нового года ты не…
– Да зачем нам сроки?! Все рано ничего не изменится!
– Ты уверен?
Он перестал отводить глаза в сторону и кивнул.
– Ясно, – еще раз повторила Надежда. – Ну хорошо, что ты это сейчас сказал, а не когда я бы встретила тебя на улице с прекрасной и юной девушкой.
– Вот ты не веришь, а у меня на самом деле никого!..
– Я знаю, – сказала она. – Ты честный парень.
Наверное, нужно встать и уйти. Не собираясь, не рыдая, не спрашивая, куда пойдет он, где станет жить, и – самое главное! – с кем! Наверное, следует сохранять остатки гордости, хотя непонятно, кому они нужны: его нет, а остатки зачем?!.
Но она все-таки заплакала, и плакала недолго.
Когда она завтра вернется после работы домой, уже ничего не будет прежним.
Уже ничего и никогда не будет таким, как раньше, – простым, ясным, веселым и теплым. Даже если он одумается и вернется, она больше никогда не поверит ему до конца, и станет постоянно ждать подвоха, и высматривать в его темных глазах что-то такое, что уже когда-то было и из-за чего он так жестоко поступил с ней, а он будет думать, что, пока его не было, она жила с другим или сразу с несколькими другими, а в книгах по психологии пишут, что мужчинам особенно невыносима мысль «про других»!
Она сейчас уйдет, а завтра все изменится, окончательно и бесповоротно, как будто великан наступил на домик лилипута – в порошок не растер, но примял изрядно, и теперь все там, в домике, примятые, странные, не осознавшие своего нового положения.
И ничего нельзя поделать. Он даже ни о чем не спросил ее, когда принимал решение – за них обоих!
– Мне, наверное, лучше уехать, – сказала Надежда и сделала попытку встать с дивана, но так и не встала. – Я сейчас… сейчас…
– Ты только трагедий не устраивай, а? – попросил муж. – Мне ведь тоже тяжело.
– Тяжело, я знаю, – согласилась Надежда. – Как ты останешься один?.. Без меня?..
– Я переживу, – отрезал он. – Ничего со мной не будет.
– И ты даже не хочешь мне объяснить…
– Не хочу, Надь, – сказал он устало. – Все, что мог, я тебе уже объяснил, а дальше я сам ничего не знаю. Разлюбил я. А зачем жить вместе, если нет любви?
На этот вопрос Надежда ответа не знала. Ей казалось, что жить вместе все равно стоит, чтобы не пропасть поодиночке, чтоб было кому сказать: «Смотри, какой падает снег!», или что больше нет сил, или что очень хочется на море. Чтобы ночью было к кому прижаться, чтобы было кому показать ушибленный палец или стертую пятку, было с кем в гости пойти, кому поплакаться и с кем порадоваться. Или все это глупости?..
– К нам в отель президент приезжает, – произнесла она жалобно. – Представляешь? Заезжает его служба безопасности, а для обычных гостей мы закрываемся на два месяца.
– Какой президент?
– Американский, по-моему. – Тут она поняла, что не может вспомнить, как зовут американского президента, и опять заплакала.
– Надя!
– Я не буду, не буду, – торопливо сказала она и вытерла глаза.
Они еще посидели молча.
– А ты… будешь мне звонить?
Он промолчал.
– Или ты больше не хочешь меня видеть и слышать… вообще? Никогда?
– Да нет, – ответил он равнодушно. – Звони, конечно.
Уезжай, тихо и отчетливо сказал кто-то у нее в голове. Уезжай, хватит с тебя!..
И она поднялась с дивана.
Уехать сейчас было все равно что уйти на войну. Неизвестно, вернешься ли живым, и будут ли целы руки и ноги, или останешься навсегда там, куда уходишь.
Он посмотрел на нее.
– Ключи я отдам Саше. – Так звали соседа. – Прости меня и спасибо тебе за все.
– Это ты меня прости, – возразила Надежда. – И тебе спасибо. Ты для меня больше сделал, чем я для тебя.
Она забыла и то, что он для нее сделал, а потому просто повела вокруг рукой – как бы в знак того, что он сделал все.
Кажется, на том месте, где должна быть человеческая голова, наполненная мыслями, у нее осталась только вздутая пульсирующая кровавая рана, которая, должно быть, остается после гильотины.
Гильотину во Франции отменили только в 1978 году, а до этого в самой демократической и либеральной стране Европы все головы секли!..
Мне только что отсекли голову, хотя нынче уже не 1978 год. Что делать? Как жить без головы?..
Она еще походила по комнате, выжидая и смутно надеясь на то, что он сейчас скажет, что все это программа «Розыгрыш», хоум-видео, и сосед Сашка выпрыгнет откуда-нибудь с камерой, а муж подхватит ее под коленки, покружит и сообщит, что она дурочка последняя, раз во все это поверила, но ничего такого не произошло.
Он просто сидел и смотрел на нее. Ждал, когда она уйдет.
– В понедельник окно привезут, – вдруг сказал он. – В спальню. Ты не забыла?
Надежда сначала кивнула, а потом отрицательно помотала головой. Она понятия не имела ни про какое окно. Всеми такими делами в их семье занимался ее муж.
– Значит, забыла, – констатировал он.
– Да я и не знала.
– Как не знала! Я же тебе говорил!..
Она тяжело посмотрела на него.
– Ладно, – пробормотал он. – Я тогда заеду в понедельник, посмотрю, чтобы они его хорошо поставили. Ты в понедельник работаешь или нет?
У Надежды была сменная работа, как у шахтера или милиционера. Она быстро прикинула, работает или нет, – если не работает, значит, в понедельник у нее есть шанс его увидеть! Впрочем, если работает, всегда можно отпроситься у Лидочки. Лидочка умная и добрая, она все поймет и непременно ее отпустит!
– Я… Кажется, я на работе, но смогу…
– Вот и отлично, – продолжал он энергично. – Я приду, все сделаю, а когда ты вернешься, меня уже не будет. Тогда ключи Сашке я оставлю в понедельник, договорились?
– Да, – согласилась Надежда. – А может, ты до понедельника уже поймешь, что твоя жизнь без меня пуста и однообразна…
– Я не пойму, – отрезал муж. – Ты шутишь, что ли?..
– Шучу, – мрачно подтвердила Надежда.
Она подцепила со стола ключи от своей машины и задумчиво покрутила их на пальце.
Я же его люблю. Я же его очень сильно люблю, а он принял решение – давно! – и ни слова мне не сказал, все обдумал и теперь прощается со мной навсегда?! И завтрашнее утро будет первым утром без него, и все последующие утра до самого конца тоже будут без него?!
– Ну, пока, – сказала она и сунула ключи в карман. – Я к Лидочке поеду, но завтра мне на работу, поэтому утром я приеду переодеваться. Ты еще здесь будешь?
Он покачал головой, как ей показалось, с облегчением.
– Нет, я, наверное, тоже уеду.
И она не спросила – куда. В прошлой жизни, которая кончилась десять минут назад, непременно бы спросила, а сейчас нет. Нельзя.
У порога – он пошел ее провожать – они обнялись и постояли некоторое время, тесно прижавшись друг к другу.
– Ты хорошо пахнешь, – сказала она.
– Это ты мне подарила одеколон, – ответил он.
– Я желаю тебе удачи, – сказала она.
Еще секунда, и все кончится, и больше ничего не будет, ни тепла, ни одеколона, ни запаха, ни его самого.
– Спасибо, – поблагодарил он. – Все будет хорошо.
– Я надеюсь, – ответила она.
И вышла за дверь, и стала спускаться вниз по широкой лестнице залитого весенним солнцем парадного. У нее за спиной привычно повернулся в замке ключ – тоже в последний раз.
Она спускалась, держась за нагретые перила, и то место, где положено быть голове, болезненно пульсировало, и, кажется, там надувались и лопались кровавые пузыри.
Она вышла из подъезда и некоторое время стояла, не в силах сообразить, что должна сейчас делать. Кажется, сесть в машину и поехать к Лидочке, но где ее машина? И как на ней ехать? И где живет Лидочка?
Она сообразила, конечно, и двинулась в сторону автомобиля, вяло придумывая, что именно скажет Лидочке.
Да, да, это самое лучшее, что можно сделать, – немедленно поехать к Лидочке! Гильотинированная голова на миг приросла обратно. Надежда села в машину, завела ее и стала выруливать со двора.
Двое в пыльных «Жигулях» переглянулись.
– Ну, посмотрел? – спросил тот, что был за рулем. – Она и есть. Надежда Звонарева, начальник службы портье.
Второй зашелестел бумажками у себя на коленях, нашел нужную и прочитал короткую справку. Ничего не сказал и кивнул.
– Тебе о ней много знать не нужно, – продолжал первый. – Вы с ней виделись только один раз, на курсах в Лондоне. Ваш шеф, сэр Майкл Фьорини, приглашал на стажировку сотрудников из всех своих офисов. Ты тогда работал в Женеве.
– Да я помню! – возразил второй с досадой. – Почему у сэра такая странная фамилия? Итальянец?
– Итальянец. Титул купил. Все отели над ним смеются, но уважают. Он славный старикан.
– Почему мне о нем не говорили?
Первый усмехнулся, повернул в зажигании ключ и несколько секунд послушал, как надсадно, словно из последних сил, стучит мотор.
– Успеется, – сказал он наконец. – Поехали. У нас еще несколько точек.
Когда Надежда, переждав на перекрестке «красный», поворачивала налево, «жигуль» вырулил из подворотни, помигал какому-то не в меру резвому джигиту, чтобы пропустил его, и покатил в другую сторону.
– Поэтому я от тебя и ухожу! – прокричала жена и очень громко стукнула по столу белой чашкой с красным сердцем и надписью «Я люблю Калифорнию».
У Дэна болела голова. Так сильно, как будто лопнули височные кости, и все, что было внутри и называлось его мозгами, вывалилось наружу. И теперь оно жарится на бешеном калифорнийском солнце, и скоро изжарится совсем.
– Зачем мы тогда сюда приехали? – спросил он. – Ты же так хотела в Калифорнию! И у нас отпуск…
– Затем, что я не хотела говорить об этом дома, где так много того, что мне дорого, – отчеканила жена.
Потом она подумала и достала из объемистой сумки книжицу, сверкнувшую глянцевой обложкой прямо ему в глаза. Он чуть не застонал.
– Вот тут написано, что расставаться следует быстро и ни о чем не сожалеть. – Она ловко и привычно пролистала тонкие страницы, нашла нужную и провозгласила: – «Расставайтесь легко и по первой необходимости! Расставайтесь дома и на работе! Расставайтесь в офисах и на вечеринках! Но если ваша связь была слишком долгой, лучше расставаться на нейтральной территории. Там у покинутого вами человека меньше шансов закатить скандал и окончательно испортить ваш день!»
Дэн Уолш вытаращил глаза. Даже голова перестала болеть.
– Ты бросаешь меня… по инструкции?!
– А что?! – спросила жена воинственно. – Это очень хорошая инструкция, и без нее я бы, может, и не решилась! И превратила бы свою жизнь в ад.
Он подумал немного.
– А мою?
Жена уже читала свою книгу в глянцевой обложке – всерьез читала, даже с упоением, и подняла на него глаза не сразу.
– Прости, не поняла?
– Мою жизнь ты не превратила в ад?
Она бережно закрыла томик, заложив палец на нужной странице. Черт бы ее подрал с ее психологическими книгами! Должно быть, в муниципальной школе города Топеки, где она училась, Библию читали с меньшим усердием!
– Дэн, – сказала она с чувством. – Твоя жизнь и так ад. Я просто не хочу в этом участвовать, вот и все! Мне тридцать семь лет, я делаю карьеру и планомерно иду к цели. У меня впереди долгая интересная дорога! А ты? Кто ты? Ты просто неудачник!
– Я?!
– Именно ты, Дэн, – произнесла она с сожалением и остановила проходящую мимо официантку: – Кофе без кофеина, сахару не нужно, молоко и горячую воду отдельно, пожалуйста. Кофе налейте в большую кружку, но только до половины, я не пью слишком крепкий. Я сама разбавлю его водой до нужной консистенции.
Официантка кивала, улыбалась, потом отошла на безопасное расстояние и сделала неприличный жест, с таким расчетом, чтобы Дэн видел, а его жена нет. На официантской груди фартучек стоял колом, распираемый силиконом.
Должно быть, мексиканка. Они все, перебравшись в Штаты, первым делом вставляют себе дешевые имплантаты.
– Ты постоянно в разъездах, Дэн Уолш! Госслужба не принесла тебе никаких дивидендов, кроме расстроенной психики и рухнувшей личной жизни.
– Я полковник федеральной службы безопасности, и мне всего тридцать девять.
– О’кей. Я знаю. Лет через десять ты станешь генералом и поведешь ни в чем не повинных американцев убивать ни в чем не повинных сербов в Ираке!
– Сербы в Сербии, – поправил ее Дэн Уолш неизвестно зачем. – В Ираке иракцы. Ни в чем не повинные американцы здесь, дома.
– О’кей. – Она подняла правую руку, словно собиралась на чем-нибудь поклясться. – В этих вопросах ты разбираешься лучше, чем я. Признаю.
– В каких вопросах?!
– В своих профессиональных, Дэнни, в профессиональных! Это единственное, в чем ты вообще разбираешься! Единственное, что привлекает тебя в жизни, – это Иран, Саддам, Фидель и несчастные сербы, против которых ополчился весь мир. Это очень благородно, Дэнни, но великая Америка строится не только на внешней политике. Великая Америка – это великие ценности.
– Я как раз охраняю одну из таких великих американских ценностей, – пробормотал Дэн Уолш. – Президента. И моя работа не имеет никакого отношения ни к сербам, ни к Саддаму!..
Но жене трудно было объяснить, что внешняя политика Штатов и федеральная служба охраны, в которой работает он, не имеют друг к другу никакого отношения. Она никогда этого не понимала, или понимала как-то по-своему и с гордостью говорила на вечеринках-барбекю, что ее муж работает на «безопасность страны».
Он с ней не спорил. Он никогда не спорил – зачем? Вначале он был сильно в нее влюблен, и ему нравилось, что она им гордится, а потом объяснять стало как-то глупо – не дура же она на самом деле, чтобы в сотый раз повторять ей одно и то же!
Жена опять энергично вскинула руку. Откуда у нее взялись эти дурацкие жесты, как у Дуче во время митингов в Риме?! Или в ее книжке сказано, что такие жесты при расставании отвлекают внимание покинутого и мешают ему закатить скандал и окончательно испортить ваш день?!
Попросить, что ли, виски?! Или здесь не подают? И после порции «Дикого индюка» немедленно захочется курить, а курить запрещено везде.
Милостивый боже, как болит голова! Это оттого, что меня бросает жена. Вот-вот бросит. А я не хочу! Не хочу!.. Мне придется все начинать сначала, а это долго, утомительно и неизвестно чем закончится! Кроме того, шеф не слишком жалует офицеров «с проблемами», а у меня, кажется, проблемы, да еще какие!..
– В число великих американских ценностей, – продолжала жена, дучевскими жестами обрубая каждое слово, – входит не только верность долгу, дорогой! В число таких ценностей входит еще и верность семье! Мы служим не только Америке, но также господу и семье! А ты, Дэнни? Кому служишь ты?!
Дэн Уолш, профессионал до мозга костей, терпеть не мог таких разговоров. Он никогда не «служил господу, Америке и семье». Он просто работал так, как считал нужным, и работа была его жизнью.
– Я ничего не понимаю в таких вещах, – сказал он и отпил чуть теплого гадкого калифорнийского кофе. – Прости. Но ведь ты… любила меня. Что-то случилось?..
– Конечно, случилось! – энергично воскликнула она.
– Ты… нашла мне достойную замену?
– Дэнни, я каждое воскресенье хожу в церковь! И у алтаря перед лицом господа я поклялась оставаться тебе верной женой. Именно такой я и остаюсь! И твои подозрения оскорбительны для меня.
– Прости, – покаялся полковник Уолш. – Я не должен был так говорить. Но тогда в чем дело? Мы прожили вместе восемь лет, и ты, кажется, была довольна…
– Это ты был доволен! – крикнула она, и на глазах у нее показались слезы, и вдруг на одну минуту вернулась та самая студентка из Йелля, в которую он влюбился, казалось, на всю жизнь.
Она смешно говорила, стеснялась своей дремучей провинциальности и все время училась. У него почти не было денег, – родители тогда как раз находились с ним в состоянии «холодной войны», а крохотной стипендии не хватало даже на квартиру. Его машина, столетний «Додж», подаренный ему владельцем магазина подержанных автомобилей за то, что он все лето мыл машины и катал потенциальных клиентов, заводилась только с третьей попытки, тряслась, гремела и изрыгала клубы синего дыма. И вот на этом «Додже» он первый раз повез ее в кино, а потом в немыслимую закусочную на окраине, и им было очень весело и интересно вдвоем, и «Додж», который прожил с ними долгую и счастливую жизнь, немедленно получил имя «Грязный Гарри», и это тоже их очень веселило!..
Дэн Уолш, завидев слезы своей жены, моментально пересел на ее сторону, обнял и прижал к себе.
Она уткнулась горячим маленьким лицом ему в футболку и зарыдала еще горше.
– Ш-ш-ш, – сказал он нежно и покачал ее из стороны в сторону. – Бедная моя! Не плачь, не плачь, маленькая!..
– Я давно уже не маленькая, Дэн, – грустно сообщила она и его рукавом вытерла глаза. – Я была маленькой, когда мы познакомились. И я тогда не понимала, какая ужасная жизнь ожидает меня…
Он потерся щекой о ее волосы, такие знакомые, так приятно и вкусно пахнущие французскими духами, которые он привез ей из Парижа. Она никуда не выезжала дальше Майами, а он объездил весь мир и всегда привозил ей маленькие подарки. Утром в мотеле она побрызгалась именно французскими духами и рассеянно потрепала его по щеке, когда он сделал попытку поцеловать ее не «просто так», а с «дальним прицелом».
Утром он еще не знал, что именно она задумала. Даже не догадывался.
– Тебя никогда не бывает дома, – сказала жена и отвернулась к окну, должно быть, чтобы он не видел ее лица. – А когда ты есть, ты все время занят. Даже во время уик-энда тебе звонят на сотовый, и ты разговариваешь по нему!
– Я не могу не разговаривать, это может быть важно…
– У Эшли муж хирург, и он никогда не отвечает на звонки, если ему звонят в выходные, – ожесточенно продолжала жена. – Никогда! Он ценит возможность побыть со своей семьей, и для него это важнее, чем любая работа! И дом! Ты видел, какой у них дом?
– Видел, – согласился Дэн Уолш. – У меня никогда не будет такого.
– Вот именно! – Тут она взглянула на него, и он понял, что той девчонки, которая каталась с ним на «грязном Гарри» и ела дешевую китайскую лапшу, уже давно нет и, наверное, больше никогда не будет. – А если бы ты перешел консультантом в частную фирму, например… например… да в какую угодно фирму, ты давно был бы миллионером!.
– Не уверен.
– Дэн, ты блестящий профессионал, и все об этом знают! У тебя куча наград, и в прошлом году тебя даже приглашали читать лекции по безопасности!..
– Приглашали, – согласился Дэн Уолш. – Но это не значит, что я потенциальный миллионер! И… я не понял. Нам не хватает денег? Или я пропустил что-то важное?
– Мне не хватает тебя! – крикнула она и опять сделала энергическое движение. – Уже давно не хватает, Дэн!
Он пожал плечами и посмотрел поверх ее волос на залитую яростным калифорнийским солнцем улицу.
Он терпеть не мог калифорнийское солнце, калифорнийское шампанское и калифорнийских красавиц.
– У меня такая работа, и я плохо себе представляю, что она может быть другой.
– Вот именно, Дэн! – с горечью сказала его жена. – Вот именно! Ты не представляешь себя без этой чертовой работы, а я не представляю, что должна прожить жизнь соломенной вдовой!
– Чушь! – вдруг вспылил он. – Я не подводник и не полярник. Я не пропадаю по три месяца в рейде или на Северном полюсе. Шеф не бывает в командировках по полгода, а мы ездим, только когда ездит он!
– О’кей, – согласилась жена. – В прошлый уик-энд ты был в Париже, хотя нас приглашали Сикорски, и все были там парами, а я, как всегда, одна!
– Но я прилетел, и у меня было несколько дней…
– А у меня-то их не было, Дэнни! Я должна быть на службе всю неделю, и только уик-энд я могу посвятить семье.
– Семье – это значит мне? – уточнил Дэн Уолш. – Или у тебя в семье есть кто-то еще и я просто об этом не осведомлен?
Это было не совсем по правилам, не совсем по-честному и не совсем в духе «хороших парней», но ребенок всегда был больным вопросом.
Он хотел детей, а она решительно отказывалась. Сейчас женщина рожает в сорок пять первого и в сорок восемь второго, и это позволяет ей вырастить полноценных детей, целиком посвятив себя их воспитанию, потому что карьера уже сделана, пенсия накоплена, домик куплен и открыты специальные «университетские счета» для каждого из планируемых потенциальных наследников и отдельный счет для оплаты услуг «большой мамочки» – няньки, которая будет с ними сидеть.
Только так, и больше никак.
– Я была права, когда говорила тебе, что мы еще не готовы к детям, – констатировала жена. – Мы даже свои отношения не смогли наладить, а дети во много раз усложнили бы наше положение.
– Может, мы не станем усложнять дальше? – спросил Дэн и потрогал рукой висок, то самое место, из которого вылезали белые кости и черное месиво, бывшее с утра его мозгом. – Может, нам стоит попробовать все наладить?
Он хотел было прибавить что-то из фильма, вроде «Дай мне еще один шанс» или «Видит бог, я не могу без тебя», но не стал.
Какой еще шанс? Нет никакого шанса!
Они или будут вместе и дальше, или не будут. И никаких иллюзий.
«Грязный Гарри», шелковая ночная сорочка, купленная на все сэкономленные за год деньги ей на Рождество, ветер дальних странствий – они много ездили, и все по самым дешевым мотелям, – секс на старом одеяле в проржавевшем кузове их старикана, огромные голубые звезды на утреннем небе, и еще то, как она бежала к нему навстречу, когда он прилетал из командировок, – она тогда еще приезжала его встречать, добившись пропуска на военную базу, – все это осталось позади и никогда не вернется, и об этом можно сожалеть сколько угодно!..
Вернуть – никогда.
– Нет, Дэнни, – грустно сказала жена. – Ничего нельзя наладить. У тебя будет следующая командировка, а у Бобби и Надин очередная вечеринка, и я опять пойду на нее одна. А потом Сикорски купят дом, как у Эшли, а мы…
– У нас отличный дом, – бросил он с раздражением. – Ну зачем нам какой-то другой?! Или вместо двенадцати комнат ты хочешь тридцать шесть? И еще пару горничных и садовника?
– Меня повысили, – вдруг заявила она совершенно спокойно. – Я прошла все испытания, и я теперь партнер, Дэн! Я партнер!
– Поздравляю тебя.
– И я буду партнером в Сиэтле.
– Где?!
– А что тут такого?! В Вашингтоне партнеров достаточно, и меня перевели в Сиэтл.
Вот оно в чем дело.
Дети, командировки, Северный полюс и Саддам Хусейн ни при чем. Как это я сразу не догадался?! Офицер, черт возьми, всю жизнь проработавший в федеральной службе безопасности!..
– И ты уже согласилась?
– Да.
Теперь, когда все стало ясно, он перестал задавать глупые вопросы. Теперь он утверждал, а она только кивала.
– Ты давно приняла решение.
– Да.
– Ты все обдумала и даже обсудила со своим адвокатом.
– Дэнни…
– Ты поставила в известность своего шефа, этого чертового ублюдка, потому что он давно положил на тебя глаз. И сам он только недавно развелся в третий раз.
– Дэн Уолш!
– Ты сходила в клуб разведенных женщин и поучаствовала в паре тренировочных заседаний, где все эти разведенные стервы научили тебя, как нужно бросать мужей.
– Уолш!
– Они очень тебе сочувствовали, потому что ни одна из них, разумеется, не согласилась бы жить с мужчиной, который иногда ездит в командировки!
– И еще проводит на работе гораздо больше времени, чем дома, и еще носит под пиджаком пистолет, и знает кучу дурацких государственных тайн, и надувается, как индюк, когда спрашиваешь у него, во что была одета первая леди, когда вышла к завтраку в этом… о боже мой… в Китае, вот где!
– Пистолет у меня в сейфе, а не под пиджаком, тайн я не разглашаю, вопрос костюма первой леди – не мой, а протокольной службы.
– Перестань, Уолш! Тебе не запудрить мне мозги! И мне действительно очень помогли в центре реабилитации разведенных женщин, и мне очень важно, чтобы ты был…
– Стоп, – сказал полковник Уолш, один из лучших специалистов и один из самых доверенных офицеров президента Соединенных Штатов. – Ты ведь пока еще не разведенная женщина, если я правильно понимаю?
– Что ты имеешь в виду?
– Я узнал о том, что ты планируешь со мной развестись, только сегодня. А реабилитироваться в центр ты пошла заранее. Значит ли это, что ты приняла окончательное решение и я ничего не могу изменить?
Она взглянула на него и опустила голову.
– Есть ли еще что-то, о чем я должен знать, чтобы не выглядеть идиотом перед адвокатом?
Она молчала.
– Так, – подытожил он. – Что именно? Любовник?
– Нет!
– Дом?
– Не смей думать обо мне, как о какой-то шлюхе, которая…
– Счета?
Солнце все припекало, как будто наваливалось на его бедную голову. На стоянку перед кафе зарулил огромный лимузин, из него вышел человек в зеркальных очках, с пышными бакенбардами и в розовой пиджачной паре. Он постоял, давая всем желающим себя осмотреть, а потом неторопливо направился к дверям.
Калифорния, будь она проклята!..
– Что со счетами? Ты перевела на себя все или только общие?
– Общие, – быстро и виновато призналась она. – Как бы я могла перевести все?! Я считаю, что это справедливо, Дэнни. Это просто компенсация за то время, что я провела одна.
– О’кей. – Он поднялся и снова пересел на другую сторону, сознательно отдаляя себя от нее.
Придется привыкнуть. Теперь ко многому придется привыкать заново.
Нет, не так. Теперь придется долго и мучительно привыкать к тому, что я один и за спиной у меня пустота, а не одна из «великих американских ценностей», называемая семьей.
– Когда ты перебираешься в Сиэтл?
– Чем скорее, тем лучше. Шеф не может ждать, потому что в том офисе не закрыта эта вакансия.
– Ладно, – перебил ее он. В голове и на душе стало совсем скверно. – Ты вернешься в Вашингтон со мной?
Она покачала головой, достала из сумки темные очки и нацепила их – отгородилась от него окончательно.
– Я не хотела бы ехать с тобой в одной машине через всю страну, Дэн. Думаю, что прилечу на самолете. Тем более что мне нужно вернуться как можно быстрее, потому что офис в Сиэтле не может ждать.
– Я знаю, – сказал он с досадой. – Там не закрыта вакансия!..
– И не смей оскорблять меня, Дэн Уолш! Мой адвокат…
– Я ничего не хочу слышать про адвокатов. Но должен предупредить, что делиться придется честно. Я не могу отдать тебе все и остаться нищим.
– Как ты можешь так говорить, Дэн?!
– Я могу. Потому что ты перевела на себя все наши общие счета.
– Это всего лишь компенсация, я уже сказала…
– Черт с ней. Все остальное разделим так, как положено по закону. Согласна?
Она помолчала.
– Да.
– Тогда я поехал. Пока.
Он поднялся, похлопал себя по карманам, проверяя, на месте ли ключи от машины.
– А мой чемодан?
– Я попрошу официанта отнести его. Может, оставить тебе наличных?
– Дэн, перестань обо мне заботиться! Ты больше не мой муж!
– Ах да! – Он улыбнулся. – Я и забыл.
Он обошел стол и поцеловал ее, просто коснулся губами прохладной щеки.
– Пока. Будь счастлива.
– Ты тоже.
– Я постараюсь.
И он вышел из кафе под бешеное калифорнийское солнце, и подозвал официанта, и распахнул багажник «Навигатора», откуда сразу же пыхнуло жаром и горячей синтетической вонью, как будто там случился пожар.
Телефон у него зазвонил, когда он уже садился в машину.
– Дэн Уолш слушает.
– Дэнни, возвращайся в Вашингтон, – не здороваясь, приказал начальник личной охраны. – У нас проблемы с русским визитом.
– Какого рода, сэр?
– Появилась информация, что русские могут устроить нам сюрприз. Возвращайся, мы должны успеть подготовиться.
– Шеф в курсе, сэр?
– Ты первый, кого я ставлю в известность, Дэнни.
– Я ценю это, сэр.
Говорить или не говорить о том, что его только что бросила жена?.. Говорить или подождать?.. Ведь все еще может измениться, и тогда он окажется в идиотском положении.
Ничего не изменится, подсказал в изнеможении больной от солнца и горя мозг. Все, Уолш. Это конец истории, продолжения не будет.
– У меня небольшие личные проблемы, сэр, – отчеканил он в трубку. – Я смогу вернуться в Вашингтон только завтра к вечеру.
Начальник помолчал.
– Серьезные или все-таки небольшие, Дэн?
– Серьезные, сэр.
Опять пауза.
– Хорошо. Жду вас завтра к вечеру, полковник.
– Благодарю вас, сэр.
Он бросил телефон на соседнее кресло, где обычно сидела его жена, когда они ездили вдвоем, рванул с места и вылетел на калифорнийское шоссе.
Кафе, где они сидели, все уменьшалось в зеркале заднего вида, а потом дорога вильнула, и оно пропало вовсе.
– Вот и все, – сказал сам себе полковник Уолш. – Конец истории.
– Я так больше не могу!! – прорыдала она из ванной. – Я больше ничего не желаю слушать про твою работу и про то, что ты делаешь карьеру, Колечка! Я от тебя ухожу, и можешь быть абсолютно свободен! Просто как ветер!
– И проваливай куда хочешь! – тоже проорал он, схватил с захватанного руками стеклянного столика пачку сигарет и вытряхнул одну. Остальные рассыпались. – Мне все равно! Если ты не понимаешь, что я получил повышение, значит, скатертью дорога!
– А мне-то что от твоего повышения?! – Она выскочила из ванной и буйствовала в коридоре. Глухо падали какие-то вещи, словно она швыряла в стену валенки. – То у тебя тренинги, то у тебя учеба, то у тебя командировки по три месяца! С этой учебы ты приезжаешь вечно пьяный! Чему вас только учат-то там, на учебе этой?! Ребенок забыл, как отца зовут, а я забыла, когда мы в последний раз в театр ходили!
– А при чем тут театр?!
– А при том, что я не нанималась к тебе уборщицей и кухаркой! Я хочу жить, как все люди живут, я хочу по выходным на дачу ездить!
– Далась она тебе, дача эта!
– Далась, представь себе! И ребенок на свежем воздухе, и родителям приятно! Только мы на дачу не мо-жем, у нас папочка карьеру делает!
– А тебе бы только мамочке своей угодить! Ты и дачу эту придумала, только чтобы мамочка была довольна! А у тебя муж есть! Есть или нет?
– А я не знаю!
Она выскочила из коридора и стала в дверях. Халат распахнулся на груди, и она воинственно его запахнула, будто опасалась за свою честь и готовилась отстоять ее.
– Да, вот не знаю, есть у меня муж или нету!
Он ползал по ковру и собирал сигареты, из которых сыпалась желтая табачная крошка. Руки у него тряслись. Он и впрямь вчера перебрал, когда праздновали его повышение и отъезд в Питер.
Вчера перебрал, а сегодня жена вдруг задумала с ним разводиться! Просто невезуха какая-то!
– Что ты там ползаешь?! Что ты там лазаешь?! Ты всю душу из меня вытянул!
– Я из тебя?! Да это ты со своей мамочкой житья мне не даешь, а я, между прочим, только для тебя и стараюсь! Стал бы я жилы рвать, если бы ты меня не пилила, чтобы мы жили, как люди живут?! И чего тебе не хватает?! Машина есть, квартира есть, все есть! Ребенок в приличную школу ходит! Что ты все ко мне цепляешься?! – Он собрал все сигареты, бережно ссыпал их на захватанный стеклянный столик, выпрямился.
Жена все стояла в дверях, и вид у нее был какой-то на редкость убитый, непривычный для нормального семейного скандала, случавшегося каждую неделю.
– Ты жилы мне рвешь, бабник проклятый?! Мне чего не хватает?! А того не хватает, что я замуж выходила, чтобы счастливой быть, а не чтоб всю жизнь за тобой прислугой ходить! В Питер он уезжает, посмотрите на него?! У тебя там баба, что ли, в Питере этом проклятом?!
– Какая баба, чего ты пристаешь ко мне с этими бабами, дура?!
Тут вдруг она куда-то метнулась, пропала с глаз, и он получил передышку.
Он вытер со лба унизительный скандально-алкогольный пот, облизнул сухие губы и посмотрел по сторонам. Ему страшно хотелось пить, и руки все еще дрожали, и он знал, что «в баре» – так назывался полированный ящик с откидной крышкой – должна быть бутылка коньяку. Он давно бы уж тяпнул для облегчения своего нынешнего положения, но не решался, знал, что, если она увидит, скандал разгорится с новой силой, а ему бы полежать и, может, уснуть.
– В Питер он уезжает! – доносилось из коридора. – Поглядите на него! А я-то, дура, все думала, что этого быть не может! И мне ведь говорили, что в этих гостиницах ваших только один секс кругом, и больше ничего, а я не верила! И маме не верила, но она тоже говорила!..
Он послушал-послушал и мелкими шажками приблизился к «бару». Если она еще какое-то время будет копаться в коридоре, пожалуй, можно успеть! Аккуратно, чтобы не стукнуть, он потянул дверцу на себя. Она поддалась не сразу, за стеклом задребезжали рюмки, и он на секунду замер.
– Ты мне всю жизнь испортил, всю мою молодость забрал, а теперь я, значит, не гожусь?! Теперь, значит, ты девчонок молоденьких хочешь?! Я уж и забыла, когда он в последний раз со мной спал, а тут, здрасте-пожалуйста, какой герой-любовник в нем открылся!
Он еще потянул дверцу и увидел длинное горлышко вожделенной бутылки темного стекла, с золотистой умиротворяющей пробочкой.
Он покосился на дверь и облизнул пересохшие губы. Еще одно движение, и он ловко вытянет бутылку, открутит пробку и… и…
– Я тебе покажу Питер, козел вонючий! Я с тебя три шкуры спущу и голым в Африку пущу, и ни в какой Питер ты не поедешь!.. Карьеру он делает для меня, посмотрите все на него! А то, что ребенок растет сиротой, ему наплевать!
Он подцепил бутылку, которая вдруг стала выскальзывать из потных пальцев, и пришлось подхватить ее другой рукой, в этот момент крышка «бара» поехала в пазах и уже готова была стукнуть, но он прижал ее животом и не дал!..
Ну, господи благослови, теперь самое главное быстренько, аккуратненько, глоточек, сначала большой, а потом, второй, можно и поменьше, уж и от первого полегчает!
Он сорвал золотую фольгу, скрутил крышку, покосился на дверь и, держа бутылку двумя руками, понес ее к жаждущему, пересохшему рту.
И не донес.
– Ах вот оно что! А я-то думаю, что он затих, а он тут коньячком догоняется! Поставь бутылку, урод!..
И она кинулась и вырвала сосуд с живительной влагой из его слабеющих рук!
– Верни! – тяжело дыша, велел он. – Верни сейчас же!
В одной руке у жены была бутылка, в другой какой-то конверт. Она прижала конверт подбородком и показала ему фигу:
– А это видел?!
– Верни, кому говорю! Зараза!..
– Я зараза?! Это я зараза?! Это ты зараза! И не подходи ко мне! Не смей ко мне подходить!
Так как он надвигался на нее с явным намерением отобрать бутылку, она проворно отступила, перехватила конверт и швырнула ему в лицо:
– На! На! Гляди на себя! Господи, позор, срам какой! Я не переживу, не переживу-у-у!..
И тут она вдруг заревела так горько и от души, что он даже перепугался немного.
Он остановился, не дойдя до жены несколько шагов, покосился на бутылку у нее в руке и спросил хрипло:
– Ты чего ревешь?
– А ты посмотри-и-и! Вон, вон посмотри, бесстыжая твоя рожа!.. – И пальцем ткнула в ковер, по которому разлетелись какие-то фотографии.
Наклоняться было невыносимо – вчерашний алкоголь, еще не весь перекочевавший в почки и печень, потек в обратную сторону и заплескался где-то у глаз, отвратительный, кислый, разъедающий внутренности.
– Это чего такое?
– А ты посмотри, посмотри как следует!
Он поднял с пола фотографию и посмотрел. В глазах было мутно, в желудке гадко, и пришлось взяться рукой за сервант, чтобы не упасть.
На фотографии были какие-то огни, которые резали его и без того изрезанный мозг, и еще какая-то целующаяся парочка.
– Да чего это такое-то?!
– Ты что?! Прикидываешься?! За дуру меня держишь?! Нашкодил, как паршивый кот, так хоть имей смелость признаться!
– Кто шкодил-то?! Я, что ли?!
– А не ты?!
Фотография снова сверкнула ему в лицо приторным глянцем, и огни на ней вдруг показались смутно знакомыми, и парочка тоже, и он вдруг весь налился холодным потом.
Неужели?!.. Неужели?! Да как это может быть?!.
– Ну что? – презрительно спросила жена, наблюдавшая за его лицом. – Узнал, Колечка? Или как?
Он тяжело дышал, и вдруг с левой стороны груди что-то так закололо, что он привалился к серванту плечом. Там опять зазвенели рюмки.
– Что-то, Колечка, лица на тебе нет, – прошипела жена злорадно. – Чего это ты взбледнул так вдруг?
– Где ты это… взяла?!
– А это, Колечка, – она подошла и вытащила фотографию у него из пальцев, – нам добрые люди в почтовый ящик положили! Я думала, опять рекламу кинули, а тут вдруг такое!.. Да ты еще самого интересного не видел, остренького!
Она наклонилась, подобрала несколько фотографий и стала тыкать их ему в лицо.
– Нет, ты полюбуйся, полюбуйся!.. Прямо голубь с голубицей, сладкая парочка! Вот и в постельке снимочек есть, во всей красе! Да что ты морду-то воротишь, ты любуйся, любуйся!
Он отворачивался, потому что смотреть был не в силах.
Какая сука это сделала?! Кто мог так его… подставить?! И они с Натусей не заметили ничего, никакой слежки!
Выходит, все время, что они плавали на пароходе, их кто-то снимал?! И в каюте снимал?! И в постели?! И в ванной?!
Одним глазом он покосился на фотографию, которой жена все тыкала ему в лицо.
Ну да, их каюта, вон и Натусин лифчик белеет, который она зашвырнула на стол, когда он…
Кровь бросилась ему в лицо!..
– Чего ты молчишь, как истукан? Это так ты на учебу и на семинары ездишь?! Это так ты для семьи стараешься?! Лахудру какую-то подцепил и укатил с ней трахаться!
Он хотел было обиженно возразить, что Натуся никакая не лахудра и уж точно получше будет, чем его женушка драгоценная, но вовремя поймал себя за язык.
Жена не отводила от него глаз, лицо у нее было залито слезами, волосы торчали немытыми кудельками.
О господи, за что мне это все!..
– А теперь он в Питер навострился! Дела у него там! Какие там у тебя дела?! Лахудра твоя тебя там ожидает, на Московском вокзале?! Все глаза проглядела, букетик заготовила?!
Он молчал. Первый раз в жизни он не знал, что говорить. То есть решительно не знал. Никогда раньше его мелкие грехи, его шалости и похождения не были… запечатлены на пленку. Жена могла подозревать его сколько угодно, вместе со своей мамашей, черт бы побрал их обеих, но доказательств-то – накося выкуси! – нету! Нету, хоть вы тресните обе! А мне какая разница, что вы там такое себе напридумывали?! Я работаю в отельном бизнесе – и звучит престижно, и свобода полная, жена-бухгалтерша все равно никогда не разберется, правда ли на сегодня семинар назначили или не назначили, а может, банкетная служба юбилей своего менеджера отмечает, и все остальные службы там обязаны быть кровь из носу!
Фотографии, раскиданные по вытертому ковру, были отвратительны, как пятна химической краски. Кажется, они даже воняли краской, а глянцевый блеск проникал в глазные яблоки и жег, жег!.. Как это так вышло, что они с Натусей не заметили никакой слежки?! Как они были беспечны и свободны в своей любви! Как они тратили драгоценные, сладостные секунды друг на друга, пока вмешательство жестокого мира не остановило их так… болезненно и остро!
В институте Коля Саньков читал много переводной литературы – такая только-только появилась, и в его неокрепшем мозгу плохие тогдашние переводы оставили неизгладимый след. Коля был уверен, что «высокий штиль» переводных романов и есть самый правильный способ выражать свои мысли и чувства.
Его жена – тогда она еще была не жена – приходила в восторг, когда он говорил ей, что готов «целовать ступеньки, по которым она поднимается» к себе на второй этаж, или что «цвет японских ирисов напоминает цвет ее глаз, когда она смотрит на уходящее солнце».
Какие такие «японские ирисы», он знать не знал, и «целовать ступени» хрущевского дома представлялось ему занятием сомнительным во всех отношениях, но она клюнула! Она клюнула и поверила в то, что он испытывает к ней любовь «как в романе»!..
Слова были как в романе, а с любовью вышла незадача.
Сначала было еще ничего, а потом ребенок, проблемы, заботы, денег вечно нет, он вечно в отъезде или задерживается, она всегда недовольна, и пошло-поехало!..
Но самое смешное и любопытное, что все женщины, с которыми он спал, клевали на то же самое – на «японские ирисы», на то, что в волосах «капли воды, как бриллианты», на то, что по пляжику реки Пехорки, заваленному пивными банками и пакетами из-под чипсов, она идет, как «королева красоты, и все остальное убожество меркнет перед ней». Еще очень клевали, когда он открывал дверцу машины. О-о, это вариант беспроигрышный!
– Не-ет, это ты мне объясни! Объясни, в какое дерьмо нас втравил! Что это за макака?! Откуда она взялась?! И может, она больная, они сейчас все зараженные, кто СПИДом, кто сифилисом, кто паразитами! Где ты ее подобрал?! Говори сейчас же!
И жена топнула ногой, и в серванте опять тоненько зазвенели стаканы.
Коля Саньков, герой-любовник, открыл рот и пошевелил губами. Пересохшие губы елозили друг по другу, цеплялись, и было очень противно.
– Тут… неправда, – проскрипел он, долго вспоминал слово, шевелил пересохшим ртом и наконец вспомнил: – Фотомонтаж!
– Какой еще фотомонтаж?! Да кому надо тебя фотомонтировать-то?! Ты чего? Секретный шпион ЦРУ?! Или президент американский?!
– Он в отель приезжает, – проскрипел Коля снова. – В Питер. У меня там… работа… пригласили меня… работать буду…
– Кто приезжает?! Куда?! У тебя белая горячка, что ли?! Или как это все понимать?!
– У меня горячки нету, – сказал Коля обиженно, насколько позволяло нынешнее состояние души и тела. – Президент американский приезжает. В Питер.
– Так это ты с президентом сфотографирован?! С американским?! Вот, вот! И еще вот тут!! Нет, ты не отворачивайся, ты смотри, поганец! Я еще и ребенку покажу, чтобы он знал, какой у него папочка работкой занимается! Почетной такой!..
– Не смей! – прохрипел Коля. – Ребенку не смей!..
Как все глубоко равнодушные к близким, он искренне полагал, что очень любит ребенка и живет ради него.
Жена нагнулась и стала собирать с пола фотографии, приговаривая, что с ними она пойдет в народный суд, когда настанет время делить имущество, а сейчас чтобы он катился куда глаза глядят, хоть к этой своей лахудре, хоть к любой другой, ей до этого дела нет, потому что с этой минуты он ей не муж!
И как это она утерпела, не затеялась разбираться, когда он вчера ночью домой пришел?..
– Хорошо, хорошо, я уйду… – бормотал несчастный Коля, переступая по ковру бледными волосатыми ногами, чтобы не мешать ей собирать их с Натусей снимки. – Только мне надо вещи взять…
– И так не заржавеешь, несобранный! Проваливай сейчас же! Мама скоро ребенка привезет! Проваливай, кому говорят!
Легко сказать – проваливай! Еще легче гордо ответить, что через десять минут меня и след простынет, но вот как это сделать?!.. Идти некуда – родители в Казани, к ним, что ли, сию минуту отправиться? Квартира была некогда «пробита» тестем. Для того чтобы получить две двухкомнатных – одна смежная, другая раздельная, – тесть свою трехкомнатную, полученную на ЗИЛе, обменял «с доплатой», и записана она на жену и ребенка. Друзья? Нету у него друзей, у которых можно было бы пристроиться, пока буря не пройдет стороной. Родственники? Была когда-то в Москве тетя Соня, к которой в свое время он и прибыл из Казани, но с тех пор прошло много лет, и, перестав нуждаться в материальном вспомоществовании, племянник перестал к ней наведываться, может, уже и померла! Впрочем, скорее всего жива-здорова. Если бы перекинулась, мама из Казани давно бы написала.
Куда деваться-то?!. Куда уходить?! К тете Соне как-то неловко.
– И чтобы духу твоего тут не было, и чтоб ты сдох где-нибудь на помойке! – ожесточенно бормотала жена. Она сгребала фотографии и как попало запихивала их в конверт. – И к ребенку не смей подходить на пушечный выстрел! Увижу – убью! А снимочки мне пригодятся! В народном суде небось тоже люди судят, пускай они посмотрят, как папка со своей семьей обращается!
Его тошнило и хотелось умереть, чтобы не мучиться так уж сильно, и единственная мысль, шевелившаяся в голове быстрее, чем мельничный жернов, была только об этих снимках.
Кто его подставил?! Кто выдал их с Натусей страшную тайну – начитавшись переводных романов, он именно так и думал: «страшная тайна»! Кто посмел вторгнуться в самое сокровенное, что у него было?! Да еще подсунул фотографии жене! Она бы и знать ничего не знала и не догадывалась бы ни о чем! Все по карманам бы шарила, искала губную помаду или женские трусики, а его на таких вещах не поймаешь, он калач тертый!
Из-за такой ерунды – поганых фотографий! – вся жизнь пошла прахом! Вся жизнь прахом пошла!..
– Проваливай! – прикрикнула опять жена. – И чтобы духу твоего здесь не было больше никогда! Посмей только нос сюда сунуть, и я тебя…
Коля Саньков в последний раз с сожалением оглянулся на бутылку, с наполовину оторванной фольгой и почти отвинченной крышечкой, переступил через жену, ползавшую на коленях, и потащился в спальню.
Там был разгром и пахло «человечиной», как когда-то говорила та самая тетя Соня, – нечистым бельем, пылью, разобранной постелью, которую давно не меняли.
Коля открыл гардероб и, придерживая рукой голову, чтобы совсем не отвалилась, стал таскать оттуда какие-то вещи, смутно надеясь, что это его, а не жены.
Что значит – убирайся? Что значит – пошел вон? Что он ей, собачка, что ли, которую можно вот просто так взять и выгнать!
Гора вещей на разгромленной постели все росла. Он косился воспаленным глазом и продолжал таскать.
Как нужно уходить от жен? Он понятия не имел. Наверно, все это следует сложить в сумку, только где ее взять? Где у них в квартире дорожные сумки? На антресолях, кажется, где еще они могут быть? Конечно, на антресолях, жена всегда оттуда достает, когда он едет в очередную командировку.
Эх, хороша была командировка с Натусей на теплоходе! Звезды сияли, на воде было уже тепло, несмотря на то что лето только началось. Коля, втянув живот, мужественно балансировал на вышке, привлекая благосклонное Натусино внимание, а потом ласточкой кидался в бассейн и однажды сильно зашиб живот и то, что ниже, чуть не до слез. Натуся оказалась девахой простецкой и без глупостей – опрокидывала джин с тоником, резалась в картишки с соседями по столу, к ужину выходила в прозрачной маечке, белых брючках и на шпильках, волосы собраны в хвост. Теплоход представлялся ей райской обителью, а Коля Саньков повелителем этой обители, суть господом богом. Он шикарно заказывал коктейли, носил белые джинсы, поигрывал в пинг-понг с теплоходными жиголо, знал множество анекдотов и умел их рассказывать, бросался с бортика в бассейн, на ужине заказывал музыкантам песню «Ах, какая женщина!..» и элегантно приглашал Натусю танцевать. А по вечерам они бродили по палубе, целовались в шезлонгах, смотрели на звезды и подставляли пылающие лица волжскому ветру.
Не жизнь, а просто праздник какой-то!..
И как все ужасно закончилось – гадкими фотографиями, истерикой жены и криками «пошел вон!». Жизнь вообще очень подлая штука!..
Коля постоял, прислушиваясь, а потом с тоской взглянул на кучу вещей. И что дальше?.. Ну, найдет он сумку, ну, попихает в нее шмотки, а потом что? Кухню пополам, детей об стенку и тапочки в окно? Самое главное, он совсем не чувствовал себя виноватым и был страшно зол на ту сволочь, что сделала снимки, да еще прислала их жене! Главное, зачем прислала-то? Ладно бы, угрозы разоблачения и требования денег, так ведь нет этого ничего!
Из коридора послышался какой-то шум, и в спальню влетела жена с той самой сумкой, которую он не знал где взять.
– Вот тебе, Колечка, котомка твоя, давай, собирайся и проваливай с глаз моих!
Не глядя, она сгребла с кровати накиданные им вещи – за ними потащилось и одеяло – и стала ожесточенно запихивать в сумку.
– Ты… подожди, – попросил он жалобно. – Ты… это… ты все не так поняла…
– Я?! Я не так поняла?! Фотки со шлюхой я не рассмотрела?! Или ты с ней в кровати синхронным плаваньем занимался?! Я думала, у меня муж есть, а ты мне больше не муж! Ты подлец, и душа у тебя подлая!..
– Да нет… – забормотал он. Она отшвырнула пододеяльник, который лез в сумку, дернула его, раздался треск. – Просто… это не то, что ты думаешь…
– Просто тебе деваться некуда, урод проклятый! Вот ты и ноешь теперь! Ноет он! А вот это ты видел?! – Она выдернула руку из сумки и сунула ему под нос фигу, сложенную из неухоженных красных пальцев. Фига была так близко, что он отшатнулся. – Раньше надо было думать, когда ты всяких шлюх трахал, а сейчас поздно! Убирайся вон из моего дома, и чтобы духу твоего тут не было!..
В два счета она набила сумку, скинула ее на пол, уселась верхом и затянула «молнию», а потом пинками погнала баул к двери. Сумка ползла, зацепившись за ковер, и ковер постепенно собирался неровными складками.
Собственно, эти складки – последнее, что осталось в голове у Коли Санькова, где все тоже пошло складками, и он вдруг осознал себя во дворе родной многоэтажки, на лавочке, сумка стоит рядом, в пыли, и из кособокой урны тянет тленом.
Трясущейся рукой он вытер мокрый, холодный лоб и огляделся.
И куда теперь?.. И что теперь?..
В голове неотвязно крутилась подлая и неуместная мыслишка, которую все повторяла его зараза-жена, – раньше нужно было думать! – но эту мыслишку он отверг. Как это он мог думать раньше, когда Натуся была столь неотразима! А до Натуси Танюша была хороша, а до Танюши, кажется, Надюша, а может, Катюша. Думать раньше – значит, лишить себя всех жизненных удовольствий, заранее и навсегда, а как такое возможно?!
К Натусе поехать нет никакой возможности – она не примет, а если вдруг примет, еще хуже!.. Тогда на ней придется жениться, значит, разводиться со старой женой, а как же ребенок?! Он, Коля Саньков, живет ради ребенка, это всем известно!
И… лень.
Новая жена, новые хлопоты. Новые родственники, новые бигуди в раковине, новые чашки на кухне, да и сама кухня, выходит, новая! А где ее взять?! Придется снимать углы.
Коля Саньков, который в родном отеле руководил «лагидж-боями», то есть специальными людьми, что таскают чемоданы приезжающих и отъезжающих, а заодно и грузчиками, не хотел никаких таких проблем. Они его пугали.
– Ты чего сидишь, мужик? – вдруг спросил кто-то рядом. – Да еще с портфелем! – «Портфель» было произнесено с ударением на первый слог. – Ночевать, что ль, негде? Приезжий? Или жинка выгнала?
Коля осторожно повернул голову и посмотрел. Рядом с ним на лавочку пристроился обыкновенный мужичонка в полосатой майке и зеркальных очках. Мужичонка крутил на пальце ключи от машины. Ключи вдруг сорвались, бухнулись в пыль рядом с его сумкой.
– А, чтобы тебя!.. – пробормотал мужичонка, поднял ключи и вытер руку о джинсы.
– Бабы, они такие, – продолжал он как ни в чем не бывало, и опять стал крутить ключи. – Они порождение сатаны, сказано в Писании!
Коля подпер рукой голову, в которой вертелись жернова, били отбойные молотки и несколько подъемных кранов все время роняли бетонные плиты, и ничего не ответил за неимением сил.
– Может, выпьешь со мной? – вдруг с надеждой поинтересовался мужик. – А то ведь у меня дома тоже змея подколодная затаилась, идти неохота, а выпить не с кем!
Коля Саньков отнял пальцы от воспаленных глаз и покосился на мужичонку. Даже это движение доставило ему невыразимые муки.
– Давай, мужик! – подбодрил тот. – Я же вижу, маятно тебе! Пойдем, полечимся! У меня и машина тут рядышком, а на проспекте пивняк зашибенный, бар «У Муслима» называется, знаешь?
Коля пожал плечами. Ему было все равно, лишь бы «полечиться», а мужичонка предлагал простой и действенный способ.
– Ну давай, давай, а там, может, придумается чего! Может, у меня переночуешь, а жинка одумается! Много ли им, бабам, надо! Волос долгий, ум короткий, она к утру и не вспомнит, из-за чего на тебя вызверилась! Ух, сатанинское отродье!..
– У меня деньги есть, – прохрипел Коля, судорожно пытаясь вспомнить, есть или нет, – я тебе заплачу!
Мужичонка махнул рукой:
– Да я и сам нынче при деньгах! Нам получку выдали, на службе-то! Только зачем я всю получку той змее подколодной понесу, что у меня в дому угнездилась! Сейчас мы ее с тобой на двоих-то!.. Хоть чего-нибудь себе, уж того, что я выпью, она у меня не отнимет!
И он хрипло засмеялся над такой своей шуткой.
– Вставай, вставай, пошли!..
Коля Саньков встал, покачнулся, постоял, вздыхая, и двинулся следом за мужичонкой, который уже проворно тащил к «жигуленку» его сумку.
– Макс! Ма-акс!
– М-м?
– Макс, вставай, хорош спать! На выезд!
– М-м?..
– На выезд, кому говорю! Серега уже под парами стоит, и кочегары на месте! Да вставай ты!
Максим Вавилов во сне увидел паровоз и машиниста, выглядывающего из окошка. Машинистом была огромная щука в фуражке. Паровоз сильно трясло на стрелках. «Елки-палки!» – подумал он во сне про щуку-машиниста, которая не сбавляла скорости.
– Макс, па-адъем! Па-адъем! Казарма!!! Тревога!!
Он сел на кушетке, не в силах расстаться со своей щукой в фуражке, которая выглядывала из паровозного оконца и щерила зубастую пасть – улыбалась.
– Макс, на выезд!
– А сколько сейчас?..
– Три тридцать семь. Чего это ты так разоспался, ешкин кот!..
Максим Вавилов потер лицо. Отросшая за ночь щетина сильно кололась и казалась незнакомой, как будто он тер чье-то чужое лицо.
– А что случилось-то?
– Труп у нас случился, что еще у нас может случиться?!
– А какой я сон видел! Про щуку, которая вроде бы на паровозе едет, а на самом деле…
– Макс, тебе бы только про щук смотреть! Давай, вставай уже! Я тут около тебя полчаса ритуальные танцы танцую, а Серега, между прочим, все полчаса своим телом провода греет, чтобы машина завелась!
– Скажи, пусть охлаждает лучше, – пробормотал Максим Вавилов, старший оперуполномоченный по должности и майор по званию.
– Чего охлаждает?..
– Провода, скажи, пусть Серега охлаждает, что, что!.. На улице тридцать градусов, а он провода греет!..
– Так тридцать днем было, – обиженно сказал лейтенант Бобров. – Сейчас-то едва пятнадцать набежит.
– Иди ты!.. – приказал Максим Вавилов. Как старший по званию. – Иди, иди! К Сереге в машину иди, я сейчас…
Что-то невмоготу ему было. Уработался.
Отпуск отменили еще в апреле из-за очередного «усиления». То ли слух прошел про террористов, то ли на самом деле фээсбэшники чего-то такое накопали, но, короче, приказали «усилить».
Усилили как могли. Могли не очень, потому что – Максим Вавилов подсчитал! – с нового года апрельский приказ по «усилению» был одиннадцатым. Вот и выходит, что за полгода отечественные силы правопорядка усилились в одиннадцать раз, ибо предыдущие приказы никто и не думал отменять. Большое начальство приказик-то выпустит, начальство помельче его выполнит или сделает вид, что выполнит, а потом то, большое, про приказик-то и позабудет, у него других дел невпроворот. То генерального прокурора снимут, то, того гляди, министра МВД переназначат, то коррупционный заговор раскроют, оборотни в погонах, мол, и все такое!.. А мелкое начальство приказ об усилении отменить никак не может, потому оно пугливое очень. Потому что оно нервное. Потому и боится.
Оно «усиление» отменит, а тут – трах-ба-бах! – в подъезде жилого дома три килограмма тротила или сто граммов С-4! Кто виноват? Кто не доглядел? Правоохранительные органы не доглядели! А почему не доглядели? А потому что приказ об усилении отменили!
– Вашу мать… – пробормотал Максим Вавилов, стащил себя с кушетки – практически за шиворот стащил – и поволокся за фанерный шкапчик, умываться.
За шкапчиком имелся пластмассовый стол, покрытый для красоты клеенкой, которую подарила Максиму мама. На столе стояли разнокалиберные чашки, черные от времени и заварки, и среди них одна – новая, сверкающая белизной, с красным сердцем и надписью «Я люблю Калифорнию». Еще были: микроволновая печь, разделочная доска, засыпанная крошками и загнутыми сырными корками, засаленный нож с отбитой черной ручкой, пустой пакет из-под чипсов, на котором была нарисована такая аппетитная картошка, что у старшего оперуполномоченного немедленно засосало в желудке, чей-то термос без крышки, коробка сахару, несколько липких конфет россыпью, кофейная банка без кофе и одна пластмассовая ложка – мешать в кружке, на тот случай, если кто-нибудь где-нибудь раздобудет кофе.
И еще раковина с краном. Вода из крана шла произвольно, повинуясь неведомым законам, иногда только холодная, а иногда только горячая, и почему-то это никогда не совпадало со временем года. Летом шпарил кипяток, а зимой шла ледяная кашица.
Максим Вавилов открыл кран и подождал какое-то время, чтобы не угодить под кипяток, а потом осторожно пощупал. Вода была никакая, ни теплая, ни холодная, противная, и он кое-как умылся.
Елки-палки, труп!.. А он-то надеялся, что нынешняя ночь… того… хорошо сложилась. Без трупов.
Полотенце на пластмассовом крючке в виде морды Винни-Пуха даже на ощупь было заскорузлым от грязи, не висело, а стояло колом. Максим отряхнул с лица противную воду и вытираться не стал.
– Вавилов! Ты где там застрял?!
– Да здесь я!
– Меня Ерохин послал узнать, выехали на вызов или нет! Какая-то дамочка истерическая в пятый раз звонит!
– Не истерическая, а истеричная, – поправил за шкапчиком Максим Вавилов, у которого мама в школе преподавала русский язык и литературу. – И не звонит, а звонит!
– Ты чего, Вавилов? Ты где там?! Чего начальство нервируешь?!
– Уйду я от вас, – объявил Максим Вавилов, выйдя из-за шкафа. – Уйду, Боря! Сдохнуть можно от такой работы и от тебя тоже, Боря, можно сдохнуть!
– Чего это от меня дохнуть? – обиженно спросил дежурный. – Вот работа – другое дело! Только куда ты пойдешь-то от нас? В школу, энвепе преподавать?
– Энвепе отменили, Боря.
Дежурный подумал.
– Когда отменили?
– Давно. Вместе с Берлинской стеной и политикой «холодной войны».
– Тогда тем более не уйдешь, – заключил дежурный. – Ты, Вавилов, чего умеешь? Ничего ты не умеешь! Только бумажки строчить да формы заполнять, подпишите здесь, здесь и здесь! Куда ты денешься?!
Почему-то Максима Вавилова это задело.
– У меня высшее образование, – сказал он обиженно и вместо того, чтобы пойти наконец в машину, вернулся за шкапчик и стал изучать себя в зеркале.
Ничего хорошего там не показывали – Максим Вавилов всегда отличался самокритичностью. Рожа как рожа, да еще отечная.
– Ну вот, ты со своим высшим и просидишь здесь всю жизнь, – заключил Боря. – Да чего ты опять туда полез?! Выходи давай! А то Ерохин мне вставит!
– Тебе, Боря, давно пора вставить!
– Чего?!
– Шутка такая, – сказал Максим мрачно и вышел из комнаты.
Над входом в дежурную часть горел прожектор, и ребята стояли возле «Волги», разговаривали ночными голосами, которые далеко разносились по улице. Рация трещала и хрипела, ничего не разобрать. Было тепло, пахло тополями и подсыхающим асфальтом. Наверное, поливалка недавно прошла. Самое для них, для поливалок, время. Утро скоро.
– Макс, ты чего застрял? Поехали, поехали уже!
– А что за труп? Криминальный?
– А х… его знает!
– Ну криминальный, конечно! Был бы не наш, его бы давно труповозка забрала!
– А какой я сон видел, – поделился Максим Вавилов и полез в карман за сигаретами. – Про щуку в паровозе.
Никто не обратил на него никакого внимания.
– Мужики, ну чего вы стоите-то, мать вашу так? Мне Ерохин уже третий раз дал по мозгам!.. И дамочка опять звонила!..
– Да мы идем уже!
– Да отвяжись ты, Боря!..
– Мужики, а я в отпуске с понедельника.
– Подписали?!
– Сам не верю! Я думал, усиление это, то, се – ни за что не подпишут. И я ему говорю: ну, това-арищ полковник, ну войдите в мое положение, у меня жена, теща, а вы меня не пускаете!.. А он мне…
– Уйду я от вас, – сказал Максим Вавилов, задрав щетинистый подбородок к темному небу, которое над домами уже синело, а над дорогой казалось темным, плотным. – Энвепе в школе преподавать!
Он взгромоздился на переднее сиденье «Волги», рядом с водителем Серегой, который с места в карьер начал рассказывать про свои шесть соток и про то, как в прошлом году жена собрала с одной грядки ведро баклажанов, а в этом на спор с соседкой собирается снять столько же красного перца.
А соседка ей – перец в наших широтах не растет!
А жена соседке – это вы растить не умеете! Нужно не лениться, а еще в феврале…
А соседка на это – да чего в феврале, когда в августе как пить дать заморозки будут, и весь лист чернотой побьет!
А жена в ответ – надо по лунному календарю сажать, и тогда до заморозков успеет вызреть, а если не успеет, то заранее снять и под кроватью разложить или еще в какое место, лишь бы темно и сухо…
– Серег, – перебил Максим Вавилов, его качало на сиденье, фонари качались перед глазами, и то ли от Серегиных баклажанов, то ли от недосыпа было тошно. И мужики на заднем сиденье перебрехивались вяло, смолили какую-то махру, от которой еще больше мутило. – Серег, вот ты мне скажи как на духу… Нет, как перед проверяющим из главка…
– Типун тебе на язык, Макс!
– …зачем тебе ведро баклажанов?
Водитель посмотрел на него, как инквизиторы на Галилея, в момент утверждения им, что Земля вертится.
– Как зачем?! А зимой чего мы жрать будем?!
– Баклажаны?
– И баклажаны! И перчик, и картошечку, и огурчики, и помидорчики маманя солит, пальчики оближешь, и лечо варит, а из смородины вино делает, женский пол очень его обожает, а тесть на калгане водку настаивает, так ее под огурчик, да под картошечку, да судачка – у нас их алкоголики-браконьеры носят!.. А еще…
– Я жрать со вчерашнего дня хочу, – мрачно заявил Максим Вавилов. – Только баклажаны можно на базаре купить, а ты каждую пятницу по четыре часа в пробке стоишь, до своих Луховиц как раз, а потом еще в воскресенье четыре часа пилишь в Москву! Оно тебе надо?
Святая инквизиция стала потихоньку наливаться праведным гневом.
– А тебе чего, не надо, Макс? Ты чего, богатый, что ли, на рынке баклажаны ведрами покупать?!
– Да они в августе не стоят ничего!
– А я все равно не миллионер, чтобы на базаре ведрами покупать! И потом, свое самое лучшее, с грядки, свежее! А откуда я знаю, чем там этот урюк, который продает, свои баклажаны поливал! А мы только навозцем, только свежим, земля – хоть ложкой ешь, а ты говоришь – на базаре!..
– Да я не говорю!..
– Ну и молчи, раз ни черта не понимаешь! Полстраны своими шестью сотками живет, а этот выискался, не надо ему!..
– Да я молчу.
– Ну и молчи.
– Мужики, мужики, – вступил с заднего сиденья лейтенант Бобров. – Приехали уже. Серег, ты куда попер?! Здесь направо надо было!
– А чего он ко мне вяжется!
– Вавилов, не вяжись к нему!
– Пойду энвепе преподавать. Команда газы! Противогазы на-деть!..
– Давай тут двором, Серег! До утра, что ли, будем кататься!
– Пусть теперь Вавилов на праздники закуску таскает! Раз ему не надо! На базаре покупает и таскает! А вы жрите что дают!..
– Стой, стой, Серег! Вон, видать, и дамочка ненормальная обретается.
– Где?
– А под фонарем!
Под фонарем и впрямь мыкалась какая-то одинокая сутулая фигура, дамочка или нет, отсюда было не разобрать. «Волга» фыркнула в последний раз и остановилась. Приехали.
– Слышь, Вавилов, а зря ты так про Серегины баклажаны!..
Старший оперуполномоченный обреченно махнул рукой на коллектив и выбрался из машины.
Выбрался не спеша, очень лень ему было, да и надеялся он, что хоть эта ночь как-нибудь без трупов обойдется, а тут – начинай все по новой!
– Что вы так долго ехали?! – заговорила издалека сутулая фигура. Голос женский, значит, и впрямь, ерохинская дамочка. – Сколько можно!
– Если там у вас труп, – сказал Максим Вавилов громко, – значит, можно не торопиться! Куда теперь торопиться-то?
– Послушайте, я тут стою одна уже два часа, и мне страшно, и уйти я не могу, а вы говорите…
Максим Вавилов перестал потягиваться и стремительно приблизился к дамочке. Он умел передвигаться очень быстро. Когда хотел.
Приблизившись, сунул ей под нос удостоверение. Она отшатнулась от неожиданности.
– Майор Вавилов. Документы ваши, пожалуйста.
– Ах, ну какие у меня документы среди ночи! Хотя паспорт, по-моему, я брала. Или не брала, что ли?.. Да-да, вот он!..
Мужики выходили из машины, хлопали дверьми и громко разговаривали. Дамочка тревожно заглядывала Максиму за плечо и прислушивалась. Он изучал ее паспорт. Тополя шелестели, скоро пух полетит, не продохнешь тогда.
Паспорт, серия, номер, выдан. Самгина Екатерина Михайловна. Двадцать пять лет. Прописана… В Санкт-Петербурге прописана по адресу Каменноостровский, 43, любопытно!.. Невоеннообязанная, разведенная – уже успела! – выдан заграничный паспорт.
С фотографии на майора Вавилова смотрела распрекрасная красавица. Максим Вавилов взглянул дамочке в лицо.
Вот те на!.. И вправду распрекрасная красавица. Лучше даже, чем в паспорте, потому что на бумаге у нее вид надменный и неприступный, а в жизни встревоженный, и под глазами синяки.
Он протянул ей паспорт.
– А в Москву пожаловали, Екатерина Михайловна, чтобы специально по ночам прогуливаться?
– Что?
Она перестала заглядывать ему за плечо и посмотрела в лицо.
– Где труп, который вы нашли? – грубо спросил он. – Пойдемте, покажете!
Был у него такой способ оценивать всех женщин на свете – годится для того, чтобы завести с ней роман, или нет. Эта годилась.
Еще как, подумал он с некоторой печалью в свой адрес и даже вздохнул.
Утро туманное, утро седое. Нивы печальные, снегом покрытые. Кажется, будто…
– Вы понимаете, я возвращалась из Останкина, поймала машину. Водитель меня довез и высадил прямо под фонарем, видите?
– Он тут один, фонарь-то, – сказал Максим Вавилов. – Как не видеть?..
– Ну вот. Я отсчитала деньги, и он уехал, а я пошла к подъезду.
– Вы здесь живете?
– Снимаю. Я учусь здесь.
– В подъезде? – не удержался Максим Вавилов, но она не поняла. То ли была напугана, то ли вообще без чувства юмора.
– Да нет, почему в подъезде!
– Значит, в университете. Да?
– Нет, не в университете! Я учусь в Останкине, меня начальник на стажировку отправил, на Первый канал. Ах да! Я не представилась!
И с необычайной гордостью она вытащила из кармана долгополого сюртука, в который была наряжена, удостоверение и сунула его Максиму под нос, как только что он совал ей свое.
В удостоверении была еще одна фотка сказочной красоты и написано большими буквами, что Самгина Екатерина является сотрудником телекомпании такой-то.
– Очень хорошо, – похвалил Максим Вавилов и захлопнул ее удостоверение прямо у нее в ладони. Она удивленно посмотрела на свою руку. – Значит, вы учитесь в Останкине, а здесь снимаете. Бомбила вас привез, вы вылезли, и дальше что?
– И я пошла к подъезду. Вон, где ваши коллеги… смеются.
Максим Вавилов оглянулся. Мужики рассматривали что-то у подъезда пятиэтажки, выходившей фасадом прямо на Сиреневый бульвар.
– Он под лавочкой лежал, понимаете? Как будто сидел и упал, и я сразу вам позвонила, как только поняла, что он… неживой. Я сначала думала, что он сумасшедший или… или… Я испугалась очень.
И тут она заплакала.
– Успокойтесь, успокойтесь, – равнодушно пробормотал Максим Вавилов. – Разберемся.
Прямо перед подъездом, ногами под щелястой крашеной лавкой, щекой на заплеванном асфальте, лежал труп. Даже в свете единственного фонаря было совершенно понятно, что это труп, он и в синеву уже немного пошел, из чего старший оперуполномоченный сделал вывод, что труп даже и не сегодняшний. Примерно позавчерашний такой труп.
И был он совершенно голый.
Екатерина Михайловна, питерская журналистка, издавала жалобные всхлипы, а Максим Вавилов вдруг сильно встревожился.
– Мужики, – сказал он, моментально позабыв про Екатерину Михайловну. – Никак на нашей территории маньяк объявился!
– Тьфу на тебя, Макс!
– Да у него наручники на руках! Вы чего?! Ослепли, мать вашу?!
Стало тихо, как на похоронах, и лейтенант Бобров ногой приподнял деревянное, синее, твердое, бывшее когда-то человеческим тело.
– Наручники, мужики. Глядите!
– И чего делать?
– Оперов с Петровки вызывать, чего делать!..
– А как его… того?..
– Да удушение! Синий весь, и язык вывален. И шея вон порвана. Вроде порвана, да, посмотри, Макс?
Максим Вавилов нагнулся и посмотрел и вдруг быстро отошел к краю тротуара и завертел головой сначала налево, а потом направо.
– Макс, ты чего?
– Да так…
– А чего ты смотришь-то?!
– Фонарь тут только один горит, во-он там, откуда мы пришли. А потом до самого перекрестка никаких фонарей нету. Где свидетельница? Свидетельница, вы где?
– Только что тут была. Куда ж она подевалась?..
Свидетельницу рвало в кустах так, что слышно было даже отсюда.
Оперативники отвернулись – из деликатности, – и лейтенант Бобров сказал нечто в том духе, что не повезло дамочке.
– Ты бы сгонял в палатку пока, – предложил Максим Вавилов лейтенанту. – Вон на той стороне светится!
– А чего купить-то?
– Ну, воды купи. Сигарет мне купи, где-то у меня сотня была…
– Понял, сейчас сгоняю.
– Да подожди ты! Палатка круглосуточная, может, там кто чего видел, или останавливался кто возле них…
– Понял, шеф, сейчас!
Шеф, подумал Максим Вавилов вяло. Какой я тебе шеф!.. Я такая же водовозная кляча, как и ты! А «шеф» в детективных романах про русский сыск все больше бывает. Там всегда есть «шеф», блестящий и удачливый профессионал, игрок, кутила, бретер и скандалист, и «простак», юнкер, который смотрит ему в рот и своим тупоумием оттеняет искрометность начальнического умища.
– Звонить на Петровку-то, Макс?
– Валяй, звони. А я пока со свидетельницей…
– А давай наоборот! Давай я со свидетельницей, а ты на Петровку!
– Валяй наоборот.
– Макс, ты че? Я шучу же!
– И я шучу. Давайте пока заграждение натяните, труповозку вызывайте, они как раз к утру приедут, а нам бы труп сдать, пока жильцы на работу не повалили. Ну, чего стоите-то?!
Все стояли потому, что труп был странный – не бытовой и явно не алкогольно-бомжовый. Голый мужик в наручниках у подъезда на Сиреневом бульваре!.. Дело пахнет керосином, ох как пахнет! Хорошо бы в управление забрали, потому что это даже не «глухарь», а гораздо хуже, может, начало «серии», вот тогда мало никому не покажется! Маньяк в столице!..
Максим Вавилов еще раз оглянулся на свидетельницу, которая тяжело дышала в кустах, и позвал:
– Екатерина Михайловна! Можно вас на минуточку?
– Да, да, – пропищали из кустов светским тоном. – Сейчас.
Она еще какое-то время громко дышала и топталась, а потом вылезла на асфальт.
– Давайте в сторонку отойдем. Или можно, если хотите, в машину сесть. Хотите?
– А воды нет? Мне бы попить.
– Сейчас будет вода, – пообещал Максим Вавилов. – Давайте пока так попробуем поговорить, без воды. Вы в этом подъезде снимаете?
Она оглянулась на подъезд, и по лицу у нее прошла судорога.
– В этом.
– А машинка вас привезла во-он к тому углу, где фонарь горит, правильно я понял?
– Да.
– И вы от угла в кромешной тьме топали, да?
– Ну… да.
– А зачем? Почему он вас у подъезда не высадил?
Старший оперуполномоченный знал ответ на этот вопрос и задал его просто так, чтобы себя проверить. Он же ведь «шеф» из романа про «русский сыск»!..
Свидетельница посмотрела на него непонимающе.
– А?
– Екатерина Михайловна, вы глуховаты? – И он повысил голос: – Почему, спрашиваю, он машину там остановил, а не возле вашего родного подъезда?!
– А… там фонарь горел, а у него в салоне свет не работал. Чтоб я могла деньги отсчитать.
– Как же к незнакомому человеку в машину сесть не побоялись? Или вы его знаете?
– Кого?
Максим Вавилов вздохнул.
– Водителя, который вас подвозил. Вы его знаете?
– Да там, у Останкина, все время одни и те же частники стоят. Нет, так не знаю, конечно! То есть мы с ним не знакомы. То есть знакомы, но не лично. Ну, просто я его несколько раз видела у Останкина, и все!
– А зовут как?
– Кого?
Максим Вавилов опять вздохнул. И где этот Бобров с водой?!
– Водителя как зовут, не помните?
– Не помню. То есть Володя.
– Отлично. Вы ему заплатили и пошли вдоль дома к своему подъезду…
– Ну да. Вы знаете, когда мы в ночной, нам развоз заказывают, и тогда водителя можно попросить, чтобы проводил, они же все свои! А чужого неловко просить, и я не стала…
Максим Вавилов вздохнул в третий раз.
– То есть, когда у вас там, на вашем телевидении, ночная смена, вас отвозит редакционная машина, и это называется «развоз», правильно я понял?
– Да-да, совершенно правильно.
– И тогда водители вас провожают. А когда вы ловите частника, то никто вас, естественно, не провожает.
Краем глаза Максим видел, как лейтенант Бобров побежал было через дорогу, но вдруг ринулся обратно и проворно забежал за палатку. Вскоре стало понятно почему – по бульвару шла поливалка, струя била в асфальт, широким веером заливала тротуар и одинокие припаркованные машины.
– Все правильно. Простите, я не запомнила, как вас зовут. Ночные смены у нас через день, поэтому я на частнике почти никогда не езжу, а тут меня редактор вдруг отпустил. Ну, на самом деле не вдруг, а я его попросила, просто потому, что мне нужно экзамен сдавать, а готовиться совершенно некогда…
– Вовка! – заорал Максим Вавилов в сторону палатки, за которой прятался от поливалки лейтенант Бобров. – Если этот деятель по нашей стороне поедет, ты ему скажи, чтобы не вздумал тут полить! Слышишь?!
– Слышу! – прокричали в ответ из-за палатки. – Я сейчас!..
– Простите, – извинился перед свидетельницей Максим Вавилов. – Так чего там у нас с ночными сменами-то?
– Я вам уже все рассказала, – несколько обиженно выговорила Екатерина Михайловна.
– Да не все! – не согласился Максим Вавилов. – Вот водитель под фонарем остановился, вы деньги ему отсчитали и пошли себе к подъезду, а он поехал дальше. Так?
– Так.
– А он вперед поехал или в обратную сторону?
Она подумала.
– Вперед, кажется. Да, точно вперед. А на перекрестке направо повернул. А почему вы спрашиваете?
– Потому что работа у меня такая, – сказал он назидательным тоном и от этого своего тона даже покраснел немножко.
Что за глупости! Или он на нее впечатление, что ли, старается произвести?! Хочет казаться «шефом» из романа о «русском сыске»?!
Ты не выпендривайся лучше, жестко сказал он себе.
Ты вспомни лучше предыдущую историю, жестко напомнил он себе.
Ты лучше займись работой, жестко приказал он себе.
«Предыдущая история» вышла так себе.
Все было хорошо. И гуляли, и в дом отдыха ездили, и на луну любовались, и за ручку ходили, и он ей звонил по пять раз в день, и она ему по восемь. И будущий тесть говорил ему «сынок» и ездил с ним на рыбалку, и возвращались они грязные, счастливые и с «добычей», и будущая теща добродушно пеняла, что опять они натащили «рыбной шелухи» и провоняли весь балкон своими брезентовыми штанищами и плащами!.. И отец впервые после давней ссоры вдруг позвонил и сказал, что готов помочь, потому что мать передала ему, что девочка очень хорошая, и вообще пора бы уже и помириться, хватить дурака валять!..
Будущее представлялось светлым и прекрасным. А жизнь – долгой.
Должны были весной пожениться. Не поженились, потому что она сказала – надо подождать. Она хочет, чтобы свадебное путешествие было непременно летом, и непременно к морю. К морю так к морю, он был согласен на все.
Пришло лето, вроде бы в самый раз ехать на море и прямо оттуда в светлое и прекрасное будущее, и тут все случилось.
Вообще-то он немного беспокоился. Она стала реже звонить, и свидания у них стали короткими и какими-то скомканными: быстрый секс, разговоры ни о чем, и по домам. В выходные она все больше была занята, но он так безоговорочно ей доверял, что ему и в голову не приходило в ней сомневаться. А потом ему позвонили.
Позвонили из какой-то частной клиники, где ей делали аборт. Она там сумку оставила, а в сумке его визитная карточка, а на визитке номер телефона. Вот ему и позвонили, дескать, сумку ваша дама забыла.
Сам не свой, он приехал к ней объясняться. Он ничего не знал ни про беременность, ни про аборт, и вдруг эта открывшаяся тайна показалась ему убийственной.
Она не захотела ребенка. Он все бы понял, если бы она объяснила – почему?!
Ну почему?! Ему за тридцать, и у него за плечами нет никаких брошенных детей и бывших жен, кроме первого брака, настигшего его, как полагается, в двадцать лет, да и то по той лишь причине, что нужно было как-то узаконить неистовые занятия сексом и перевести их, так сказать, в легальное русло. Он был женат месяцев десять, а потом они тихо и мирно развелись, сообразив, что брак – это не только секс, но еще и масса дополнительных сложностей, которые тогда ни одному из них не годились.
У нее тоже не было никаких отягчающих обстоятельств, и, прогуливаясь за ручку и любуясь на луну, они как раз говорили друг другу о том, какие чудесные у них будут дети. Она говорила, что девочка будет похожа на него, а он говорил, что на нее, и они хохотали и целовались, и будущее казалось светлым и прекрасным.
Когда он спросил, почему аборт, она сказала, что еще слишком молода, чтобы иметь детей. Что у нее впереди вся карьера, а ребенок поставит на карьере большой жирный крест. Что кто-то из них двоих должен зарабатывать, раз уж он не зарабатывает почти ничего. Ей даже в голову не приходило, что разговоры о детях они вели… всерьез.
Он выслушал ее и задал самый главный и самый страшный вопрос – почему не сказала?!
Почему не сказала мне?! Ведь это же мой ребенок, точно такой же, как и твой, и я тоже вправе был знать, будет он жить или… или… погибнет.
Ах, оставь эти глупости, ответила его нежная и прекрасная. Ну что тебе ребенок?! Для мужчины, всем же ясно, ребенок – это двадцать секунд удовольствия во время зачатия, а все проблемы потом достаются женщине! Бессонные ночи, кормление, воспитание – разве мужчина станет всем этим заниматься?!
Ребенок для тебя будет развлечением в выходные, после рыбалки и перед баней, а у меня на всю жизнь обуза, да еще какая!
Он растерянно сказал какую-то глупость, вроде того, что не ходит он по выходным в баню, и на рыбалку тоже ездит редко, но она не стала слушать. Дело сделано, сказала она. И вообще, я на тебя обиделась, ты ужасно себя повел, устроил мне тут форменный допрос, и, если я тебе не подхожу, можешь проваливать. Сию же минуту!..
Он все что-то повторял про ребенка, о котором даже не знал, и потому не смог защитить, как будто оправдывался перед кем-то или перед самим собой. Он еще бормотал о том, что такие решения не принимаются в одиночку, потому что это очень страшно. Он не мог поверить, что это все. Конец.
Он долго еще потом не верил, пытался как-то все наладить, хотя той женщины, которая по секрету от него отправила на тот свет его ребенка, он не знал. Он знал какую-то другую. Потом он пытался пить, потому что наладить отношения не получалось, а потом мужики с работы, которые ему сочувствовали, хоть подробностей и не знали, взяли да и выставили возле ее дома наружное наблюдение. Ну, распечатку звонков добыли. Прокурор Валя Смирнов санкцию им подписал.
И все прояснилось.
Собственно, претендентов на ее руку и сердце все время было двое. Новый жених, то есть Максим Вавилов, и старый, давно и прочно женатый папик на представительской машине, то ли из Думы, то ли из Совета Федерации. Сначала при помощи Максима Вавилова она папика дрессировала, чтобы он, значит, нервничал и продвигался в сторону женитьбы. Из этого ничего не вышло, и, чтобы не упускать шанс, она решила, что выйдет за оперуполномоченного, а с папиком и без штампа в паспорте все будет по-прежнему прекрасно. Но тут всем крупно повезло – жена у папика преставилась. Говорят, она сильно пила, и много лет, сколько – точно неизвестно, но, так или иначе, тот освободился и оказался вполне пригоден именно в качестве мужа, что открывало перед ней невиданные перспективы.
Максим Вавилов стал не нужен ей ни в каком качестве – ни в качестве мужа, ни в качестве прикрытия, ни в качестве отца будущих детей. Был сделан аборт, и оперуполномоченный изгнан из ее жизни.
Светлое и долгое будущее, черт возьми!..
Он потом много думал. Много и как-то… мучительно очень. Навзрыд, если можно так выразиться о мыслях.
От мыслей его тошнило, наизнанку выворачивало, но он продолжал думать.
Он думал, что мог бы жениться на прелестной, нежной и доброй девушке и прожить всю жизнь с крокодилицей, ничего об этом не подозревая! Он никогда бы ничего не узнал о крокодилице!
«Никогда» – интересное слово. Под стать «вечности».
Он бы и помер ее мужем, в полной уверенности, что они «хорошо прожили», потому что чужая душа потемки! И лучше в них вообще не лезть, в эти потемки, особенно с фонарем, ибо чудовища, привычные к потемкам, пожрут тебя, как только ты к ним сунешься!
Его и пожрали чудовища. Его и его ребенка. А он даже не знал, мальчик там был или девочка!.. Не довелось узнать.
Самое главное в жизни, понял Максим Вавилов, это никакая не любовь, избави бог! Самое главное – это опыт, вот что он понял. Человек не может воспользоваться опытом тех, кто жил до него, шатался по миру и получал какой-то свой собственный, отдельный опыт. У человека есть шанс научиться и, самое главное, понять, чему именно он должен учиться– жизни с крокодилами или жизни с людьми, а для этого необходимо отличать людей от крокодилов, и все, круг замкнулся.
Я не могу жить с людьми, потому что я теперь не понимаю, люди они или крокодилы. Я буду один, пока не научусь в этом разбираться. Может быть, этого не произойдет никогда, и, вероятно, именно поэтому личности посильнее меня ударялись в монашество и схимничество. Потому что они боялись крокодилов, что совершенно естественно для людей!.. Я никогда не смогу никому доверять, я все время буду ждать подвоха, и самых лучших из людей я стану подозревать в том, что они… крокодилы.
Интересно, свидетельница Екатерина Михайловна крокодил или просто дурочка? Или сильно напугана? Или не в себе? Впрочем, его это решительно не касается!..
В это самое время подбежал лейтенант Бобров, увлек его в сторону от свидетельницы и зашептал на ухо, что в палатке, ясное дело, никаких трупов не видали, и он, Бобров, проверил: из окошечка лавку, под которой лежал голый покойник, не видно. Зато гаишники возле палатки останавливались и брали жвачку, сушеного кальмара и пиво. Пива взяли четыре банки, по числу присутствующих в машине. Кальмаров взяли восемь пакетов, а жвачки несчитано, потому что им сдачу жвачкой дали. Десяток не было.
– При чем тут гаишники? – не понял Максим Вавилов.
– Да они на перекрестке стояли! – торжествующе заключил Бобров. – Они взяли пива и кальмаров и на перекрестке встали с радаром. Прямо под светофором. Потому что ночью светофор на мигалку переключается, и все летят, как на крыльях!
Гаишники, тупо подумал Максим Вавилов. На перекрестке стояли гаишники.
– Искать надо гаишников этих, – вслух сказал он. – Давай, Вова, звони, ищи их! Кто у нас район Сиреневого патрулирует? Четырнадцатый дивизион? Кто там у нас заправляет? Цветков? Давай, звони Цветкову!..
Значит, труп из машины вывалили где попало, потому что гаишники стояли на перекрестке, не ровен час, от скуки да с пивка могли остановить, проверочку произвести, а в салоне труп мужика голого в наручниках! Неувязочка получается, так ведь?!
Только куда его везли по Сиреневому? В область? Тут до области, как до Китая пешком! В глухие нежилые дворы? Тут отродясь таких не было, потому что район сплошь застроен пятиэтажками времен Никиты Сергеевича Хрущева, отца русской демократии и разоблачителя отца русской тирании! На помойку?
Где здесь большая помойка, Вавилов не знал. Впрочем, везти туда труп резону никакого нету. На помойке всегда кто-нибудь обретается – нищие, бомжи и бомжихи, пацаны из микрорайона, пьянчужка-бульдозерист, который третьего дня мусор бульдозером ровнял и заодно завел полезные знакомства, чтобы было с кем выпить-закусить. Вот он и притащился, и чекушку принес! Это только в американском кино показывают свалку, на которой пусто, и лишь горит одинокий фонарь, и совершаются кошмарные преступления, и остовы полусгнивших машин маячат на фоне звездного неба!
Неизвестно, что там, в Америке, а у нас помойка – центр жизни. Может быть, и не совсем привычной и не совсем гламурной, но жизни!..
Нужно опрашивать жильцов, может, Екатерина Михайловна не первая его обнаружила, но звонить никто не решился, а она решилась. Может, кто с собакой гулял, или с милой по телефону у окошка трепался, или маму до троллейбуса провожал! Надежды мало, но все же, все же…
Кроме того, внутренний голос подсказывал оперуполномоченному, что, даже если кто и заметил машину такую-то с номерами такими-то, ни к чему это не приведет. Машина наверняка в угоне, номера наверняка перебиты, и если это начало «серии» – пиши пропало!.. Накрылась премия в квартал!
И еще внутренний голос подсказывал ему, что все эти умопостроения хороши, если труп действительно привезли на машине, а не принесли на руках и не выволокли из подъезда, а такая вероятность есть! Нужно следы искать, а какие следы на асфальте! Хорошо было Шерлоку Холмсу, «шефу» британского сыска! Красная глина на ботинках покойника могла быть только с Риджен-стрит, где как раз начались строительные работы и недавно разобрали мостовую, значит, кэб преступник взял именно там!
– А когда вы меня отпустите? – прервал монолог его внутреннего голоса вопрос свидетельницы Екатерины Михайловны. – У меня завтра экзамен…
– Пока не могу отпустить, – сказал Максим Вавилов. – Пока вам придется побыть с нами, Екатерина Михайловна! А точно вы этого человека не знаете и никогда не видели?
– Я его не знаю, – отчеканила свидетельница. – Но я его видела. Около подъезда, совершенно мертвого. Я его увидела и позвонила вам.
– Шутить изволите? – поинтересовался Максим Вавилов.
– Да нет, – с досадой, которая ему понравилась, сказала она. – Я устала, у меня сил нет, и я… спать хочу. Можно я пойду домой? Я же никуда не денусь! Подъезд вы знаете, и, если вам понадобится что-то у меня спросить, в любую минуту сможете ко мне подняться. Квартира сто тридцать семь. Можно?
И он ее отпустил. Не должен был отпускать, но отпустил.
Квартира сто тридцать семь, чего проще!.. Он к ней поднимется, и она спросит, не хочет ли он кофе, и она будет варить этот кофе на тесной кухоньке, и вокруг не будет ни трупов, ни гаишников, ни ментов, ни федералов, никого.
И он с ней поговорит. Например, о том, что это за работа такая, на телевидении, чем они там занимаются? Может же он просто так с ней поговорить? Не думая о чудовищах в темноте?..
– Идите, – разрешил Максим Вавилов. – Но в любом случае вы понадобитесь, и мне придется вас потревожить!
Вот как он галантно сказал, прямо поручик Ржевский!..
Конечно, он не пошел ее провожать, именно потому, что она ему неожиданно понравилась. Давно ему никто не нравился, а тут вдруг понравилась Катя Самгина из Питера!.. И он не стал проверять, есть ли кто в подъезде или нет! Если бы он хоть отчасти представлял себе серьезность положения, конечно бы, проверил, а он не проверил, просто потому, что был уверен: труп в наручниках – это просто труп, и самое главное сейчас – сбагрить дело ребятам из управления. Чтобы, значит, «глухарь» на себе не тащить в новый отчетный квартал!
За «глухаря» Ерохин не похвалит.
По этой причине Максим Вавилов, старший оперуполномоченный, не видел человека, который, как только за Катей Самгиной захлопнулась хлипкая подъездная дверь, неторопливо поднялся с холодной бетонной ступеньки на площадке пятого этажа, где все время сидел, и стал спускаться вниз. Он спускался не быстро и не медленно, как раз так, чтобы оказаться одновременно с ней на площадке третьего этажа.
Он совершенно точно знал, как должен встать, чтобы она его сразу не увидела и не начала сопротивляться. Он канул в темноту, поудобнее прилаживая к себе свое оружие, и, когда она шагнула на площадку, мгновенно и безнадежно накинул петлю ей на шею.
Она охнула и инстинктивно вцепилась руками в удавку – они все вцепляются, умирая, его это даже забавляло. Вот что значит инстинкт выживания!.. Ну не может человек руками порвать металлическую струну, даже смешно пытаться, а они все пытаются!
Он сильно и ловко затянул петлю, она даже не хрипела, и сразу же послушно осела на пол.
Ну вот. Готово.
Он аккуратно выпростал струну из складок ее порванной шеи, тщательно смотал и сунул в карман. Ногой перевернул тело – она когда упала, ее сюртук задрался до трусов, нехорошо, неприлично. Все должно быть пристойно и красиво, особенно в такой важный момент, когда совершается благое дело.
В то, что дело благое, он свято верил.
Потом он поднялся по лестнице, выглянул в окно, какое-то время смотрел, а затем тихонько засмеялся, обнаружив, что менты разматывают вокруг трупа полосатые ленточки и слоняются вокруг.
Он презирал их от души. Ленивые, жирные, убогие умом скоты. Тупые и лживые, не способные ни на что.
Он сильнее. Он каждый раз побеждает их и будет побеждать всегда.
Он добрался до чердачной двери, ловко, как кошка, вскарабкался по железной лестничке, потянул дверь и еще какое-то время повозился в полной темноте.
Потом шагнул на чердачную балку, аккуратно и нежно закрыл дверь, прижал поплотнее и ударил точно в середину. С той стороны в пазы плотно упала железная перекладина, только чуть задребезжала.
Теперь домой и завтра в Питер. А тупые скоты пусть поищут!.. Пусть думают, что душитель кто-то из жильцов этого убогого подъезда, где сильно пахло кошками и тянуло затхлым сквозняком.
Он победитель. Он умнее. Он сильнее всех.
Управляющий сильно нервничал, и следом за ним нервничали все менеджеры, которых собрали на совещание.
Нервничала служба приемки и размещения, нервничала служба персонала, нервничала служба охраны, банкетная служба, служба консьержей, служба дежурных по этажам, которую недавно отменили и слили со службой персонала, но они по-прежнему держались кучно, потому что затевали революцию и мечтали освободиться из-под гнета нового начальства. Нервничали повара, нервничал Коля Саньков, отвечавший за «лагидж-сервис», то есть за подносчиков багажа, грузчиков и прочих. Даже доктор, безобидный пожилой алкоголик Трутнев, нервничал, и в его мутных тоскливых глазах явственно читалось единственное и всепоглощающее желание удрать и поскорее напиться.
Только Лидочка не нервничала и из-за колонны строила Надежде рожи.
Когда управляющий драматически возвышал голос, Лидочка поднимала брови. Когда управляющий произносил слова «американские коллеги» и отдавал легкий поклон в сторону набычившихся коллег, Лидочка делала сладкое лицо и при этом тоже отдавала поклон, не совершая, кажется, никаких движений. Когда вступал кто-то из американцев, Лидочка делала очень кислое лицо и вооружалась очками, которые почему-то немедленно съезжали на кончик носа, и она их ловила.
Лидочка проработала в отеле тридцать лет, и для нее не существовало никаких авторитетов.
Она была богиней отельного дела, и все, включая управляющего, об этом знали. Сам сэр Майкл Фьорини, владелец сети, в которую входил отель, прилетая в Питер, в первую очередь прикладывался к Лидочкиной нежной ручке, и только во вторую очередь пожимал мужественную длань управляющего.
Сейчас Лидочка старалась исключительно для Надежды. Надежда об этом знала, и приходилось ей несладко. Как только Лидочка проделывала очередной фокус, Надежда, чтобы не захохотать в голос, начинала усиленно работать лицом – тянуть себя за нос, кусать губы и тереть подбородок. От усилий она немедленно теряла мысль и все время пугалась, что управляющий сейчас обратится к ней – начальник службы портье, как-никак! – а она в это время тянет себя за нос и понятия не имеет, о чем идет речь!
Управляющий-ирландец говорил по-английски как-то не так, как говорят англичане, со странным, еле уловимым акцентом. Лидочка называла акцент «кельтским», и управляющего было приятно слушать. В другое время Надежда и слушала бы с удовольствием, но предстоящий президентский визит и подготовка к нему уже сидели в печенках у всех сотрудников отеля, включая швейцара Пейсаховича, который каждый раз при слове «визит» возводил к небу глаза и говорил так:
– Да что вы убиваетесь за этим визитом! Вот если бы мы ожидали в нашу гостиницу Моисея, вот был бы визит! Только не надейтесь, Моисей этой осенью к нам все равно не приедет!
– …это означает, что стандартные процедуры по обеспечению безопасности первого лица будут проведены в соответствии со всеми существующими международными требованиями. Позвольте вам представить, дамы и господа, полковника Уолша. С американской стороны он отвечает за безопасность первого лица и его окружения.
Встал огромный детина, геометрическим образом постриженный, как в боевике, и двинул бычьей башкой – кивнул.
Надежда вдруг подумала, что, наверное, он очень тупой. Сто килограммов хорошо разработанных мышц, пригодных, чтобы бегать, прыгать, стрелять из всех видов оружия, которое в принципе стрелять может, и из некоторых видов оружия, которое в принципе стрелять не может. Ну, и в голове сто граммов инструкций на разные случаи жизни.
Следует ли пускать президента – нет, они говорят исключительно «первое лицо» и никогда «президент»! – в сортир, если ему туда срочно понадобилось, а сортир не был должным образом оборудован системами безопасности? Следует ли направиться за «первым лицом» в сортир, если оно все же настаивает на его посещении, несмотря на отсутствие там систем безопасности?
И так далее.
– Полковник Уолш на два месяца, пока будет готовиться визит, – продолжал управляющий, – получает все мои полномочия. Все вопросы, связанные с проживанием и размещением первого лица, сопровождающих его лиц, мы будем решать непосредственно с ним. Как всем вам известно, наш отель с сегодняшнего дня закрыт для обычных гостей, и все наши силы будут всецело отданы подготовке к визиту. С завтрашнего дня наши американские коллеги заменят детекторы и «рамки» на всех входах и выходах из отеля.
Тут управляющий вдруг слегка улыбнулся, как будто извинялся перед своей командой. Все же он был ирландец, кельт, и, наверное, его, как и остальных, слегка забавляла серьезность, с которой к делу подходили американцы.
Ну, Моисей-то ведь точно не приедет, прав швейцар Пейсахович!
– Таков порядок, – заключил управляющий. – Всем службам запрещается проносить в отель колющие, режущие предметы, оружие, газовые баллоны, легковоспламеняющиеся аэрозольные вещества любого типа.
– Так у нас все вещества аэрозольного типа, – взволновалась служба уборки. – Куда ж мы без них? Мы и стекла, и мебель, и паркеты только аэрозолями чистим! Да у нас ничего другого и нет!
– Мы проверим аэрозоли и вернем их вам в том случае, если они безопасны, – провозгласил полковник Уолш и улыбнулся американской улыбкой во все свои сто шестьдесят восемь зубов. Щеки резиново натянулись. Вообще, казалось, что при чрезвычайной полковничьей упругости кожа натянута на нем слишком сильно, как будто он сделан из высококачественного каучука.
– Девочки, вы не должны беспокоиться, – по-русски сказала из-за колонны Лидочка. – Это же совершенно естественно! Если вам нечем будет мыть полы, полковник Уолш возьмет их помывку на себя. Верно?
Последнее слово она выдала по-английски, обращаясь к полковнику и улыбаясь самой-самой из своих улыбок.
– Surely, – немедленно согласился полковник, уверенный, что его поддерживают. – Конечно.
Управляющий хихикнул, а по всем остальным лицам прошла судорога. Хихикать они не смели.
– Госпожа Лидия Арсентьева, директор по персоналу, – быстро представил Лидочку управляющий. – Наш самый главный помощник во всех делах. Имеет огромный опыт работы, и весь нынешний коллектив отеля сложился исключительно благодаря ее четким рекомендациям и профессионализму.
Лидочка вскочила и поклонилась.
Надежда опять взяла себя за кончик носа.
Выглядела Лидочка безупречно, как английская королева, – строгий костюм строгой длины, светлая блузка, консервативные, но изящные туфли на умеренных каблуках, консервативная, но изящная стрижка строгой формы.
Никто не знал, что утром она бегала по отелю и искала булавку, чтобы заколоть юбку, которая падала из-за того, что оторвалась пуговица.
– Представляете, – говорила Лидочка плачущим голосом, – что выйдет, если на совещании я буду левой рукой придерживать юбку, а правой здороваться с американцами, дай им бог счастья!
Все веселились, и юбка была закреплена на Лидочке надежно.
Потом искали золотой значок с символикой отеля, полагавшийся менеджерам высшего звена, а Лидочка свой подарила сыну Пейсаховича. Сын приехал за папой на работу на велосипеде и, по мнению Лидочки, выглядел недостаточно счастливым. Лидочка его осчастливила, но сама осталась без значка.
– Вечно со мной истории, – сокрушалась она, но ничего не предпринимала для того, чтобы истории с ней не происходили. Она любила себя такой, какая есть, и все окружающие обожали Лидочку именно такой.
– С завтрашнего дня начнут завозить оборудование для службы безопасности, – продолжал управляющий. – Его разместят на складе, в секторе «Б». Это секретное оборудование, и, кроме работников склада, доступ всем остальным сотрудникам будет закрыт. Кроме того, вводится особая система передвижения по отелю.
Лидочка за колонной сделала ногами нечто типа антраша, словно демонстрируя, как именно теперь все станут передвигаться.
– Карточка-ключ, блокирующая все лифты, будет передана мной полковнику Уолшу. Как вы знаете, эта карточка существует в единственном экземпляре и используется только во время визитов первых лиц государств и правительств. Вы все получите особые ключи от лифтов и черных лестниц. Любые перемещения с этажа на этаж разрешены только парами – сотрудник отеля и сотрудник службы безопасности. Один ключ без второго не откроет двери и лифты. Прошу все время это учитывать, особенно службу уборки, которая в любом случае должна передвигаться по всем этажам. Первое лицо займет третий этаж, сопровождающие – второй и четвертый. Все остальные этажи на время визита будут закрыты.
Управляющий замолчал и обвел взглядом своих сотрудников.
Ну вот, было написано у него на лице. Началось. И неизвестно, когда закончится! До визита еще два месяца, и все это время американцы будут иметь нас, как пожелают. Они начнут играть здесь в шпионов, потому что им так положено, а мы все станем им подыгрывать.
Домой хочу, подумал управляющий скорбно. В Дублин.
– Быть может, американская сторона хочет что-то добавить? – вслух спросил он. – Прошу!
И присел на свое место. Полковник Уолш не встал, видимо, считал, что в этом нет никакой необходимости.
– Мы все, – начал он, – осознаем важность доверенной нам миссии. Вы обеспечиваете первому лицу максимальный комфорт, мы обеспечиваем безопасность. И то и другое одинаково важно. Сейчас мы играем в одной команде, и только от нас самих зависит, насколько наша игра будет слаженной, а работа точной и оперативной. Мы сделаем все, что в наших силах, для того чтобы во время визита ни наша, ни ваша сторона не испытывали никаких проблем и дискомфорта.
Надежде все казалось, будто полковник ожидает, что все менеджеры сейчас хором крикнут: «Всегда готов!» – или что там полагается кричать в таких случаях? «Но пасаран!»?
Впрочем, говорил он так, что его все слушали, надо отдать должное. Даже доктор Трутнев вытянул куриную шейку и сверлил американца глазками.
– Мы глубоко уважаем русскую культуру и традиции вашей страны, мы тронуты гостеприимством русских. Репутация вашего отеля так высока и надежна, что первое лицо лично пожелало остановиться именно в нем и уведомило об этом службу протокола.
Надежда посмотрела на Лидочку, а Лидочка на нее.
Даже представить невозможно, сколько взяток было роздано – и каких! – чтобы первый американец планеты жил именно у них! Сколько роздано взяток, сколько сделано ходов, сколько кляуз написано на конкурентов! Сколько пролито слез, сколько нервных клеток потрачено, какой удар хватил управляющих конкурирующих отелей, которых в Питере было еще два, такого же класса и уровня комфорта.
Сколько было написано писем «в инстанции», суть которых сводилась к тому, что «мы лучше» – нам сто пятьдесят лет, и из наших окон виден знаменитый Исаакий, а из ваших не виден! И городские крыши вокруг больше всех остальных крыш пригодны для того, чтобы на них залегли американские снайперы, а за ними русские снайперы, когда подъедет кортеж! И мы уже принимали у себя американского президента двадцать лет назад, и сейчас опять готовы принять в лучшем виде! И королевы у нас живали, и принцы с принцессами, вот и списочек прилагается, читайте! И наш собственный президент однажды благосклонно явился в наш отель на чашку кофе, отобедав в ресторанчике на углу Вознесенского проспекта, вот и справочка прилагается и лист из книги почетных гостей, где он не менее благосклонно расписался!
Только к нам, и больше никуда! Только к нам, и больше ни к кому!
Проблем возникнет грандиозное количество. Ответственность такая, что даже страшно подумать, что станет со всеми, если вдруг что-то пойдет не так. Много месяцев отель будет существовать в военном режиме, и к этому придется привыкнуть. Персонал, не задействованный в обеспечении визита, будет отправлен в отпуска, и когда вернется, ему придется заново учиться работать, потому что все отвыкнут!
И все равно – только к нам!
Потому что это статус – в нашем отеле жил американский президент!
Потому что это почет – лучше всех в городе, а может, и в России мы умеем встречать высоких гостей!
Потому что это деньги – целая река денег! «Обеспечение визита главы государства» – это вам не конференция компьютерщиков или операторов мобильной связи!
Главный в вопросах безопасности между тем продолжал:
– Есть одно обстоятельство, о котором я обязан проинформировать начальников всех служб. – Каучуковое лицо стало еще серьезней, и надо лбом зашевелился геометрический ежик. – Незадолго до подтверждения визита в Россию мы получили агентурные данные о том, что одна из международных экстремистских организаций готовит террористический акт с целью вынудить глав наших государств пойти на уступки в отношении некоторых тоталитарных режимов. Никакие экстремисты не в состоянии нарушить планы нашего президента, и визит в Россию и Санкт-Петербург был подтвержден, но меры безопасности, которые мы вынуждены применить, будут беспрецедентными. Прошу всех с пониманием отнестись к ситуации, потому что, только действуя вместе, мы сможем дать решительный отпор тем, кто намеревается сорвать планы наших правительств.
Надежда вдруг подумала, что, наверное, он говорит это в сотый раз. Должно быть, перед каждым визитом появляется некая «оперативная информация» или «агентурные данные» о том, что некие «экстремистские организации» замышляют некое темное дело, и этому каучуковому человеку в безупречном костюме и полосатом университетском галстуке приходится говорить одно и то же – о том, что меры будут беспрецедентными, и только сообща мы сможем противостоять, и прочая, и прочая, и прочая…
Нелегкая у него работа – отвечать за президента.
Хорошо, если президент не болван, а если болван?.. Приходится тогда отвечать за болвана, а это грустно, наверное!..
Интересно, какой номер ему отвела Юля Беляева, начальница службы размещения? Наверняка «сьют», окнами на Исаакиевский собор, все-таки шишка.
Потом началось «поименное представление», когда русских представляли американцам, а американцев русским, и Надежда старательно запоминала имена.
Каучуковый герой боевика носил имя Дэн. Интересно, Дэн – это Дэниэл? Или какие еще возможны варианты?
Доктора Трутнева тоже представляли, и он вскидывал головку на куриной шее и щелкал воображаемыми шпорами – очень старался.
Москвич Коля Саньков, переведенный из Москвы с повышением, сильно нервничал. Все-таки в столице он был всего лишь начальником отдела, а тут его поставили возглавлять целую службу! Служба, конечно, так себе – подносчики багажа, складские рабочие и грузчики, – но лиха беда начало! Надежда тоже когда-то начинала дежурной по этажу.
Вспомнив это, она улыбнулась.
Ее пристроила на работу Марья Максимовна, соседка. Марья Максимовна дружила с Лидочкой, а Надежда была без работы. После университета никуда не брали, пугались, что в дипломе написано «учитель английского языка». Никто не хотел брать на работу учителя! В конце концов ей удалось получить тепленькое местечко банковской операционистки, поспособствовали какие-то дальние знакомые. На поверку место оказалось никудышным. Банчок был не совсем «чистым», мягко говоря. Не совсем легальным. Бандитским, если одним словом. «Левые» платежки были делом практически ежедневным, а когда она растерянно сказала главному бухгалтеру, что ничего такого выписывать не будет, потому что не хочет оказаться в Крестах, тот посмеялся немного, а потом, глядя ей в глаза, объяснил, что к чему.
Объяснял он так, что Надежда потом несколько недель просыпалась от каждого шороха и пугалась любой милицейской машины.
Уволиться тоже оказалось проблемой, ее не отпускали, она «слишком много знала», как в кино, хотя что такого она знала!..
Почти ничего.
Ее выручил будущий муж, который придумал какую-то хитроумную схему, с кем-то договорился, и ее уволили без потерь и даже без «волчьего билета».
А потом Марья Максимовна помогла.
Однажды Надежда зашла к ней на кофе. Марья Максимовна была большая любительница кофе и пила его всегда по утрам, говорила, что на ночь не решается, опасается, что бессонница скрутит.
Надежда пришла и принесла рассыпчатое печенье, до которого Марья Максимовна была большая охотница, и Надежда покупала его всегда в одном и том же месте, в крохотной булочной на Сенной. Только там оно было таким, как надо, – толстеньким, масляным, не слишком сладким и не слишком мягким.
Она пришла и сразу поняла, что у соседки гости.
На холодильнике лежали перчатки, поразившие тогдашнее Надеждино воображение. Раньше она никогда не видела летних перчаток – тонких, как паутинка, очень изящных, с удлиненными пальцами, как будто специально сделанными для того, чтобы их носили женщины с длинными миндалевидными ногтями. От перчаток пахло духами.
Косясь на них, Надежда сунула Марье Максимовне коробку, которая уже слегка замаслилась с одного боку, и сказала, что, пожалуй, пойдет. Не будет мешать.
Перчатки ее смущали.
– Ну отчего же! – воскликнула Марья Максимовна. – Нет, нет, проходите, милая!
В комнате, заставленной старинной мебелью, про которую Марья Максимовна рассказывала, что знаменитый питерский режиссер Алексей Норман одалживал ее для съемок фильма о последнем российском императоре, сидела женщина. Она сидела так, как сидят королевы и принцессы на церемонии вручения Нобелевской премии – на самом краешке стула, скрестив безупречные ноги и сильно выпрямив спину. Сидеть так ей, похоже, было очень удобно. Она улыбалась и показалась Надежде сказочно красивой.
– Это Лидия Арсеньевна, – представила Марья Максимовна. – А это Наденька, моя соседка. Наденька, проходите, не стесняйтесь!..
– Здравствуйте, дружочек мой, – неожиданно сказала красавица басом. – Почему у вас такой вид, будто перед тем, как зайти сюда, вы спешно доедали в парадном лимон?
– Н-нет, – пробормотала Надежда.
– Или я ужасно выгляжу?
Теперь красавица сделала испуганное лицо и стала оглядывать себя, как бы проверяя, нет ли изъянов.
– Однажды я пришла на работу в разных туфлях, – продолжала красавица, перестав осматривать себя. – Спешила и не заметила, что туфли разные! Но, знаете, меня не выгнали. Они совершенно не представляют себе, что будут без меня делать, вот и не выгнали. И с тех пор я всегда ношу на работу разные туфли!
– Лидочка, – укоризненно сказала Марья Максимовна. – Что вы пугаете ребенка? Наденька, не обращайте на нее внимания, она просто шутит!
– Да я поняла, – пробормотала Надежда. У нее было такое чувство, что ее сразу приняли за дуру и разговаривают соответственно.
Было еще довольно рано, часов девять, и солнце, редко навещавшее эту квартиру, ломилось сквозь пыльные стекла, ложилось большими кусками на паркет, и хрусталь в шкафу горел торжественным огнем. Лидочка казалась продолжением солнца – яркая, победительная, уверенная в себе и упоительно пахнущая.
– Наша Лидочка, – продолжала Марья Максимовна, подкручивая винтик в кофейной машинке, – работает в гостинице «Англия», на Исаакиевской площади.
Как будто похвасталась.
Чопорная, аристократическая, величавая «Англия» соседствовала – стена к стене – с другой знаменитой гостиницей, в которой то ли покончил с собой, то ли был убит поэт Есенин.
В таком обществе было просто необходимо блеснуть интеллектом.
– Я знаю, – сказала Надежда. – Сергей Есенин…
– Нет, нет! – вскричала Лидочка. – Это не к нам! Это к соседям, к соседям! У нас, господь милостив, никто ничего подобного над собой не совершал! Я, правда, иногда подумываю, особенно когда заезжает японская группа, но все не решаюсь! Однажды у нас приключилась чудесная история с японской группой! После нее бы, конечно, в самый раз сделать себе харакири, но я малодушна, малодушна, признаюсь!
У Марьи Максимовны на лице было ожидание радостного удовольствия, как у ребенка, который ждет Нового года, и знает, что впереди подарки, веселье и все только хорошее. Надежда никогда не видела у нее такого лица. Обычно Марья Максимовна была строга и даже несколько надменна – со всеми, кроме Надежды.
Спиртовка под кофейной машинкой горела ровно и сильно, и кофе пахло упоительно. Этой машине, наверное, было лет сто.
Лидочка рассказывала:
– Японцы въехали, мы их разместили, и начался Содом вместе с Гоморрой! Боже мой, нельзя, нельзя возить большие группы в такие старые отели, как наш! Везли бы в «Мэдисон», и сеть хорошая, и те же пять звезд, что и у нас, и, главное, все номера одинаковые! А у нас номера разные! У нас двух одинаковых не найдешь, но они все одной категории!
– Лидочка, мы не понимаем, – с удовольствием сказала Марья Максимовна. – Какой такой категории?
– Ах, боже мой, какие тупицы! Есть номера стандартной категории, и они все одинаково стоят. Есть номера повышенной категории, и они тоже одинаково стоят. Есть люксы, сьюты, президентские номера и так далее. В каждой категории цена за номер одна и та же, но номера-то все разные! У кого-то ванная больше, но в ней нет двойной раковины! У кого-то раковина есть, но шкаф не в коридоре, а рядом с кроватью! У кого-то номер угловой, там два окна, а у всех остальных всего по одному жалкому оконцу! А платили-то все одинаково! Боже мой! Пока мы переселяли, объясняли, разбирались, прошло полдня. Да еще «Бритиш» опоздал и вместо восьми пожаловал к одиннадцати, а у нас еще не все японцы счастливы!
– Какой «Бритиш», Лидочка? И куда он опоздал?
– Ах, боже мой, если бы я знала, что вы такие тупые, ни за что не стала бы рассказывать вам про японцев! Японцы сметливы и деловиты, а вы на что похожи?!
– Лидочка, не отвлекайтесь, – приказала Марья Максимовна, принюхиваясь к кофе. Она не сводила с него глаз, чтобы вовремя снять с огня и не дать пенке осесть – целая наука!
– Самолет авиакомпании «Бритиш» опоздал в Пулково, а «Бритишем» всегда прилетает много народу, их нужно встречать, размещать, и как же я отпущу водителей, если гостей они не привезли?! На чем тогда поедут гости?! А водители хотят домой, между прочим, и… ну, в общем, это другая история. И все одно к одному, и самолет, и японцы, и мы разобрались только к трем часам ночи. А утром горничная ко мне подходит и говорит потихоньку: «Лидия Арсеньевна, у меня в четыреста восемнадцатом… проблемы!» Я ей: «Какие там проблемы! На унитаз встала, и он потек? Кран сорвала, вазу разбила?!» А она только поступила на работу. Ничего не знает, всего боится, и больше всех меня боится. И она говорит: «У меня в четыреста восемнадцатом в окне… рожа!»
Марья Максимовна покатилась со смеху:
– И дальше? Дальше что?!
– Я поднимаюсь на четвертый этаж, захожу в номер, а там в окне… летучая мышь! Висит. Вниз головой. И смотрит, гадина, прямо на меня, и вправду, рожа у нее хуже не придумаешь! А мы вчера из этого номера как раз переселяли японку, которая очень переживала, что у нее ванная меньше, чем у соседки. Я даже рулетку принесла, и мы вымеряли!.. Все одно вышло, что меньше, и пришлось ее переселить. Я думаю, может, это мышь японкина? Может, это ее любимое домашнее животное? Или она случайно залетела?! Мы давай искать кого-нибудь, кто разбирается в летучих мышах. Я позвонила в «Европу», я там раньше работала. – «Европой» называлась еще одна стариннейшая питерская гостиница, гордившаяся тем, что в ней пивал шампанское Шаляпин и гулял Мамонт Дальский, анархист, трагик, темная личность. – Нашла девочку, она у них возглавляла службу размещения, которая раньше работала в ЮАР с какими-то телевизионщиками. Они там снимали на киноаппарат живую природу, а потом делали из нее гербарии.
– Лидочка, – укоризненно сказала Марья Максимовна, – ну что вы выдумываете?! Мы пугаемся! Какие гербарии и киноаппараты?!
– Ах, извините, ошиблась, – как ни в чем не бывало выдала Лидочка и продолжала: – За этой юаровской девкой я послала машину, она приехала из «Европы» и сказала, что мышь уникальная, редкой породы. Ну что делать? Мы решили ее ловить! Пришел грузчик Сергей Петрович, у нас их три – Сергей Семенович, Сергей Анисимович и Сергей Петрович, самый запойный. Принес мешок. Гриша, швейцар, пришел ему помогать. А Пейсахович зашел просто так посмотреть. И мы ловим – наш запойный Сергей Петрович, Гриша, Пейсахович, горничная, дежурная, девка из ЮАР и я. Много нас то есть. Ловим мешком, поймать не можем. Мышь от страха мечется, Пейсахович кричит – заходи слева, заходи справа, но сам не ловит.
Марья Максимовна смеялась мелким смехом, как будто стеснялась, что ей смешно.
– Ну, Лидочка? И поймали?
– Ну, мышь в конце концов парализовало от страха, мы все навалились и скрутили ее! Теперь мышь у нас в мешке, и мы должны отдать ее японке, а вся группа на экскурсии! Тогда я, как самая умная, решила, что должна написать объявление, и когда группа приедет, хозяйка сразу объявление увидит и поймет, что мы спасли ее мышь! Нужно искать человека, который пишет по-японски! Полдня ищем, девка из ЮАР к себе в «Европу» не уезжает, а все талдычит, какая это редкая мышь, практически реликтовая. Или так нельзя говорит о летучих мышах?
– Нельзя, – простонала Марья Максимовна. – О мышах – нельзя!
– Находим, пишем объявление, вывешиваем на доску, мимо которой идут все гости. Приезжает японская группа, и мы все тут затаились, за колонной, мы же должны пожинать лавры, и предвкушаем, как счастлива сейчас будет японка, которой мы вернем ее редкой породы мышь!..
– И что? – спросила Надежда, которая очень живо представляла себе эту картину – аристократический холл отеля, мраморные полы, позолоченные светильники, люстры, ковры, конторки красного дерева, а за конторками люди в формах и Лидочка, подстерегающая японку!..
– Вся группа останавливается возле доски объявлений, читает, все начинают верещать, как будто друг у друга что-то спрашивают, и тут от них отделяются две дамы в панамках и бегут к портье. Я думаю – ну, точно, это наши, идут за мышью. А мешок в руках у Пейсаховича, он же участвовал, хоть и не ловил, но тоже хочет пожинать лавры!.. А Сергей Петрович сразу после поимки пошел отмечать это событие и к тому времени уже был никакой. Ну вот, японки бегут к портье, я следом, за мной Пейсахович с мешком, сладко улыбается, за нами переводчица, девка из ЮАР, толпа! Мы настигаем японок и суем им мешок. И…
– Что?! – не выдержала Марья Максимовна. – Да не томите вы нас!..
– Что, что! – Лидочка фыркнула и повела плечом. – Японка его открывает, лезет рукой, поднимает страшный визг, бросает мешок, у мыши там, наверное, уже инфаркт!.. Японка бежит, падает, сбегается охрана, портье, девушки из буфета, доктор и управляющий. Все поднимают с пола японку, а она вырывается и кричит!
– И что оказалось?!
– Оказалось, что по-японски «летучая мышь» и «зонтик» пишется одинаково. Одним иероглифом. Японка потеряла зонтик, а мышь приперлась на окно с какого-то склада или из Исаакия. И не была она никакой редкой породы, самая обыкновенная летучая мышь отечественного пошиба! Японка ушиблась, мы ее потом лечили, компенсировали моральный ущерб, а я еще с этой мышью перлась на Васильевский, чтобы ее выпустить, кроме меня никто не хотел. Вы, говорят, Лидия Арсеньевна, всю кашу заварили, вы и расхлебывайте, а мы ее выпускать не желаем. И не поехали, собаки, я одна перлась! Собиралась назавтра сделать харакири, но не решилась. Малодушна потому что.
Вот за этим самым кофе Марья Максимовна и «поспособствовала» Надеждиному трудоустройству. Лидочка обещала подумать и недели через три позвонила.
С тех пор они стали неразлучные подруги, несмотря на разницу в возрасте – Лидочка оказалась старше Нади лет на тридцать.
И все дальнейшее сложилось благодаря Лидочке – работа, карьера, знаменитости, с которыми Лидочка была дружна и охотно знакомила Надежду. Ей было не жалко. Ей никогда ничего не было жалко, такой у нее характер!
Надежда теперь тоже хотела для кого-нибудь стать Лидочкой, чтобы быть как она – благодетельницей, великодушной и щедрой.
Поэтому москвичу Коле Санькову она сочувствовала и все стремилась как-то помочь, тем более говорили, что у него в семье проблемы.
– Коля, вы не переживайте, – шепнула она ему на ухо, когда Дэн Уолш тряхнул своей ластообразной ручищей, Колю поприветствовал. – Все обойдется. Это в первые дни будет неразбериха и суета, а потом все наладится. Американцы начнут заниматься своим делом, мы своим, и к визиту уже все успокоятся. Потом несколько дней обморока и паники, и все!
Коля улыбнулся, и Надежда с удивлением обнаружила, что у него голубые глаза. По-настоящему голубые, как на картинке.
– Никогда не участвовал в таких мероприятиях, – тихо сказал он. – И главное, мне бы поработать подольше. Коллектив узнать, структуру понять! Нет, грянул этот визит, когда меня всего полтора месяца назад из Москвы перевели!
Краем глаза Надежда видела, что Лидочка о чем-то энергично и доброжелательно беседует с Уолшем. Ну о чем она с ним болтает! Договорились же после совещания сразу кофе идти пить!
Наверняка что-то затевает!
– То, что недавно перевели, это даже хорошо! – сказала она вслух. – И глаз не успел замылиться, и ни в каких группировках вы еще не задействованы!
– А у вас что? Группировки?
– А в Москве нет?
Коля Саньков засмеялся тихонько.
– И в Москве есть! Мне, чтобы в «Англию» попасть, столько геморроя досталось! Жена бросила, ей-богу! Ребенку не разрешает со мной по телефону говорить!
– Ужас какой, – искренне сказала Надежда.
Юля Беляева протиснулась мимо, улыбнулась и прошла и уже из-за двери показала на часы – давай, мол, кофе же пить собирались! Надежда чуть заметно кивнула. Во-первых, Лидочка все еще любезничала с полковником, во-вторых, Колю жалко.
– Меня тоже муж бросил, – сообщила она неизвестно зачем. Она никому в этом не признавалась, и в отеле, кроме Лидочки, еще никто не знал. И когда она вдруг это сказала, простыми будничными словами – дело-то житейское, что такого! – да еще почти незнакомому человеку, кровь вдруг бросилась ей в лицо и затопила всю голову разом, до самой макушки.
Крови было так много, что она не умещалась в черепе, давила на глаза и уши, вылилась красным нездоровым цветом на шею и щеки.
Ее тоже бросил муж. А что, разве вы не знали?! Ушел, ушел, еще в начале лета ушел! Житейское дело, что такого!