Вкус дыма бесплатное чтение
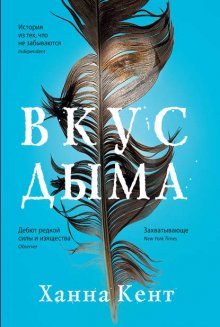
Hannah Kent
Burial Rites
© Hannah Kent, 2013
© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство «Синдбад», 2016
Моим родителям
Тому принесла я величайшее горе, кого я любила больше всех.
Сага о Людях из Лососьей долины[1]
Пролог
ОНИ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ДОЛЖНА УМЕРЕТЬ. Говорят, что я задула свечу чужой жизни и теперь та же участь должна постигнуть меня. При этих словах мне представляется, что все мы свечи, трепетно и ярко горящие в темноте, на воющем ветру, – и тогда в тишине комнаты я слышу шаги, жутко и неумолимо приближающиеся шаги того, кто задует мое пламя, и жизнь моя отлетит серым завитком дыма. Я исчезну, растаю в воздухе и в ночи. Они задуют всех нас, одного за другим, и тогда только в собственном своем свете будут видеть себя. Что же станет со мной, куда я денусь?
Порой мне мнится, будто я вновь вижу хутор, охваченный ночным пожаром. Порой я чую, как обжигает легкие морозный воздух, и словно вижу огонь, отразившийся в море. Как непривычно, как странно выглядит вода, играющая отблесками пожара. Той ночью в какое-то мгновение я оглянулась назад. Оглянулась, чтобы посмотреть на огонь… И до сих пор, если я лизну свою кожу, то почувствую на языке вкус соли. Вкус дыма.
Боже мой, как же холодно.
Я слышу шаги.
Глава 1
Объявление
24 марта 1828 года состоится продажа с торгов имущества, оставленного хуторянином Натаном Кетильссоном. Названное имущество – одна корова, пара лошадей, довольно много овец, сена и мебели, седло, уздечка, а также много тарелок и блюд. Все это будет продано лишь в случае, если предложенная цена окажется достойной. Все вышеозначенное достанется тому, кто даст лучшую цену. Если торги невозможно будет провести из-за ненастья, их надлежит перенести на ближайший погожий день.
Сислуманн[2]
Бьёрн Блёндаль
20 марта 1828 года
Его высокопреподобию Йоуханну Тоумассону
Благодарю за любезное Ваше письмо от 14 числа сего месяца, в котором Вы изъявили желание узнать, как именно мы осуществили погребение Пьетура Йоунссона из Гейтаскарда, который, как известно, в ночь с 13-го на 14-е число сего месяца был убит и сожжен вместе с Натаном Кетильссоном. Как известно Вам, преподобный, возникли кое-какие разногласия касательно того, следует ли хоронить прах Пьетура Йоунссона в освященной земле. После рассмотрения его дела в Верховном суде ему предстояло понести наказание за воровство, грабеж и хранение краденого имущества. Тем не менее мы до сих пор не получили из Дании никаких писем на сей счет. Судья земельного суда вынес обвинение Пьетуру 5 февраля минувшего года и приговорил его к четырем годам каторжных работ в исправительном доме Расфус в Копенгагене, однако ко времени его убийства он был еще, если можно так выразиться, «вольной птицей». Поэтому мы пошли навстречу Вашим пожеланиям и похоронили его по христианскому обряду, равно как и Натана, поскольку оного нельзя было отнести к тем, кто недостоин христианского погребения, о чем недвусмысленно говорится в послании Его Королевского Величества от 30 декабря 1740 года, в коем перечислены все, кого не позволено хоронить как добрых христиан.
Сислуманн
Бьёрн Блёндаль
30 мая 1829 года
Преподобному Т. Йоунссону
Брейдабоулстадур, Вестурхоуп
Младшему проповеднику Торвардуру Йоунссону
Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии и благополучии несущим слово Господне пастве Вестурхоупа.
Прежде всего я хотел бы передать тебе, хотя и запоздало, свои поздравления с успешным завершением учебы на юге Исландии. Твои прихожане говорят, что ты усердный молодой человек, и я одобряю твое решение вернуться на север, дабы начать священническую службу под руководством своего отца. Весьма радостно мне знать, что еще остались праведные люди, желающие исполнять свой долг перед ближними и Господом.
Далее, уже в качестве сислуманна, обращаюсь к тебе с просьбой. Ты знаешь, что жизнь нашей общины не так давно была омрачена тенью преступления. Гнусное идлугастадирское убийство, совершенное в прошлом году, воплотило в себе все безбожие и порочность этого округа. Будучи сислуманном Хунаватна, я не могу потакать отступлениям от законов общества, а потому после давно ожидаемого одобрения Верховного суда в Копенгагене намерен предать идлугастадирских убийц смертной казни. Именно в связи со всей этой историей я и обращаюсь к тебе с просьбой о помощи, младший проповедник Торвардур.
Как ты наверняка помнишь, подробности происшедшего я уже излагал в письме, которое почти десять месяцев назад разослал служителям церкви вкупе с распоряжением повсеместно произнести проповеди, сурово порицающие преступников. Позволь же мне повторить свой рассказ, дабы на сей раз дать тебе более обильную пищу для размышлений.
В прошедшем году, в ночь с 13 на 14 марта, тремя людьми было совершено тяжкое и гнусное преступление против двоих мужчин, с которыми ты, вполне вероятно, был знаком, – Натана Кетильссона и Пьетура Йоунссона. Тела Натана и Пьетура были найдены на пожарище принадлежавшего Натану хутора Идлугастадир, и тщательный осмотр останков позволил обнаружить на их телах ранения, явно нанесенные человеческой рукой. Это открытие потребовало начать следствие, а затем состоялся и суд. 2 июля минувшего года окружной суд под моим председательством нашел трех человек, подозреваемых в этом убийстве – мужчину и двух женщин, – виновными и приговорил их к обезглавливанию: «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти»[3]. 27 октября минувшего года смертные приговоры были утверждены земельным судом в Рейкьявике. В нынешний момент дело рассматривается в Верховном суде в Копенгагене, и мое решение, весьма вероятно, будет поддержано и там. Имя мужчины, обвиняемого в убийстве, – Фридрик Сигюрдссон, сын хуторянина из Катадалюра. Женщины, его сообщницы, – служанки, их имена Сигридур Гвюндмюндсдоттир и Агнес Магнусдоттир.
Сейчас все приговоренные содержатся под стражей здесь, на севере, и в таковом положении пребудут до самой своей казни. Фридрика Сигюрдссона увез в Тингейрар преподобный Йоуханн Тоумассон, а Сигридур Гвюндмюндсдоттир перевезли в Мидхоп. Агнес Магнусдоттир должна была до казни содержаться в Стоура-Борг, однако по причинам, говорить о которых я не имею права, в следующем месяце будет переведена на новое место содержания – хутор Корнсау в долине Ватнсдалюр. Она недовольна своим нынешним духовным наставником, а потому воспользовалась одним из немногих оставшихся у нее прав и потребовала себе другого духовника. Тебя, младший проповедник Торвардур.
Обращаясь к тебе с этой просьбой, я испытываю некоторые сомнения. Я прекрасно сознаю, что до сих пор обязанности твои ограничивались духовным наставлением прихожан юного возраста – дело, безусловно, почетное, однако же политически малозначимое. Ты сам волен признать, что недостаточно искушен, дабы привести эту преступную женщину к Господу и Его безграничному милосердию, и в таком случае я не стану опротестовывать твой отказ. Дело это – тяжкое бремя, которое я не сразу решился бы возложить и на плечи более искушенных служителей церкви.
Однако же, если ты примешь на себя обязанности по приготовлению Агнес Магнусдоттир ко встрече с Господом, тебе придется регулярно, как только позволит погода, посещать Корнсау. Ты должен будешь проповедовать слово Господне, пробуждать в ней раскаяние и смиренное принятие Правосудия. Не допусти, чтобы на твое решение повлияли лесть или родство с преступницей, если таковое имеется. По всем вопросам, преподобный, буде ты не сумеешь принять собственного решения – обращайся за помощью ко мне.
Я жду твоего ответа. Передай его, будь любезен, с моим курьером.
Сислуманн
Бьёрн Блёндаль
МЛАДШИЙ ПРОПОВЕДНИК ТОРВАРДУР ЙОУНССОН укреплял новыми камнями очаг в небольшом домике, примыкавшем к брейдабоулстадурской церкви, когда услыхал от порога негромкое покашливание отца.
– Тоути, прибыл курьер из Хваммура. Он спрашивает тебя.
– Меня?
От неожиданности Тоути выронил камень, и тот упал на земляной пол, только чудом не стукнув его по ноге. Преподобный Йоун досадливо поцокал языком, шагнул внутрь, нагнув голову под низкой притолокой, и легонько оттолкнул Тоути.
– Да, именно тебя. Он ждет.
Курьером оказался слуга в поношенной одежде. Он окинул Тоути долгим взглядом и лишь затем заговорил:
– Проповедник Торвардур Йоунссон?
– Да, это я. Добрый день. Э-э… собственно говоря, я – младший проповедник.
Слуга пожал плечами.
– Я привез тебе письмо от сислуманна, его чести Бьёрна Блёндаля. – С этими словами он извлек из-за пазухи листок бумаги и протянул его Тоути. – Мне велено подождать, пока ты его не прочтешь.
Письмо после пребывания за пазухой было на ощупь теплым и сыроватым. Тоути сломал печать, отметил мимоходом, что на письме стоит сегодняшняя дата, и, усевшись на колоду для рубки дров, которая лежала у входа, приступил к чтению.
Дочитав послание Бьёндаля до последней строчки, он поднял глаза и обнаружил, что слуга сверлит его неотрывным взглядом.
– Ну? – осведомился тот, нетерпеливо вскинув брови.
– Прошу прощения?
– Что ты ответишь сислуманну? Мне недосуг торчать здесь весь день.
– Можно мне поговорить с отцом?
Курьер выразительно вздохнул:
– Говори, чего уж.
Отец был в бадстове[4] – неспешно расправлял одеяла на своей постели.
– Что такое?
– Это от сислуманна.
Тоути протянул отцу распечатанное письмо и, терзаясь неуверенностью, стал ждать, когда тот все прочтет.
С бесстрастным видом отец сложил письмо и вернул его Тоути, так и не сказав ни единого слова.
– Что я должен ответить? – наконец спросил Тоути.
– Тебе решать.
– Я не знаю эту женщину.
– Не знаешь.
– Она не из нашего прихода.
– Не из нашего.
– Почему она попросила назначить именно меня? Я всего лишь младший проповедник.
Отец снова принялся расправлять одеяла.
– Возможно, тебе следует обратиться с этим вопросом к ней самой.
Курьер сидел на колоде и ножом вычищал грязь из-под ногтей.
– Ну и что? Какой ответ я должен передать сислуманну от младшего проповедника?
Тоути ответил прежде, чем успел осознать собственное решение:
– Передай Блёндалю, что я встречусь с Агнес Магнусдоттир.
Глаза курьера округлились:
– Так письмо насчет этого дела?
– Я буду ее духовным наставником.
Слуга уставился на Тоути, открыв рот, затем вдруг расхохотался.
– Силы небесные, – пробормотал он. – Посылают мышонка кошку усмирять.
С этими словами курьер вскочил на коня и через минуту скрылся за волнистыми очертаниями холмов, а Тоути так и остался стоять, держа письмо на отлете, словно боялся, что оно вот-вот вспыхнет огнем.
Стейна Йоунсдоттир складывала сушеный навоз во дворе дернового дома, который принадлежал ее семье, когда услыхала стремительную дробь конских копыт. Стряхнув с юбок комья грязи, Стейна поднялась и выглянула из-за угла дома, откуда лучше был виден тракт, проходивший по долине. По тракту скакал, приближаясь, всадник в ярко-красном мундире. Когда он повернул к хутору, Стейна вдруг осознала, что именно ей предстоит встречать гостя. Борясь с паникой, охватившей ее при этой мысли, она метнулась за дом, торопливо поплевала на грязные ладони и вытерла нос рукавом. Когда она вернулась во двор, всадник уже ждал ее.
– Добрый день, барышня. – Приезжий окинул озадаченным взглядом испачканные юбки Стейны. – Вижу, я отвлек тебя от трудов.
Стейна во все глаза смотрела, как он спешился, ловко перекинув ногу через седло. И приземлился с непринужденным изяществом, неожиданным для человека такой крупной комплекции.
– Ты знаешь, кто я такой? – осведомился он, глядя на Стейну в ожидании подтверждения.
Девушка помотала головой.
– Я – сислуманн Бьёрн Аудунссон Блёндаль.
С этими словами приезжий одарил Стейну едва заметным кивком и оправил мундир. Стейна заметила, что мундир у него с серебряными пуговицами.
– Вы из Хваммура, – пробормотала она.
Блёндаль терпеливо улыбнулся.
– Да. Я надзираю за службой твоего отца. Собственно, я приехал поговорить с ним.
– Отца нет дома.
Блёндаль нахмурился:
– А твоя мать?
– Они оба отправились по делам на юг долины.
– Понимаю.
Блёндаль пристально взглянул на девушку, и та неловко поежилась и отвела взгляд, устремив его на дальние поля. Лицо у нее было бледное, только лоб и нос покрывала россыпь мелких веснушек. Широко поставленные карие глаза, меж передних зубов – внушительная щель. Несуразная девица, подумал Блёндаль. И отметил черные полоски грязи у нее под ногтями.
– Придется вам приехать в другой раз, – наконец заявила Стейна.
Блёндаль замер.
– Могу я по крайней мере войти в дом?
– Ага. Если хотите. Коня можно привязать здесь.
Стейна прикусила губу, глядя, как Блёндаль наматывает поводья на столбик во дворе, затем развернулась и почти бегом скрылась в доме.
Гость последовал за ней, согнувшись в три погибели под низкой притолокой.
– Твой отец вернется сегодня?
– Нет, – кратко ответила она.
– Как неудачно, – посетовал Блёндаль, кое-как пробираясь по темному коридору вслед за Стейной в бадстову. С тех пор как его назначили на должность сислуманна, он заметно раздобрел и привык к более просторному, выстроенному из привозных бревен жилищу, которое сислуманну с семейством выделили в Хваммуре. Он брезговал крестьянскими лачугами и хуторскими домами – тесными комнатушками, дерновые стены которых исторгали летом клубы пыли, что вызывала у него надрывный кашель.
– Сислуманн…
– Господин сислуманн.
– Прошу прощения. Мама и пабби[5], то есть я хотела сказать, Маргрьет и Йоун вернутся завтра. Или послезавтра. Смотря по погоде.
Стейна указала на ближний конец узкой комнаты, которую занавеска из серой шерсти разделяла на собственно бадстову и крохотную гостиную.
– Посидите тут, – сказала она, – а я схожу за сестрой.
Лауга Йоунсдоттир, младшая сестра Стейны, полола скудный огород чуть поодаль от дома. Согнувшись в три погибели над грядками, она не заметила прибытия сислуманна, однако голос сестры услыхала задолго до того, как та появилась в поле зрения.
– Лауга, ты где? Лауга!
Лауга выпрямилась и вытерла о фартук испачканные землей руки. Она не стала кричать в ответ, но терпеливо дождалась, пока Стейна, что бежала, путаясь в длинных юбках, наконец заметит сестру.
– Я тебя обыскалась! – выкрикнула Стейна, переводя дух.
– Боже милостивый, да что же такое стряслось?
– К нам приехал сислуманн!
– Какой еще сислуманн?
– Блёндаль!
Лауга ошеломленно воззрилась на сестру:
– Сислуманн Бьёрн Блёндаль? Вытри нос, Стейна, у тебя сопли текут.
– Он сидит в гостиной.
– Где?
– Ну там, знаешь, за занавеской.
– Ты оставила его там одного? – У Лауги округлились глаза.
Стейна скривилась.
– Пожалуйста, пойди поговори с ним.
Лауга обожгла сестру гневным взглядом, поспешно развязала тесемки грязного фартука и бросила его возле любистока.
– Ей-же-богу, Стейна, я иногда и представить себе не могу, что творится в твоей голове, – ворчала она, торопливо шагая рядом с сестрой к дому. – Бросить такого гостя, как Блёндаль, томиться от скуки в нашей бадстове!
– В гостиной.
– Да какая разница! Да еще, могу поспорить, угостила его сывороткой, которую пьют только слуги!
Стейна обернулась к сестре, и на лице ее отразился неподдельный испуг.
– Я его вообще ничем не угощала.
– Стейна! – Лауга перешла с быстрого шага на бег. – Он решит, что мы – деревенщина!
Стейна смотрела вслед сестре, спотыкавшейся на бегу о травяные кочки.
– А мы и есть деревенщина, – пробормотала она.
Лауга проворно умылась и выхватила новый фартук у Кристин, батрачки, которая при звуках незнакомого голоса укрылась в кухне. Сислуманн сидел в гостиной у дощатого столика, в который раз пробегая глазами листок бумаги. Извинившись за невежливость сестры, Лауга предложила ему холодной рубленой баранины, и он принял угощение охотно, хотя и с несколько оскорбленным видом. Пока он ел, Лауга безмолвно стояла рядом, глядя, как мясистые губы сислуманна основательно обхватывают каждый ломтик баранины. Быть может, пабби, ныне окружной офицер, получит повышение. Быть может, ему выдадут мундир или назначат содержание от датской короны. У них будут новые платья. Новый дом. Больше слуг.
Блёндаль уже скреб ножом по тарелке.
– Может быть, господин сислуман желает скиру[6] и сливок? – спросила Лауга, забирая у него опустевшую тарелку.
Блёндаль вскинул было руки перед собой, словно намереваясь отклонить ее предложение, но остановился.
– Гм, пожалуй, что да. Благодарю.
Лауга порозовела и повернулась, чтобы принести мягкого сыру.
– И я не отказался бы от кофе, – бросил вслед сислуманн, когда она уже скрылась за занавеской.
– Что ему здесь нужно? – спросила Стейна, сидевшая съежившись в кухне у очага. – Я ничего не могу расслышать, кроме твоего топота туда-сюда по коридору.
Лауга сунула ей грязную тарелку.
– Он пока еще ничего не сказал. Сейчас он хочет скиру и кофе.
Стейна глянула на Кристин, та закатила глаза.
– У нас нет кофе, – тихо сказала Стейна.
– Да есть же, я сама на прошлой неделе видела в кладовой.
Сестра замялась.
– Я… я его выпила.
– Стейна! Кофе не для нас! Мы сохраняем его для особых случаев!
– Каких еще случаев? Не припомню, чтоб чиновники заезжали к нам в гости.
– Он сислуманн, Стейна!
– Слуги скоро вернутся из Рейкьявика. Может, они привезут еще кофе.
– Это будет потом, а сейчас-то нам что делать? – Раздраженная Лауга отпихнула Кристин в сторону кладовки. – Скир и сливки! Живей!
– Я просто хотела узнать, каков он на вкус, – некстати пояснила Стейна.
– Теперь уже ничего не поделаешь. Отнеси сислуманну вместо кофе свежего молока. Хотя нет, пускай отнесет Кристин. Ты чумазая, точно лошадь, вывалявшаяся в грязи.
С этими словами Лауга метнула убийственный взгляд на юбки Стейны, выпачканные навозом, и стремительно вышла в коридор.
Блёндаль ждал ее возвращения.
– Ты, барышня, должно быть, ломаешь голову, по какой причине я нанес визит вашей семье.
– Меня зовут Сигурлауг. Или просто Лауга, если вам угодно.
– Угодно. Сигурлауг.
– У вас, верно, какое-то дело к моему отцу? Он…
– Уехал на юг, знаю. Мне сообщила об этом твоя сестра и… да вот и она сама.
Лауга обернулась и увидела, что из-за занавески вынырнула Стейна. В одной грязной руке она несла скир, сливки и ягоды, в другой – молоко. Край занавески коснулся поверхности скира, и Лауга гневно сверкнула глазами. По счастью, сислуманн этой промашки не заметил.
– Сударь, – промямлила Стейна. Она поставила миску и чашку на стол перед сислуманном и сделала неуклюжий книксен. – На здоровье вам, сударь.
– Благодарю, – ответил Блёндаль. Оценивающе принюхался к скиру, а затем поднял взгляд на сестер и скупо улыбнулся: – И которая же из вас старшая?
Лауга толкнула локтем Стейну – отвечай, мол, – но та молчала, глазея с разинутым ртом на ослепительно алый мундир гостя.
– Я – младшая, – сказала наконец Лауга и улыбнулась, чтобы показать ямочки на щеках. – Стейнвор старше меня на год. В этом месяце ей исполняется двадцать один.
– Все зовут меня Стейна.
– Вы обе очень хорошенькие, – заметил Блёндаль.
– Благодарю, сударь. – И Лауга снова подтолкнула локтем сестру.
– Спасибо, – пробормотала Стейна.
– Обе унаследовали от отца светлые волосы, но у тебя, я вижу, – он кивком указал на Лаугу, – глаза голубые, как у матери.
С этими словами сислуманн отодвинул в ее сторону миску, к которой так и не притронулся, и взял со стола чашку с молоком. Принюхался к нему – и тут же отставил обратно.
– Поешьте, сударь, – проговорила Лауга, жестом показав на миску.
– Благодарю, но я вдруг почувствовал себя совершенно сытым. – Блёндаль сунул руку в карман. – Что ж, я предпочел бы обсудить причину своего визита с хозяином дома, но, поскольку окружной староста Йоун отсутствует, а дело не может ждать его возвращения, вижу, я вынужден рассказать обо всем его дочерям.
Он достал лист бумаги и развернул его на столе, дабы сестры могли прочесть, что там написано.
– Полагаю, вам известно о происшествии, которое случилось в минувшем году в Идлугастадире?
Стейну передернуло.
– Вы про убийство?
Лауга кивнула, ее голубые глаза посерьезнели.
– Суд проходил в вашем доме.
Блёндаль склонил голову:
– Именно так. Убийство Натана Кетильссона, травника, и Пьетура Йоунссона. Поскольку эта прискорбная и в высшей степени ужасная трагедия произошла в округе Хунаватн, в мои обязанности входило совместно с судьей и Земельным судом в Рейкьявике принять решение относительно участи подозреваемых.
Лауга взяла листок бумаги и отошла к окну, чтобы при свете дня прочесть, что там написано.
– Стало быть, дело закончено.
– Напротив. Действительно, трое подозреваемых еще в октябре прошлого года были признаны виновными как в убийстве, так и в поджоге – судом этой страны. Но теперь дело передано в Верховный суд в Копенгагене, столице Дании. Король… – тут Блёндаль сделал паузу для вящего эффекта, – король лично должен узнать о совершенном преступлении и утвердить мой первоначальный приговор о казни преступников. Как ты сама можешь прочесть, все трое приговорены к отсечению головы. Сие есть торжество правосудия, и я уверен, что ты с этим согласишься.
Лауга рассеянно кивнула, не отрываясь от чтения.
– Так их не отправят в Данию?
Блёндаль, усмехнувшись, откинулся на спинку деревянного стула, оторвав от пола подошвы сапог.
– Нет.
Лауга подняла на него озадаченный взгляд:
– Но тогда, сударь, простите мое невежество, где же они будут…
Голос ее пресекся.
Блёндаль со скрипом отодвинул стул, поднялся и встал у окна рядом с Лаугой, намеренно не замечая присутствия Стейны. Поглядел в окно, затянутое сушеным овечьим пузырем, и заметил на его тусклой поверхности крохотную жилку. Блёндаля передернуло. Окна его дома были стеклянные.
– Преступники будут казнены здесь, – наконец сказал он. – В Исландии. Если быть точным – на севере Исландии. Я и судья, который вел процесс в Рейкьявике, решили, что так будет… – Он замялся, подбирая подходящее слово: —…Дешевле.
– В самом деле?
Блёндаль сурово глянул на Стейну, которая сверлила его подозрительным взглядом. Протянув руку, она выхватила листок у Лауги.
– Именно так. Хотя не стану отрицать, что публичная казнь также позволяет наглядно показать нашим соотечественникам, какова бывает расплата за тяжкое преступление. Тут надобно действовать с умом. Ты ведь знаешь, умница Сигурлауг, что преступников такого сорта, как правило, отсылают в Данию, где в достатке имеются тюрьмы и все такое прочее. Поскольку было решено, что этих троих казнят в Исландии, в том самом округе, где они совершили преступление, нам необходимо место для содержания их под стражей вплоть до того, как будут согласованы время и место казни.
Как тебе известно, у нас в Хунаватне нет помещений, где можно было бы держать заключенных. – Блёндаль развернулся и вновь опустился на стул. – Поэтому я решил, что их следует разместить на хуторах. В жилищах праведных христиан, которые добрым примером побудили бы их к раскаянию и на благо которых преступники трудились бы до тех пор, пока приговор не будет приведен в исполнение.
С этими словами Блёндаль подался к Стейне – она так и застыла по другую сторону стола, одной рукой зажав рот, а в другой стискивая листок бумаги.
– Исландцев – представителей власти, – продолжил он, – которые, разместив у себя этих людей, тем самым исполнят свой долг.
Лауга ошеломленно смотрела на сислуманна.
– Разве их нельзя содержать где-нибудь в Рейкьявике? – пролепетала она.
– Нет уж. – Блёндаль подкрепил свой ответ категорическим взмахом руки. – Это будет слишком дорого.
Глаза Стейны недобро сузились.
– И вы хотите поселить их здесь? У нас дома? Только потому, что суду в Рейкьявике неохота тратиться на то, чтобы отправить их за море?
– Стейна! – предостерегающе одернула Лауга.
– Ваша семья получит возмещение за хлопоты, – нахмурясь, сообщил Блёндаль.
– И что нам прикажете с ними делать? Приковывать цепями к ножкам кроватей?
Блёндаль медленно выпрямился во весь рост.
– У меня нет выбора, – промолвил он, и голос его зазвучал вдруг угрожающе. – Ваш отец – представитель власти и обязан исполнять свой долг. Уверен, он не станет оспаривать мое решение. В Корнсау не хватает рабочих рук, поэтому вы едва сводите концы с концами. – Он шагнул вплотную к Стейне, глядя сверху вниз в полумраке гостиной на ее замурзанное неказистое личико. – Кроме того, Стейнвор, я не стану слишком обременять вас, требуя взять под свою опеку всех троих заключенных. На вашу долю достанется только одна из женщин. – Блёндаль положил тяжелую руку на плечо Стейны, словно и не заметив, как та съежилась. – Ты ведь не боишься женщин, верно?
Когда сислуманн отбыл, Стейна вернулась в гостиную и взяла со стола миску со скиром, к которому гость так и не притронулся. Верхний слой скира загустел, свернувшись по краям миски. Стейну затрясло от бессильного бешенства, она в ярости грохнула миску на стол и прикусила губу. Она еще долго стояла, полнясь беззвучным криком и борясь с желанием разбить миску вдребезги. И лишь когда накативший гнев отхлынул, вернулась в кухню.
Порой мне начинает казаться, что я уже мертва. Нельзя назвать жизнью это прозябание в темноте, в безмолвии, в клетушке настолько убогой и неопрятной, что я уже позабыла, каков на вкус свежий воздух. Ночная посудина уже полна и потечет через край, если только кто-нибудь вскоре не явится ее опорожнить.
Когда ко мне приходили в последний раз? Сутки давно уже слились в одну бесконечную ночь.
Зимой было лучше. Зимой обитатели Стоура-Борга были такими же узниками, как я; когда над хутором бесновался буран, все мы теснились в бадстове. В дневное время жгли лампы, а когда кончался запас масла, темноту разгоняло пламя свечей. Потом пришла весна, и меня переселили в кладовую. Оставили одну, без света, и нечем было измерять прошедшие часы, и не было способа отличить день от ночи. На руках моих кандалы, вокруг грязный земляной пол, в углу разобранный ткацкий станок да старое сломанное веретено.
Быть может, там, снаружи, уже лето. Я слышу шаги слуг, снующих по коридору, слышу скрип двери, которая открывается, пропуская их то наружу, то внутрь. Иногда сюда доносится визгливый хохот служанок, собравшихся посплетничать в коридоре, и тогда я понимаю, что непогода отступила и ветер утратил свой неистовый пыл. И я закрываю глаза, представляя себе долину в долгие летние дни, солнце, которое прогревает землю до тех пор, покуда на озеро не слетятся лебеди и облака не отхлынут, обнажив небесную высь – такую ясную, ослепительную синеву, что слезы сами наворачиваются на глаза.
Через три дня после того, как Бьёрн Блёндаль нанес визит сестрам в Корнсау, их отец, староста Ватнсдалюра Йоун Йоунссон, и его жена Маргрьет двинулись в обратный путь домой.
Йоун, жилистый и чуть сутулый мужчина пятидесяти с лишним лет, со светлыми, почти белыми волосами и большими ушами, которые придавали ему простоватый вид, вел лошадь в поводу, с привычной легкостью перешагивая через бугры и кочки. Его жена, сидевшая верхом на вороной кобылке, была донельзя изнурена долгой дорогой, хотя ни за что на свете не призналась бы в этом. Она ехала, вздернув подбородок, высоко держа голову на тощей шее. Глаза Маргрьет, полуприкрытые тяжелыми веками, зорко вглядывались в проплывавшие мимо крохотные усадьбы, которых в долине Ватнсдалюр было несчетно, и закрывались, лишь когда на нее нападал кашель. После приступа Маргрьет всякий раз наклонялась вбок, чтобы сплюнуть мокроту, а затем вытирала рот уголком платка, бормоча краткую молитву. Муж, когда она это проделывала, иногда поворачивал голову к жене, как будто опасался, что Маргрьет может свалиться с лошади. Более ничто не нарушало монотонности их путешествия.
Сейчас как раз миновал очередной приступ изнурительного кашля. Маргрьет сплюнула в траву и прижала ладонь к груди, силясь перевести дух. Голос ее, когда она заговорила, казался севшим и хриплым:
– Гляди-ка, Йоун, в Асе завели вторую корову.
– А? – рассеянно отозвался муж, целиком погруженный в свои мысли.
– Я сказала, – Маргрьет снова кашлянула, прочищая горло, – что в Асе завели вторую корову.
– Правда?
– Странно, что ты сам этого не заметил.
– Ага.
Маргрьет сощурилась, вглядываясь в пыльный свет, и различила далеко впереди подворье Корнсау.
– Скоро дома будем.
Муж что-то буркнул, соглашаясь.
– Стоит задуматься, а, Йоун? Еще одна корова и нам бы не помешала.
– Нам бы много чего не помешало.
– Но вторая корова пришлась бы очень кстати. Больше масла. Мы смогли бы позволить себе нанять на сбор урожая лишнюю пару рук.
– Все будет, Маргрьет, любовь моя. Со временем.
– Только я до этого времени не доживу.
Эти слова прозвучали резче, чем ей хотелось. Йоун ничего не ответил, только принялся вполголоса подгонять лошадь, и Маргрьет сердито воззрилась на его затылок, прикрытый дорожной шляпой, всей душой желая, чтобы он обернулся. Видя, что муж шагает дальше как ни в чем не бывало, она сделала глубокий вдох и снова стала жадно всматриваться в далекие очертания Корнсау.
Близился вечер, и дневной свет над сенокосами угасал, меркнул под натиском собиравшихся на востоке низких туч. Проплешины застарелого снега на склонах гор то казались тусклыми и серыми, то, стоило тучам чуть разомкнуться, вспыхивали ослепительной белизной. Перелетные птицы носились над лугами, охотясь на жужжащих над травой насекомых, и жалобно блеяли овцы, которых мальчишки гнали с пастбищ к хуторам.
Лауга и Стейна отправились набрать воды в горном ручье. Лауга жмурилась на солнце, протирая глаза, Стейна шагала отрешенно. Сестры не разговаривали.
В последние дни они трудились в полном молчании, обращаясь друг к другу только для того, чтобы попросить лопату или уточнить, какой бочонок с селедкой следует открывать в первую очередь. Молчание, разделившее их после ссоры, которая случилась вслед за отъездом сислуманна, было пронизано гневом и тревогой. Сестры старались как можно меньше говорить друг с другом, и эти старания совершенно измучили их обеих. Лауга, раздраженная упрямством и неотесанностью старшей сестры, все время думала о том, что же скажут родители, узнав о визите Блёндаля. Поняв, чего ради он приехал, Стейна повела себя на редкость грубо, а такое поведение могло навлечь неприятности на всю их семью. Блёндаль – человек влиятельный, и вряд ли ему пришлась по вкусу беспардонная выходка хуторской девицы. Разве Стейна забыла, насколько их семья зависит от благосклонности этого человека?
А Стейна изо всех сил старалась не думать о навязанной им убийце. От одной только мысли о том убийстве ее бросало в дрожь, а стоило вспомнить, с какой бесцеремонностью сислуманн навязал им преступницу, как в глазах темнело от бешенства. И не младшей сестре учить Стейну, как себя вести. Откуда Лауге знать все тонкости светского обращения с толстыми господами в красных мундирах? Нет уж, лучше гнать все эти мысли из головы.
Стейна поставила наземь оттянувшее руку ведро и зевнула во весь рот. Лауга, шедшая рядом, тоже не удержалась от зевка. Взгляды сестер встретились, и на долю секунды их объединило общее чувство усталости. Затем Лауга буркнула, что не худо бы прикрывать рот, когда зеваешь, и Стейна, насупившись, со злостью уставилась себе под ноги.
Они шли к ручью, и послеполуденное солнце омывало их лица невесомым ласковым теплом. Ветра не было вовсе, и в долине царила такая тишь, что сестры замедлили шаг, неосознанно подстраиваясь под эту сонную неподвижность. Они приближались уже к скальной гряде, тянущейся вдоль ручья, когда Лауга, повернувшись, чтобы высвободить подол, зацепившийся за колючий куст, заметила вдали конский силуэт.
– Ой! – вскрикнула она.
Стейна обернулась:
– Что такое?
Лауга указала на лошадь.
– Это мама и пабби! – задыхаясь, вымолвила она. – Вернулись!
Лауга прищурилась, силясь различить подробности в знойном мареве над лугами.
– Да, это они, – пробормотала она, словно обращаясь к себе самой. И, охваченная внезапным возбуждением, сунула свое ведро Стейне и махнула рукой в сторону ручья: иди, мол. – Набери воды. Ты ведь унесешь оба ведра, правда? Будет лучше, если я… я… вернусь. Чтобы развести огонь.
С этими словами Лауга подтолкнула Стейну – резче, чем намеревалась, – и, круто развернувшись, побежала прочь.
Шипы побегов ежевики цеплялись за чулки Лауги, но она опрометью неслась к подворью, вне себя от безмерного облегчения. Теперь пабби сам разберется и с сислуманном, и с Агнес Магнусдоттир!
Распахнув настежь входную дверь, Лауга пробежала по коридору и свернула налево, в кухню. В отсутствие хозяйки Кристин отпросилась после обеда, чтобы навестить своих родных, но в очаге, по счастью, до сих пор дымились утренние уголья. Лауга проворно навалила поверх них сушеного навоза, едва не загасив с трудом раздутые язычки пламени. Как отнесется отец к известию о визите сислуманна? Долго ли узнице предстоит пробыть в Корнсау? У Лауги даже не осталось письма, которое показал ей сислуманн: Стейна во время ссоры швырнула его в огонь.
И все же, думала Лауга, подвешивая котелок на крюк над пламенем, все же, едва только пабби обо всем узнает, он возьмет дело в свои руки.
Она раздула огонь в очаге, качнув мехи, и, проворно пробежав по коридору назад, к входной двери, высунула голову наружу. И снова ощутила паническую дрожь. Взять-то он возьмет, но вот как поступит? Лауга отшатнулась от двери и поспешила в кладовую – собрать, что найдется, для похлебки. Ячменя у них осталось совсем немного. Работники, которые отправились за покупками на юг, до сих пор еще не вернулись.
Лауга ступила в дверной проем, едва не запнувшись о высокий порог, и направилась в чулан, чтобы взять мяса для похлебки. Копченую ягнятину в это время года лучше не трогать, однако у них еще осталась с зимы пара ломтей кровяной колбасы – подкисшей, но вполне съедобной.
«Будем ужинать все вместе, – подумала Лауга, – в бадстове. Вот тогда-то я им все и скажу». И тут со двора донесся глухой перестук лошадиных копыт.
– Comið þiþ sæl! Будьте счастливы! – Лауга вынырнула из дома, отряхнула с рук крошки сухого кизяка и торопливо заправила выбившиеся пряди под чепчик. – С благополучным возвращением!
Йоун, ее отец, придержал лошадь и улыбнулся дочери из-под полей дорожной шляпы. Приветственно помахав свободной рукой, он шагнул вперед и добавил к приветствию отеческий поцелуй.
– Малышка Лауга! Как вы тут справлялись?
С этими словами Йоун повернулся к лошади и стал отвязывать от седла свертки.
– Здравствуй, мама.
Маргрьет с высоты седла одарила дочь ласковым взглядом, хотя губы ее едва шевельнулись:
– Здравствуй, Сигурлауг.
– Ты хорошо выглядишь.
– Жива покуда, – отозвалась Маргрьет.
– Устала?
Не ответив на вопрос, Маргрьет неуклюже спустилась с лошади. Лауга застенчиво обняла мать, затем провела ладонью по носу кобылы, ощутила трепет ноздрей и жаркое тепло лошадиного дыхания.
– Где твоя сестра?
Лауга оглянулась на скалы, за которыми скрывался ручей, но не заметила там никакого движения.
– Пошла за водой для ужина.
Маргрьет вскинула брови:
– Я-то думала, она тоже выйдет нас встречать.
Лауга вновь повернулась к отцу, который теперь складывал свертки на земле. И сделала глубокий вдох.
– Пабби, мне нужно будет попозже кое-что тебе рассказать.
Йоун начал распутывать жесткую веревку, которой свертки были приторочены к седлу.
– Кто-то пал?
– Что?
– Я имею в виду нашу скотину.
– Ох, нет, нет, ничего подобного! – воскликнула Лауга и, спохватившись, добавила: – Слава богу!
Она шагнула вплотную к отцу и, понизив голос, проговорила:
– Наверное, мне следует рассказать тебе об этом с глазу на глаз.
Эта фраза не ускользнула от слуха матери.
– Лауга, все, что ты собираешься рассказать, можем выслушать мы оба.
– Но, мама, я не хочу тебя волновать.
– Ничего, мне не привыкать волноваться, – заметила Маргрьет и вдруг улыбнулась. – Что ж поделать, коли вечно приходится приглядывать за детьми и слугами.
С этими словами она велела мужу позаботиться, чтобы оставшийся груз случайно не угодил в лужу, прихватила пару свертков с собой и направилась в дом. Лауга последовала за ней.
К тому времени, когда Лауга принесла миски с похлебкой, Йоун уже вошел в бадстову и устроился рядом с женой.
– Я подумала, что вам приятно будет поесть горячего, – сказала Лауга.
Йоун взглянул на дочь, которая стояла перед ним с подносом в руках.
– Можно мне вначале переодеться?
Лауга поколебалась, поставила поднос на кровати возле матери и, опустившись на колени, принялась распутывать завязки на башмаках Йоуна.
– Мне нужно вам кое о чем рассказать.
– Где Кристин? – резко спросила Маргрьет.
Ее муж откинулся назад, опершись на локти и предоставив дочери стягивать с его ноги отсыревший чулок.
– Стейна отпустила ее после обеда, – ответила Лауга.
– А где сама Стейна?
– Ох, да не знаю я. Где-то бродит. – Лауга похолодела, чувствуя на себе пристальные взгляды родителей. – Пабби, – прошептала она, – когда тебя не было, к нам заезжал сислуманн Блёндаль.
Йоун сел прямее и поглядел на дочь.
– Сислуманн? – эхом повторил он.
Маргрьет стиснула кулаки.
– Что ему было нужно? – осведомилась она.
– Пабби, он привез для тебя письмо.
Маргрьет остановила на Лауге пронзительный взгляд.
– Почему он не послал слугу? Ты уверена, что это был именно Блёндаль?
– Мама!
Йоун хранил молчание.
– Где это письмо? – наконец спросил он.
Лауга стянула башмак с другой его ноги и уронила на пол. От башмака с отчетливым стуком отскочил ком засохшей грязи.
– Стейна сожгла его.
– С какой стати? Боже милостивый!
– Мама! Ничего страшного. Я знаю, что было в том письме. Пабби, нам придется…
– Пабби! – прозвучал из коридора громкий голос Стейны. – Ты представить не можешь, кого нам велено держать у себя под замком!
– Под замком? – Маргрьет стремительно развернулась к старшей дочери, которая вихрем ворвалась в бадстову. – Стейна, да ты вымокла до нитки!
Стейна мельком глянула на свой фартук, промокший насквозь, и пожала плечами.
– Я уронила ведра. Пришлось вернуться и снова набрать воды. Пабби, Блёндаль принуждает нас содержать здесь, в нашем доме, Агнес Магнусдоттир!
– Агнес Магнусдоттир?! – Маргрьет в ужасе перевела взгляд на Лаугу.
– Да, мама, ту самую убийцу! – воскликнула Стейна и, сняв мокрый фартук, легкомысленно бросила его на кровать. – Ту, что убила Натана Кетильссона!
– Стейна! Я как раз собиралась объяснить пабби…
– И Пьетура Йоунссона, мама!
– Стейна!
– Ой, Лауга, да ты просто хотела сама обо всем рассказать!
– А ты не смеешь перебивать и…
– Довольно! – Йоун резко встал, вскинул руки, жестом призывая их успокоиться. – Начни с самого начала, Лауга. Что произошло?
Лауга замялась, но потом изложила все, что могла вспомнить о визите сислуманна. Когда она пересказывала содержание письма, лицо ее залилось румянцем.
Еще не дослушав рассказа дочери, Йоун начал вновь одеваться.
– Да ведь мы вовсе не обязаны это делать! – Маргрьет дернула мужа за рукав, но Йоун в ответ лишь пожал плечами, стараясь не смотреть на ее растерянное лицо. – Йоун, – прошептала Маргрьет. И окинула взглядом дочерей – те сидели, сложив руки на коленях, и молчали, не сводя глаз с отца и матери.
Йоун надел башмаки, с силой захлестнув завязки вокруг лодыжек, и затянул так туго, что тюленья кожа протестующе скрипнула.
– Йоун, уже вечер, – проговорила Маргрьет. – Ты что, собрался в Хваммур? Да там к твоему приезду уже все лягут спать.
– Значит, я их разбужу.
С этими словами Йоун сдернул с гвоздя дорожную шляпу, взял жену за плечи и ласково, но решительно отодвинул с дороги. Прощально кивнув дочерям, он широким шагом вышел из комнаты, протопал по коридору и с грохотом захлопнул за собой входную дверь.
– Мама, что нам теперь делать? – донесся из темного угла тихой голосок Лауги.
Маргрьет закрыла глаза и глубоко вздохнула.
Йоун воротился в Корнсау несколько часов спустя. Вернувшаяся из отлучки Кристин получила изрядную взбучку от Маргрьет и теперь с упреком косилась на Стейну. Маргрьет замерла над вязаньем, раздумывая, не попытаться ли помирить дочерей, когда со скрипом распахнулась входная дверь и миг спустя по коридору загремели мужнины шаги.
Едва войдя, Йоун взглянул на жену. Маргрьет стиснула зубы.
– Ну что? – спросила она, подталкивая мужа к его кровати.
Йоун возился с завязками на башмаках.
– Ну же, пабби! – выпалила Лауга, проворно опустившись на колени. – Что сказал Блёндаль? – Она резко откинулась назад, стягивая башмаки с отца. – Эту женщину все-таки привезут сюда?
Йоун кивнул.
– Все, как ты и говорила, Лауга. Агнес Магнусдоттир заберут из Стоура-Борга, где она содержится сейчас, и перевезут к нам.
– Но почему, пабби? – тихо спросила Лауга. – Чем мы провинились?
– Ничем. Я – окружной староста. Эту женщину нельзя разместить в первой попавшейся семье. За нее несут ответственность власти, а я – их представитель.
– В Стоура-Борге как раз полным-полно представителей властей, – едко заметила Маргрьет.
– И все же ее необходимо переселить. Там было одно… происшествие.
– Что случилось? – спросила Лауга.
Йоун поглядел сверху вниз в ясное личико своей младшей дочери.
– Уверен, что ничего страшного, – наконец сказал он.
У Маргрьет вырвался горький смешок.
– Стало быть, мы смиренно примем эту обузу? Как побитые шавки? – Голос ее упал до свистящего шепота. – Йоун, эта Агнес – убийца! У нас дочери, работники… даже Кристин! Мы в ответе за них!
Йоун одарил жену многозначительным взглядом.
– Маргрьет, Блёндаль намерен возместить нам хлопоты. За ее содержание полагается оплата.
Маргрьет молчала. Когда она наконец заговорила, в ее голосе уже не было прежней воинственности:
– Быть может, нам следует на время отправить девочек из Корнсау.
– Мама, нет! Я не хочу никуда уезжать! – крикнула Стейна.
– Только ради вашей безопасности.
Йоун откашлялся.
– С тобой, Маргрьет, девочкам ничего не грозит. – Он вздохнул. – Есть еще кое-что. В тот вечер, когда эту женщину привезут сюда, я по приказу Блёндаля должен быть в Хваммуре.
У Маргрьет отвисла челюсть.
– Ты хочешь сказать, что ее должна буду принимать я?
– Пабби, ты не можешь бросить маму одну с этой женщиной! – воскликнула Лауга.
– Почему же одну? Здесь будете все вы. Будут офицеры из Стоура-Борга и преподобный. Блёндаль уже все устроил.
– И что же такое важное будет в Хваммуре, если ты понадобился там Блёндалю в тот самый вечер, когда он пришлет в наш дом преступницу?
– Маргрьет…
– Нет, я хочу знать! Это просто несправедливо.
– Мы должны будем обсудить, кто станет палачом.
– Палачом!
– Соберутся все старосты округа, в том числе и из Ватнснеса – те, что будут сопровождать людей из Стоура-Борга. Мы все переночуем в Хваммуре и на следующий день отправимся по домам.
– А я между тем останусь с глазу на глаз с женщиной, которая убила Натана Кетильссона.
Йоун хладнокровно взглянул на жену:
– С тобой будут наши дочери.
Маргрьет хотела еще что-то сказать, но передумала. Бросив на мужа уничтожающий взгляд, она схватилась за вязанье и ожесточенно заклацала спицами.
Стейна, из-под полуопущенных век наблюдавшая за отцом и матерью, взяла свою порцию похлебки и почувствовала, как подступает дурнота. Сжимая двумя руками деревянную миску, она разглядывала кусочки баранины, которые плавали в жирном бульоне. Медленно взяв ложку, Стейна выловила один кусочек, отправила в рот и принялась жевать. И тут же нащупала в нем внушительный хрящ, но, поборов искушение выплюнуть его, тщательно разжевала и проглотила, не сказав ни слова.
После того как было принято решение перевезти меня в Корнсау, люди из Стоура-Борга по вечерам связывают мне веревкой ноги, как спутывают коней, – желая увериться, что я точно не сбегу. Сдается, с каждым новым днем они все больше видят во мне животное, неразумную скотину, которую следует покормить, чем Бог послал, и укрыть от непогоды. Они держат меня одну в темноте, лишают света и свежего воздуха, а когда нужно куда-то отвести, связывают меня и волокут, куда им угодно.
Здесь, в Стоура-Борге, со мной совсем не разговаривают. Зимой в бадстове я всегда отчетливо слышала шорох собственного дыхания и в конце концов стала бояться даже сглотнуть, чтобы этим громким звуком не привлечь всеобщего внимания. Единственное, что было слышно тогда в бадстове, – шуршание страниц Библии и перешептывания. Я угадывала по губам, что люди то и дело произносят мое имя, причем отнюдь не доброжелательно. Теперь, когда закон велит им зачитать мне вслух какое-нибудь письмо или объявление, они говорят так, словно обращаются к кому-то, стоящему у меня за спиной. И упорно не желают смотреть мне в глаза.
Ты, Агнес Магнусдоттир, признана виновной в соучастии в убийстве. Ты, Агнес Магнусдоттир, признана виновной в поджоге и преступном сговоре совершить убийство. Ты, Агнес Магнусдоттир, приговорена к смертной казни. Ты, Агнес. Агнес.
Они не знают меня.
Я молчу. Я исполнена решимости отрешиться от мира, закрыть сердце и держаться за то, что у меня пока еще не отняли. Я не могу допустить, чтобы эта частица меня исчезла бесследно. Я сохраню то, что я есть, глубоко внутри, укрою в сомкнутых ладонях все, что видела, слышала и чувствовала. Стихи, которые слагались, покуда я стирала, косила и стряпала до кровавых мозолей. Саги, которые я знаю наизусть. Я тону, и все, что у меня осталось, погружается под воду вместе со мной. Если я заговорю, мои речи будут словно пузырьки воздуха. Люди не сумеют запомнить и сохранить мои слова. Они будут видеть шлюху, сумасшедшую, убийцу, женщину, которая орошает кровью траву и хохочет набитым землей ртом. Они скажут «Агнес» – и увидят паучиху, ведьму, пойманную паутиной собственных роковых козней. Быть может, они увидят ягненка, окруженного хищными воронами, ягненка, который жалобным блеяньем зовет пропавшую мать. Однако меня они не увидят. Меня там не будет.
Преподобный Торвардур Йоунссон вздохнул, выйдя из церкви на сырой и зябкий предвечерний воздух. Всего лишь месяц с небольшим миновал с тех пор, как он принял предложение Блёндаля посещать приговоренную к смерти женщину, и с тех самых пор он ежедневно сомневался в правоте своего решения. Каждое утро он испытывал беспокойство, словно пробуждался от кошмарного сна. Каждый день, когда он направлялся пешком в небольшую церковь Брейдабоулстадура, чтобы там помолиться и посидеть в одиночестве, в груди у него возникал тугой тревожный комок, и все тело охватывала дрожь, точно плоть обессилела от смятения духа. Нынешний день ничем не отличался от прочих. Сидя на жесткой скамье и устремив взгляд на свои сложенные руки, Тоути поймал себя на том, что искренне хочет заболеть, тяжело заболеть, дабы обрести веский повод отказаться от поездки в Корнсау. Нежелание исполнять свой долг и готовность пожертвовать здоровьем, даром Господним, нешуточно испугали его.
«Теперь уже поздно, – говорил он себе, идя через чахлый садик на церковном дворе. – Ты дал слово человеку и Господу, и обратного пути нет».
Прежде, когда еще жива была мать Тоути, садик при церкви изобиловал крохотными цветочками, которые летом окружали могилы прихожан лиловой каймой. Мать говорила, что это усопшие колеблют лепестки цветов, приветствуя переживших зиму прихожан. После ее смерти, однако, отец вырвал с корнем все цветы, и с тех пор могилы прозябали в неприглядной наготе.
Дверь дома на хуторе Брейдабоулстадур была распахнута настежь. Тоути вошел в дом – и от душного жара, которым веяло из кухни, от запаха сальной свечи, горевшей в коридоре, его тотчас замутило.
Отец, склонившись над кипящим котелком, тыкал в него ножом.
– Думаю, мне пора отправляться, – объявил Тоути.
Отец поднял взгляд от варившейся в котелке рыбы и кивнул.
– Мне положено прибыть ранним вечером, чтобы познакомиться с семейством из Корнсау и присутствовать, когда… когда привезут преступницу.
Отец нахмурился.
– Так поезжай, сын.
Тоути заколебался.
– Ты думаешь, я готов?
Преподобный Йоун вздохнул и снял котелок с крюка над огнем.
– Тебе лучше знать собственное сердце.
– Я молился в церкви. Хотелось бы мне знать, что подумала бы обо всем этом мама.
Отец Тоути медленно сморгнул и отвернулся.
– А ты что думаешь, отец?
– Мужчина должен быть верен своему слову.
– Но это правильное решение? Я… я не хотел бы вызвать твое неудовольствие.
– Лучше стремись избегнуть неудовольствия Господа, – пробормотал преподобный Йоун, пытаясь выудить ножом рыбину из котелка.
– Ты помолишься за меня, отец?
Тоути ждал ответа, но так и не дождался. Быть может, отец считает себя более достойным духовным наставником для убийц. Может быть, завидует, что она выбрала именно Тоути. Он смотрел, как отец слизывает с ножа приставший к лезвию кусочек рыбы. «Она выбрала меня», – мысленно повторил он.
– Не буди меня, когда вернешься! – крикнул преподобный Йоун сыну вслед, когда тот повернулся и вышел из комнаты.
Тоути надел и укрепил на лошади седло, затем не без труда взобрался на нее.
– Вот, стало быть, как, – прошептал он едва слышно. Легонько сжал коленями бока лошади, побуждая ее двинуться с места, и оглянулся на дом. Струйка дыма из кухонной трубы таяла в мелкой предвечерней из мороси.
Медленно продвигаясь по окружавшей церковь долине, заросшей высокими травами, младший проповедник пытался обдумать, что и как ему следует говорить. Должен ли он быть мягок и приветлив или же суров и неприступен, как Блёндаль? Покачиваясь в седле, он пробовал то одну, то другую интонацию, различные виды приветствий. Пожалуй, следует подождать, пока он не увидит эту женщину собственными глазами. Неожиданно Тоути охватил трепет. Эта женщина – самая заурядная служанка, к тому же еще и убийца. Она убила двоих мужчин. Зарезала, как скотину. Убийца, беззвучно повторил Тоути. Могðingi. Слово выплеснулось изо рта, словно слишком горячее молоко.
Он ехал по северному полуострову, где на горизонте брезжила тонкая полоска моря, а тучи между тем начали рассеиваться, и тропу омыл багряный свет незакатного июньского солнца. Капли воды алмазами заискрились на земле, очертания холмов стали матово-розовыми, и тени скользили по их гребням, передвигаясь вместе с плывущими над головой облаками. Мошкара толклась в воздухе и, попадая в полосы солнечного света, вспыхивала крохотными алыми искрами, а прохладный воздух долин полнился сладким и влажным ароматом травы, уже почти готовой покорно лечь под взмахами косы. Страх, который так прочно стискивал когтями грудь Тоути, отступил, развеялся без следа, и молодой священник молча любовался раскинувшимся перед ним краем.
«Все мы дети Божьи, – думал он. – Эта женщина – моя сестра во Христе, и, будучи ее духовным братом, я должен возвратить ее в лоно семьи». Тоути улыбнулся и пустил лошадь тёльтом[7].
– Я спасу ее! – прошептал он.
Глава 2
3 мая 1828 года
Ундирфедль, Ватнсдалюр
Обвиняемая Агнес Магнусдоттир родилась на хуторе Флага в приходе Ундирфедль в 1795 году. Конфирмовалась в 1809 году, и в том возрасте ее описывали как обладавшую «недюжинным умом, а также глубокими познаниями и пониманием христианства».
Так гласит запись в церковной книге прихода Ундирфедль.
П. Бьярнасон
МЕНЯ ВЫВЕЛИ ИЗ КЛАДОВОЙ и снова взяли в железа. На сей раз прислали судебного офицера, юнца с прыщавой кожей и кривой усмешкой. Это слуга из Хваммура, мне знакомо его лицо. Когда он открыл рот, я заметила, что у него гнилые зубы. Изо рта у него дурно пахло – ну да чем я лучше? Я знаю, что от меня воняет. Я покрыта грязью и следами телесных выделений: крови, пота, кожного сала. Не могу припомнить, когда я в последний раз мылась. Волосы мои превратились в сальную паклю; я пыталась заплетать косы, но мне не давали лент, и я подозреваю, что в глазах офицера выгляжу сущей уродиной. Быть может, поэтому он усмехался, глядя на меня.
Он забрал меня из той омерзительной кладовой, а когда повел по неосвещенному коридору, к нам присоединились другие люди. Они молчали, но я чувствовала спиной их присутствие, чувствовала их взгляды, которые впивались в шею, словно ледяные безжалостные пальцы. А потом, после нескольких месяцев в душной клетушке, густо пропитанной моим смрадным дыханием и зловоньем ночного горшка, меня вывели из коридоров Стоура-Борга на раскисший слякотный двор. И там шел дождь.
Как я могу описать, что значит снова дышать полной грудью? Я словно родилась заново. Едва держась на ногах в море света, я жадно хватала ртом свежий соленый воздух. День клонился к вечеру, и его влажное дыхание омывало мое лицо. Душа моя возликовала в тот краткий миг, когда меня вывели наружу. Я упала на колени, распластав юбки в грязной луже, и запрокинула лицо к небу, словно в молитве. Видеть свет было таким безмерным счастьем, что я едва не разрыдалась.
Кто-то ухватил меня и рывком поднял на ноги – так выдергивают из земли беззаконно выросший на грядке чертополох. Только тогда я и увидала толпу. Вначале я не поняла, чего ради собрались здесь все эти люди, все эти мужчины и женщины, что теперь стоят не шелохнутся, безмолвно сверля меня неотступными взглядами. Потом я поняла, что смотрят они так вовсе не на меня. Меня эти люди не видели. Я – это двое убитых мужчин, горящий хутор, нож… кровь.
Я не знала, как быть, как держать себя под этими взглядами. И тут увидела Роусу – она стояла поодаль, крепко сжимая ручонку своей маленькой дочери. Приятно было увидеть хотя бы одно знакомое лицо, и я помимо воли улыбнулась. Зря я это сделала. Толпа точно сорвалась с цепи. Лица служанок исказились, и тишину разорвал вдруг пронзительный детский вопль:
– Fjandi! Дьявол!
Вопль ударил в небо, точно струя из гейзера. И погасил мою улыбку.
Этот выкрик словно вывел толпу из оцепенения. Кто-то разразился визгливым смехом, какая-то старуха шикнула на ребенка и увела его прочь. За ними один за другим ушли все остальные, вернулись в дом, к своим повседневным делам, и я, окруженная старостами, осталась стоять под дождем – в заскорузлых от пота чулках, с сердцем, рвущимся на части под кожей, покрытой коростой грязи. Оглянувшись, я увидала, что Роуса бесследно исчезла.
И вот теперь мы едем по северу Исландии, этого обширного острова, омываемого волнами, угрюмо покоящегося на лоне моря. Скачем через горы наперегонки с собственными тенями.
Меня привязали к седлу, точно покойницу, сопровождаемую к месту погребения. В глазах своих спутников я и есть покойница, которую ждет могила. Руки у меня скованы впереди. Зловещая наша кавалькада неумолимо скачет все дальше, кандалы впиваются в мою плоть, и я вижу, как на запястьях проступает кровь. Ожидание боли стало привычкой. Иные из тех, кто охранял меня в Стоура-Борге, мелочно издевались над моей плотью, словно запечатлевая на ней свидетельства своей ненависти: ссадины, синяки, россыпи кровоподтеков, исчерна-желтые желваки, тут и там вздувающие кожу. Полагаю, некоторые из этих людей знали Натана.
Но теперь меня везут на восток, и хоть я связана, словно ягненок, приготовленный на убой, но счастлива, что возвращаюсь в долины, где бесплодный камень уступает место траве, – пускай даже здесь мне предстоит умереть.
Кони скачут, пробираясь меж травяных кочек, а я гадаю, когда же меня убьют. Гадаю, где будут меня содержать, в каком погребе хранить, точно масло или копченое мясо. Словно труп – в ожидании тех дней, когда земля оттает, когда меня можно будет бросить, как камень, в могилу.
Мне таких вещей не говорят. Просто заковали в кандалы и ведут, куда надобно, и я повинуюсь, точно корова: посмеешь брыкаться – пойдешь под нож. Веревка на шею – и конец. Я опускаю голову, покорно следую предназначенным путем и только надеюсь, что в конце его не могила, пока еще – не могила.
Меня донимают мухи. Они ползают по лицу, лезут в глаза, и я всей кожей чувствую щекотное касание их крохотных лапок и крылышек. Кандалы слишком тяжелы, чтобы отогнать мух. Эти железа предназначены для мужских рук, хотя и мои запястья стискивают так, что не шелохнешься.
И все же приятно хоть куда-то, но двигаться, ощущать ногами тепло лошадиного крупа; чувствовать прикосновение хоть чего-то живого и не мерзнуть, Боже, не мерзнуть. Я так долго прозябала в холоде, что леденящее дыхание зимы словно пропитало меня до мозга костей. Вечность, проведенная в темноте и взаперти, ненавидящие взгляды – одного этого достаточно, чтобы превратиться в ледышку. И даже когда в воздухе роятся полчища мух, лучше ехать куда угодно, чем заживо разлагаться в тесной кладовой, точно труп в гробу.
Помимо жужжания насекомых и размеренного перестука конских копыт мне слышен отдаленный гул. Быть может, то голос моря – мерный рокот волн, набегающих на пески Тингейрара. Или же мне это только чудится. Морю свойственно проникать в душу. Как говаривал Натан, стоит только раз подпустить его к себе – и ты от него уже никуда не денешься. Море, говорил он, как женщина. Изведет и не даст покоя.
То была первая моя весна в Идлугастадире. Она даже не наступила, но ворвалась в мир, словно загнанный, трепещущий от страха заяц. Море было пустынно – Натан греб, с силой погружая весла в его зыбкие бока, и лодка плавно скользила по серебрящейся глади.
– Тихо, как в церкви, – заметил он, усмехаясь. Мускулистые руки его напрягались, преодолевая сопротивление воды. Я слышала, как поскрипывает дерево, как мерно и приглушенно шлепают по воде весла. – Смотри, будь паинькой, когда я уеду.
Не думать о Натане.
Сколько мы уже едем – час, два? Время увертливо, словно кусок масла на горячей сковородке. А впрочем – вряд ли больше двух часов. Я знаю эти места. Знаю, что мы сейчас едем на юг, вероятно, в Ватнсдалюр. Странно, как при этой мысли сердце мое мгновенно сжимается в груди. Давно ли была я здесь в последний раз? Пару лет назад? Больше? Все осталось таким, как прежде.
Я почти дома. Почти – потому что вернуться домой мне не суждено.
Мы проезжаем между незнакомых холмов у устья долины, и я слышу карканье воронов. Их черные силуэты словно зловещие знамения в ослепительной синеве неба. Все ночи, проведенные в Стоура-Борге, на сыром убогом ложе, я представляла себе, как брожу по Флаге под открытым небом и кормлю воронов. Жестокие птицы, но мудрые, а если живое существо нельзя любить за доброту и мягкость, отчего бы не любить его за мудрость? В детстве я часто наблюдала, как во́роны собираются на крыше ундирфедльской церкви, и надеялась по их поведению понять, кто вскорости умрет. Сидя на стене, я ждала, когда кто-нибудь из воронов встопорщит перья и я увижу, в какую сторону повернут его клюв. Один раз это случилось. Ворон, усевшийся на деревянном коньке крыши, указал клювом на хутор Бакки – и в ту же неделю маленький мальчик из Бакки утонул в реке; труп его, распухший и посеревший, выловили ниже по течению. Ворон знал, что это случится.
Сигга ничегошеньки не знала о кошмарах и призраках. Как-то вечером, в Идлугастадире, когда мы сидели рядышком и вязали, с моря донесся пронзительный крик ворона, и от этого крика у нас кровь застыла в жилах. Я сказала ей, чтобы ночью нипочем не сзывала и не кормила воронов. Те, что каркают по ночам, сказала я, на самом деле не птицы, а призраки, и едва они завидят тебя, так тут же и убьют. Уверена, я не на шутку напугала ее, иначе она потом не сказала бы того, что сказала.
Знать бы, где сейчас Сигга. Почему ее не оставили со мной в Стоура-Борге? Как-то утром, когда я была в кандалах, ее увели прочь и даже не сказали мне куда, хотя я спрашивала об этом не единожды. «Подальше от тебя, – отвечали мне всякий раз, – и все тут».
– Агнес Магнусдоттир!
У человека, который скачет рядом со мной, на лице читается непреклонность.
– Агнес Магнусдоттир, уведомляю тебя, что до самой своей казни ты будешь содержаться на хуторе Корнсау. – Он что-то читает, поглядывая на перчатки. – Будучи преступницей, приговоренной судом этой страны, ты утратила право на свободу. – Он складывает листок бумаги и прячет его за отворотом перчатки. – И нечего смотреть волком, слышишь? Люди в Корнсау добрые.
Эй, парень! Вот тебе улыбка. Хороша? Видишь, как раздвинулись мои губы? Видишь мои зубы?
Он проезжает вперед, и я вижу, что рубашка у него на спине мокрая от пота. Из всех возможных мест выбрали именно Корнсау – неужели нарочно?
Еще вчера, когда я была заточена в кладовой Стоура-Борга, Корнсау показался бы мне раем небесным. Места, где прошло мое детство, сочная зелень травы, торфяные кочки, по весне пропитанные талой водой… Сейчас, однако, я понимаю, что меня ждет унижение. Люди, которые живут в долине, узнают меня. Вспомнят меня такой, какой я была когда-то: дитя, девочка, молодая женщина, кочующая с хутора на хутор… потом подумают об убийстве – и та девочка, та женщина исчезнет из их памяти. Мне невыносимо больно озираться по сторонам. Я утыкаюсь взглядом в лошадиную гриву, гляжу на вшей, что кишат в жестких волосах, и не знаю, чьи они – кобылы или мои собственные.
Преподобный Тоути стоял, ссутулясь, в низком дверном проеме и щурился от розоватого света полночного солнца. На дальнем краю самого северного угодья Корнсау он различил силуэты приближающихся всадников. Тоути всматривался, пытаясь понять, есть ли среди них женщина. В золотом половодье травы все фигуры казались одинаково маленькими и черными.
Маргрьет переступила порог и остановилась за спиной у младшего проповедника.
– Надеюсь, хоть кого-нибудь оставят за ней присматривать, чтобы, упаси Бог, не перерезала нас во сне.
Тоути обернулся, взглянул на ее жесткое лицо. Маргрьет тоже щурилась, вглядываясь в далеких всадников, и лоб ее прорезали глубокие морщины. Седые волосы она заплела в две тугие косы, уложила венцом вокруг головы и надела свой лучший чепчик. И сменила засаленный фартук, в котором встречала Тоути нынешним вечером.
– Ваши дочери присоединятся к нам?
– Они с ног валятся от усталости. Я отправила обеих в постель. Не понимаю, с какой стати везти сюда эту злодейку посреди ночи!
– Думаю, для того чтобы не побеспокоить ваших соседей, – деликатно отозвался Тоути.
Маргрьет прикусила нижнюю губу, и щеки ее пошли красными пятнами.
– Не по душе мне жить под одним кровом с отродьем дьявола, – проговорила она, понизив голос до шепота. – Преподобный Тоути, мы должны во всеуслышание заявить, что не желаем держать эту женщину в нашем доме. Если уж ее не могут оставить в Стоура-Борге, так пускай перевезут на какой-нибудь остров.
– Всем нам надлежит исполнять свой долг, – пробормотал Тоути, наблюдая за тем, как цепочка всадников свернула на ближнее поле, которое примыкало к дому. Извлек из нагрудного кармана рожок с нюхательным табаком и выудил из него небольшую щепотку табаку. Аккуратно положив ее во впадинку у костяшки большого пальца левой руки, он наклонил голову и втянул ноздрями понюшку.
Маргрьет закашлялась и сплюнула.
– Даже если это означает, что нас среди ночи зарежут как свиней? Вы-то, преподобный Тоути, хотя бы мужчина, пускай совсем еще молодой, но зато слуга Божий. Вас она, я думаю, не решится тронуть… а как же мы с мужем? И наши дочери? Господи, да ведь мы теперь глаз не сможем сомкнуть!
– В вашем доме оставят офицера, – вполголоса заметил Тоути, всматриваясь в одинокого всадника, который легким галопом ехал к ним.
– Пускай только попробуют не оставить – я не поленюсь самолично доставить ее назад в Стоура-Борг!
С этими словами Маргрьет сцепила пальцы на животе и устремила взгляд на нескольких воронов, беззвучно летевших над горным хребтом Ватнсдальсфьядль. Издалека стая походила на облако пепла, невесомо кружащее в высоте.
– Преподобный Тоути, вы следуете старинным обычаям? – вдруг спросила Маргрьет.
Тоути обернулся к ней, помолчал, обдумывая ответ.
– Только если они благородны и не расходятся с устоями христианства.
– Знаете, как обычно называют стаю воронов?
Тоути покачал головой.
– «Сговор», преподобный. Сговор! – Маргрьет подняла брови, словно призывая его оспорить это утверждение.
Тоути смотрел, как во́роны чинно рассаживаются вдоль по карнизу крыши хлева.
– Разве, госпожа Маргрьет? Мне казалось, что их называют «бессердечие».
Прежде чем Маргрьет успела найтись с ответом, всадник, который направлялся к ним, одолел ближнее поле.
– Comið þiþ sæl og blessuð! – приветствовал он хозяйку хутора. – Будь счастлива и благословенна!
– Drottin blessi yður! Благослови тебя Господь! – в один голос отозвались Маргрьет и Тоути. Они дождались, покуда всадник спешится, и только тогда подошли к нему. По обычаю все трое обменялись краткими приветственными поцелуями. Вновь прибывший взмок от пота, и от него резко пахло лошадью.
– Она здесь, – проговорил он, переводя дух. – Сами увидите, как ее измотало путешествие. – Приезжий смолк, стянул с головы шляпу и провел ладонью по влажным от пота волосам. – Думаю, хлопот она вам не доставит.
Маргрьет фыркнула.
Приезжий холодно улыбнулся.
– Нам было велено задержаться здесь на ночь, чтобы об этом позаботиться. Мы встанем лагерем на ближнем поле.
Маргрьет мрачно кивнула.
– Как угодно, только траву не потопчите. Принести вам молока? Ячменя и воды?
– Да, спасибо, – ответил он. – Мы возместим вам хлопоты.
– Вот уж незачем. – Маргрьет поджала губы. – Следите только, чтобы эта дрянь не добралась до моих кухонных ножей.
Приезжий сдавленно хохотнул и двинулся вслед за Маргрьет в дом. Тоути успел ухватить его за руку.
– Заключенная пожелала, чтобы я побеседовал с ней. Где она?
Приезжий указал пальцем на лошадь, которая остановилась дальше всех от дома.
– Вон та баба с кислой рожей. Старшая. Другая служанка, та, что моложе, осталась в Мидхопе. Говорят, ждет ответа на прошение о помиловании.
– Помиловании? Я думал, что все трое уже обречены.
– Многие жители Ватнснеса надеются, что король помилует Сиггу. Слишком она молода и мила собой, чтобы умереть. – Приезжий скорчил гримасу. – Вон та – совсем другое дело. Когда на нее находит – просто бешеная.
– Она тоже ждет помилования?
Приезжий рассмеялся.
– Сомневаюсь я, что дождется. Блёндаль благоволит младшей. Вроде бы она напоминает ему жену. Что до этой… Блёндаль намерен всем показать, что с правосудием шутки плохи.
Тоути не сводил взгляда со всадников, собравшихся на краю ближнего поля. Прибывшие уже спешились и теперь возились с седельными вьюками. И только одна фигура все так же неподвижно маячила в седле.
– Каково ее полное имя? Как мне следует обращаться к…
– Просто Агнес, – перебил приезжий. – Она откликается на «Агнес».
Мы прибыли в Корнсау. Люди из Стоура-Борга спешиваются неподалеку от покосившего усадебного дома. Перед домом стоят двое, мужчина и женщина, и всадник, который объявлял о лишении меня прав, подходит к ним. Женщина возвращается в дом, кашляя и плюясь, точно старая овца, но мужчина остается поговорить с офицером из Стоура-Борга.
Слева от меня слышен смех – двое офицеров мочатся на землю. Я чую в теплом воздухе запах мочи. Как обычно, никто не заметил, что я за весь день не съела ни крошки, не выпила ни глотка воды; губы мои пересохли и растрескались, как хворост. Я ощущаю себя так же, как в голодном детстве, – словно кости мои разрастаются внутри иссохшей от голода плоти и вот-вот вылезут наружу. У меня прекратились крови. Я больше не женщина.
Один из мужчин направляется ко мне, быстрыми широкими шагами преодолевая ближнее поле. Не смотри на него.
– Здравствуй, Агнес. Я… я – преподобный Торвардур Йоунссон. Младший проповедник из Брейдабоул-стадура в Вестурхоупе. – Он говорит, задыхаясь.
Не поднимай глаз. Это он. Это его голос.
Он покашливает, затем подается ко мне, словно для традиционного приветственного поцелуя, но тут же замирает, отступает на шаг, едва не запнувшись о травяную кочку. Наверняка ему ударила в нос вонь мочи, засохшей на моих чулках.
– Ты хотела встретиться со мной? – В голосе его звучит неуверенность.
Я поднимаю глаза.
Он не узнал меня. Даже не знаю, радоваться этому или огорчаться. Волосы у него такие же рыжие, пламенно-рыжие, как полуночное солнце. Словно его шевелюра впитала солнечный свет, как моток шерсти впитывает краску. Вот только лицо у него стало старше. Осунулось.
– Ты хотела встретиться со мной? – повторяет он.
Я смотрю ему прямо в глаза – и он отводит взгляд, нервно смахивает с верхней губы капельку пота, оставив на коже россыпь темных крошек. Нюхательный табак? Ему неуютно и хочется уйти.
Язык распух во рту и не в силах шевелиться, не в силах складывать слова. Да и что я могу сказать ему сейчас, когда все обернулось вот таким образом? Я сдираю струпья на запястьях, натертых кандалами, и в ранах вскипает кровь. Он замечает это.
– Что ж, я должен… я рад был познакомиться с тобой, но… сейчас уже поздно. Ты, наверное… словом, я еще загляну к тебе. Вскорости.
Он неловко кланяется, разворачивается и идет прочь, спотыкаясь в спешке. Он уходит прежде, чем я успеваю сказать, что все понимаю. Размазывая по руке свежую кровь, я смотрю, как он торопливо и неуклюже шагает к своей лошади.
Теперь я одна. Я наблюдаю за во́ронами и слушаю, как кони хрустят ячменем.
Когда люди из Стоура-Борга поели и разбрелись по палаткам спать, Маргрьет собрала грязные деревянные миски и вернулась в дом. Она расправила одеяла, которыми были укрыты спящие дочери, и медленно прошлась по тесной комнатушке, то и дело наклоняясь, чтобы подобрать клочья сухой травы, осыпавшиеся с дерна, которым были заделаны просветы между балками. Пыль, наполнявшая комнату, приводила ее в отчаяние. Раньше стены здесь были обшиты норвежским деревом, но потом Йоун снял деревянную обшивку, чтобы расплатиться за долги с одним хуторянином, живущим на другом конце долины. Теперь с голых дерновых стен летом обильно сыпалась на постель сухая трава и торфяная пыль, а зимой стены плесневели, источая сырость, которая сочилась на шерстяные одеяла и проникала в легкие хозяев и домочадцев. Дом неотвратимо разрушался, превращался в ветхую лачугу, и эта ветхость неизбежно сказывалась на жизни обитателей. В минувшем году двое слуг захворали и умерли от этой сырости.
Маргрьет, вспомнив о собственном кашле, машинально поднесла ладонь ко рту. С того самого дня, как их дом посетил сислуманн, ее больные легкие давали о себе знать с пугающей частотой. Каждое утро она просыпалась с тяжестью в груди. Маргрьет не знала, что тому причиной – страх перед скорым прибытием убийцы или скопившаяся за ночь мокрота, но эти приступы невольно наводили на мысль о смерти. Все рушится, подумала она. За что ни возьмись – все движется к гибели.
Один из офицеров ушел за Агнес, которую так и оставили привязанной к седлу. Маргрьет успела увидеть ее лишь издалека, мельком, когда покинула полумрак дома, чтобы отнести приезжим ужин, – смазанное синее пятно, краешек юбки, свисавший с бока лошади. Теперь ее сердце тяжело и глухо стучало. Скоро, очень скоро убийца окажется перед ней. Маргрьет взглянет в лицо этой женщины, неизбежно ощутит вблизи тепло ее дыхания. Что ей надлежит сделать? Как повести себя в присутствии преступницы?
«Если б только здесь был Йоун, – с тоской подумала Маргрьет. – Он бы растолковал мне, что следует ей сказать. Только мужчина, настоящий мужчина знает, как управиться с женщиной, которая натворила столько бед».
Маргрьет присела, рассеянно перебирая в пальцах стебельки сухой травы. Почти четыре десятка лет на четырех разных хуторах она успешно управлялась со всеми слугами и работниками, которые трудились в хозяйстве ее мужа, – и все же сейчас словно оцепенела, мучаясь неуверенностью и тревогой. Та женщина – как ее? – Агнес? – не служанка, не гостья, не нищенка в поисках милостыни. Она недостойна милосердия… но ведь ее приговорили к смерти. Маргрьет содрогнулась. Ее тень в зыбком свете лампы то и дело пускалась в причудливый пляс.
От входной двери донеслись глухие шаги. Маргрьет стремительно встала, разжала стиснутые кулаки, разроняв собранную траву. Из полутьмы коридора гулко раскатился низкий голос офицера:
– Госпожа Маргрьет из Корнсау! Я привел заключенную. Можно нам войти?
Маргрьет сделала глубокий вдох и выпрямилась.
– Ступайте сюда, – повелительно бросила она.
Офицер вошел в бадстову первым, широко улыбаясь Маргрьет, которая смущенно застыла посреди комнаты, вцепившись обеими руками в фартук. Краем глаза она глянула туда, где мирно спали дочери, и ощутила, как бьется в горле жилка, наполненная кровью.
Секунду царило молчание – офицер моргал, привыкая к неяркому свету лампы. Затем он рывком втащил в комнату свою спутницу.
Маргрьет не ожидала, что убийца окажется настолько жалкой и грязной. Платье на ней было, какие обычно носят служанки, – простое, из грубой шерсти, но до того перепачкано и покрыто заскорузлой грязью, что его изначальный синий цвет едва удавалось различить на засаленных почти до черноты горловине и рукавах. Выцветшие синие чулки промокли насквозь и сползли до лодыжек; один чулок порвался, и в прорехе просвечивала бледная кожа. Башмаки, судя по всему, из тюленьей кожи, явно лопнули по швам, но под слоем грязи было не разобрать, в какой мере они изорваны. Голова узницы была непокрыта, спутанные сальные волосы кое-как заплетены в две черные косы, откинутые за спину, несколько выбившихся прядей прилипли к шее. Маргрьет подумалось, что вид у женщины такой, точно ее волокли из Стоура-Борга пешком. Лица видно не было; она упорно глядела в пол.
– Посмотри на меня.
Агнес медленно подняла голову. Маргрьет невольно содрогнулась при виде засохшей на губах крови, грязных разводов, которые оставила на лице дорожная пыль. На подбородке, захватывая и часть шеи, желтел большой застарелый синяк. Агнес, оторвав взгляд от пола, быстро, исподлобья глянула на Маргрьет, и той стало не по себе от пронзительной синевы этих глаз, так ярко сверкавших на покрытом грязью лице.
Маргрьет повернулась к офицеру:
– Эту женщину избивали.
Офицер вглядывался в лицо Маргрьет, явно ожидая увидеть в нем злорадство, но, обманутый в своих ожиданиях, опустил глаза.
– Где ее вещи?
– Только то, что на ней надето, – ответил он. – Остальное забрали чиновники, чтобы покрыть расходы на пропитание.
Прилив гнева придал Маргрьет сил, и она выразительно ткнула пальцем в кандалы, которые стягивали запястья женщины.
– Так ли нужно держать ее в путах, как овцу, приготовленную на убой? – осведомилась она.
Офицер пожал плечами и выудил ключ. С привычной ловкостью он избавил Агнес от наручников. Ее руки бессильно, как плети, упали вдоль тела.
– Теперь ступайте, – сказала Маргрьет офицеру. – Можете прислать кого-нибудь, когда я соберусь спать, но сейчас я хотела бы побыть с ней наедине.
Глаза офицера округлились.
– Вы уверены? – осторожно спросил он. – Мало ли что может случиться.
– Я уже сказала: ваша помощь понадобится, когда я пойду спать. Можешь подождать за дверью, коли охота, в случае чего я позову.
Офицер поколебался, но все же кивнул и, отсалютовав, вышел. Маргрьет повернулась к Агнес, которая так и стояла, не шелохнувшись, посреди комнаты:
– Ступай за мной.
Маргрьет вовсе не хотелось прикасаться к женщине, но в доме было так темно, что пришлось ухватить Агнес за руку, чтобы отвести в нужную комнату. И ощутить под пальцами костлявое исхудавшее запястье, липкие следы крови. От женщины крепко несло застоявшейся мочой.
– Сюда. – Маргрьет, медленно ступая, прошла в кухню, наклонив голову, чтобы не задеть низкую притолоку.
В кухонном очаге, обложенном камнями, краснели угли, в торфяной, укрепленной соломой крыше зияло небольшое отверстие дымника. Сочившийся сквозь него розоватый сумеречный свет падал на земляной пол, пронизывая клубы расползавшегося повсюду дыма. Маргрьет ввела Агнес в кухню, развернулась и взглянула ей в лицо.
– Снимай одежду. Чтобы спать под моими одеялами, тебе нужно как следует вымыться. Нечего притаскивать в этот дом новых вшей, здесь и старых хватает.
Лицо Агнес не выразило никаких чувств.
– Где вода? – прохрипела она.
Маргрьет на миг замялась, затем повернулась к большому котлу, который стоял на углях. Запустив руку в котел, она выудила замоченную на ночь посуду и с усилием отставила ее на пол.
– Вот тебе вода, – сказала она, – и притом теплая. А теперь поторапливайся, время уже за полночь.
Агнес поглядела на котел – и вдруг рухнула на пол. Маргрьет вначале почудилось, что женщина лишилась чувств, но тут же она поняла, что ошиблась. И смотрела, как Агнес, перегнувшись над краем котла, черпает горстями жирную воду, пьет, захлебываясь от жадности, точно скот у поилки. Вода текла струями по ее шее и подбородку, впитывалась в заскорузлые от грязи складки платья. Недолго думая Маргрьет нагнулась и оттолкнула голову Агнес от котла.
Женщина упала на локти и вскрикнула, захлебываясь непроглоченной водой. От этого звука у Маргрьет сжалось сердце. Глаза Агнес были полуприкрыты, губы так и не сомкнулись. Она напоминала того, кто лишился рассудка от пьянства, от встречи с привидением или от горя, когда в семье один за другим умерли близкие.
Женщина заскулила, провела тыльной стороной ладони по рту, затем по платью. И, с усилием оторвавшись от пола, попыталась встать.
– Я хочу пить.
Маргрьет кивнула, чувствуя, как неистово колотится в груди сердце. И с трудом сглотнула.
– В другой раз, – сказала она, – ты хоть кружку попроси.
Когда преподобный Тоути вернулся в усадьбу своего отца у брейдабоулстадурской церкви, он весь взмок от пота. Из Корнсау он скакал что есть духу, молотя пятками по бокам лошади, и ветер хлестал его по лицу, да так, что щеки горели от прилившей крови.
Перейдя на шаг, Тоути направил взмыленную лошадку к столбику недалеко от входа в усадьбу. Спешился, опустив на землю дрогнувшие в коленях ноги. Усилившийся ветер прохватывал плотную одежду насквозь, и Тоути, мокрого как мышь, пробрал ледяной озноб. Он изо всей силы стиснул зубы. Когда он наматывал поводья на столбик, руки у него мелко тряслись.
Ветром принесло с моря тяжелые тучи, и сейчас неотвратимо смеркалось, хотя с летнего солнцестояния времени прошло всего ничего. Тоути поднял отсыревший воротник, надвинул шляпу поглубже. И, похлопав лошадь по крупу, двинулся по пологому подъему к церкви. Тоути ощущал себя мокрой ветошью, которую выжали досуха и бросили бесформенным комком валяться на земле. Эти северные дни, насквозь пропитанные неотвязным светом, эти вечные светлые сумерки изрядно донимали его. Он не в состоянии был определить время суток – не то что на юге, где проходила его учеба.
Начался дождь, и порывы ветра усилились. Ветер хлестал по высокой траве, то прижимая стебли к земле, то позволяя вновь выпрямиться. В темнеющих сумерках трава казалась серебристой.
Тоути широко шагал вверх по холму, разминая затекшее от езды тело, и размышлял о своей встрече с женщиной. Той женщиной. Убийцей. Агнес.
Первым делом он заметил, как широко она, привязанная к седлу, растопырила ноги, чтобы не скользить по крупу коня. Затем почуял, как от нее пахнет – едкая острая вонь немытого тела, заношенной одежды и обильного пота, засохшей крови… и еще какой-то запах, рожденный между этих широко расставленных ног. Присущий только женщинам. При мысли о нем Тоути залился краской.
Однако же отвращение вызвала в нем вовсе не эта вонь. Просто женщина походила на вырытый из могилы труп. Всклоченные черные волосы, похожие на сальные веревки, и бурые точки забитых грязью пор на коже. Как у прокаженного.
При виде ее Тоути испытал жгучее желание развернуться и броситься наутек. Отпраздновать труса.
Согнувшись под натиском дождя и ветра, Тоути мысленно порицал себя. Что же ты за мужчина, если готов обратиться в бегство при виде изуродованной плоти? Каким же ты станешь священником, если не в силах вынести вида страданий?
Более всего смутил его душу явственный синяк на подбородке женщины. Насыщенно-желтый, словно засохший яичный желток. Тоути гадал, что могло оставить на ее лице этот след. Грубая мужская рука, ухватившая женщину за горло? Веревка, которой ее привязали к кандалам? Простое падение?
Мало ли обо что человек может стукнуться! Тоути дошел до церкви и принялся отпирать ворота.
Может, то была простая случайность. Может, женщина ушиблась сама.
Преподобный торопливо прошагал по мощеной дорожке к церкви, стараясь не смотреть на утонувшие в сумраке могилы, на деревянные кресты. Достав из кармана грубо скованный ключ, вошел в церковь. И вздохнул с облегчением, заперев за собой дощатую дверь и отгородившись от глухих завываний ветра. Здесь, внутри, царила безупречная тишина. Ее нарушал только тихий постук дождя в единственное окно церкви – отверстие, затянутое рыбьей кожей.
Тоути стянул с головы шляпу и провел рукой по волосам. Поскрипывая половицами, подошел к кафедре. С минуту он стоял неподвижно и разглядывал, щурясь, алтарную картину. Тайная вечеря.
Фреска была уродлива – громадный стол, во главе его приземистый Иисус. Иуда, затаившийся в тени, выглядел комично и смахивал на тролля. Фреску написал сын одного местного купца, который был женат на датчанке и обладал значительными связями в правительстве. После одной воскресной службы Тоути подслушал разговор купца с преподобным Йоуном: купец сетовал на то, что с предыдущей фрески, дескать, осыпается краска. И упомянул своего сына, чей художественный дар обеспечил ему стипендию в Копенгагене. Если преподобный Йоун дозволит ему, купцу, выразить свою исключительную преданность приходу, он с радостью закупит все необходимые материалы и оплатит работу сына, не ввергая в расходы церковь. Само собой, отец Тоути, будучи склонным к бережливости, дал согласие на то, чтобы поверх старой фрески написали новую.
Тоути сожалел о гибели прежней картины. То была великолепная иллюстрация к сюжету из Ветхого Завета – Иаков, борющийся с ангелом. Мужчина уткнулся лицом в плечо противника, и в кулаке его был зажат пучок ангельских перьев.
Тоути вздохнул и медленно опустился на колени. Положив шляпу на пол, он прижал сомкнутые ладони к груди и начал молиться вслух:
– Отец Небесный, прости мне мои грехи. Прости мне мою слабость и страх. Помоги мне побороть трусость. Укрепи мои силы выдержать вид страдания, дабы мог я исполнить волю Твою и принести облегчение страждущим.
Господи, я молю за душу этой женщины, которая совершила ужасный грех. Пошли мне слова, дабы я мог склонить ее к раскаянию.
Я признаюсь в страхе своем. Я не знаю, что ей сказать. Я не чувствую уверенности, о Господи. Молю – охрани мое сердце от… ужаса, который пробуждает во мне эта женщина.
Тоути долго не поднимался с колен. Только мысль о лошадке, которая так и осталась, оседланная, стоять под дождем и ветром, в конце концов побудила его встать и выйти, заперев за собой церковную дверь.
На следующий день Маргрьет проснулась рано. Офицер, улегшийся спать в кровати напротив, чтобы охранять ее от убийцы, громко храпел. Клокочущий звук ворвался в сон Маргрьет и разбудил ее.
Она повернулась лицом к стене, заткнула уши уголками одеяла, но надсадный храп все равно проникал в голову. Сон ушел бесследно. Маргрьет легла на спину и в темноте комнаты вглядывалась в спящего напротив офицера. Его жесткие светлые волосы торчали сальными клоками, над подушкой виднелся приоткрытый рот. Маргрьет заметила, что его подбородок усыпан прыщами.
«Так-то они защищают меня от убийцы, – мрачно подумала она. – Посылают на это дело прыщавого мальчишку, который дрыхнет без задних ног».
Маргрьет бросила взгляд в дальний конец комнаты, где стояли кровати для слуг – одну из них отвели той самой убийце. Женщина лежала смирно и, судя по всему, спала. Крепко спали и дочери Маргрьет. Она приподнялась на локтях, чтобы присмотреться как следует.
Агнес.
Маргрьет мысленно повторила это слово.
Неправильно это, подумалось ей, называть эту женщину христианским именем. Интересно, как звали ее в Стоура-Борге? Заключенная? Осужденная? Приговоренная? Или же вовсе никак не называли, обращались к ней, оставляя на месте имени зияющую пустоту?
Маргрьет содрогнулась, натянула одеяло повыше. Глаза Агнес были закрыты, губы плотно сомкнуты. Чепчик, который дала ей Маргрьет, за ночь развязался, и черные волосы женщины выбились на волю. Сейчас они распластались на подушке, словно чернильное пятно.
Было так странно наконец увидеть эту женщину вживе после целого месяца ожидания. Ожидания и страха. Тугого, как натянутая леска, подцепившая в глубине нечто, которое неизбежно придется вытащить на поверхность.
Какой должна быть женщина, способная убивать?
До сих пор Маргрьет знала только одну разновидность женщин-убийц – то были героини саг, но даже они несли смерть с помощью слов – отдавали слугам приказания расправиться с любовником или отомстить за гибель родичей. Эти женщины убивали на расстоянии, и руки их при этом оставались чисты.
Однако же, думалось Маргрьет, времена саг давно миновали. Эта женщина – вовсе не героиня саги, но безземельная работница, взращенная на похлебке из мха и нищеты.
Снова улегшись на кровать, Маргрьет припомнила Хьёрдис, свою любимую служанку. Теперь она мертва, похоронена на церковном дворе в Ундирфедлье. Маргрьет попыталась представить Хьёрдис убийцей. Попыталась вообразить, как Хьёрдис вонзает нож в нее, спящую – именно так были убиты Натан Кетильссон и Пьетур Йоунссон. Тонкие пальцы, крепко обхватившие рукоять ножа, бесшумно крадущиеся шаги в ночи.
Нет, это немыслимо.
Лауга допытывалась мнения Маргрьет – не окажется ли у этой женщины какой-нибудь приметы, которая безошибочно указывает на склонность к смертоубийству? Отметина дьявола: заячья губа, торчащий зуб, родинка диковинной формы – словом, некий мелкий порок. Должно же быть в ее внешности нечто, предостерегающее добрых людей держаться от нее подальше. Маргрьет категорически отвергла это измышление, объявив его чистой воды суеверием, но Лаугу ее слова не особенно убедили.
Сама Маргрьет гадала, окажется ли эта женщина красива. Ей, как и всем жителям северных земель, было хорошо известно, что Натан Кетильссон славился своим умением находить в подруги настоящих красавиц. Люди втайне считали его колдуном.
Ингибьёрг, соседка Маргрьет, считала, что именно Агнес послужила причиной разрыва между Натаном и Роусой-Поэтессой. Обе женщины задавались вопросом – означает ли это, что служанка красивее Роусы? Красивую женщину, подумала Маргрьет, не так уж трудно представить убийцей. Как говорится в сагах, opt er fagð i fögru skinni – «нередко за красивой личиной кроется нечисть»[8].
Однако эта женщина оказалась ни уродлива, ни красива. Ее облик скорее поражал – но не в том смысле, что заставлял пылких юнцов пожирать ее голодным взглядом. Она была необыкновенно хрупкого сложения, как сказали бы южане, сущая аульва[9], – и притом вполне заурядного роста. Минувшей ночью в кухне Маргрьет решила, что лицо у этой Агнес вытянутое, отметила высокие скулы и прямой нос. Кожа – если не считать синяков и кровоподтеков – была довольно светлая и казалась еще белее на фоне темных волос. Необычных. В здешних краях, подумалось Маргрьет, женщина с такими волосами – настоящая редкость. Такие длинные, такого темного смоляного оттенка, что кажутся почти черными.
Маргрьет подтянула одеяло к подбородку, вслушиваясь в неумолчный храп офицера. Точно лавина рокочет, с неудовольствием подумала она. Усталость навалилась на нее, грудь распирало от скопившейся за ночь мокроты.
Под сомкнутыми веками Маргрьет замелькали образы. Вот Агнес с животной жадностью пьет воду из котла. Вот безуспешно теребит тесемки платья – пальцы распухли и не желают ее слушаться. Маргрьет вынуждена была прийти на помощь, кончиками пальцев соскребла с платья присохшую грязь – иначе тесемки было бы не развязать. В тесной, пропахшей дымом кухне смрад от одежды и тела Агнес оказался так силен, что Маргрьет едва не вывернуло. Она задержала дыхание, стягивая с Агнес вонючую ткань, и отвернулась прочь, когда платье сползло с худых плеч и упало на пол, роняя хлопья сухой пыли.
Маргрьет припомнились лопатки Агнес. Острые, как ножи, они распирали грубое полотно нижней сорочки – с пожелтевшим вырезом и грязными бурыми пятнами в подмышках.
Надо будет перед завтраком сжечь всю ее старую одежду. Прошлой ночью Маргрьет свалила ее в углу кухни, не желая тащить это тряпье в бадстову – оно так и кишело блохами.
Каким-то чудом ей удалось почти отмыть Агнес. Вначале та пыталась мыться сама, вяло водила мокрой тряпкой по рукам и груди, но грязь так заскорузла от времени, что, казалось, приросла к коже. Наконец Маргрьет, закатав рукава и стиснув зубы, выхватила у нее тряпку и принялась скрести до тех пор, пока ткань насквозь не пропиталась грязью. Обмывая Агнес, она поймала себя на том, что помимо воли ищет пороки, в существовании которых была так уверена Лауга: приметы убийцы. Такой приметой можно было счесть разве что глаза женщины. Маргрьет подумалось, что они слишком уж необычные. Ярко-голубые, чистые, но чересчур светлые, чтобы их можно было признать красивыми.
Тело женщины носило следы бесчисленных издевательств. Даже Маргрьет, привыкшей к ранам и увечьям, неизбежным следствиям тяжелого труда и несчастных случаев, – даже ей сделалось не по себе.
Быть может, она переусердствовала, отскребая грязь с кожи Агнесс, – размышляла Маргрьет, засунув голову под подушку в безуспешной попытке укрыться от раскатистого храпа. Ссадины кое-где открылись и начали кровоточить. Вид свежей крови доставил Маргрьет некое тайное удовлетворение.
Она заставила Агнес вымыть заодно и голову. Вода в котле стала уже слишком грязной, а потому Маргрьет послала одного из офицеров с ведрами к горному ручью. Пока они ждали его возвращения, Маргрьет обработала раны Агнес мазью из серы с топленым свиным жиром.
– Ее изготовил собственноручно Натан Кетильссон, – заметила она и быстро глянула на Агнес, желая увидеть ее реакцию. Та ничего не сказала, но Маргрьет почудилось, что жилы на шее женщины напряглись. – Упокой Господи его душу, – пробормотала Маргрьет.
Отмыв волосы Агнес, насколько позволяла ледяная вода, и покрыв кровоточащие ссадины слоем топленого жира, Маргрьет выдала ей нижнее белье и постельные принадлежности Хьёрдис. Сорочка, в которой сейчас спала Агнес, была на Хьёрдис, когда та скончалась. Если на сорочке и остались следы заразы, то это, подозревала Маргрьет, не так уж важно. Все равно ее новая владелица долго не проживет.
До чего же странно думать о том, что женщина, которая спит на кровати шагах в десяти от нее, очень скоро сойдет в могилу.
Маргрьет вздохнула и опять села на кровати. Агнес не шелохнулась. Офицер все так же храпел. Маргрьет заметила, как он во сне запустил руку в пах и шумно почесался. Она отвела глаза, усмехаясь и злясь, что вот этот человек – ее единственная защита и опора.
Можно бы уже встать и приготовить офицерам из Стоура-Борга завтрак, подумала она. Скир, быть может… или сушеную рыбу. Маргрьет прикинула, хватит ли ей масла и когда слуги с покупками вернутся из Рейкьявика.
Снимая чепчик, она напоследок глянула на спящую женщину.
Сердце Маргрьет едва не выпрыгнуло из груди. Агнес лежала на боку и из темного угла бадстовы невозмутимо наблюдала за ней.
Глава 3
О преступлении известно следующее: Фридрик Сигюрдссон при пособничестве Агнес Магнусдоттир и Сигридур Гвюндмюндсдоттир проник около полуночи в дом Натана Кетильссона и нанес Натану, а также Пьетуру Йоунссону, его гостю, смертельные удары ножом и молотком. Затем, желая избавиться от окровавленных трупов, они подожгли хутор, дабы скрыть в огне следы своего преступления. Фридрик совершил сие злое дело из ненависти к Натану, а также из желания его ограбить. В конце концов убийство стало достоянием гласности. У сислуманна возникли подозрения, и, когда были обнаружены два обгорелых трупа, он уверился, что эти трое действовали в преступном сговоре.
Из книги слушаний Верховного суда за 1829 год
В КЛАДОВОЙ СТОУРА-БОРГА Я НЕ ВИДЕЛА СНОВ. Когда я сворачивалась клубком на струганых досках и укрывалась, силясь согреться, заплесневелой лошадиной шкурой, сон подступал ко мне, точно волна на мелководье. Он плескался вокруг меня, но ни разу не накрывал с головой. Погружая в забытье. Всякий раз что-нибудь будило меня: звук шагов или плеск ночного горшка, который пришла опорожнить служанка, муторный смрад мочи. Порой, если я лежала неподвижно, зажмурив глаза и старательно отгоняя любые мысли, сон ручейками возвращался в мое бытие. Разум мой то погружался в беспамятство, то вновь пробуждался, и так длилось до тех пор, пока в кладовую не проникал на долю секунды клочок света и грубая рука служанки не совала мне кусок сушеной рыбы. Порой мне думается, что с той самой ночи, когда сгорел хутор, я ни разу не спала по-настоящему и что эта бессонница, быть может, и есть возмездие, посланное Богом. Или даже Блёндалем: сны отобрали у меня со всем прочим имуществом, чтобы возместить расходы на мое содержание под стражей.
И однако же прошлой ночью, здесь, в Корнсау, мне приснился Натан. Он варил травяное питье, а я наблюдала за ним, водя руками по дерновой стене кузницы. Стояло лето, и свет, сеявшийся с неба, отливал розовым. Травы, отобранные для отвара, источали сильный аромат, и он окружал меня облаком. Я вдыхала горьковато-сладкий запах, чувствуя, как поднимается волна счастья и постепенно захлестывает меня. Наконец-то я покинула долину! Натан обернулся ко мне и улыбнулся. В руках он держал стеклянный мерный стакан с накипью, которую собирал с поверхности варева; над стаканом курился пар. В черных шерстяных чулках, с поднимавшейся из ладони струйкой пара Натан походил на колдуна. Он переступил через пятно солнечного света на полу, и я открыла ему объятья, смеясь, изнемогая от любви… но тут стакан выскользнул из его руки и разбился об пол, и в комнату маслянисто-черной струей хлынула тьма.
Кажется, после этого сна я уже не спала.
Натан мертв.
Каждое утро боль утраты обрушивается на меня сызнова.
Единственное спасение – загнать свои мысли назад в пучину сна, в тот золотой миг счастья, который обволакивал меня до того, как разбился мерный стакан. Или вообразить себе Бреккукот, когда со мной еще была мама. Если сосредоточиться, можно увидеть, как она спит в кровати напротив моей, и Йоуас, малыш Йоуас почесывает блошиные укусы. Я стану давить его блох ногтем большого пальца.
Однако воспоминания, которые я насильственно призываю, мертвы. Я-то знаю, что будет после Бреккукота. Знаю, что случится с мамой и Йоуасом.
Открыв глаза, я вижу, что Маргрьет не спит. Она ворочается в постели, отрешенно поддергивая одеяло. Чепчик ее сбился, и я вижу, что ее седые волосы аккуратно расчесаны и заплетены в две тугие косы – даже сейчас, на время отдыха. Я почти различаю контуры ее черепа.
Лицо Маргрьет видно смутным пятном, наполовину укрытое одеялом, в которое она замоталась. Она повернулась на бок, разглядывая офицера, который спит в кровати напротив.
Офицер храпит, и хозяйка хутора неодобрительно цокает языком. Я слышу тебя, старуха. Тебе уже надоело? Побудь хотя бы год рядом с ними, под их косыми взглядами, во власти их безжалостных рук.
Сушеные водоросли, которыми набита подушка, шуршат – Маргрьет поворачивает голову. И видит меня. Она судорожно втягивает воздух и порывисто прижимает руку к груди.
Мне следует быть осторожней. Нельзя, чтобы тебя застигли глядящей на кого-то в упор. Еще решат, что ты от них чего-то хочешь.
– Ты проснулась. Отлично. – Хозяйка хутора ладонью отводит волосы со лба. Секунду она неуверенно смотрит на меня, быть может, пытаясь понять, давно ли я за ней наблюдаю. – Вставай, – приказывает она.
Я повинуюсь. Доски холодят мои босые ноги.
Маргрьет вручает мне одежду из синей шерсти, какую носят служанки, и мы молча одеваемся. Она то и дело поглядывает на храпящего офицера. Я натягиваю на голову чепчик из грубого полотна и озираюсь по сторонам. В других кроватях спят какие-то люди. Слуги, должно быть. Выяснять, кто это такие, некогда – Маргрьет выводит меня в темный коридор, задерживаясь лишь затем, чтобы выдернуть клок сухой травы, сухими прядями свисающей с балки.
– Все разваливается, – бормочет она.
Она идет так быстро, что я не успеваю заглянуть в другие комнаты. Дом невелик, но я помню с прежних времен вот этот чулан с бочонками, а вон та клетушка, где стоят ведра, корыта и доильник, должно быть, маслодельня, хотя, вполне вероятно, нынешние хозяева превратили ее в кладовую. Мы проходим мимо кухни. В углу валяется грудой одежда, в которой меня привезли из Стоура-Борга.
Снаружи уже стоит погожий день. Трава влажно блестит после ночного дождя, и в свете утреннего солнца ее стебельки отливают особенно яркой зеленью. Дует свежий ветер, и по лужам во дворе пробегает рябь. Теперь я замечаю и такие мелочи.
– Как видишь… – начинает Маргрьет и запинается, споткнувшись о деревяшку, откатившуюся от сваленной возле дома груды выловленного из моря плавника. – Как видишь, работы здесь много, так что бездельничать будет некогда.
Это первые слова, с которыми она обратилась ко мне с тех пор, как принесла одежду. Ничего не ответив, я опускаю глаза. И замечаю, что подол ее юбки покрыт пятнами въевшейся грязи, поскольку уже не первый год заметает при ходьбе землю.
Маргрьет выпрямляется, упирает руки в бедра, словно стремясь таким образом прибавить себе роста. Ногти у нее обгрызены до мяса.
– Не стану скрывать – твой приезд меня во все не радует. Я не хочу, чтобы ты жила в моем доме. Не хочу, чтобы ты жила под одним кровом с моими детьми.
Так вот кто там спал в кроватях – ее дети.
– Меня принудили поселить тебя в своем доме, а ты… – она на мгновенье запинается, – ты принуждена жить там, где тебя поселили.
Утренний ветер бьет нам в спины, хлопает подолами наших платьев по ногам. Когда я была маленькой, Инга, моя приемная мать, научила меня растягивать ткань юбки под порывами ветра и притворяться, будто это крылья. Ощущение было такое, словно летишь. Когда-нибудь, говорила Инга, ветер подхватит меня и унесет прочь, и все жители долины, подняв глаза, увидят мою нижнюю сорочку. Я обыкновенно хохотала над этими словами.
– Йоун, мой муж, сейчас в Хваммуре, но этим утром вернется. Со дня на день вернутся и наши работники, начнут заготавливать сено. Так что прохлаждаться тебе здесь не дадут. Не знаю, чем ты занималась в Стоура-Борге, но скажу вот что: здесь тебе не дадут сесть нам на шею.
Она ничего не знает.
– Стало быть, так. – Маргрьет решительно упирает руки в бока. – Ты, насколько я понимаю, состояла в служанках до того, как… – Она умолкает не договорив.
До того как Натану Кетильссону и Пьетуру Йоунссону размозжили головы молотком?
– Да, хозяйка.
При звуке собственного голоса меня охватывает тревога. Кажется, целая вечность прошла с тех пор, как я произнесла хоть слово по своей воле.
– Ты была служанкой? – Маргрьет не расслышала меня за шумом ветра.
– Да, служанкой. С пятнадцати лет. А до того батрачила где придется.
Мой ответ ее явно порадовал.
– Ты умеешь прясть, вязать, готовить, обихаживать скот?
Все это я могла бы проделывать даже во сне.
– С лезвием обращаться можешь?
У меня перехватывает дыхание.
– Э… что, хозяйка?
– Сена накосить сумеешь? С косой справишься? Бог весть скольким нынешним служанкам никогда в жизни не доводилось косить траву, понимаю, в наши дни как-то и не принято, чтобы женщины этим занимались, но у нас тут так мало работников…
– Я управлюсь с косой.
– Отлично. Что ж, мое мнение таково: ты будешь отрабатывать свое содержание. Платить, так сказать, за причиненные неудобства. Мне здесь нужна служанка, а не убийца.
Убийца. Слово тяжело повисает в воздухе. Никакие порывы ветра не способны его развеять.
Мне хочется замотать головой. Хочется сказать, что это слово не имеет ко мне отношения, не подходит мне, не вяжется с тем, что я есть на самом деле. Это просто слово, сказанное человеком, – не более.
Но что толку протестовать против слов?
Маргрьет откашливается.
– Я не потерплю безобразий. Не спущу лени. Посмеешь дерзить, своевольничать, бездельничать, своровать что-то, замыслить пакость – мигом выгоню со двора. Выволоку за косы, если придется. Ты меня поняла?
Она не ждет ответа. Знает, что мне деваться некуда.
– Пойдем, покажу тебе скот, – продолжает она, сделав глубокий вдох. – Я подою овец и корову, а ты…
Взгляд Маргрьет, устремленный на меня, перемещается к соседнему хутору. Что-то там привлекло ее внимание.
Снайбьёрн, хуторянин из Гилсстаудира, неспешно шагал пологим подъемом долины. Рядом шел один из его семи сыновей – Паудль, которому этим летом доверили пасти овец Корнсау. По пятам за ними едва поспевали Роуслин, жена Снайбьёрна, и две ее младшие дочери.
– Помоги мне Господь, – пробормотала Маргрьет. – Только этой оравы здесь не хватало.
Внезапно она встрепенулась и схватила Агнес за руку.
– Ступай в дом! – шепотом приказала она и, протащив Агнес по подворью, решительно толкнула ее к входной двери. – В дом, быстро!
Агнес на мгновение задержалась на пороге, окинула взглядом Маргрьет – и наконец скрылась в полутьме дома.
– Sæl og blessuð! – издалека выкрикнул приветствие Снайбьёрн. Он был высок и тучен, с ярко-красными щеками и тусклыми светлыми волосами, которые падали на глаза. – Погода нынче хороша!
– И в самом деле, – сухо отозвалась Маргрьет и, подождав, пока он подойдет ближе, добавила: – Вижу, вы с Паудлем привели мне гостей.
Снайбьёрн неловко ухмыльнулся.
– Роуслин сама напросилась. Она, видишь ли, услыхала о вашей… кхм… незадаче. Сказала – мол, хочет удостовериться, что у вас все в порядке.
– Как это мило с ее стороны, – процедила Маргрьет сквозь зубы.
Роуслин уже подошла на расстояние слышимости.
– Славная погодка! – прокричала она, по-детски помахав рукой. – Дай бог, чтоб такая продержалась до сенокоса. Доброе утро, Маргрьет!
Жена Снайбьёрна носила одиннадцатого ребенка; ее округлившийся живот так и выпирал, задирая платье и открывая отекшие, промокшие от росы лодыжки. Широкое лицо Роуслин раскраснелось от ходьбы, она отдувалась, и груди ее тяжело колыхались над округлым холмом живота.
– Мне вот подумалось – пойду-ка со Снайбьёрном и Паудлем да навещу тебя.
Пятилетняя дочь Роуслин, споткнувшись о травяную кочку, протянула Маргрьет накрытую тарелку.
– Ржаной хлеб, – пояснила Роуслин. – Захотелось тебя угостить.
– Спасибо.
– Ох ты, Господи, совсем запыхалась. Старовата я уже для таких дел, а детишки все равно идут один за другим. – Роуслин бодро похлопала себя по животу.
– Да уж, – кисло согласилась Маргрьет.
Снайбьёрн кашлянул, посмотрел на женщин.
– Ладно, нам, мужчинам, надо бы заняться делом. Маргрьет, Йоун дома?
– В Хваммуре.
– Ясно. Что ж, тогда отправлю Паудля к овцам, а сам гляну на ту косу, если только ты не против, чтобы я ковырялся в вашей кузне. – Снайбьёрн повернулся к жене и дочерям: – А ты, Роуслин, не больно-то долго отвлекай Маргрьет от домашних забот.
С этими словами он одарил женщин мимолетной улыбкой, развернулся на пятках и большими уверенными шагами двинулся прочь, легонько подталкивая перед собой сына.
Едва он отошел за пределы слышимости, Роуслин рассмеялась:
– Ох уж эти мужчины! Минуты не могут спокойно постоять на месте. Ступай, Сибба, поиграй с сестрой. Далеко не отходите. Держитесь поблизости от нас, ясно?
Приговаривая так, она подталкивала девочек, а сама так и шарила глазами по двору, словно кого-то высматривала. Маргрьет оперла тарелку с хлебом о бедро. Сладковатый аромат ржаного печева смешался с жарким влажным запахом, источаемым Роуслин, и от этой смеси замутило. Маргрьет зашлась кашлем, содрогаясь всем телом, так что Роуслин пришлось выхватить у нее тарелку, иначе хлеб вывалился бы на землю.
– Ну-ну, Маргрьет, держись. Дыши ровнее. Все хвораешь?
Маргрьет дождалась, пока приступ кашля стихнет, и сплюнула в траву вязкий комок слизи.
– Ничего я не хвораю. Просто зимний кашель.
Роуслин хихикнула:
– Да ведь уже лето в самом разгаре.
– Все в полном порядке, – отрезала Маргрьет.
Роуслин оглядела ее с преувеличенным состраданием.
– Конечно, в порядке, раз ты сама так говоришь. Ну да, по правде говоря, именно поэтому я сегодня и заглянула. Я, знаешь ли, за тебя беспокоюсь.
– Да неужели? – пробормотала Маргрьет. – С чего бы это?
– Прежде всего, конечно, из-за твоей грудной хвори, но еще до меня в последнее время доходили кое-какие слухи. Чепуха, конечно, но все-таки… – Роуслин склонила голову набок и улыбнулась, отчего на ее щеках появились ямочки. – Ну да что это я – болтаю без удержу и даже не подумала спросить, а вдруг ты занята. – Она поверх плеча Маргрьет вгляделась в дом, приложила ладонь козырьком ко лбу, прикрывая глаза от солнца. – Надеюсь, я все же не помешала. С тобой тут, кажется, кто-то был. Какая-то черноволосая женщина. Гостья? – С этими словами Роуслин старательно изобразила на лице вежливое безразличие.
Маргрьет раздосадованно вздохнула:
– Острые у тебя глаза.
– Гм. Может, это Ингибьёрг? – осведомилась Роуслин, выразительно подняв бровь. – Тогда я лучше пойду, не буду мешать подружкам.
Маргрьет поборола соблазн закатить глаза.
– Нет, не Ингибьёрг.
– Ну да, конечно, для нее чуток рановато, – подмигнув, заметила Роуслин. – Новая работница? Для сенокоса вам лишняя пара рук была бы очень кстати.
– Ну, не совсем работница…
– Значит, родственница? – не унималась Роуслин, подступив ближе.
Маргрьет тяжело вздохнула и прокашлялась, отчетливо сознавая, что от этих испытующих расспросов ей не отвертеться.
– Женщину, которую ты видела, поселили на нашем хуторе по приказу сислуманна Бьёрна Аудунссона Блёндаля.
– Да неужели? Вот чудеса-то! А с какой стати?
– Ее зовут Агнес Магнусдоттир. Она – одна из слуг, которых осудили за убийство Натана Кетильссона и Пьетура Йоунссона, и будет содержаться у нас под стражей до самой казни.
С этими словами Маргрьет решительно скрестила руки на груди и с вызовом взглянула на Роуслин.
Та охнула и поставила тарелку с хлебом на землю, чтобы без помех выразить охвативший ее ужас.
– Агнес?! Та самая Агнес, сообщница Фридрика? Убийца Натана Кетильссона? – Роуслин прижала ладони к раскрасневшимся щекам и круглыми глазами уставилась на Маргрьет. – Но послушай! Ведь я же именно по этой причине и пришла! Оуск Йоуханнсдоттир говорила, что у нее был разговор с Соффией Йоунсдоттир, а брат Соффии, Йоуханн, служит батраком в Хваммуре… так вот, Соффия сказала, что Блёндаль решил забрать Агнес из Стоура-Борга, потому что нельзя рисковать жизнью таких уважаемых граждан, и…
Роуслин осеклась, осознав свою промашку. Маргрьет, поджав губы, одарила ее уничтожающим взглядом.
– Ой! Маргрьет, правда, я совсем не хотела сказать… – Округлые щеки Роуслин вспыхнули как маков цвет.
– Да, Роуслин. Правда, что Блёндаль поселил на нашем хуторе одну из убийц и что ни меня, ни Йоуна даже не спросили, что мы об этом думаем… но вот почему Блёндаль принял такое решение – только он один и знает.
Роуслин выразительно закивала:
– Да-да, конечно! Оуск и в самом деле ужасная сплетница.
– Вот именно.
Роуслин все кивала, затем шагнула к Маргрьет и положила руку ей на плечо:
– Я тебе так сочувствую!
– С чего бы это?
– Ну как же – ведь у тебя в доме будет жить убийца! Каждый день тебе придется смотреть в ее жуткое лицо! А уж как, верно, будет тебе страшно за себя, за мужа и бедняжек дочерей!
Маргрьет фыркнула.
– Лицо у нее вовсе не жуткое, – заметила она, но Роуслин ее не слушала.
– Знаешь, Маргрьет, мне довольно много известно об этом убийстве, и позволь тебя предостеречь, что я немало ужасов наслушалась о тех трех злодеях, которые лишили жизни добрых людей Натана Кетильссона и Пьетура Йоунссона!
– Вот уж кого трудно назвать добрыми людьми, так это Натана и Пьетура.
– Но они и вправду были добрыми! Не без греха, конечно, но…
– Роуслин, Пьетур перерезал горло трем десяткам овец. Он был обыкновенный вор.
– И все равно они были почтенными гражданами Исландии! А как же родные Натана? Подумай о них! О Гвюндмюндуре, его брате, о жене Гвюндмюндура и их малых детишках! Ты же знаешь, они сейчас перебрались в Идлугастадир, чтобы отстроить дом и мастерскую Натана.
– Роуслин, если то, что я слышала, правда, Натан больше времени проводил в постелях замужних женщин, нежели в своей мастерской!
Роуслин осеклась, опешив.
– Э-э… что с тобой, Маргрьет?
– Дело в том, что… – Маргрьет обернулась на входную дверь, – все не так просто, – наконец пробормотала она.
– Но ты же не считаешь, что они заслуживали смерти?
Маргрьет фыркнула:
– Нет, конечно.
Роуслин окинула ее настороженным взглядом.
– Ты же знаешь, что эта женщина виновна в убийстве?
– Да, я знаю, что она виновна.
– Вот и хорошо. Тогда позволь дать тебе совет: лучше не поворачивайся спиной к этой… как там ее?
– Агнес, – негромко ответила Маргрьет. – И ты, Роуслин, знаешь ее имя.
– Ну да, Агнес Магнусдоттир – вот как ее звать. Будь осторожна. Знаю, ты мало что можешь сделать, но хотя бы попроси у сислуманна охрану, чтобы следили за ней днем и ночью. И пускай ее держат в наручниках! Говорят, из этих троих осужденных Агнес – главная преступница. Тот юноша, Фридрик, делал все, что она ни прикажет, а девушку она заставила следить, чтобы их не застали врасплох, да еще привязала ее к дверному косяку, чтобы бедняжка не сбежала! – Роуслин шагнула вперед, вплотную придвинулась к Маргрьет. – Я слыхала, что именно Агнес нанесла Натану восемнадцать ударов ножом. Восемнадцать подряд!
– Да неужели? – пробормотала Маргрьет. Она уже всей душой желала, чтобы Снайбьёрн наконец вернулся и увел свою благоверную.
– В горло и в живот! – Лицо Роуслин пылало от возбуждения. – И даже – сохрани нас, Господи! – даже в лицо! Говорят, она вонзила нож ему в глазницу! Проткнула, словно яичный желток! – Она с силой стиснула плечо Маргрьет. – Я бы в одной комнате с этой женщиной глаз сомкнуть не смогла! Лучше уж спать в хлеву, чем так рисковать! Ох, Маргрьет, я просто поверить не могу, что слухи оказались чистой правдой! Убийцы среди нас! До чего только докатился этот приход! Хуже, чем то, что рассказывают про Рейкьявик! И подумать только, она стояла на том самом месте, где сейчас играют мои доченьки! Меня от этой мысли в дрожь бросает. Вон, гляди – и руки покрылись гусиной кожей! Бедная моя Маргрьет, как же ты все это выдержишь?!
– Справлюсь, – отрывисто бросила Маргрьет, наклоняясь, чтобы поднять с земли тарелку с ржаным хлебом.
– Правда? А где же Йоун, почему не охраняет свою жену?
– Йоун в Хваммуре, у Блёндаля. Я же говорила.
– Маргрьет! – Роуслин выразительно воздела руки к небесам. – Каков злодей этот Блёндаль, оставил тебя и твоих дочек наедине с этой женщиной! Знаешь что? Я останусь здесь, с тобой.
– Ни в коем случае, Роуслин, – отрезала Маргрьет, – хотя и спасибо, что так беспокоишься обо мне. А теперь – не хотелось бы тебя выпроваживать, но овцы сами себя не подоят.
– Может, тебе помочь? – осведомилась Роуслин. – Дай-ка я возьму этот хлеб и занесу его в дом!
– До свидания, Роуслин.
– Может, если б я увидела ее собственными глазами, я сумела бы оценить опасность, которая угрожает тебе. Да что там – всем нам! Что помешает ей ночью тайком выбраться из дома?
Маргрьет взяла Роуслин за локоть и развернула лицом в ту сторону, откуда та пришла.
– Спасибо, что заглянула, Роуслин, и за хлеб спасибо. Ступай осторожней, смотри под ноги.
– Но…
– До свидания.
Роуслин напоследок оглянулась на дом, затем выдавила улыбку и, неуклюже ступая, двинулась вниз по холму, к Гилсстадиру. Дочки заковыляли следом. Маргрьет стояла, стиснув тарелку с ржаным хлебом, и смотрела им вслед до тех пор, пока все трое не превратились в едва различимые точки. Лишь тогда она присела на корточки и кашляла, покуда рот не наполнился вязкой слизью. Маргрьет сплюнула в траву, медленно выпрямилась и, развернувшись, ушла в дом.
Войдя в бадстову, я вижу, что кровать, на которой спал офицер, пуста. Должно быть, он присоединился к сотоварищам; я слышу, как они болтают за окном на смеси датского и исландского. Вероятно, они не видели, как хозяйка хутора втолкнула меня в дом. Дочерей хозяйки, которые спали на других кроватях, тоже нет. В комнате ни души.
Ни души.
Никто не следит за каждым моим движением, у дверей нет стражи, я не связана, не закована в кандалы, не заперта снаружи. Я свободна – и одна, совсем одна. При мысли об этом меня охватывает оцепенение. Но ведь наверняка же кто-то подсматривает за мной в замочную скважину? Наверняка же кто-то прильнул к незаметной щели в стене и ждет, затаив дыхание, что я стану делать, ждет повода ворваться в комнату и наставить на меня обличающий перст, словно острие ножа на горло?
Никого. Совсем никого.
Я стою посреди комнаты и жду, когда глаза привыкнут к полутьме. Да, я и вправду совсем одна, и ликующая дрожь пробегает по телу, точно рябь по воде, которая вот-вот закипит в котле. Сейчас, сию минуту, я вольна делать все, что ни заблагорассудится: осмотреть дом, прилечь, заговорить вслух, запеть. Я могу пуститься в пляс, выругаться или расхохотаться – и никто об этом не узнает.
Я могу сбежать.
Холодок страха пробегает по спине. Так бывает, когда стоишь на льду и вдруг слышишь, как он начинает трескаться под твоей тяжестью, – пугающее и в то же время возбуждающее чувство. В Стоура-Борге я мечтала о побеге. Мечтала о том, чтобы отыскать ключи от кандалов и убежать, – и даже ни разу не задумывалась, куда побегу. Там подходящего случая так и не представилось. Зато сейчас я могла бы незаметно выскользнуть со двора и убежать в дальний конец долины, подальше от хуторов, там дождаться ночи и под покровом темноты пробраться в горы, где небо укроет меня своей шершавой дланью. Я могла бы убежать в пустоши. Всем показать, что меня невозможно удержать взаперти, что я, как дерзкая воровка, украду время, которого меня вознамерились лишить!
Пылинки кружатся в солнечном свете, который проникает в комнату сквозь затянутое пузырем окно. Я наблюдаю за этим танцем – и волнующая мысль о побеге спадает, уходит в глубину, словно вода в гейзере. Сбежав, я всего лишь сменяю один смертный приговор на другой. Высоко в горах воют, словно вдовы рыбаков, снежные бури, ветер покрывает струпьями обмороженное лицо. Зима обрушивается внезапно, как удар кулака в темноте. Безлюдье, как и палач, не ведает жалости.
Ноги у меня подгибаются, когда я бреду к кровати. Смыкаю веки – и тишина бадстовы накрывает меня с головой, как гигантская ладонь.
Когда неистовый стук сердца становится тише, я бросаю взгляд туда, где спал офицер, вижу скомканное покрывало и обнажившийся вытертый тюфяк. Зря он не заправил кровать – это не к добру. Быть может, если постель еще теплая, он где-то поблизости. Трогая тюфяк, я испытываю неловкость от собственной бесцеремонности, однако обнаруживаю, что постель давно остыла. Офицер далеко. Моя кровать заправлена. Я провожу ладонями по тонкому одеялу – ворс от старости истерся, и оно стало совсем гладким. Скольких людей укрывало оно до меня? Сколько кошмарных снов родилось под этим покровом?
Пол в бадстове выстлан досками, но стены и потолок ничем не прикрыты, и дерн явно нуждается в заплатах; пласты сухой дернины провалились вовнутрь и истончились, образовав в стенах трещины и отдав комнату на откуп сквознякам. Зимой здесь будет холодно.
Впрочем, до зимы я скорее всего не доживу.
Прочь эту мысль! Немедленно!
Клочья сухой травы свисают с потолка, словно немытые космы. На потолочных балках кое-где виднеется резьба, а к притолоке прибит крест.
Интересно, зимой здесь поют церковные гимны? А может быть, рассказывают саги – я всегда предпочитала хороший рассказ молитве. За это меня били плетьми – здесь же, в Корнсау, когда я была совсем юной и меня отдали на воспитание, а верней, батрачкой на ближнем поле. Хуторянину Бьёрну пришлось не по вкусу, что я знаю саги лучше, чем он. Ступай к овцам, Агнес. Книги, которые написаны не Господом, а людьми, – дурная компания и не для таких, как ты.
Я поверила бы ему, если бы не Инга, моя приемная мать, и не уроки, которые она давала мне шепотом, когда он клевал носом по вечерам.
Недалеко от входа, рядом с кроватью хозяйки висит занавеска из серой шерсти, приколоченная гвоздями к тонкой доске. Полагаю, она служит дверью в другую комнату. Занавеска коротковата, и в щели между ее краем и полом отчетливо видны ножки стола. Кое-где они треснули, словно кто-то их основательно погрыз.
В бадстове почти так же голо, как и много лет назад, хотя между наклонными балками и стенными подпорками приколочены дощечки, которые служат полками. На них нашли приют самые обычные вещи: деревянные банки, бараньи рога, курительная трубка, рыбьи кости, варежки и вязальные спицы. Под одной из кроватей стоит небольшой раскрашенный сундучок. Валяется домашняя туфля с прорехой. Знакомый вид обыденных мелочей утешает. Когда-то и у меня было такое же скромное имущество. Белый мешочек с засушенными цветами. Камешек, который перед уходом подарила мне мама. Он принесет тебе счастье, Агнес. Это волшебный камешек. Если положишь его под язык, сможешь разговаривать с птицами.
Я ходила с этим камешком во рту много дней. Если птицы и понимали мои вопросы, они так ни разу и не соизволили на них ответить.
Хутор Корнсау, округ Хунаватн. Когда мне было шесть лет, мама принесла меня на его порог, поцеловала, вручила волшебный камешек и ушла; и вот теперь, когда миновали тридцать три зимы моей жизни, меня вновь привезли сюда – из-за сгоревшего хутора и двоих убитых мужчин. Мне довелось работать на стольких северных хуторах, что и не сочтешь, но бедность сглаживает их черты так, что под конец все они становятся одинаковы, всем недостает самого необходимого. Повидал один такой хутор – считай, что видел все.
Итак, вот он – Корнсау, мой последний мрачный приют. Последний в моей жизни кров, последний пол, последняя кровать. Все здесь – последнее, и от этой мысли становится больно, словно после меня здесь и вправду не останется ничего, только дым от заброшенных очагов. Нужно притворяться, будто я по-прежнему обыкновенная служанка, а Корнсау – просто новое место работы, и мне надлежит перебирать в уме свои обязанности и думать о том, как добиться от хозяйки похвалы своим проворным рукам. Раньше я думала еще и о том, что если буду усердно трудиться, то когда-нибудь, быть может, стану хозяйкой хутора… но только не здесь. В Корнсау такие мысли неуместны.
Корнсау. Название это так неотвязно вновь и вновь повторяется в моей голове, что я поневоле тихонько произношу его вслух и ощущаю его звучание. Я говорю себе, что это всего лишь хутор, один из многих, не более, и негромко себе под нос выпеваю названия всех тех мест, где мне доводилось жить. Это похоже на заклинание – Флага, Бейнакельда, Литла-Гильяу, Бреккукот, Корнсау, Гвюдрунарстадир, Гилсстадир, Габл, Фаннлаугарстадир, Бурфедль, Гейтаскард, Идлугастадир…
Одно из этих названий – ошибка. Кошмарный сон. Ступенька лестницы, которую пропускаешь в темноте.
Воплощение всего, что обернулось бедой. Идлугастадир, хутор у моря, где в теплом воздухе стоит звон кузницы, смешиваясь с криками чаек и шумом бесконечно катящихся волн. Идлугастадир, где ночь охвачена заревом, где поутру тянутся к небесам столбы дыма, где вечный Идлугастадир, превратившийся в руины, укачивает мертвецов в колыбели из обугленных балок.
Офицеры, болтающие за окном, разражаются хохотом. Один из них ведет речь о своем богатом родственнике из Хельгаватна.
– Надо заехать к нему, облегчить его в смысле бренвина!
– А заодно прихватить с собой его жену и дочек! – кричит другой. И снова все хохочут.
Останется ли кто-нибудь из них проследить за тем, чтобы я не сбежала? Приглядеть, чтобы не зажгла лампу, не плеснула на пол горящее масло? Удостовериться, что я не скажу и не сделаю лишнего, что буду паинькой?
Я ведь теперь – казенное имущество.
От души надеюсь, что все они уедут сегодня же.
Напрягая слух, чтобы различить болтовню офицеров, я вдруг замечаю под кроватью напротив что-то блестящее. Серебряная брошь, неуместная в нищенски скудной обстановке этой комнаты. Может, ее украли? Такое не в диковинку в здешней долине, где могут поймать овцу и срезать с ее уха клеймо прежде, чем стадо разбежится, где мужчины отращивают ногти, чтоб ловчее было схватить монетку. Не один хуторянин или батрак в здешних краях бывал бит плетьми за воровство. Даже у Натана остались шрамы от сведенного еще в юности знакомства с розгой.
Я поднимаю брошь. Она оказывается неожиданно тяжелой.
– Положи сейчас же! Это мое!
Худенькая девушка стоит, расставив ноги и угрожающе растопырив руки.
Я роняю брошь, и мы обе вздрагиваем от стука, с которым она падает на пол. Девушка невысокая, тонкая в кости, со светлыми ресницами, которые кажутся еще светлее на фоне темно-синих глаз. Голова у нее покрыта платком, нос с легкой горбинкой.
– Стейна!
Девушка не шелохнулась, все так же смотрит на меня с порога. Думаю, она меня боится.
В комнату входит еще одна девушка. Наверное, сестра первой, только выше ростом, с карими глазами, нос усыпан веснушками.
– Роуслин и ее выводок… – начинает она и тут же осекается, увидев меня.
– Она прикасалась к моему подарку на конфирмацию.
– Я думала, мама увела ее из дома.
– Я тоже так думала.
Обе в упор уставились на меня.
– Мама! Мама, иди сюда!
Входит Маргрьет, неуклюже ступая и вытирая рот. Видит серебряную брошь, которая валяется на полу у моих ног, – и мгновенно бледнеет. Губы ее приоткрываются.
– Мама, она трогала мою брошку! Я сама видела!
Маргрьет крепко зажмуривается, как от боли, и проводит ладонью по губам. Мне хочется тронуть ее за плечо. Уверить, что все в порядке. Она делает шаг ко мне, теперь уже взбешенная, – и я ощущаю удар по щеке прежде, чем слышу звук пощечины. Четкий хлопок. Жгучая вспышка боли.
– Что я тебе говорила?! – кричит Маргрьет. – Чтоб ничего не смела трогать в этом доме!
Она тяжело переводит дух, рука ее все так же протянута к моему лицу.
– Твое счастье, что я не стану сообщать об этом случае.
– Я не воровка, – говорю я.
– Верно. Ты – убийца! – бросает синеглазая девушка, и ямочки на ее щеках становятся отчетливей. Платок сполз с ее головы, и выбившаяся прядь очень светлых, почти белых волос падает на лоб. Лицо ее раскраснелось.
– Лауга, – грозно говорит Маргрьет, – возьми Стейну, и ступайте в кухню.
Девушки уходят. Маргрьет грубо хватает меня за рукав.
– Пошли! – цедит она, вытаскивая меня из комнаты. – Будешь вкалывать, как собака, – вот тебе и покаяние.
Преподобный Тоути проснулся рано поутру и уже не смог заснуть. Сегодня его опять ждали в Корнсау. Неохотно встав и одевшись, он вышел на прохладный и чистый утренний воздух и взялся за домашние дела. Он собрал в загон небольшое стадо овец, принадлежавших отцу, и с неумеренной нежностью принялся их доить, шепотом называя каждую по имени и проводя пальцами по мохнатым ушам.
Утро шло своим чередом, небо заливал солнечный свет. Тоути покормил и напоил корову, которую звали Иса, и принялся снимать выстиранное белье с каменной церковной стены, где его разложил для просушки отец.
– Тебе незачем это делать, – заметил преподобный Йоун, подходя к сыну со стороны дома.
– Мне не трудно, – отозвался Тоути улыбаясь. И снял с чулка семечко травы.
Отец пожал плечами.
– Я думал, ты к этому времени уже проедешь Ватнсдалюр.
Тоути состроил гримасу.
– Зачем ты возишься с бельем, если тебе надлежит встретиться с ней?
Тоути помолчал, глядя на преподобного Йоуна, встряхивающего на ветру пару штанов.
– Я не знаю, что сказать ей, – признался он и, чуть помедлив, спросил: – А что бы ей сказал ты?
Отец хлопнул его по плечу заскорузлой рукой и окинул сердитым взглядом.
– Шевелись, – бросил он. – Кто сказал, что тебе вообще нужно о чем-то говорить? Поезжай.
Маргрьет ведет меня через двор, чтобы показать небольшую делянку с любистоком и дягилем, а потом я помогаю ей доить овец. Полагаю, ей больше не хочется оставлять меня одну. Парнишка, пришедший сюда до нас, уже согнал животных. Маргрьет сообщает мне, что его имя Паудль, однако не трудится представлять нас друг другу, а сам он не подходит близко, хотя издалека глазеет на меня разинув рот.
Потом мы сжигаем мое платье.
Я сшила его два года назад. Мы с Сиггой сшили себе по платью, простому синему рабочему платью из ткани, которую дал нам Натан.
Знать бы тогда, что платье, над которым я трудилась, станет единственной моей защитой от холода в комнатушке, насквозь провонявшей немытым телом. Знать бы тогда, что однажды ночью я в лихорадочной спешке натяну это платье и оно промокнет от пота, когда я в глухую ночь побегу в Стапар, вопя так, что и мертвые поднялись бы из могил.
Маргрьет дает мне немного парного молока из подойника, а после мы отправляемся в кухню, где ее дочери разводят огонь, подкладывая в очаг куски сухого навоза. Когда я вхожу в кухню, они разом пятятся к стене.
– Сними котелок с крюка, Стейна, – говорит Маргрьет неказистой девушке. Потом забирает из угла кухни мои грязные обноски и без церемоний швыряет их в огонь. – Вот так-то. – В голосе ее звучит удовлетворение.
Мы смотрим, как тлеет в огне шерстяное платье, – смотрим до тех пор, пока глаза не начинают слезиться от дыма, а на Маргрьет не нападает кашель, и волей-неволей, покуда горит моя одежда, нам приходится выйти и заняться другими делами. Дочери Маргрьет отправляются в кладовую.
Это платье было последним моим имуществом. Теперь во всем мире нет ничего, что принадлежало бы лично мне; даже тепло моего тела уносит свежий летний ветер.
Травяная делянка Корнсау разрослась и одичала, каменная стена, которая окружает ее, с одной стороны обвалилась. Большинство растений выродилось, подмороженные корни загнили с наступлением тепла, но кое-что уцелело – пижма и еще какие-то горькие травки, памятные мне по мастерской Натана в Идлугастадире, да и дягиль источает сладкий аромат.
Мы пропалываем делянку, отыскивая пучки травы, которые окружили здоровые растения, и бесцеремонно выдирая их из земли. Я наслаждаюсь податливостью корней и клейкими следами, которые оставляет на пальцах вырванная трава, – наслаждаюсь, хотя в груди ноет и трудно дышать. Я изрядно ослабела… и все-таки не сдаюсь.
Какое это наслаждение – сидеть на корточках, подоткнув юбку, и вдыхать запах навозного дыма, пропитавшего мои волосы. Маргрьет ожесточенно трудится и тяжело дышит. О чем она думает сейчас? Лихорадочно разгребает землю, под ногтями черно, глаза покраснели после дымной кухни. Когда она откашливается, я слышу бульканье мокроты.
– Вернись в дом и скажи моим дочерям, чтобы шли сюда, – внезапно говорит она. – Потом выгребешь из очага пепел и закопаешь его на дворе.
Когда я – одна, без сопровождения – возвращаюсь к дому, офицеры как раз седлают коней. При виде меня умолкают.
– Все в порядке?! – кричит один из них Маргрьет, и та успокаивающе машет грязной рукой.
Входная дверь распахнута настежь, вероятно, для того чтобы выветрился смрадный дым. Я осторожно переступаю порог.
Дочери Маргрьет в кладовой снимают сливки со вчерашнего молока. Младшая видит меня первой и локтем толкает в бок сестру. Обе пятятся на пару шагов.
– Вас мать зовет.
Я коротко киваю и отступаю в сторону, чтобы не загораживать им дорогу. Младшая тотчас же выскальзывает из кладовой, ни на мгновение не упуская меня из виду.
Старшая сестра медлит. Как ее зовут – Стейна? «Камень». Она окидывает меня странным взглядом и медленно откладывает лопатку.
– Кажется, я тебя знаю, – говорит она.
Я молчу.
– Ты ведь раньше служила здесь, в долине, верно?
Я киваю.
– Да, я знаю тебя. Я хочу сказать – мы виделись однажды. Ты уезжала из Гвюдрунарстадира, как раз когда мы перебирались туда, чтобы получить аренду. Мы встретились на дороге.
Когда же это было? В мае 1819 года. Сколько лет ей могло быть тогда? Не больше десяти.
– С нами был пес. Коричневый с белым. Я запомнила тебя, потому что пес начал лаять и прыгать и пабби оттащил его от тебя, а потом мы все вместе поужинали.
Девушка испытующе вглядывается в мое лицо.
– Это тебя мы встретили тогда, по дороге в Гвюдрунарстадир. Помнишь меня? Ты заплела моей сестре косы и дала каждой из нас по яйцу.
Две девочки на обочине, в кулачках сырые яйца, подолы юбок облеплены сырой грязью. Тощий пес гоняется за своим отражением в воде, и в ней же отражается просторное пасмурное небо. Три ворона летят в ряд. Добрая примета.
– Стейна!
Пеший путь морозной весной из Гвюдрунарстадира в Гилсстадир. 1819 год. Сотня маленьких китов выбросились на берегу у Тингейрара. Дурная примета.
– Стейна!
– Иду, мама! – Стейна поворачивается ко мне. – Я же права, верно? Это была ты.
Я делаю шаг к ней.
В кладовую врывается хозяйка хутора.
– Стейна! – Она смотрит на меня, затем на свою дочь. – Марш на двор. – Хватает девушку за руку и выволакивает из комнаты. – А ты – чистить очаг. Живо.
Во дворе свежий ветер выдувает из деревянной бадьи испепеленные останки моего платья и уносит их в синее небо. Серые хлопья трепыхаются, опадают и рассыпаются в воздухе. Что это – счастье? Вот это тепло в груди, словно кто-то прижал к ней руку?
Быть может, здесь я смогу вообразить себя прежней Агнес.
– Начнем с молитвы? – спросил младший проповедник Торвардур Йоунссон.
Он и Агнес сидели перед воротами усадьбы, на небольшой груде нарезанного дерна, приготовленного для починки дома. Преподобный держал в одной руке Новый Завет, а в другой изрядно размякший ломоть ржаного хлеба, намазанного маслом, – угощение, которое вручила ему Маргрьет. К ломтю прилип конский волос, упавший с одежды преподобного.
Агнес ничего не ответила на этот вопрос. Она сидела, сложив руки на коленях, слегка ссутулясь, и неотрывно смотрела на вереницу отъезжающих офицеров. В волосах ее были хлопья пепла. Ветер стих, и со стороны всадников время от времени долетало то громкое восклицание, то взрыв хохота, врывавшиеся в размеренный хруст травы, – Маргрьет и ее дочери пололи делянку. Хозяйка хутора то и дело поднимала голову и всматривалась в пастора и убийцу.
Тоути глянул на книгу, которую держал в руках, и откашлялся.
– Думаешь, нам следует начать с молитвы? – повторил он уже громче, решив, что в первый раз Агнес его не расслышала.
– Начать с молитвы? – негромко переспросила она. – Что начать?
– Э-э… – Тоути запнулся, застигнутый врасплох. – Отпущение грехов.
– Отпущение грехов? – эхом отозвалась Агнес. И едва приметно покачала головой.
Тоути поспешно запихал хлеб в рот, проворно разжевал его и шумно проглотил. Затем вытер руки о рубашку, полистал Новый Завет, поудобнее устраиваясь на груде дерна. Дерн был еще сырой после ночного дождя, и Тоути чувствовал, как влага пропитывает штаны. Незачем было здесь садиться, подумал он. Дурацкое местечко. Лучше бы он остался в доме.
– Агнес, я получил письмо от сислуманна Блёндаля всего лишь месяц с небольшим назад, – сказал Тоути вслух и тут же запнулся, помедлил. – Я ведь могу называть тебя Агнес?
– Так меня зовут.
– Сислуманн сообщил, что ты была недовольна наставлениями преподобного в Стоура-Борге и пожелала, чтобы другой священник навещал тебя до самой… до того, как… – Голос Тоути прервался.
– До того, как я умру? – подсказала Агнес.
Тоути поспешно кивнул.
– Он утверждал, что ты попросила в духовные наставники меня.
Агнес сделала глубокий вдох.
– Преподобный Торвардур…
– Просто Тоути. Меня все так зовут, – перебил он – и покраснел, тут же пожалев о своей фамильярности.
Агнес помолчала, колеблясь.
– Хорошо. Преподобный Тоути. Как по-вашему, чего ради сислуманн хочет, чтобы я встречалась со священником?
– Мм… я думаю… то есть я хочу сказать – потому что Блёндаль, служители церкви и я сам… мы хотим, чтобы ты вернулась к Господу.
Лицо Агнес закаменело.
– По-моему, я и так достаточно скоро к Нему вернусь. С одного взмаха топора.
– Но я не это хотел… верней, не в этом смысле…
Преподобный Тоути вздохнул. Все пошло именно так, как он опасался.
– И тем не менее ты попросила прислать меня. Вот только я довольно долго рылся в приходских книгах Брейдабоулстадура, однако так и не нашел там твоего имени.
– Его там и не могло быть, – отозвалась Агнес.
– Ты никогда не была ни моей прихожанкой, ни прихожанкой моего отца?
– Верно.
– Почему же ты захотела, чтобы я стал твоим духовным наставником, если мы даже не были прежде знакомы?
Агнес пристально, в упор взглянула на него:
– Так вы меня совсем не помните?
Тоути опешил. В этой женщине, несомненно, было что-то знакомое, но сколько он ни рылся в памяти, перебирая всех особ женского пола, которых когда-либо знал или видел, – служанок, матерей, жен, маленьких девочек, – лица Агнес среди них не находилось.
– Не помню, – наконец сознался он.
Агнес пожала плечами.
– Однажды вы пришли мне на помощь.
– В самом деле?
– Перевезли через реку. На спине своей лошади.
– И где это случилось?
– Недалеко от Гёйнгюскёрда. Я служила в Фаннлаугарстадире и как раз тогда покинула место службы.
– Так ты родом из округа Скагафьёрдур?
– Нет. Я родом из этой долины. Ватнсдалюр. Округ Хунаватн.
– И я помог тебе переправиться через реку?
– Да. Долину затопило, и вы верхом на лошади явились как раз в тот миг, когда я уже решилась добираться до того берега вброд.
Тоути задумался. В прошлом ему не раз доводилось проезжать через Гёйнгюскёрд, однако он не мог припомнить, чтобы в этих поездках встречал какую-то молодую особу.
– Когда это произошло?
– Шесть или семь лет тому назад. Вы тогда были молоды.
– Да, пожалуй, – отозвался Тоути. На секунду воцарилось молчание. – Так ты попросила меня в духовные наставники из-за того, что я тогда отнесся к тебе по-доброму?
С этими словами он пристально вгляделся в лицо Агнес. А ведь она совсем не похожа на убийцу, подумал Тоути. По крайней мере, с тех пор как хорошенько вымылась.
Агнес сощурилась, окинула взглядом долину. Лицо ее оставалось непроницаемо.
– Агнес… – Тоути тяжело вздохнул. – Я всего лишь младший проповедник. Мое обучение еще не завершено. Быть может, тебе необходим опытный пастор либо житель твоего же округа, который хорошо тебя знает? Наверняка же еще кто-то проявлял к тебе доброту? Чьей прихожанкой была ты в этих краях?
Агнес заправила за ухо прядь черных волос.
– Я знавала не так уж много священников, которые были бы мне по душе, и уж точно ни об одном из них нельзя сказать, что он хорошо меня знает.
Пара воронов, пролетев над долиной, опустилась на каменную ограду вокруг делянки, и тотчас же с другой стороны ограды высунулась голова Маргрьет.
– А ну, кыш! – крикнула Маргрьет. В воздухе про свистел ком земли, и птицы, разразившись злобным карканьем, улетели прочь. Тоути глянул на Агнес и улыбнулся, но ее лицо осталось каменно-бесстрастным.
– Им это не понравится, – пробормотала она.
– Что ж, – проговорил Тоути, сделав глубокий вдох. – Если ты нуждаешься в духовном наставнике, то я сочту своим долгом навещать тебя. Следуя пожеланию сислуманна Блёндаля, я стану наставлять тебя в молитвах, дабы ты могла с достоинством и верой в Господа встретить то, что ожидает тебя впереди. Я вижу свою обязанность в том, чтобы вселить в тебя душевный покой и упование.
Тоути смолк. Он отрепетировал эту речь по дороге в Корнсау и остался доволен, что не забыл помянуть о «душевном покое». Слова эти прозвучали покровительственно и уверенно, словно сам он пребывал в возвышенной безмятежности духа – той безмятежности, которую, собственно говоря, ему и надлежало испытывать, хотя смутное беспокойство подсказывало Тоути, что на самом деле это совсем не так.
Все же он не привык изъясняться так велеречиво, и сейчас его руки, касавшиеся тончайшей бумаги Ветхого Завета, вспотели. Тоути бережно закрыл книгу, стараясь не помять страниц, и вытер ладони о бедра. Сейчас было бы очень кстати припомнить какую-нибудь цитату из Писания, как любил поступать отец, но все мысли Тоути были заняты только одним – внезапно вспыхнувшим желанием припасть к рожку с нюхательным табаком.
– Быть может, я ошиблась, преподобный, – ровно и бесстрастно прозвучал голос Агнес.
Тоути не знал, что сказать. Он мельком глянул на следы побоев, видневшиеся на ее лице, – и прикусил губу.
– Возможно, вам будет лучше не приезжать сюда. Я крайне вам благодарна, но… Неужели вы и впрямь думаете?.. – Агнес зажала рот ладонями и помотала головой.
– Дитя мое, не плачь! – воскликнул Тоути, приподымаясь с кипы дерна.
Агнес опустила руки.
– Я не плачу, – бесцветно проговорила она. – Я совершила ошибку. Вы назвали меня «дитя», преподобный Торвардур, но вы и сами-то немногим меня старше. Я забыла, насколько вы молоды.
Тоути не нашелся, что на это ответить. Мгновение он вглядывался в лицо Агнес, затем угрюмо кивнул и, стремительно нахлобучив шляпу, отрывисто пожелал ей хорошего дня.
Агнес смотрела, как он обходит каменную ограду, чтобы попрощаться с Маргрьет и ее дочерьми. Несколько минут все четверо стояли, что-то оживленно обсуждая и поглядывая на Агнес. Она напрягала слух, пытаясь разобрать, о чем они говорят, но поднявшийся ветер относил их слова прочь. И лишь когда Тоути, глядя на Маргрьет, учтиво приподнял шляпу и направился к столбику коновязи, где томилась его кобылка, Агнес наконец расслышала выкрик Маргрьет:
– А по мне, так проще выжать кровь из камня!
Остаток дня проходит в трудах – мы пропалываем и обихаживаем жалкие растеньица на делянке. Я прислушиваюсь к далекому блеянью овец. С них недавно состригли зимнюю шерсть, и оттого вид у бедняжек совсем худосочный и неказистый. После отъезда священника Маргрьет, ее дочери и я пообедали сушеной рыбой с маслом. Я постаралась тщательно, не меньше двадцати раз прожевать каждый кусочек. Потом мы вернулись на делянку, и теперь я пытаюсь поправить ограду, вытаскиваю расшатавшиеся камни, аккуратно раскладываю их на земле, а потом заново складываю в стену, находя для каждого камня свое место и безмолвно наслаждаясь ощущением их тяжести в руках.
Мне так часто кажется, будто меня почти уже нет, – так пускай земная тяжесть этих камней напоминает, что я пока еще существую.
Мы с Маргрьет трудимся молча; она обращается ко мне лишь для того, чтобы отдать очередное распоряжение. Судя по всему, у нее тоже мысли заняты другим, и я размышляю о том, как странно, что судьба вернула меня в Корнсау, туда, где я жила ребенком. Где я впервые узнала, что такое горе. Я размышляю о путях, которые выбирала в жизни… и о преподобном.
О Торвардуре Йоунссоне, который просит называть его Тоути, словно крестьянский сын. Слишком уж он незрел для такой должности. Голос у него мягкий, и руки на удивление нежные. Пальцы не длинные, в пятнах от настоев, как у Натана, не короткие и мясистые, как у хуторского батрака, – а небольшие, тонкие и чистые. Эти руки лежали на Библии, когда он разговаривал со мной.
Я совершила ошибку. Меня приговорили к смерти, а я захотела, чтобы в последний путь меня приготовил мальчик. Рыжеволосый мальчик, который с жадностью поедает хлеб с маслом, а потом неуклюже спешит к своему коню, и видно, что штаны у него сзади промокли от сидения на дерне, – и вот этот-то юнец должен добиться того, чтобы я опустилась на колени и погрузилась в молитву? Вот от этого-то юнца я надеюсь получить помощь, хотя сама еще не знаю, в чем и каким образом он может мне помочь?
Единственный человек, который мог бы понять, что я чувствую, – Натан. Он знал меня назубок, как крестьянин знает смену времен года, а рыбак – череду приливов и отливов. Знал меня, как воздух, как запах дыма, знал, кто я и чего хочу. А теперь он мертв.
Быть может, мне следовало сказать преподобному: мальчик, вернись в свой уютный приходской домик, к своим бесценным книгам. Я ошибалась: ты ничего не можешь для меня сделать. У Господа была возможность даровать мне свободу, но Он по причине, ведомой лишь Ему одному, обрек меня на злосчастье, и сколько я ни боролась, беда вновь и вновь одерживала верх; судьба вонзила нож в мою грудь по самую рукоять.
Глава 4
Фогту Северо-Восточной Исландии
Благодарю Ваше Превосходительство за великолепнейшее письмо от 10 января сего года касательно обвинений в убийстве, поджоге и других преступлениях, выдвинутых против подсудимых Фридрика, Агнес и Сигридур, за кои преступления эти трое были приговорены к смертной казни. В ответ на это письмо с позволения Вашего Превосходительства сообщаю, что Б. Хендриксон, кузнец, которому было заказано изготовить топор, предназначенный для грядущей казни, запросил пять серебряных коронных талеров за работу и материалы сообразно моим пожеланиям по части качества и размеров означенного топора от 30 декабря минувшего года. Однако же после получения письма Вашего Превосходительства я, будучи целиком и полностью согласен с Вашим Превосходительством, подумал, что лучше будет за ту же цену приобрести топор с более широким лезвием в Копенгагене, а потому обратился к купцу Симонсену с просьбой устроить для меня эту сделку.
Летом текущего года указанный Симонсен явился ко мне с упомянутым выше топором, и хотя топор сей был изготовлен в точности по моим требованиям, я с изумлением услышал от Симонсена, что мой заказ обошелся в двадцать девять коронных талеров. Тщательно изучив счет, я обнаружил, что приведенная сумма верна, и потому безусловно был вынужден оплатить счет господина Симонсена из денежных средств, выделенных на это дело Вашим Превосходительством.
Итак, взяв на себя смелость объяснить Вашему Превосходительству причину превышения расходования упомянутых средств, осмелюсь осведомиться, не уместнее ли было бы покрыть упомянутые расходы из средств, выделенных бюджетом на Идлугастадирское дело, каковые средства, помимо прочих целей, идут на возмещение издержек по содержанию заключенных. Также я почтительно желал бы узнать у Вашего Превосходительства, как нам далее поступить с оным топором после того, как он будет использован по прямому назначению, то есть для исполнения приговора.
Остаюсь наисмиреннейшим и наипокорнейшим слугой Вашего Превосходительства.
Сислуманн округа Хунаватн
Бьёрн Блёндаль
ТОУТИ ПОКИНУЛ КОРНСАУ с твердым намерением написать Блёндалю и отказаться от своего обещания посещать Агнес. Вторая его беседа с убийцей обернулась полным крахом; он не провел даже простенькой молитвы. Однако же мысль о том, что неизбежно придется объяснять, отчего он переменил свои намерения после всего двух посещений, исполнила его ужасом и стыдом, и он отложил составление письма. Напишу завтра, обещал он себе всякий раз, когда в Брейдабоулстадур приходил новый день, – но вот прошло уже две недели, крестьяне вовсю готовились к сенокосу, который начинался в середине июля, а Тоути так и не взялся за перо.
Как-то вечером он сидел вместе с преподобным Йоуном, погруженный в чтение, и вдруг отец, подняв седую голову, спросил:
– Убийца молится?
Тоути поколебавшись, ответил:
– Не уверен.
– Хмм, – пробормотал преподобный Йоун, – так позаботься о том, чтобы молилась.
Он искоса уставился на сына из-под отечных век и глядел до тех пор, пока Тоути не почувствовал, как лицо и шею заливает жаркий румянец.
– Ты – слуга Господа, мальчик мой. Не посрами себя, – прибавил отец прежде, чем вернуться к своему манускрипту.
На следующее утро Тоути поднялся ни свет ни заря, чтобы подоить Ису. Прижавшись лбом к теплому коровьему боку, он прислушивался к размеренному журчанию молока, стекавшего в деревянный подойник. В мыслях его возник образ Агнес, сидящей рядом. Отец знает, что Тоути не посещает ее. Как устыдился бы он, обнаружив, что его сын не сумел побудить женщину к раскаянью! Но что делать, если эта женщина не желает раскаиваться? Как там говорила Агнес? Что до сих пор не встречала священников, которые были бы ей по душе? Судя по всему, она не склонна к истовой вере, и та нелепая, заготовленная заранее речь о душевном покое, все эти выспренние слова пропали втуне. Что же тогда нужно было от него Агнес? Почему она попросила его в духовники, если не желала говорить о Боге? О смерти, о рае и преисподней, о слове Божьем? Только потому, что когда-то Тоути помог ей переправиться через реку? Мысль об этом обескураживала его. Почему бы ей не обратиться к какому-нибудь другу или родственнику, не попросить о том, чтобы ей помогли достойно встретить конец?
Быть может, у Агнес просто не осталось друзей. Быть может, она хотела поговорить о чем-то другом. К примеру, о переправе через реку в Гёйнгюскёрде в разгар весеннего половодья. Или о том, почему она покинула долину Ватнсдалюр и отправилась искать работу на востоке или почему ей не по душе служители церкви. Тоути закрыл глаза и лбом ощутил, как Иса, всколыхнув тяжелый теплый бок, тревожно переступила с ноги на ногу. Чтобы успокоить корову, он процитировал вслух Хадльгримура Пьетурссона[10]:
- – Стезей страстей Твоих, Господь,
- Последовать желаю,
- И слабость сердца побороть,
- Огнем Твоим пылая![11]
Тоути открыл глаза и повторил вслух последнюю строчку.
К тому времени, когда подойник стал полон, преподобный принял решение вернуться в Корнсау.
Утренний туман, лежавший в долине, скрывал очертания гор от взгляда Тоути, ехавшего верхом сквозь белесую призрачную дымку, что невесомо колыхалась над травой. Тоути дрожал от холода и поглубже зарывал ладони в теплую конскую гриву. Сегодня, думал он, я все сделаю как надо.
К тому времени, когда Тоути придержал лошадь и пустил ее шагом, миновав Тристапар – три причудливых холма на въезде в долину – и двинувшись дальше, в зеленую глубь Ватнсдалюра, из-за пелены облаков хлынул солнечный свет. Этот день тоже обещал быть ясным. Скоро хуторяне и их работники разойдутся по полям с косами наготове, тут и там лягут на землю охапки скошенной травы, просыхая под солнцем, и над долиной поплывет сладкий запах свежего сена. Однако сейчас, ранним утром, Тоути различал лишь вершины самых высоких гор – их массивные подножия до сих пор окутывала пелена медленно оседающего тумана. Внезапно он услыхал громкий крик и разглядел Паудля, подпаска из Корнсау – мальчик гнал овечье стадо вдоль склона горы, подернутого легкой дымкой тумана. Тоути направил лошадь к берегу реки, которая протекала, извиваясь, через долину и стороной обходила Корнсау, устремляя свои воды к пологим полям усадьбы Ундирфедль.
На пороге возник рослый небритый хуторянин.
– Blessaður. Привет тебе. Меня звать Хаукур Йоунссон.
– Sæll, Хаукур. Я – младший проповедник Торвардур Йоунссон. Преподобный Ундирфедля дома?
– Пьетур Бьярнасон? Нет, он не здесь проживает. Ну да он сейчас неподалеку. Входите.
Тоути последовал за развалисто шагавшим хозяином. В таких просторных домах прежде ему бывать не приходилось. В бадстове одевались, переговариваясь, по меньшей мере восемь человек. Большеглазая девочка держала на руках вопящего, красного от натуги младенца, а две служанки пытались натянуть одежду на малыша, которому куда интересней было играть на полу в бабки. При виде Тоути общий разговор прервался.
– Присаживайтесь, – промолвил Хаукур, жестом указав на свободное место на кровати, рядом с древней старухой, которая безучастно повернула к Тоути морщинистое лицо. – Это Гюдрун, она слепая. Я схожу за преподобным, если вас не затруднит подождать.
– Благодарю, – отозвался Тоути.
Хуторянин вышел, и почти сразу в бадстову вихрем ворвалась моложавая женщина.
– Здрасте! Так вы из Брейдабоулстадура? Хотите что-нибудь попить? Меня звать Дагга.
Тоути покачал головой. Дагга выхватила у большеглазой девочки вопящую малютку, прижала к плечу.
– Бедняжка, всю ночь проорала так, что и мертвый бы проснулся.
– Она болеет?
– Муж говорит, что это колики в животе, только я опасаюсь, что дело гораздо хуже. А вы, преподобный, часом, не смыслите что-нибудь в лекарских делах?
– Кто, я? О нет. Боюсь, что не больше твоего. Извини.
– Ну да ладно. Вот уж когда пожалеешь, что помер Натан Кетильссон, упокой Господи его душу.
Тоути озадаченно глянул на нее:
– Почему?
– Он вылечил меня от лающего кашля! – пискнула из угла большеглазая девочка.
– Натан был другом вашей семьи? – спросил Тоути.
Дагга сморщила нос.
– Да нет. Другом он не был, но за ним всегда можно было послать, если кто-то из детей захворает или кому-то нужно пустить кровь. Когда на малышку Гюллу напал кашель, Натан даже остался здесь на ночь-другую, смешивал травы да листал всякие иностранные книги. Странный он был человек.
– Колдун он был, – подала голос старуха, сидевшая рядом с Тоути. Семейство разом уставилось на нее. – Колдун, – повторила она, – и получил то, что ему причиталось.
– Гвюдрун… – Дагга беспокойно улыбнулась Тоути. – У нас гость. Перестань, а то детей напугаешь.
– Натан Сатана – вот как его звали. И все его дела были не от Господа.
– Уймись, Гвюдрун! Это досужая байка, вот и все.
– Что за байка? – спросил Тоути.
Дагга пересадила орущую малышку на другое колено.
– Вы разве не слыхали этой истории?
Тоути покачал головой.
– Нет, я уезжал учиться на юг. В Бессастадир.
Дагга вскинула брови.
– Да это просто людские толки. Здесь, в долине, поговаривают, будто мать Натана имела дар предвидения: ей снились вещие сны, и они, представьте, всегда сбывались. Так вот, когда она была тяжела Натаном, ей как-то приснилось, что пришел к ней некий человек и сообщил, что у нее родится мальчик. Человек во сне попросил назвать сына в его честь, а когда она согласилась – сказал, что его зовут Сатана.
– Она страшно перепугалась, – перебила, хмурясь, Гвюдрун. – Священник предложил взамен имя «Натан», и они решили, что так будет честно. Только все мы знали, что из мальчишки все равно ничего путного не выйдет. У матери их было двое, но второй близнец так и не увидел света Божьего – один отправился к живым, другой к мертвым. – Она медленно, с натугой развернулась на кровати и приблизила лицо к лицу Тоути. – Натан всегда был при деньгах, – прошипела она. – Он якшался с дьяволом!
– Или он был умелым знахарем и греб деньги лопатой, – жизнерадостно вставила Дагга. – Я же говорю – это просто людские толки.
Тоути кивнул.
– Кстати, преподобный, а что вас привело в Ватнсдалюр?
– Я духовник Агнес Магнусдоттир.
Улыбка Дагги растаяла.
– Я слыхала, что ее привезли в Корнсау.
– Это правда. – Тоути заметил, как две служанки переглянулись. Гвюдрун, сидевшая рядом с ним, надрывно закашлялась, и он ощутил, как на шею брызнули капельки слюны.
– Суд проходил в Хваммуре, – продолжала Дагга.
– Именно так.
– Знаете, она ведь родом из этой долины.
– Потому я и здесь, – сказал Тоути. – Я имею в виду – в Ундирфедле. Я надеюсь что-нибудь разузнать об Агнес из приходской книги.
Дагга скривилась.
– Я бы тоже могла вам кое-что о ней рассказать.
Она поколебалась, затем велела служанкам увести детей и, пока они не ушли, не проронила ни слова.
– Она всегда была такая, – наконец проговорила Дагга, понизив голос, и настороженно покосилась на Гвюдрун, которая привалилась к стене и как будто задремала.
– Какая? – переспросил Тоути.
Женщина, скривившись, придвинулась ближе.
– Мне неприятно говорить такое, преподобный, но Агнес Магнусдоттир всегда думала только о себе. Только одно у нее на уме и было – как бы возвыситься. Всю жизнь мечтала выбиться в люди.
– Она была бедна?
– Нищая, незаконнорожденная и злокозненного нрава, который совсем не пристал хорошей служанке.
Тоути вздрогнул от этих слов.
– Похоже, вы не очень-то ладили.
Дагга рассмеялась.
– Что верно, то верно. Агнес была совсем другая.
– И какая же?
Дагга замялась.
– Знаете, преподобный, есть люди, довольные своей участью, довольные теми людьми, с которыми их свела судьба, они благодарны Господу и за свою участь, и за этих людей. Агнес не из таких.
– Но ты ее знаешь?
Женщина пересадила хнычущую малышку на другое колено.
– Я не делила с ней бадстову, преподобный, но да – я ее знаю. Знаю примерно так, как в этой долине все знают друг друга. Когда она была помоложе, про нее в этих местах даже стихи ходили. Тогда люди ее обожали и звали Бурфедльская Агнес – по названию хутора, где она жила. Вот только с годами она ожесточилась. С мужчинами у нее не ладилось. Никак не могла остепениться. Долина невелика, и о ней пошла худая слава – за невоздержанный язык и распутный нрав.
С порога комнаты донеслось сдержанное покашливание. Вернулся рослый хуторянин, а рядом с ним стоял еще один мужчина, зевая и почесывая жесткую щетину на шее.
– Вот, преподобный Торвардур Йоунссон, познакомьтесь – это преподобный Пьетур Бьярнасон.
Ундирфедльская церковь была невелика – всего шесть скамей со спинкой, а стоячие места только позади них. Тесновато, чтобы вместить всех хуторян, подумал Тоути, а преподобный Пьетур рассеянно поправил на носу очки в проволочной оправе.
– Ага, вот и ключ. – Священник нагнулся к сундуку, стоявшему у алтаря, и принялся возиться с замком. – Так ты, говоришь, поселился в Корнсау?
– Нет, я только приезжаю туда время от времени.
– Что ж, по крайней мере, хорошо, что этим не приходится заниматься мне. Как тамошние хозяева?
– Я с ними почти не знаком.
– Нет, я имел в виду – как они приняли то, что приходится содержать под своим кровом убийцу?
Тоути вспомнил о резких словах, которые вырвались у Маргрьет в ночь, когда Агнес привезли из Стоура-Борга.
– Пожалуй, без особой радости.
– Ну да они исполнят свой долг. Славное семейство. Младшая дочь – настоящая красавица. Такие ямочки! Прилежна и весьма умна.
– Речь о Лауге, верно?
– Именно о ней. Обошла сестру по всем статьям. – Священник с видимым усилием водрузил на алтарь большую книгу, переплетенную в кожу. – А вот и то, что нам нужно. Итак, мальчик мой, сколько лет этой женщине?
Такое бесцеремонное обращение покоробило Тоути.
– Точно не скажу. Думаю, немногим больше тридцати. Вы разве ее не знаете?
Священник фыркнул.
– Я и сам живу здесь всего одну зиму.
– Какая жалость. Я надеялся порасспросить вас о ее характере.
Собеседник насупился.
– Мертвое тело Натана Кетильссона говорит о ее характере красноречивее всяких слов.
– Возможно, однако мне хотелось бы разузнать хоть что-то о том, как она жила до злосчастного происшествия в Идлугастадире.
Преподобный Пьетур поглядел на Тоути поверх очков.
– Ты чересчур молод для того, чтобы быть духовником этой женщины.
Тоути покраснел.
– Она сама захотела, чтобы это был именно я.
– Что ж, если и существуют какие-то стоящие сведения о ее характере, они наверняка сыщутся в приходской книге. – Преподобный Пьетур принялся бережно перелистывать пожелтевшие, исписанные небрежным почерком страницы. – А вот и она. Год рождения 1795. Родилась на хуторе Флага, мать – Ингвельдур Равнсдоттир, отец – Магнус Магнуссон. Незамужняя. Внебрачный ребенок. Появилась на свет 27 октября, окрещена на следующий день. Что еще ты хотел узнать?
– Ее родители не состояли в браке?
– Так тут написано. Вот: «Отец проживает в Стоуридалюре. Более ничего, достойного упоминания». Ну, что еще ты бы хотел посмотреть? Насчет ее конфирмации? Вот, пожалуйста. Пару месяцев назад сислуманн Блёндаль велел мне сделать копию этой записи. – Священник фыркнул и поддернул очки к переносице. – Запись перед тобой. Можешь прочитать ее сам.
С этими словами он подвинулся, чтобы пропустить Тоути к книге.
– 22 мая 1809 года, – прочел Тоути вслух. – Конфирмована четырнадцати лет от роду, вместе с… – он сделал паузу, мысленно подсчитал, – с пятью другими детьми. Но ведь ей тогда должно было сравняться тринадцать!
– Что там еще? – Священник, который все это время поглядывал в окно, обернулся к Тоути.
– Здесь написано «четырнадцати лет от роду», но в мае Агнес должно было исполниться только тринадцать.
Священник пожал плечами:
– Тринадцать, четырнадцать – какая, собственно, разница?
Тоути покачал головой:
– Никакой, разумеется. А здесь что написано?
Преподобный Пьетур наклонился над книгой, обдав Тоути своим дыханием. От него пахло рыбой и бренвином.
– Дай-ка глянуть… Ага, трое из этих детей – Гримур, Свейнбьёрн и Агнес – выучили весь катехизис. Дальше следуют обычные для такого случая комментарии.
– Агнес хорошо проявила себя?
– Здесь сказано, что она обладала «недюжинным умом, а также глубокими познаниями и пониманием христианства». Жаль, что впоследствии она перестала следовать его заветам.
Тоути пропустил эту реплику мимо ушей.
– «Недюжинным умом…» – пробормотал он.
– Да, так там и написано. Ну что ж, преподобный Торвардур, желаешь ли ты, чтобы мы и дальше торчали в этом промозглом холоде, изучая чужие родословные, или же вернемся к хорошенькой женушке Хаукура за сытным завтраком и порцией кофе – ежели, конечно, у них кофе найдется?
– Преподобный Тоути!
Маргрьет открыла, едва молодой священник бойко постучал в дверь.
– Как это мило, что вы к нам заглянули. Мы уж думали, что вы вернулись на юг. Входите.
Маргрьет закашлялась, распахнув дверь шире, и Тоути увидал, что она держит, прижимая к бедру, увесистый мешок.
– Позволь, я помогу, – сказал он.
– Не утруждайтесь, преподобный, не утруждайтесь, – прохрипела Маргрьет, жестом маня его вслед за собой по коридору. – Я и сама прекрасно справляюсь. Наши работники вернулись из Рейкьявика. – Она обернулась к Тоути и одарила его слабой улыбкой.
– Понимаю, – отозвался он. – От купцов.
Маргрьет кивнула.
– Вполне недурно закупились. Мука без жучка, не то что в прошлом году. А еще они привезли соль и сахар.
– Рад это слышать.
– Кофе хотите?
– У вас есть кофе? – изумился Тоути.
– Мы продали всю шерсть и немного вяленого мяса. Йоун сейчас косы правит перед страдой. Так выпьете кофейку?
Она ввела Тоути в бадстову и отдернула занавеску, приглашая его пройти в гостиную.
– Подождите тут, – распорядилась она и вышла, тяжело ковыляя и все так же прижимая мешок к бедру.
Тоути присел на стул и принялся водить пальцами по шершавой столешнице. Он услышал, как в кухне бурно закашлялась Маргрьет.
– Преподобный Тоути? – вполголоса окликнули из-за занавески.
Тоути вскочил и проворно отдернул занавеску. Агнес заглянула в гостиную и приветственно кивнула ему.
– Здравствуй, Агнес. Как поживаешь?
– Прошу прощенья, мне только нужно было забрать вон то… – Она указала на моток шерсти, который лежал на другом стуле. Тоути посторонился и поднял занавеску повыше, пропуская Агнес в гостиную.
– Не спеши уходить, – попросил он. – Я приехал, чтобы повидаться с тобой.
Агнес взяла моток.
– Маргрьет хотела, чтобы я…
– Прошу тебя, Агнес. Сядь.
Она повиновалась и присела на самый краешек стула.
– А вот и я!
Маргрьет бодрым шагом вошла в комнату, неся поднос с кофе и тарелку с маслом и ржаным хлебом. И лишь тогда обнаружила в гостиной Агнес.
– Надеюсь ты не против, если Агнес на минутку отвлечется от дел? – спросил Тоути, вставая со стула. – Я здесь именно ради того, чтобы с ней поговорить. – Маргрьет уставилась на него тяжелым взглядом, и он, слабо улыбнувшись, добавил шутливым тоном: – По приказу Блёндаля.
Маргрьет поджала губы и чопорно кивнула.
– Делайте с ней, что пожелаете, преподобный Тоути. Избавьте меня от этой обузы.
Она со стуком поставила поднос на стол, развернулась и вышла, рывком задернув за собой занавеску. Агнес и Тоути прислушивались к топоту ее шагов, удалявшихся по коридору. Затем громко хлопнула входная дверь.
– Ну вот. – Тоути присел на край стола и подмигнул Агнес. – Не хочешь кофе? Тут, правда, всего одна чашка, но…
Агнес помотала головой.
– Тогда возьми хлеба. Я только что из Ундирфедля, и тамошняя экономка до отвала накормила меня скиром.
С этими словами Тоути пододвинул к Агнес тарелку, а затем налил себе кофе, насыпав в чашку немного сахару из склянки с притертой пробкой. Краем глаза он заметил, что Агнес отщипнула кусочек хлеба и сунула в рот. Тоути улыбнулся.
– Судя по всему, работники весьма прибыльно продали в Рейкьявике хозяйские товары.
Глоток кофе ошпарил язык. Первым побуждением Тоути было немедля выплюнуть эту гадость, но он чувствовал, что Агнес не сводит с него светло-синих глаз, а потому, давясь, мужественно проглотил обжигающий кофе.
– Как тебе тут живется, Агнес?
Женщина, прожевав хлеб, все так же неотрывно смотрела на него. Лицо у нее было уже не такое изможденное, синяк побледнел и стал едва заметен.
– Ты хорошо выглядишь.
– Меня здесь кормят лучше, чем в Стоура-Борге.
– А как ты ладишь с хозяевами?
Она помедлила, прежде чем ответить.
– Они меня терпят.
– Что ты думаешь о Йоуне, окружном старосте?
– Он не хочет со мной разговаривать.
– А хозяйские дочери?
Агнес ничего не ответила, и Тоути продолжал:
– Лауга, судя по всему, ходит в любимицах у преподобного из Ундирфедля. Он говорит, что для женщины она чрезвычайно умна.
– А ее сестра?
Тоути снова глотнул кофе, помолчал.
– Она хорошая девушка.
– Хорошая девушка, – повторила Агнес.
– Именно так. Поешь еще.
Агнес взяла оставшийся хлеб. Она ела быстро, не отнимая пальцев ото рта, а когда закончила с хлебом, тщательно слизала с них масло. Тоути помимо воли бросилось в глаза, как лоснятся от масла ее розовые губы.
Он принудил себя опустить взгляд на стоявшую перед ним чашку с кофе.
– Полагаю, ты сейчас гадаешь, почему я вернулся.
Агнес ногтем большого пальца выудила застрявшую меж зубов крошку и ничего не сказала.
– Ты сказала, что я слишком молод, – заметил Тоути.
– Я оскорбила вас, – отозвалась Агнес с полнейшим равнодушием.
– Я ничуть не оскорбился, – солгал Тоути. – И, однако, Агнес, ты ошибаешься. Да, я молод, но я три долгих года учился на юге, в школе Бессастадира, я знаю латынь, греческий и датский, и Господь избрал меня, дабы направить тебя к искуплению.
Агнес вперила в него немигающий взгляд.
– Нет, преподобный, это я вас избрала.
– Так позволь мне помочь тебе!
Женщина с минуту помолчала. Снова поковыряла в зубах и вытерла руки о фартук.
– Если вы собираетесь поговорить со мной – разговаривайте, как все, по-простому. Преподобный в Стоура-Борге изъяснялся так, будто он сам епископ. Он ожидал, что я буду со слезами припадать к его ногам. Ему бы и в голову не пришло меня выслушать.
– Что ты хотела, чтобы он услышал?
Агнес покачала головой.
– Всякий раз, когда я говорила что-то, мои слова тут же переиначивали и швыряли мне в лицо как оскорбление или обвинение.
Тоути кивнул.
– Ты хотела бы, чтобы я говорил с тобой как обычный человек. И, наверное, хотела бы, чтобы я тебя вы слушал?
Агнес пристально всматривалась в него, подавшись вперед на стуле, и оттого Тоути разглядел, какого необычного цвета у нее глаза. Светло-голубые радужки были цвета льда, с пепельными пятнышками вокруг зрачков, но очерченные по краю тонким черным кольцом.
– Что вы хотите услышать? – спросила она.
Тоути откинулся на спинку стула.
– Я провел нынешнее утро в церкви Ундирфедля. Я отправился туда, чтобы поискать сведения о тебе в приходской книге. Ты сказала, что родом из этой долины.
– И нашли что-нибудь?
– Записи о твоем рождении и конфирмации.
– Что ж, теперь вы знаете, сколько мне лет. – Губы Агнес тронула холодная усмешка.
– Возможно, ты могла бы рассказать мне побольше о своей жизни. О своих родных.
Агнес сделала глубокий вдох и принялась отрешенно наматывать на пальцы нитку из шерстяного клубка.
– У меня нет родных.
– Так не бывает.
Агнес туго обмотала шерстяной ниткой костяшки пальцев, и кончики их побагровели от прилившей крови.
– Допускаю, что вы, преподобный, видели в той самой книге их имена, но с тем же успехом меня могли записать круглой сиротой.
– Почему же?
По ту сторону занавески кашлянули, и из-под края ее показалась пара переминающихся ног в башмаках из рыбьей кожи.
– Войдите! – громко сказал Тоути. Агнес проворно смотала с пальцев шерстяную нитку. В тот же миг занавеска отдернулась вбок, и в проеме возникло веснушчатое лицо Стейны.
– Извините за беспокойство, преподобный, но мама послала меня за ней.
Она торопливо указала на Агнес, и та начала подниматься со стула.
– Мы беседуем, – сказал Тоути.
– Прошу прощенья, преподобный. Дело в сенокосе. Я хочу сказать, уже середина июля, стало быть, сегодня начнут косить траву и будут косить, пока всю не скосят. Ну или пока погода не испортится.
– Стейна, я приехал сюда, чтобы…
Агнес легонько тронула ладонью плечо Тоути и одарила его таким твердым взглядом, что он покорно смолк. И зачарованно смотрел на ее руку с длинными бледными пальцами, на мозоль, которая розовела на большом пальце. Перехватив его взгляд, Агнес убрала руку так же проворно, как прежде положила ее на плечо Тоути.
– Приезжайте завтра, преподобный. Если вам будет угодно. Мы сможем поговорить, пока трава будет просыхать от росы.
Обидно все же, что я поклялась никому не рассказывать о своем прошлом. В Хваммуре, во время суда, на каждое мое слово бросались с жадностью, точно птицы на корм. Жуткие птицы, одетые в красное, с рядами серебряных пуговиц на груди, с хищно наклоненными головами и острыми клювами, они выискивали в моих словах вину, точно ягоды в зарослях кустарника. Мне не позволяли своими словами пересказать, что произошло, но отбирали мои воспоминания об Идлугастадире, о Натане и превращали их в нечто зловещее; вырвали у меня показания о той ночи и представили меня коварной злоумышленницей. Все, что я ни говорила, у меня отнимали и преображали так, что в конце концов мой собственный рассказ перестал быть моим.
Я полагала, что мне поверят. Когда в крохотной комнатке, где проходил суд, прозвучала барабанная дробь и Блёндаль провозгласил: «Виновна», я оказалась способна думать только об одном: если шелохнешься – рассыплешься на куски, если сделаешь вдох – рухнешь замертво. Они хотят, чтобы ты перестала существовать.
После суда священник из Тьёрна сказал, что я буду гореть в вечном огне, если не обращусь мыслями к грехам своей жизни и не стану молиться о прощении. Как будто молитва могла выполоскать из меня грех. Однако же всякая женщина знает: ткань, единожды сотканную, уже не переделаешь, и единственный способ исправить ошибку – распустить ее на отдельные нитки.
Натан не верил в существование греха. Он говорил, что это всего лишь изъян в характере, неотъемлемый от самой личности. Даже природа, говорил он, отвергает собственные законы ради красоты. Ради творения. Ради того, чтобы не остывала кровь. Ты поймешь, Агнес.
Эти слова он сказал мне после того, как в Стапаре родился двухголовый ягненок. Один из тамошних слуг прибежал в Идлугастадир, чтобы сообщить нам об этом событии, но к тому времени, когда Натан и я прибыли в Стапар, ягненок был уже мертв. Хозяин хутора прикончил его на месте, поскольку счел, что животное проклято. Натан попросил разрешения забрать труп, чтобы произвести вскрытие и узнать, как был устроен изнутри этот диковинный ягненок; но, когда он раскопал захоронение, одна из местных женщин подобралась к нему и прошипела: «Да, отдайте Сатане его отродье!» Я видела, как Натан рассмеялся ей в лицо.
Мы принесли тушу к нему в мастерскую, и я, с ног до головы измазанная кровью и грязью, превозмогая тошноту, ушла и предоставила Натану в одиночестве разделывать добычу. Ни я, ни Сигга не притронулись к кускам мяса, которые он выкроил из убиенного ягненка, и хотя Натан обозвал нас неблагодарными, хотя во всеуслышание напомнил о том, какую кругленькую сумму ему пришлось выложить за труп уродца, его собственный аппетит тоже оставлял желать лучшего. Мясо пошло на приманку для лис. Раздвоенный череп цвета свежих сливок Натан оставил у себя в мастерской.
Быть может, преподобный видит во мне такого же ягненка? Диковинку. Проклятого уродца. Что вообще думают мужчины о таких женщинах, как я?
Впрочем, этого священника и мужчиной-то трудно назвать. Он хрупок, словно дитя, но без бахвальства и глупости, присущих юности. В моей памяти он остался выше ростом, чем есть на самом деле. Я не знаю, что о нем думать.
Возможно, он попросту даровитый лжец. Господь свидетель, я знавала достаточно мужчин, чтобы с уверенностью сказать: все они, едва оторвавшись от материнской груди, начинают бесстыдно лгать.
Мне надобно обдумать, что же ему сказать.
Туман сменился ясной синевой дня, и капельки воды на траве просохли к тому времени, когда обитатели Корнсау собрались на краю ближнего поля, чтобы приступить к сенокосу. С одной стороны стоял окружной староста Йоун, а с ним двое работников, недавно вернувшихся из Рейкьявика, – Бьярни и Гвюдмюндур, оба с длинными светлыми волосами и бородами, а с другой стороны – Кристин, Маргрьет и Лауга. Все они молча ждали, когда к этому кругу присоединятся Стейна и Агнес. Стейна, спотыкаясь, торопливо шагала по двору, Агнес следовала за ней, на ходу повязывая платком туго заплетенные косы.
– А вот и мы! – бодро сообщила Стейна. Агнес коротко кивнула Йоуну и Маргрьет. Работники посмотрели на нее и переглянулись.
Йоун склонил голову.
– Благодарим Тебя, Боже, за то, что послал нам хорошую погоду в сенокос. Сохрани же нас на это время в здравии, убереги от опасностей и злосчастий и даруй нам сено, без которого нам не жить. Во имя Иисуса, аминь.
– Аминь, – нестройно пробормотали работники и подняли косы с длинными рукоятями. Эти косы недавно отбили и заточили, и теперь их железные лезвия сверкали на солнце. Гвюндмюндур, коренастый мускулистый мужчина двадцати восьми лет, испытующе провел лезвием косы по волоску на запястье, а затем, удовлетворенный его остротой, проворно развернул косу лезвием вниз и чиркнул ею по траве у своих ног. Подняв взгляд, он заметил, что Агнес наблюдает за ним.
– Гвюндмюндур и Бьярни, – говорил староста, – вы будете косить траву вместе с Кристин и… – Йоун на миг заколебался, затем коротко глянул на Агнес. Работники проследили за его взглядом и во все глаза уставились на нее.
– Вы хотите дать ей в руки косу? – небрежным тоном осведомился светловолосый, с желтушным лицом Бьярни. И нервно хохотнул.
Маргрьет прокашлялась.
– Агнес и Кристин будут косить с вами и Йоуном. Мы со Стейной и Лаугой будем сгребать и ворошить прокос. – Она грозно глянула на Гвюндмюндура, который ухмылялся Бьярни, и сплюнула ему под ноги.
– Дайте им косы, – негромко произнес Йоун, и Гвюндмюндур бросил свою косу на землю. Развернувшись, он взял две другие косы, протянул одну из них Кристин, которая сделала смущенный книксен, и со второй косой в руке подался к Агнес. Та протянула руку, чтобы взять косу, но Гвюндмюндур не разжал пальцы. Мгновение они так и стояли, оба вцепившись в рукоять косы, затем Гвюндмюндур резко отпустил рукоять. Агнес от неожиданности покачнулась, и лезвие косы царапнуло ее по лодыжке. Бьярни подавил смешок.
– Беритесь за грабли, девочки, – бросил Йоун, как будто не замечая ни ухмылок работников, ни того, что Лауга не смогла сдержать улыбки при виде того, как Агнес испуганно глянула на свою ногу.
– Ты не поранилась? – прошептала Стейна, проходя мимо Агнес. Та покачала головой, крепко стиснув зубы. Маргрьет глянула на дочь и нахмурилась.
Я позволяю телу отдаться ритму. Раскачиваюсь вперед и назад, чтобы коса под собственным весом опускалась к земле и проходила сквозь траву, – и так до тех пор, покуда мои движения не обретают размеренность. До тех пор, пока меня не охватывает ощущение, что я двигаюсь не сама, а по воле солнца. До тех пор, покуда я не становлюсь покорной игрушкой ветра, косы и медленных долгих взмахов, которые продвигают меня вперед. До тех пор, покуда не становится ясно, что я не сумею остановиться, даже если захочу.
Как это приятно – чувствовать, что не владеешь собой. Чувствовать, как тебя колышет мерный ритм маятника, пока не забудешь, что на свете существует неподвижность. Нечто подобное творилось со мной в первые месяцы жизни с Натаном, когда биение сердца отзывалось в каждой клеточке моего тела, и я готова была умереть – до того была счастлива, что желанна ему. Когда запах его тела, запах серы и растертых в ступке трав, конского пота и дыма из кузни порождал во мне сладостное головокружение. Сладостное осознание возможности счастья.
Я опьянена летом и сиянием солнца. Хочется жадно хватать горстями и глотать синеву неба. Острые лезвия кос рассекают стебли, и срезанная трава откликается едва слышным шорохом.
Внезапно я осознаю, что один работников – тот самый, которого зовут Гвюндмюндур, – пристально наблюдает за мной. Он отвернул голову вбок, чтобы спрятать ухмылку. Думает, я ничего не замечу.
Мне было четырнадцать, когда мужчины начали смотреть на меня вот так. Я нанялась в Гвюдрунастадир и прибыла туда в марте, неся в белом мешке свои скудные пожитки; голова у меня ныла от туго заплетенных кос. Моя первая взаправдашняя работа. Тогда же на хутор наняли одного молодого парня. Долговязый, с прыщавым лицом, он смотрел на девушек – на меня, Ингибьёрг и Хельгу – так, что мы изо всех сил старались избегать его. По ночам я слышала, как он трогает себя под одеялом – слышала лихорадочную возню, затем сдавленное мычание, а иногда тихий стон.
Тело мое раскачивается маятником, руки движутся сами собой. Я чувствую, как напрягаются мышцы живота. Коса взлетает и опадает, взлетает и опадает, ловит лезвием солнце, и блик его бьет в глаза – словно мне ослепительно подмигивает Господь. Я слежу за тобой, говорит коса, рассекая зеленое травяное море, ловя солнечный свет и отражая его мне в лицо. Работник по имени Гвюндмюндур шумно выдыхает, взмахивает косой и непристойно пялится на мои обнаженные руки. Я взметаю в воздух облако травы и света. Я слежу за тобой, говорит коса.
Преподобный Тоути вернулся в Корнсау, как и обещал, на следующее утро спозаранку, задолго до того, как солнце поднялось в небо со своего ночного лежбища. Каждая мышца ныла после первого дня сенокоса в Брейдабоулстадуре, и он, скача по дороге к долине Ватнсдалюр, наслаждался холодком, обдувавшим лицо и превращавшим дыхание кобылы в тончайшую дымку у ее ноздрей. Вчера во всем округе начался сенокос, и от вида наполовину скошенных лугов и подсохшей травы, которую сгребли в копны, дабы не отсырела от росы, возникало чувство порядка и довольства. Изобильный север – вот как называлось это великолепие. Всюду, куда ни глянь, по стерне шныряли мелкие птички, клевали насекомых, лишившихся привычного укрытия, а над покатыми крышами местных хуторов и крестьянских домов поднимались причудливые завитки дыма.
По ту сторону реки над Хваммуром близ Корнсау – обширной усадьбой, где, как было известно Тоути, проживал Бьёрн Блёндаль со своим семейством и слугами, – поднималось сразу несколько дымов. Обшитые деревом фасады жилых домов, примыкавших к усадьбе, могли похвастать окнами из настоящего стекла, ослепительно сверкавшими даже сейчас, в неярком утреннем свете. Словно глаза, подумал Тоути, у которого вдруг разыгралось воображение. Он слыхал, что почти все слушания по Идлугастадирскому делу проходили в гостевой комнате этой самой усадьбы – комнате, которая выходила окнами на излучину реки и золотистую бахрому спартины, окаймлявшую берега.
«Хотел бы я знать, что творилось в голове у Агнес, – размышлял Тоути, с другого берега реки вглядываясь в усадьбу. – Что почувствовала она, сидя там, в гостевой комнате, когда было объявлено, что она должна умереть? Глянула ли в окно, увидела ли плывущие по реке льдины?» Возможно, тогда было еще слишком темно, чтобы разглядеть ледоход. Возможно, окна прикрыли плотными занавесями, чтобы свет не пробивался наружу.
Окружной староста Йоун был во дворе у дома. Он и еще один человек – по всей видимости, местный работник, подумал Тоути, – точили косы. Йоун приветственно помахал точильным бруском, нахлобучил шляпу и только тогда двинулся навстречу Тоути.
– Благослови вас Господь, преподобный Торвардур.
– И тебе того же, – бодро ответил Тоути.
– Вы приехали повидаться с ней?
Тоути кивнул.
– Как вам Агнес?
Йоун пожал плечами.
– Жизнь продолжается.
– Она хорошая работница?
– Она хорошая работница, но… – Йоун осекся, не договорив.
Тоути мягко улыбнулся.
– Это лишь на время, Йоун.
Он ободряюще похлопал собеседника по плечу и хотел уже направиться в дом, когда Йоун внезапно сказал:
– Йоун Торвардссон вызвался их убить.
Тоути стремительно обернулся:
– Что?
– Пару недель назад он прискакал в Хваммур и объявил, что готов привести в исполнение приговор Фридрику, Сигге и Агнес. Сказал, что охотно помашет топором за фунт табака. – Йоун покачал головой. – За фунт табака.
– А что сказал Блёндаль?
Йоун поморщился:
– Что, по-вашему, он мог сказать? Торвардссон – никто, мелкая сошка. У Блёндаля на уме другой кандидат, хотя и не все одобряют этот выбор.
Тоути мельком глянул на работника, который привалился к стене дома, ловя каждое их слово.
– И кто бы это мог быть? – спросил Тоути.
Йоун с видимым отвращением помотал головой. За него ответил работник.
– Гвюндмюндур Кетильссон, – громко и отчетливо проговорил он. – Брат Натана.
– Мы можем посидеть в доме, если хочешь, – предложил Тоути, едва не оступившись на каменистом берегу ручья, протекавшего по соседству с хутором Корнсау.
– Мне нравится смотреть, как течет вода, – отозвалась Агнес.
– Что ж, хорошо. – Тоути стер водяные брызги с большого валуна и жестом предложил Агнес сесть. Сам он уселся рядом.
С берега ручья были хорошо видны земли, раскинувшиеся по ту сторону реки. Живописный пейзаж радовал глаз, но Тоути сейчас мог думать только о том, что сказал Йоун касательно палача. Он украдкой глянул на шею Агнес, казавшуюся еще бледнее на фоне камня, и невольно представил, как рассекает ее лезвие топора.
– Как вчера покосили? – спросил он вслух, силясь отогнать навязчивое видение.
– Было очень жарко.
– Это хорошо, – сказал Тоути.
Агнес развязала большой платок и достала клубок шерсти и несколько тонких вязальных спиц.
– Вы хотели расспросить меня о моих родных?
Тоути откашлялся, наблюдая за тем, как проворно задвигались ее пальцы, когда она принялась за вязанье.
– Да, верно. Ты родилась на хуторе Флага.
Агнес кивком головы указала на упомянутый хутор – покосившееся подворье слева от границы Корнсау. Хутор был так близко, что ветер доносил голоса перекликавшихся во дворе слуг.
– Да, вон на том самом.
– Твоя мать не была замужем.
– Вы узнали об этом из приходской книги? – Агнес натянуто усмехнулась. – Ни один священник не преминет записать в нее то, что считает важным.
– А Магнус, твой отец?
– Он тоже не был женат, если вы это имеете в виду.
Тоути поколебался.
– С кем же тогда ты жила, когда была ребенком? Агнес окинула рассеянным взглядом долину.
– Мне довелось пожить почти на всех местных хуторах.
– Твои родные часто переезжали?
– У меня нет родных. Мать покинула меня, когда мне исполнилось шесть лет.
– Как она умерла? – мягко спросил Тоути. И опешил, когда Агнес расхохоталась.
– Неужели моя жизнь выглядит такой безысходной? Нет, моя мать бросила меня у чужих людей, однако я предполагаю, что она до сих пор жива. Так ли это на самом деле – понятия не имею. Кто-то рассказал мне, что она попросту исчезла. Собралась однажды, ушла и не вернулась. С того дня прошло уже немало лет.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Что я ничего не знаю о своей матери. Что я не узнала бы ее, даже если бы увидела.
– Потому что тебе было всего шесть, когда она тебя бросила?
Агнес перестала вязать и прямо взглянула в глаза Тоути.
– Преподобный, вам следует понять одно: все, что мне известно о матери, я знаю со слов других людей. Главным образом о ее поступках, которые, как легко понять, эти люди не одобряли.
– Не могла бы ты рассказать мне, что именно тебе говорили?
Агнес покачала головой.
– Знать, какие поступки человек совершил, – одно, знать, каков он был на самом деле, – совершенно другое.
Тоути не желал отступать.
– Но, Агнес, дела порой красноречивей слов.
– И лживей! – тут же огрызнулась она. – Порой человеку с самого начала так не везет, что хочешь не хочешь, а поступишь опрометчиво. И когда кто-то твердит, будто она наверняка была плохой матерью именно из-за того опрометчивого поступка…
Тоути ничего не сказал на эти слова, и Агнес продолжала:
– Это нечестно. Люди утверждают, будто знают тебя как облупленную по твоим делам, а не потому, что сели рядом и выслушали то, что ты высказала начистоту. И хоть в лепешку разбейся, стараясь жить праведно, но если в этой долине ты хоть раз оступилась, тебе этого не забудут. Не важно, что ты хотела как лучше. Не важно, что внутренний голос шепчет: «Я не такая, как вы говорите!» – лишь чужое мнение решает, какова ты есть на самом деле.
Агнес умолкла, чтобы перевести дух. Голос ее с каждым словом звучал все громче, и Тоути безмолвно гадал, что могло вызвать такую лавину.
– Именно это, преподобный, произошло с моей матерью, – продолжала Агнес. – Какова была она на самом деле? Уж, верно, не такова, как говорят о ней, но она совершала ошибки, и о ней составилось стойкое мнение. Люди, которые нас окружают, не дают нам забыть, где и как мы оступились. Они считают, что имен но наши ошибки достойны того, чтобы записать их для потомков.
Тоути на мгновение задумался.
– И какую же ошибку совершила твоя мать?
– Мне рассказывали, преподобный, что ошибок в ее жизни было много, но по крайней мере одна из них – мое появление на свет. Моей матери просто не повезло.
– Что ты имеешь в виду?
– Она сделала то же, что многие женщины делают втайне безо всякого ущерба для себя, – с горечью проговорила Агнес. – Вот только моя мать оказалась среди тех немногих неудачниц, чья тайна оказалась выставлена на всеобщее обозрение.
Тоути почувствовал, что помимо воли краснеет. Он опустил взгляд на свои руки и как мог откашлялся.
Агнес посмотрела на него.
– Я опять оскорбила вас, преподобный, – заметила она.
Тоути помотал головой.
– Я рад, что ты рассказала мне о своем прошлом.
– Мое прошлое оскорбляет ваши чувства.
Тоути заерзал на камне.
– А что ты можешь сказать о своем отце? – осторожно спросил он.
Агнес рассмеялась.
– О котором из двоих? – Она перестала вязать и окинула Тоути испытующим взглядом. – Что там говорилось в вашей книге о моем отце?
– Что его звали Магнус Магнуссон и что, когда ты появилась на свет, он жил в Стоуридалюре.
Агнес снова принялась за вязанье, но Тоути заметил, что она крепко стискивает зубы.
– Если б вы потолковали кое с кем в этих краях, вам поведали бы совершенно другую историю.
– Как так?
Агнес, молча пересчитывая пальцем петли на спице, поглядела на другой берег реки, на хутора, рассыпавшиеся по ту сторону долины.
– Полагаю, не важно, честна я с вами или нет, – холодно заметила она. – Я могла бы наговорить вам все, чего ни пожелаю.
– Воистину я надеюсь, что ты будешь со мной искренна, – отозвался Тоути, не очень понимая, к чему она ведет. И придвинулся ближе, готовясь выслушать то, что скажет Агнес.
– В этой вашей книге, той, что хранится в Ундирфедле, следовало бы записать Йоуна Бьярнасона, хозяина хутора Бреккукот. Мне говорили, что моим отцом был именно он, а Магнус Магнуссон – просто незадачливый слуга, которому ума не хватило отвертеться.
Тоути растерялся.
– Почему же твоя мать объявила тебя дочерью Магнуса, если на самом деле это было совсем не так?
Агнес обернулась к нему, чуть улыбнувшись.
– Разве вы не знаете, преподобный, как устроен мир? – осведомилась она. – Йоун из Бреккукота – женатый человек, у него полным-полно законных отпрысков – да и таких, как я, хватает, уж будьте уверены. Однако родить ребенка от холостого мужчины считается меньшим грехом, нежели сойтись с тем, кто уже связан брачными узами с другой женщиной. Потому-то, видимо, моя мать и предпочла удостоить чести отцовства другого греховодника.
Тоути помолчал с минуту, обдумывая эти слова.
– И ты веришь в это, поскольку так тебе говорили другие люди?
– Если бы я, преподобный, верила всему, что когда-либо говорили о моих родных, я сейчас являла бы собой куда более жалкое зрелище. Ну да здешним жителям нет нужды учиться в Копенгагене или на юге, чтобы разобраться, кто чей ребенок и кто кому папаша. Здесь почти невозможно сохранить что-либо в тайне.
– Ты когда-нибудь спрашивала у него, правда ли это?
– У Йоуна Бьярнасона? А к чему хорошему это бы привело?
– Например, ты узнала бы истину, – заметил Тоути. Разговор вызывал у него все большее разочарование.
– Истины не существует, – сказала Агнес и встала.
Тоути тоже поднялся и стал отряхиваться.
– Истина в Боге, – сказал он серьезно, решив, что настал подходящий момент исполнить свои духовные обязанности. – Евангелие от Иоанна, глава восьмая, стих тридцать второй гласит…
– «И познаете истину, и истина сделает вас свободными», – перебила Агнес. – Да знаю я эти слова, знаю. – Она сложила вязанье и решительным шагом направилась назад к хутору. – Только это не про меня, преподобный! – обернувшись, крикнула она. – На суде я открыла истину – и вы сами видите, к чему это меня привело.
Не след преподобному читать приходские книги, да и вообще не след читать книги – что он сыщет там обо мне? Только то, что сочли для себя важным другие люди.
Когда преподобный нашел в церковной книге мое имя и дату рождения – увидел ли он только слова и цифры? Или же разглядел туман, который стоял в тот день, и услышал карканье воронов, почуявших запах крови? Представил ли все происходившее так, как представляла я? Как моя мать, всхлипывая, прижимала меня к теплой, липкой от пота груди. Как сжималась под взглядами женщин с хутора Флага, уже сознавая, что ей придется покинуть хутор и искать работу в другом месте. И что ни один хозяин хутора не наймет на работу служанку с новорожденным на руках.
Если преподобный и впрямь хочет разузнать побольше о моих родных – ему придется нелегко. Два отца и мать, которая чудится мне смутным, размытым силуэтом – так видятся незнакомцы, уходящие в круговерть бурана. Слишком мало сохранилось о ней у меня отчетливых воспоминаний. Одно – о том дне, когда она покинула меня. Другое – как я, совсем маленькая, смотрю на мать в свете лампы, разгоняющем темноту зимней ночи. Это воспоминание безмолвное, в котором не сохранилось ни единого звука, и ему, как многим другим, я не могу доверять. Воспоминания беспрерывно кружатся, словно снежные хлопья на ветру, или же уподобляются хору призраков, которые говорят только друг с другом. Неизменным остается только одно ощущение: то, что реально для меня, не существует для других, и поделиться таким воспоминанием с посторонним человеком – значит пошатнуть мою собственную убежденность в том, что все происходило именно так. Преподобный – тот ли самый человек, сохранившийся в моей памяти, или же совершенно другой? Сделала ли я то, что сделала, или же совершенно другое? Магнус или Йоун? Словно тонкая корочка льда, подернувшая реку – слишком хрупкая, чтобы ей доверяться.
Смотрела ли моя мать на свою новорожденную дочь и думала: «Когда-нибудь я покину тебя»? Вглядывалась ли в мое сморщенное личико с затаенной надеждой, что я умру, или же безмолвно умоляла меня держаться за жизнь так же цепко, как репейник держится за землю корешками? Быть может, она смотрела на долину, погруженную в туман и безмолвие, смотрела и гадала, что сможет мне дать. Ложь об отце. Черные волосы. Ясли для скота вместо колыбели. Поцелуй. И волшебный камешек, чтобы я научилась понимать речи птиц и никогда не была одинока.
Глава 5
Скальд-Роуса – Агнес Магнусдоттир
Июнь 1828 года
- Undrast þarftu ei, baugabrú
- þó beiskrar kennir þínu:
- Hefr burtu hrífsað þú
- helft af líf mínu.
- Что дивишься? Для тебя ли
- Мои муки – диво?
- У меня не ты взяла ли
- Все, чем сердце живо?
Ответ Агнес Магнусдоттир Скальд-Роусе
Июнь 1828 года
- Er mín klára ósk til þín
- angurs tárum bundin:
- Ýfðu ei sárin sollin mín,
- sólar-báru hrundin.
- Sorg ei minnar sálar herð!
- Seka Drottin náðar,
- af þvi Jésus eitt fyrir verð
- okkur keypti báðar.
- Умоляю, пощади,
- Полная растравы,
- В ярости не береди
- Раны мне кровавы.
- Дух мой в горести застыл,
- Один Иисус со мною,
- Что нас обеих искупил
- Единою ценою.
– КАКОВО ЭТО – НАХОДИТЬСЯ С НЕЙ в одной комнате? Я бы, наверное, не сумела и глаз сомкнуть, – призналась Ингибьёрг Пьетурсдоттир.
Маргрьет поглядела туда, где у самой реки работники из Корнсау усердно косили траву.
– О, не думаю, чтобы она посмела совершить что-то противозаконное.
Обе устроились на поленнице, сложенной около подворья Корнсау. Ингибьёрг, низенькая, неприметная женщина с соседнего хутора, явилась навестить Маргрьет, узнав, что подруга из-за усилившегося кашля не может трудиться на сенокосе. Хотя Ингибьёрг не обладала и каплей язвительности или прямоты, присущих Маргрьет, женщины крепко дружили и частенько ходили в гости друг к другу, когда река, разделявшая хутора, мелела настолько, что через нее можно было перебраться вброд.
– Роуслин, судя по всему, считает, что вас всех придушат во сне.
Маргрьет отрывисто хохотнула.
– Поневоле подумаешь, что Роуслин именно этого бы и хотелось.
– Что ты имеешь в виду?
– Что тогда уж этой трещотке нашлось бы о чем потрещать.
– Маргрьет… – предостерегающе проговорила Ингибьёрг.
– Ах, Инга, оставь. Ты не хуже меня знаешь, что от этой своры ребятишек у нее давно мозги набекрень.
– У младшего круп.
Маргрьет вскинула брови.
– Значит, скоро и остальные с ним слягут. То-то мы наслушаемся, как они вопят ночь напролет.
– И живот у нее изрядно вырос.
Маргрьет ответила не сразу.
– Ты собираешься помогать ей при родах? Знаешь, она уже столько раз рожала, что вполне могла бы и сама справиться.
Ингибьёрг вздохнула.
– Не знаю. У меня дурное предчувствие.
Маргрьет испытующе вгляделась в помрачневшее лицо подруги.
– Ты видела сон? – спросила она.
Ингибьёрг открыла было рот, собираясь что-то сказать, но передумала.
– Уверена, все это чепуха. Да и ну их, эти мрачные разговоры! Расскажи мне про убийцу.
Маргрьет поневоле рассмеялась.
– Ну вот! Ты ничем не лучше Роуслин.
Ингибьёрг улыбнулась.
– И все-таки – какова она на самом деле, эта женщина? Похожа ли на преступницу? Ты ее боишься?
Маргрьет на минуту задумалась.
– Знаешь, она совсем не такая, какой я могла бы представить себе убийцу, – наконец сказала она. – Спит, работает, ест – как и все, правда, молча. Слова от нее дождешься так редко, словно у нее рот зашит. Тот молодой проповедник из Брейдабоулстадура, преподобный Тоути, в последнее время снова стал посещать ее, и я знаю, что с ним-то она говорит, но мне он не рассказывает, что там между ними происходит. Может, и вовсе ничего. – Маргрьет поглядела на луг. – Я частенько гадаю, какие мысли крутятся у нее в голове.
Ингибьёрг проследила за взглядом Маргрьет, и теперь обе женщины смотрели на Агнес, которая истово взмахивала косой среди густой травы – лезвие то и дело ослепительно вспыхивало на солнце.
– Кто знает? – пробормотала Ингибьёрг. – Я содрогаюсь при одной мысли о том, что творится под этими черными волосами.
– Преподобный говорит, что ее матерью была Ингвельдур Рабнсдоттир.
Ингибьёрг помолчала.
– Ингвельдур Рабнсдоттир, – повторила она. – Знала я когда-то одну Ингвельдур. Она была распутницей.
– Из воронова яйца голубка не вылупится, – согласилась Маргрьет. – Как-то странно думать о том, что Агнес – тоже чья-то дочь. Представить не могу, чтобы моим девочкам пришло в голову совершить такой ужасный грех – смертоубийство.
Ингибьёрг кивнула.
– А как поживают твои девочки?
Маргрьет встала и отряхнула юбку от пыли.
– Ты знаешь… – начала она и вновь закашлялась. Ингибьёрг принялась поглаживать ее по спине.
– Ну-ну, осторожней.
– Все в порядке, – сипло буркнула Маргрьет. – Знаешь, Стейне кажется, будто она уже встречалась с этой женщиной.
Ингибьёрг глянула на подругу с любопытством.
– Стейна считает, что именно ее мы повстречали много лет назад на дороге в Гвюдрунастадир.
– Опять Стейна сочиняет?
Маргрьет поморщилась.
– Бог ее знает. Я-то ничего такого не помню. По правде говоря, Стейна меня немного беспокоит. Она улыбается Агнес.
Ингибьёрг рассмеялась:
– Ох, Маргрьет! Может ли такое быть, чтобы улыбка довела до беды?
– Да сплошь и рядом! – отрезала Маргрьет. – Взять хоть ту же Роуслин… Но мало того. Стейна еще и расспрашивает насчет Агнес, а если идет куда, то так и норовит прихватить ее с собой. Да вон посмотри – она и сейчас, когда ворошит траву, идет следом за этой женщиной! – Маргрьет ткнула пальцем в сторону Стейны, которая работала граблями рядом с Агнес. – Ингибьёрг, я не знаю, что и думать, у меня из головы не выходит бедняжка Сигга, и я опасаюсь, как бы со Стейной не приключилось то же самое.
– Сигга? Та, другая служанка из Идлугастадира?
– Что, если Агнес точно так же влияет и на Стейну? Толкает ее на дурную дорожку? Вкладывает ей в голову преступные мысли?
– Ты ведь только что сказала, что Агнес почти все время молчит.
– Со мной – да. Но я не могу отделаться от мысли, что с другими… Да ладно, не обращай внимания.
– А как Лауга? – задумчиво спросила Ингибьёрг.
Маргрьет хихикнула.
– Лауга бесится оттого, что вынуждена жить в одном доме с Агнес. Нам всем это не по нутру, но Лауга не желает даже спать на соседней с ней кровати. Следит за ней, точно ястреб. И бранит Стейну за то, что та прямо липнет к этой убийце.
Ингибьёрг окинула внимательным взглядом младшую дочь Маргрьет, которая усердно укладывала скошенную траву ровными, как ниточка, рядами. Рядом с ее работой следы трудов Стейны смотрелись корявыми, словно детские каракули.
– А что говорит Йоун?
Маргрьет фыркнула.
– А что он может сказать? Стоит мне завести разговор на эту тему, он тут же начинает толковать о своем долге перед Блёндалем. Впрочем, я заметила, что он все время начеку. И просил меня не допускать девочек к Агнес.
– На хуторе это вряд ли можно устроить.
– Именно. Я точно так же могу отделить их от Агнес, как Кристин – отделить сливки от молока.
– Боже милостивый.
– Кристин совершенно бестолковая, – сухо пояснила Маргрьет.
– Тем лучше, что у тебя под рукой имеется еще одна работница, – трезво заметила Ингибьёрг.
И женщины погрузились в дружелюбное молчание.
Прошлой ночью мне снилась казнь. Мне снилось, что я, одна-одинешенька, ползу по снегу к темному пню. Я почти не чувствовала замерзших коленей и рук, но иного выхода у меня не было.
Добравшись до пня, я увидела, что поверхность у него широкая и чрезвычайно гладкая. Я учуяла запах дерева. Не солоноватый, как пахнет плавник, – запах свежего древесного сока, свежепролитой крови дерева. Более сильный, более сладкий.
Во сне я подползла к пню и положила на него голову. Пошел снег, и я подумала: «Такая тишина бывает перед концом». А потом удивилась, откуда здесь взялся пень, дерево, которое росло здесь совсем недавно, – откуда взялось оно там, где деревья не растут вовсе? Слишком тихо, подумала я во сне. Слишком много камней.
А потому я обратилась к этому пню вслух. И сказала: «Я полью тебя кровью, как если бы ты был еще живым». И на этом последнем слове проснулась.
Это сон ужаснул меня. С тех самых пор, как здесь начался сенокос, я погрузилась в некое подобие своей прежней жизни и позабыла, что зла на весь мир. Этот сон напомнил мне о том, что неизбежно произойдет, о том, как стремительно, один за другим, убегают мои дни, и сейчас, бессонно лежа в комнате, полной чужих людей, глазея на прихотливые узоры из сухой травы и дерна, покрывающие потолок, я чувствую, как сердце мое вновь и вновь, раз за разом тяжело проворачивается в груди – до тех пор, пока судорога не скручивает желудок.
Надо помочиться. Дрожа всем телом, я выбираюсь из кровати и оглядываю пол в поисках ночного горшка. Он стоит под кроватью одного из работников и почти полон, но мне некогда его опорожнять. Растянувшиеся чулки сами сползают до лодыжек, я сажусь на корточки, и горячая струя бьет в горшок, брызжет мне на бедро. Пот выступает на лбу.
Я надеюсь, что никто не проснется и не увидит меня, и так тороплюсь, что подтягиваю чулки прежде, чем покончила с делом. Теплая струйка ползет по моему бедру, когда я задвигаю горшок на место.
Почему я так дрожу? Ноги подгибаются, словно ватные, и я испытываю неимоверное облегчение, снова улегшись в постель. Сердце мое лихорадочно и невнятно трепыхается в груди. Натан всегда верил, что сны снятся нам неспроста. Странно, что человек, который мог запросто посмеяться над словом Божьим, так истово доверялся зыбкой тьме своих сновидений. Он строил здание своей веры на бабьих сказках; видел промельк взора Божьего в повадках моря, парящем кречете, мерном хрусте жующих овечьих челюстей. Застав меня однажды с вязаньем на пороге дома, он гневно заявил, что я, мол, отодвигаю приход весны. «Не думай, будто природа не следит за нами, – предостерегал он. – Она все сознает, так же как мы с тобой. – Натан улыбнулся мне. Провел гладкой широкой ладонью по моему лбу. – И такая же скрытная».
Я думала, что смогу быть здесь просто служанкой. Миновал всего месяц с небольшим моей жизни в Корнсау, а я уже позабыла, что меня ждет. Дни, наполненные трудами, умиротворили меня, подарили моему телу усталость и желание отдохнуть, и я спала крепко, не видя снов, пронизанных дурными предзнаменованиями. Так было до сегодняшней ночи.
К чему заблуждаться – я здесь чужая. Все, кроме преподобного и Стейны, избегают говорить со мной, разве что на ходу бросят два-три слова. Впрочем, разве это хоть чем-то отличается от прежних лет, когда на меня сваливали самую черную работу, в том числе опорожнять ночной горшок – что, вне всякого сомнения, потребуют от меня сделать и через пару часов? В сравнении с обитателями Стоура-Борга здешние люди – образчик доброты.
Но скоро нагрянет зима, как обрушивается на берег внезапная штормовая волна, она сотрет даже память о тепле и солнце, до костей проморозит землю. Все так быстро закончится. И как быть с преподобным – с тем, что он так непозволительно молод, и с тем, что я до сих пор не знаю, что ему сказать? Я думала, он сумеет мне помочь, как когда-то помог переправиться через реку. И однако же все разговоры с ним только лишний раз напоминают мне, как несправедливо обходилась со мной жизнь и как никто меня не любил.
Я ожидала, что преподобный поймет меня с первого слова. Я хочу, чтобы он понял меня, но глупостью было бы полагать, будто мы с ним изъясняемся на одном наречии. С тем же успехом я могла бы говорить с ним, держа во рту камешек, безуспешно пытаясь отыскать язык, который был бы понятен нам обоим.
Преподобный еще не скоро приедет сюда из Брейдабоулстадура – до рассвета пока что слишком далеко. Я сплетаю пальцы рук поверх одеяла, велю струнам моего сердца ослабить напряжение, и думаю о том, что же мне рассказать.
Тоути желает узнать побольше о моих родных, однако то, что я уже рассказала, оказалось совсем не тем, что он желал услышать. Ему, верно, кажется диким, что в этой долине фамильные древа так причудливо искривлены, что ветви их туго переплетаются и усеяны шипами.
Я ничего не говорила преподобному про Йоуаса и Хельгу. Быть может, ему интересно будет узнать, что у меня были брат и сестра. Я без труда могу представить его вопросы: «Где они теперь, Агнес? Почему не навещают тебя?»
Ну что вы, преподобный, отвечу я, родство между нами не вполне кровное; у каждого из них свой отец, а Хельга вдобавок давно умерла. Йоуас? По правде говоря, он не из тех, кого можно на что-то уговорить, даже на то, чтобы повидаться с сестрой, приговоренной к смерти.
Ох, Йоуас… Я никак не могу увязать в своих мыслях мутноглазого мужчину и смутный милый облик крохотного мальчика, которого мне когда-то позволяли любить.
Нас укачивала на руках одна и та же мать. На каких хуторах? Бесчисленные бадстовы, принадлежавшие чужим мужчинам и их заплаканным женам, которые по доброте или от безвыходности были готовы нанять на работу женщину с двумя нахлебниками, что по ночам плакали от голода, поскольку еще не знали, что это бесполезно.
Вначале – Бейнакельда. Как говорят, до тех пор, пока мне не исполнилось три. Только мама и я. Ничего не помню. Сплошной мрак.
Потом – Литла-Гильяу. Сам хутор я не помню, но помню мужчину. Идлуги Черный – так прозывали отца моего брата. Я сижу на полу, растираю ладошками грязь, и вдруг рядом оказывается взрослый человек, глаза у него закатились, он извивается на полу, точно рыба, выброшенная волной на берег, и все женщины пронзительно кричат, увидев, как изо рта его идет пена. Потом, когда приступ позади, с его кровати доносятся стоны, а его морщинистая жена прижимает меня лицом к своей костлявой шее и твердит: «Молись за него! Молись!» Где была в это время моя мать? Вне сомнения, раскорячилась над ночным горшком, выискивая следы крови, которая в положенное время так и не появилась.
Я помню громкие вопли. Идлуги уже здоров, и его грубое лицо искажено криком, он орет на жену, которая никак не перестанет плакать, а между ними моя мама в длинных юбках, и ее тошнит прямо на пол.
Идлуги умер от этой своей падучей болезни, умер во время рыбалки. Говорят, он пил, а потом у него начался приступ, он опрокинул лодку и утонул, запутавшись в собственных сетях. Другие говорят, что это было достойное возмездие для того, кто ловил рыбу в заводях аульвов – но то были речи людей, которых пробрали до печенок его пьянство и драчливость.
Ну и как же расценит эту историю преподобный?
Йоуас Идлугасон, родившийся на хуторе Бреккукот, третьем по счету. Мне, пятилетней, было дозволено прижимать к его крохотным розовым деснам тряпку, смоченную в молоке. Супруги, хозяева хутора, захотели оставить его у себя и растить вместе с собственными детьми, и мама растолковала, что я тоже стану их приемной дочерью, и так будет лучше для всех. Весь следующий год мы семеро жили одной дружной семьей, и я помогала выкормить малыша, столь же светловолосого, сколь темноволосой была я. От него пахло талым снегом и свежими сливками.
А потом эти люди, должно быть, передумали. Как-то утром я проснулась оттого, что меня трясли за плечо, и увидела маму, которая смотрела на меня припухшими от слез глазами. Я спросила, почему она плачет, но мама ничего не ответила. Она улеглась в постель со мной и Йоуасом, и я заснула, прижавшись к ее мягкому горячему телу, – а потом меня разбудило карканье домашних воронов, и я обнаружила, что мои пожитки лежат в мешке на полу.
В то утро мы пустились в путь пешком и вернулись в долину недобрым днем, плюющимся сгустками снега. Мне казалось, что я вот-вот упаду в обморок от голода. Мы остановились во дворе хутора Корнсау, и прежде, чем я успела расправиться с сывороткой, которую дала мне бывшая там женщина, мама пошептала мне на ухо, сунула в варежку какой-то камешек и ушла, унося на спине Йоуаса.
Я пыталась нагнать ее. Я кричала. Я не хотела расставаться. Однако на бегу я споткнулась и упала. Когда я поднялась на ноги, моя мать и брат исчезли бесследно, и я увидела только двух воронов, чьи черные перья до рези в глазах выделялись на белом снегу.
Долгое время я думала, будто эти две птицы и есть мои мама и брат. Вот только они ни разу не ответили мне, даже когда я сунула под язык волшебный камешек. Годы спустя я узнала, что мама родила от хозяина хутора Крингла мою единоутробную сестру Хельгу, а Йоуас стал нищим и живет подаянием. Впрочем, к тому времени я уже убедила себя, что больше их не люблю. Я считала, что нашла себе семью лучше прежней, приемную семью – Ингу и Бьёрна, арендаторов Корнсау.
– Как спалось, Агнес?
Стейна отыскала темноволосую женщину за грядкой любистока, где та выливала в зольную яму содержимое ночного горшка.
– Ты здесь вымокнешь до нитки, – заметила Агнес. Она только что выскребла камнем то, что прилипло ко дну горшка, и сейчас вытирала горшок о траву. – Сейчас пойдет дождь.
– Да и пусть. Захотелось побыть с тобой. – Стейна приподняла над головой платок. – Вот, пожалуйста – суха, как мышь.
Агнес глянула на нее и улыбнулась уголками рта.
– Смотри, – проговорила Стейна. И указала рукой на устье долины, куда наплывали с севера низкие серые тучи.
Агнес подняла руку к небу.
– Плохо дело. Сено вымокнет.
– Знаю. Пабби очень не в духе. Накричал на Лаугу, что сожгла ему завтрак, а ведь он в жизни на нее голоса не повысит.
Агнес повернулась и прямо взглянула в глаза Стейны.
– А он знает, что ты сейчас здесь, со мной?
– Думаю, что знает.
– А я думаю, что тебе лучше вернуться в дом, – сказала Агнес.
– Что мне делать в доме? Слушать, как Лауга бранит меня за то, что я развела слишком сильный огонь? Нет уж, спасибо. Да и в любом случае мне здесь приятней, чем в доме.
– Даже под дождем?
– Даже под дождем. – Стейна зевнула и поглядела на луг, на копны сена, сметанные в стога, чтобы не отсырели. – Вся работа насмарку.
– Что значит – насмарку? Пускай только распогодится – мы опять возьмемся за дело и живо все закончим. – Агнес искоса глянула на дом. – Все же я думаю, что тебе надо вернуться к матери.
– Матери все равно, где я болтаюсь.
– Вот уж не все равно. Ей не по душе, когда ты остаешься со мной наедине, – осторожно проговорила Агнес.
– Да ведь ты живешь здесь уже несколько недель.
– И тем не менее.
С этими словами Агнес повернулась и неспешным шагом двинулась к реке. Стейна нагнала ее и пошла рядом.
– Как думаешь, преподобный сегодня приедет?
Агнес ничего не ответила.
– О чем он с тобой говорит?
– Это мое дело.
– Что?
– Я сказала, это – мое дело. И оно не касается ни тебя, ни твоих родных.
Стейна опешила и замедлила шаг, глядя, как Агнес решительно шагает дальше вниз по склону, неловко прижимая к боку ночной горшок.
– Ты на меня сердишься? – осторожно спросила она.
Агнес остановилась и развернулась к Стейне:
– С чего бы мне сердиться на такую девчонку?
Стейна вспыхнула от негодования.
– Да хотя бы с того, что мои родные держат тебя в заключении, а мой отец не желает, чтобы с тобой разговаривали.
– Он так сказал? – осведомилась Агнес.
– Он считает, что нам не следует отвлекать тебя от работы.
– Он прав.
Стейна нагнала Агнес и ласково взяла ее за руку.
– Знаешь, Лауга боится тебя. Она наслушалась лживых россказней Роуслин. А я вот не верю ни единому слову сплетен. Я помню, какой ты была. Помню, как ты была добра к нам, как поделилась с нами едой.
Стейна подалась ближе.
– Я не думаю, что это ты их убила, – прошептала она. Рука Агнес, которую сжимали ее пальцы, словно окаменела. – Может, я сумела бы тебе помочь, – быстро добавила Стейна.
– Каким образом? – спросила Агнес. – Ты помогла бы мне сбежать?
Стейна выпустила ее руку.
– Мне приходила мысль насчет прошения, – пробормотала она.
– Прошения.
Стейна решила не сдаваться.
– Ну хорошо, обжалования приговора. Такого же, какой подали за Сиггу.
Глаза Агнес вспыхнули:
– Что?!
– Ну да, Блёндаль подал прошение помиловать ту, другую… – запинаясь, выговорила Стейна.
– Какую еще другую?
– Сиггу… ту самую, другую служанку из Идлугастадира. Зазнобу Фридрика.
Лицо Агнес побелело. Она медленно опустила ночной горшок на мокрую траву и сделала шаг к Стейне.
– Блёндаль обжаловал приговор Сигридур Гвюндмюндсдоттир? – зловеще проговорила она.
Стейна кивнула, почувствовав смутный испуг. И украдкой глянула на камень, который Агнес до сих пор сжимала в руке.
– Я слышала разговор пабби с мамой, – пояснила она. – Старосты округа обсуждали это решение в Хваммуре, у Блёндаля. В тот самый день, когда тебя привезли сюда.
Агнес помотала головой.
– Я думала, ты знаешь, – прошептала Стейна.
Взгляд Агнес соскользнул с лица Стейны, и она пошатнулась.
– Так значит, Блёндаль… – пробормотала она едва слышно. И с такой силой стиснула в руке камень, что костяшки пальцев побелели.
– Прости, что я тебе об этом рассказала.
Агнес, пошатываясь, отступила на шаг и на негнущихся ногах двинулась дальше, к реке.
– Может, нам удастся уговорить Блёндаля подать прошение и за тебя! – крикнула ей вслед Стейна. – Расскажи им, что на самом деле случилось в Идлугастадире!
Агнес рухнула на речной берег, юбки вздулись вокруг нее пузырем. Стейна, решив, что она потеряла сознание, бегом бросилась к ней, но, подбежав ближе, увидела, что Агнес невидяще, широко открытыми глазами смотрит на реку. Ее била дрожь. В это мгновение небеса, затянутые тучами, разверзлись, и на женщин обрушился ледяной ливень.
– Агнес! – позвала Стейна, плотнее обматывая платком голову. – Вставай! Пойдем скорей под крышу!
Слова ее утонули в шуме проливного дождя.
Агнес не откликнулась. Она неотрывно смотрела, как крупные капли падают в быстро бегущую реку, прихотливо коверкая абрис гор, отражающийся в ее воде. И по-прежнему сжимала в руке камень.
– Агнес! – закричала Стейна. – Прости! Я думала, ты знаешь!
Платок промок насквозь, и она чувствовала, как тяжелеет пропитавшееся водой платье. На мгновение Стейна помешкала на берегу, а затем развернулась и побежала вверх по склону холма, к подворью. Земля под ногами раскисла от дождя, и Стейна то и дело оскальзывалась в грязи. На полдороге она оглянулась и увидала, что Агнес так и не тронулась с места. Стейна еще раз позвала ее и, спотыкаясь, побежала по расквашенной тропке к хутору.
– Силы небесные, Стейна! Где тебя носило? – возмутилась Маргрьет, бросившись по коридору к старшей дочери, которая с грохотом захлопнула за собой входную дверь. – Ты как будто в реку свалилась!
– Это все из-за Агнес! – задыхаясь, едва выговорила Стейна и бросила на пол промокший насквозь платок.
– Что она тебе сделала? Боже милостивый, защити нас! Я так и знала! – Маргрьет обхватила руками дочь, которая тряслась от холода, притянула ее к себе.
– Да ничего она мне не сделала! – выкрикнула Стейна, оттолкнув мать. – Ей нужна помощь, она там, у реки!
– Что случилось? – Из кухни вынырнула Лауга. – Стейна! Ты испачкала мой платок!
– Ну и ладно! – выкрикнула Стейна. И снова повернулась к матери: – Я рассказала ей, что за Сигридур Гвюндмюндсдоттир подали прошение о помиловании, а она стала такая странная, вся побелела и теперь не хочет встать и уйти!
Маргрьет обернулась к Лауге:
– О чем она говорит?
– Не о чем, а о ком! Об Агнес! – пронзительно крикнула Стейна. И, стерев рукавом с лица дождевые капли, бросилась бежать по коридору. – Я должна рассказать пабби!
Йоун сидел в бадстове и чинил башмаки.
– Стейна? – удивленно проговорил он, оторвавшись от работы.
– Пабби! Пожалуйста, очень тебя прошу, пойди к Агнес! Я рассказала ей о прошении, которое Блёндаль подал за ту, другую служанку, и она точно обезумела.
Йоун тотчас же сбросил башмаки с колен на пол и встал.
– Где она? – очень тихо спросил он.
– У реки, – ответила Стейна, борясь со слезами.
Йоун выдернул из-под кровати сапоги и рывком натянул их на ноги.
– Прости, пабби, я думала, что она об этом знает! Я хотела ей помочь!
Йоун встал и крепко взял дочь за плечи. Лицо его порозовело от гнева.
– Я велел тебе держаться от нее подальше.
Он ожег Стейну яростным взглядом, оттолкнул ее с дороги и вышел, кликнув Гвюндмюндура, который валялся на своей кровати. Работник неохотно поднялся. Стейна села и расплакалась.
Минуту спустя в бадстову вошла Лауга в сопровождении Кристин.
– Что сказал пабби? – негромко спросила она – и тут увидела, где именно сидит Стейна. – Эй! Встань сейчас же, ты намочишь мою постель!
– Отстань! – взвизгнула Стейна так пронзительно, что Кристин ойкнула и пулей вылетела из комнаты. – Отстань от меня!
Лауга усмехнулась и покачала головой.
– Ты не в себе, Стейна. Чем это ты занималась там, у реки? Пыталась завести себе подружку?
– Да провались ты в ад!
У Лауги отвисла челюсть. Она сердито глянула на сестру, словно собиралась прикрикнуть, но лишь сузила глаза.
– Думай, что говоришь! – прошипела она. – Будешь продолжать в том же духе – станешь такой же злодейкой, как эта женщина!
С этими словами Лауга повернулась, чтобы уйти, но помедлила.
– Я буду за тебя молиться, – фыркнула она и вышла из комнаты.
Стейна уронила лицо в ладони и зарыдала.
Я сижу на кровати и слушаю, как за серой занавеской, в гостиной, Маргрьет, Йоун и их дочери разговаривают обо мне. Хотя Маргрьет говорит едва слышным шепотом, я различаю слова, которые просачиваются из гостиной в щель под занавеской. Руки мои дрожат, я чувствую, как неистово колотится в груди сердце. Как будто я только что бежала со всех ног, спасаясь от опасности. То же самое было со мной в суде, когда я ощущала себя вне всего происходящего.
Я могла бы быть нищенкой или их служанкой – до тех пор, пока не прозвучали эти слова. Сигга! Идлугастадир! Они приковывают меня к воспоминанию, от которого у меня перехватывает дыхание. Это не слова, а колдовское заклятие, которое превращает меня в чудовище, и вот я – Агнес из Идлугастадира, Агнес – огонь, Агнес – мертвые окровавленные тела, еще не сгоревшие, и на одном из них до сих пор одежда, которую я сшила собственными руками. Сиггу освободят, но меня не освободят, потому что я Агнес – проклятая, хитроумная Агнес. И сейчас мне так страшно, я-то думала, что смогу, что сумею притвориться, но нет – не смогла, не выйдет, неизбежного не миновать.
Письмо было небольшое, написанное убористым наклонным почерком на клочке бумаги, и строчки наезжали друг на друга, выдавая попытку автора сэкономить место. Тоути унес его, чтобы прочесть, в бадстову, где он как раз обедал.
– Опять Блёндаль? – осведомился отец, не поднимая глаз от своей порции мяса.
– Нет, – ответил Тоути, быстро пробегая взглядом письмо. «Приезжайте скорей, с Агнес Магнусдоттир беда; я не хотел бы сообщать Блёндалю. Ваш брат во Христе, Йоун Йоунссон». – Это из Корнсау.
– Разве им неизвестно, что идет дождь? И сегодня воскресенье, – пробормотал пожилой священник.
Тоути присел к столу и окинул отца внимательным взглядом. В бороде у старика виднелись крошки засохшей каши.
– Я должен ехать, – сказал он.
Преподобный Йоун тяжело выдохнул.
– Сегодня воскресенье, – повторил он.
– Да, – сказал Тоути, – день Господень. – И прибавил: – День для трудов во имя Господа.
Преподобный Йоун извлек изо рта кусок хряща, придирчиво осмотрел его и снова принялся жевать.
– Отец?
– Надеюсь, Блёндаль узнает, как добросовестно ты исполняешь его волю.
– Волю Господа, – мягко поправил Тоути. – Спасибо, отец. Я вернусь вечером. Или завтра, если погода ухудшится.
Добравшись до перевала, который вел в долину Ватнсдалюр, Тоути вымок до нитки. Тут он разглядел гонца, доставившего письмо, и пришпорил кобылку, чтобы его нагнать.
– Эгей! – крикнул Тоути, вглядываясь в сплошную пелену дождя.
Всадник обернулся в седле, и Тоути узнал одного из батраков Корнсау. Тот оделся, как для рыбалки, чтобы уберечься от дождя.
– Так вы все же поехали! – громко откликнулся он. – Что ж, теперь по этой собачьей погоде носит уже двоих!
– Беда для сенокоса, – отозвался Тоути, чтобы поддержать разговор.
– Вот уж мне этого можете не говорить! – фыркнул всадник. – Мое имя Гвюндмюндур. – Он приветственно помахал рукой. – А вы тот самый преподобный, что пытается спасти душу нашей убийцы.
– Ну, я…
– Жуткое дело! – перебил слуга. – У меня от этой бабы мороз по коже.
– Что ты имеешь в виду?
Батрак хохотнул.
– Буйная она, вот что.
Тоути пришпорил кобылку, чтобы не отстать.
– Что произошло? В письме…
– Да она взбесилась. Отбивалась от меня и Йоуна, царапалась, кусалась, беспрерывно визжала, а сама промокла насквозь и валяется в грязи, словно чокнутая. Видите? – Он показал синяк на виске. – Это ее работа. Я ей помогаю подняться, а она меня – камнем по башке. И вопит всякое насчет Блёндаля. Говорят, вот такое же она выделывала в Стоура-Борге, оттого ее и перевели.
– Ты уверен? – Тоути Агнес показалась на удивление сдержанной.
– Я думал, она меня там, на месте, и прикончит.
– Что вывело ее из себя?
Работник чихнул и пальцем в перчатке вытер нос.
– А я почем знаю? Одна из девчонок что-то ей сказала. Про ту, другую служанку, которую прижали за убийство. Сиггу, что ли.
Тоути обернулся и глянул на лужи, стоявшие впереди на тропе. Ему стало не по себе.
– А она ничего! – сообщил Гвюндмюндур, со значением глянув на Тоути.
– Прошу прощения?
– Да я про Агнес, – пояснил слуга. – Волосы красивые, и все такое. Правда, на мой вкус, чересчур долговязая. Укоротить бы… ну, примерно на голову, смекаете, о чем я?
Он подмигнул Тоути и захохотал.
Тоути надвинул на глаза шляпу. Дождь на минуту ослаб, но хлынул с новой силой, едва они повернули в долину. Серая пелена клубилась над покатым спуском, и потоки воды низвергались в оскаленные недра горных пропастей.
Когда Тоути вошел в бадстову, Агнес была в постели. Кристин, прислуга, принесла ему табурет, а младшая дочь хозяина захлопотала, снимая с него мокрую одежду. Когда Лауга нагнулась, чтобы распутать завязки на его сапогах, Тоути поверх ее спины вгляделся в неосвещенный угол, где сидела на кровати Агнес. Она была пугающе, нечеловечески неподвижна.
Лауга сдернула второй сапог так резко, что Тоути едва не свалился с табурета.
– Пойду, с вашего позволения, – пробормотала она и вышла из комнаты, неся сапоги на вытянутых руках перед собой.
Тоути, ступая по полу в сырых носках, двинулся к Агнес. Она сидела, привалившись боком к деревянному столбику кровати, и Тоути, подойдя ближе, увидел, что на ней наручники.
– Агнес?
Женщина открыла глаза и невидяще уставилась на него.
Тоути присел на краешек ее кровати. В тусклом свете лицо ее казалось пепельно-бледным, разбитая губа кровоточила.
– Что случилось? – мягко спросил он. – Почему тебя опять заковали в кандалы?
Агнес поглядела на свои запястья так, словно увидела их впервые. И с трудом сглотнула.
– Сигга получит помилование. Блёндаль обратился к королю с прошением смягчить ей приговор. – Голос женщины сорвался. – Ее жалеют.
Тоути сел прямо и кивнул:
– Я знал об этом.
– Знали?! – потрясенно переспросила Агнес.
– Тебя тоже жалеют, – прибавил он, желая утешить ее.
– Ошибаетесь! – прошипела Агнес. – Никто не жалеет меня; меня ненавидят. Все, все они, и особенно Блёндаль. А как же Фридрик? Ему тоже смягчат приговор?
– Сомневаюсь.
В полумраке глаза Агнес блеснули. Тоути решил было, что она плачет, но, когда женщина подалась к нему, он разглядел, что ее глаза совершенно сухи.
– Вот что я вам скажу, преподобный Тоути. Всю мою жизнь меня считали слишком умной. Говорили – ума, мол, многовато. И знаете что, преподобный? Именно поэтому меня и не жалеют. Потому что считают, будто я чересчур смышлена, чересчур хитра, чтобы случайно оказаться замешанной в убийство. Зато Сигга – молоденькая и хорошенькая дурочка, и потому-то никто не хочет, чтобы ее казнили!
Агнес откинулась на кроватный столбик, глаза ее сузились.
– Я уверен, что это не так, – заметил Тоути, силясь успокоить ее.
– Будь и я молода и простовата – неужели, думаете, все стали бы тыкать в меня пальцем? Нет. Во всем обвинили бы Фридрика, сказали бы, что это он сломил нашу волю. Принудил нас убить Натана, потому что желал завладеть его состоянием. Всякому было известно, что Фридрик точит зубы на Натановы денежки. Однако люди видят, что у меня есть голова на плечах, и считают, будто женщине, которая способна думать, нельзя доверять. Будто там, где есть мысли, нет места невинности. И нравится вам это или нет, преподобный – но вот вам она, истина.
– Я полагал, ты не веришь в существование истины, – рискнул заметить Тоути.
Агнес отняла голову от столбика, глаза ее казались светлее прежнего. Она скривилась.
– У меня к вам вопрос касательно истины. Говорите, Господь глаголет истину?
– Всегда.
– И Господь сказал: «Не убий»?
– Да, – осторожно подтвердил Тоути.
– Тогда Блёндаль и все остальные идут против Господа. Они лицемеры. Они говорят, будто следуют закону Божьему, но на самом деле всего лишь исполняют волю людей!
– Агнес…
– Я стараюсь любить Господа, преподобный. Правда стараюсь. Но любить этих людей я не могу. Я… я их ненавижу.
Она произнесла эти три слова медленно, сквозь стиснутые зубы, сжимавшие цепь, которая соединяла наручники на ее запястьях.
Раздался стук в дверь, и в бадстову вошла Маргрьет, а с ней – обе ее дочери и Кристин.
– Прошу прощенья, преподобный. Не обращайте на нас внимания. Мы будем работать и тихонько раз говаривать друг с другом.
Тоути сумрачно кивнул.
– Как подвигается сенокос?
Маргрьет раздраженно фыркнула:
– Эти мне августовские дожди… – И с этими словами вернулась к своему вязанью.
Тоути поглядел на Агнес, и она ответила ему угрюмой усмешкой.
– Сейчас они даже больше меня боятся, – прошептала она.
Тоути задумался. Затем повернулся к женщинам, собравшимся в бадстове:
– Маргрьет, нельзя ли снять эти кандалы?
Маргрьет искоса глянула на запястья Агнес и отложила спицы. Выйдя из комнаты, она вскоре вернулась с ключом и отперла наручники.
– Я оставлю их здесь, преподобный, – холодно произнесла она, положив наручники на полочку над кроватью. – Мало ли, вдруг они вам понадобятся.
Тоути подождал, пока Маргрьет вернется в другой конец комнаты, и только тогда взглянул на Агнес.
– Ты не должна больше так поступать, – вполголоса проговорил он.
– Я была не в себе, – отозвалась она.
– Говоришь, тебя ненавидят? Так не подавай нового повода для ненависти.
Агнес кивнула.
– Я рада, что вы здесь.
Наступило молчание, и лишь через минуту она продолжила:
– Прошлой ночью я видела сон.
– Надеюсь, добрый.
Агнес покачала головой.
– Что тебе снилось?
– Смерть.
Тоути судорожно сглотнул.
– Ты боишься? Хочешь, чтобы я помолился за тебя?
– Как вам угодно, преподобный.
– Тогда помолимся.
Тоути искоса глянул на собравшихся в дальнем углу женщин, прежде чем взять в свои руку холодную и влажную руку Агнес.
– Господи Боже, этим вечером мы взываем к Тебе в молитве с опечаленным сердцем. Дай нам силы вы держать бремя, которое нам надлежит нести, дай мужества, чтобы смело встретить предназначенную судьбу.
Тоути на мгновение смолк и взглянул на Агнес. Он отчетливо сознавал, что другие женщины ловят каждое его слово.
– Господи, – продолжал он, – благодарю Тебя за семью из Корнсау, за людей, которые открыли свой дом и свои сердца мне и Агнес. – Он услышал, как Маргрьет кашлянула. – Я молюсь за этих людей, молюсь, чтобы им достало милосердия и умения прощать. Пребудь с нами всегда, о Боже, во имя Отца, Сына и Святого Духа.
Тоути крепко сжал руку Агнес. Женщина смотрела на него, и лицо ее было непроницаемо.
– Вы считаете, что моя судьба – быть здесь?
Он на миг задумался.
– Мы сами творим свою судьбу.
– То есть Бог тут совершенно ни при чем?
– Этого нам знать не дано, – ответил Тоути и бережно положил руку Агнес поверх одеяла. Прикосновение к этой влажной холодной коже смущало его дух.
– Я совсем одна, – проговорила Агнес почти будничным тоном.
– С тобой Господь. С тобой я. Твои родители живы.
Агнес помотала головой.
– Они все равно что мертвы.
Тоути быстро, украдкой глянул на занятых вязанием женщин. Лауга схватила с колен Стейны наполовину связанный носок и теперь проворно распускала, чтобы исправить ошибку.
– Но ведь есть же кто-нибудь, кого ты любила и кого я мог бы призвать сюда? – прошептал он Агнес. – Кто-нибудь, кого ты знала в прошлом?
– У меня есть единоутробный брат, но одному только милостивому Иисусу ведомо, чью бадстову он сейчас омрачает своим присутствием. Еще у меня была единоутробная сестра Хельга. Она умерла. Племянница. Тоже умерла. Все умерли.
– Ну а друзья? Какие-нибудь друзья навещали тебя в Стоура-Борге?
Агнес горько усмехнулась.
– Единственной, кто навестил меня в Стоура-Борге, была Роуса Гвюндмюндсдоттир из Ватнсенди. Не думаю, что она назвала бы себя моим другом.
– Скальд-Роуса.
– Она самая.
– Говорят, будто она разговаривает стихами.
Агнес сделала глубокий вдох.
– Она явилась ко мне в Стоура-Борг, чтобы показать свои стихи.
– Это был подарок?
Агнес выпрямилась и подалась к Тоути.
– Нет, преподобный, – ровно сказала она. – Это было обвинение.
– И в чем она обвиняла тебя?
– В том, что я лишила ее жизнь смысла. – Агнес фыркнула. – Помимо всего прочего. Это было не лучшее из ее творений.
– Она, верно, была огорчена.
– Когда Натан умер, Роуса винила во всем меня.
– Она любила Натана.
Агнес яростно глянула на Тоути.
– Роуса – замужняя женщина! – воскликнула она, и голос ее задрожал от гнева. – Она не вправе была его любить!
Тоути заметил, что другие женщины перестали вязать. Они не сводили глаз с Агнес – ее последний выкрик разнесся по всем уголкам комнаты. Тоути поднялся, чтобы взять свободный табурет, который стоял рядом с Кристин.
– Боюсь, мы вам мешаем, – сказал он женщинам.
– Вам точно не понадобятся наручники? – опасливо спросила Лауга.
– Полагаю, нам гораздо лучше без них.
С этими словами Тоути вернулся к Агнес.
– Быть может, поговорим о чем-нибудь другом? – Ему было крайне важно, чтобы Агнес не потеряла самообладания в присутствии женщин из Корнсау.
– Они меня слышали? – прошептала она.
– Давай побеседуем о твоем прошлом, – предложил Тоути. – Расскажи подробнее о своих единоутробных брате и сестре.
– Я их почти не знала. Мне было пять, когда родился мой брат, и девять, когда я узнала о появлении Хельги. Она умерла, когда мне был двадцать один год. Я и видела-то ее всего пару раз.
– А с братом вы не близки?
– Нас разлучили, когда ему был всего годик.
– Именно тогда тебя покинула мать?
– Ну да.
– Ты что-нибудь помнишь о ней?
– Она дала мне камешек.
Тоути вопросительно глянул на Агнес.
– Чтобы класть под язык, – пояснила Агнес. – Такое поверье. – Она нахмурилась. – Его забрал секретарь Блёндаля.
Тоути заметил, как Кристин поднялась, чтобы зажечь пару свечей – из-за ненастья в комнате было сумрачно, да и день стремительно клонился к вечеру. Глядя перед собой, он различал только бледные очертания обнаженных рук Агнес, которые лежали поверх одеяла. Лицо ее укрывала густая тень.
– Как думаете, мне разрешат вязать? – прошептала Агнес, движением головы указывая на женщин. – Очень хочется, пока мы разговариваем, чем-то занять руки. Невыносимо сидеть праздно.
– Маргрьет! – позвал Тоути. – У тебя найдется какая-нибудь работа для Агнес?
Маргрьет помедлила, затем решительно протянула руку и выхватила из рук Стейны вязанье.
– Вот, – сказала она. – Здесь полно прорех. Надо все распустить.
Она словно не заметила замешательства, которое отразилось на лице Стейны.
– Мне жаль ее, – сказала Агнес, неспешно распуская ряды крученых шерстяных ниток.
– Стейну?
– Она сказала, что хочет подать за меня прошение о помиловании.
Тоути заколебался. Он смотрел, как Агнес ловко сматывает освобожденную шерсть в клубок, и молчал.
– Как думаете, преподобный Тоути, это возможно? Устроить прошение королю?
– Не знаю, Агнес.
– Вы могли бы попросить Блёндаля? Он прислушается к вашим словам, а Стейна поговорила бы с окружным старостой Йоуном.
Тоути кашлянул, вспоминая, каким снисходительным тоном обращался к нему Блёндаль.
– Обещаю сделать все, что в моих силах. А теперь – может быть, ты мне что-нибудь расскажешь?
– О моем детстве?
– Если хочешь.
– Ладно, – сказала Агнес, садясь на кровати повыше, чтобы было удобней вязать. – Что бы мне такое вам рассказать?
– Расскажи о том, что помнишь.
– Вам это покажется неинтересным.
– Почему ты так думаешь?
– Вы священник, – твердо сказала Агнес.
– Я хотел бы узнать побольше о твоей жизни, – мягко ответил Тоути.
Агнес обернулась – проверить, слушают ли их другие женщины.
– Я уже говорила вам, что успела пожить почти на всех хуторах в долине.
– Говорила, – согласно кивнул Тоути.
– Вначале приемной дочерью, потом нищенкой.
– Ужасная участь.
Агнес сжала губы в тонкую ниточку.
– Такое часто случается.
– Кто тебя удочерил?
– Супруги, которые жили на этом самом хуторе. Моих приемных родителей звали Инга и Бьёрн, и в те времена они арендовали Корнсау. До тех пор, пока Инга не умерла.
– И ты осталась на содержании прихода?
– Да, – кивнула Агнес. – Таков порядок вещей. Многие хорошие люди слишком рано уходят в мир иной.
– Сожалею, что так вышло.
– Нет нужды сокрушаться, преподобный, конечно, если это не вы убили ее. – Агнес глянула на Тоути, и он уловил мимолетную улыбку. – Инга умерла, когда мне было восемь. Деторождение плохо давалось ее телу. Пять младенцев вышли у нее из утробы мертвыми, прежде чем на свет появился мой сводный брат. Седьмой ребенок унес ее душу на небеса.
Агнес шмыгнула носом и принялась сосредоточенно протягивать нитки через свободные петли. Прислушиваясь к едва уловимому постукиванию костяных спиц, Тоути украдкой бросил взгляд на руки Агнес, проворно трудившиеся над шерстью. Пальцы у нее были длинные, тонкие, и его поразило, с какой скоростью они выполняют привычное дело. Он едва подавил неразумное желание коснуться этих пальцев.
– Тебе было восемь, – повторил он вслух. – И ты хорошо помнишь, как она умерла?
Агнес перестала вязать и снова оглянулась на других женщин. Все они примолкли, напряженно прислушиваясь к разговору.
– Помню ли я? – отозвалась она чуть громче. – Да я все отдала бы, только б суметь забыть.
Агнес высвободила указательный палец из петли и поднесла ко лбу.
– Вот здесь, – сказала она, – мысленно я могу каждую минуту вернуться в тот день, словно открыть нужную страницу в книге. Он так прочно вписан в мою память, что я почти ощущаю вкус чернил.
Не отнимая пальца от своего лба, Агнес прямо, в упор поглядела на Тоути. От блеска в ее глазах, от вида рассеченной до крови губы его пробрал озноб, и невольно пришло в голову: что, если весть о прошении за Сиггу и впрямь отчасти свела Агнес с ума?
– И что же произошло? – спросил он.
Глава 6
29 марта текущего 1828 года мы, чиновники канцелярии в Стапаре, Ватнснес, – перенося на бумагу описание, данное устно сислуманном Блёндалем, – составили опись ценности имущества заключенных Агнес Магнусдоттир и Сигридур Гвюндмюндсдоттир (та и другая – работницы хутора Идлугастадир). Нижеперечисленные предметы, признанные как принадлежащие вышеупомянутым женщинам, имеют следующую ценность.
Мы удостоверяем и подтверждаем печатью, что перечисленные предметы составляют все имущество вышеупомянутых заключенных.
Подписано:
Й. Сигюрдссон, Г. Гвюндмюндссон
ВОТ ЧТО Я РАССКАЗЫВАЮ ПРЕПОДОБНОМУ.
Случилась смерть, причем так, как это случается всегда, но с другой стороны – совсем по-иному.
Все началось с северного сияния. Зима выдалась такая холодная, что по утрам, просыпаясь, я обнаруживала на одеяле тонкий слой инея, намерзшего от моего дыхания. К тому времени я прожила в Корнсау уже два или три года. Кьяртану, моему приемному брату, было три. Я была всего лишь на пять лет его старше.
Как-то вечером мы оба трудились в бадстове с Ингой. Тогда я уже называла ее мамой, потому что она и была мне самой настоящей матерью. Она говорила, что я способная ученица, и обучала меня всему, что умела сама. Бьёрна, ее мужа, я пробовала называть пабби, но ему это не нравилось. Кроме того, ему не нравилось, когда я занималась чтением или письмом, и он не прочь был выбить из меня тягу к учению увесистой затрещиной, если ему случалось застать меня за этим занятием. Книгочейство девице не к лицу, говаривал он. Инга была хитра; она дожидалась, покуда Бьёрн заснет, будила меня, и мы вместе читали псалмы. Инга выучила меня сагам. На святочных посиделках – kvöldvaka – она рассказывала саги наизусть, а когда Бьёрн засыпал, заставляла меня пересказывать ей эти истории. Бьёрн так и не узнал, что его жена нарушала ради меня мужнину волю, и я сомневаюсь, что он вообще понимал, с какой стати она так любит саги. Он потакал ее увлечению со снисходительностью мужчины, потакающего непостижимым причудам ребенка. Кто знает, как этим людям пришло в голову удочерить меня? Быть может, они приходились мне родней со стороны матери. А скорее им попросту нужна была лишняя пара рабочих рук.
Тем вечером Бьёрн вышел на двор, чтобы задать корм скоту, и вернулся в приподнятом настроении.
– Сидите тут, портите глаза под лампой, а там все небо в огне! – проговорил он, смеясь, и прибавил: – Пошли смотреть!
Я отвлеклась от пряжи, взяла Кьяртана за руку и вышла вместе с ним во двор. Мама Инга ждала прибавления семейства, а потому не пошла с нами, только помахала вслед рукой и продолжила вышивать. Она трудилась над новым покрывалом для моей постели, но так и не закончила работу, и я до сих пор не знаю, что сталось с этим покрывалом. Может быть, Бьёрн его сжег. Он потом предал огню множество ее вещей.
Но тогда мы с Кьяртаном вышли в морозный вечер, под ногами у нас хрустел подмерзший снег, и мы очень скоро поняли, чего ради Бьёрн нас позвал. Все небо было расцвечено так, как мне в жизни не доводилось видеть. Исполинские световые занавеси колыхались над нами в вышине, словно их раздувал ветер. Бьёрн был прав – казалось, что ночное небо охвачено огнем. Лиловые полосы распухали на фоне ночной темноты, искрились щедро рассыпанные по ним звезды. Небесные огни пульсировали, опадая и снова вздымаясь, точно волны, а затем их снова прорезали ослепительные, беспощадно-зеленые сполохи, сверху вниз прочертившие небо, словно низвергались с немыслимой высоты.
– Гляди, Агнес! – сказал мой приемный отец и с этими словами крепко взял меня за плечи, чтобы я могла увидеть, как сияние небесных огней заливает слепящим потоком четкий абрис горной гряды.
Несмотря на поздний час, я ясно различала знакомую линию иззубренного горизонта.
– А попробуй-ка дотянуться до этих огней, – предложил Бьёрн, и я тотчас сбросила платок на снег, чтобы без помех поднять руки к небу. – Ты знаешь, что это означает, – промолвил Бьёрн. – Это означает, что будет буря. Северное сияние всегда предвещает непогоду.
В полдень следующего дня ветер принялся хлестать подворье, вздымая в воздух напа́давший за ночь снег и швыряя его пригоршнями в сушеные шкуры, которыми мы затянули окна, чтобы не впускать стужу. То был зловещий звук – грохот ледышек, ударяющих в стены дома.
Инга тем утром чувствовала себя неважно и осталась в постели, а потому кашу варить пришлось мне. Я была в кухне, ставила котелок на огонь, когда пришел из кладовой Бьёрн.
– Где Инга? – спросил он.
– В бадстове, – ответила я.
Бьёрн снял шапку и стряхнул намерзший иней в очаг. Вода зашипела на раскаленных камнях.
– Дыма многовато, – заметил Бьёрн, хмурясь, и вышел.
Добавив в овсянку вареного лишайника, я понесла миску в бадстову. Там было довольно темно, и я, подав Бьёрну завтрак, побежала в кладовую, чтобы принести еще масла для ламп. Кладовая располагалась неподалеку от двери на двор, и я, подходя к ней, услышала вой ветра. С каждым шагом он завывал все громче, и поняла, что буря стремительно приближается.
Не знаю, зачем я открыла входную дверь, чтобы выглянуть во двор. Полагаю, мной двигало любопытство. Как бы то ни было, странное неодолимое влечение завладело мной, и я отперла засов, чтобы краешком глаза глянуть, что творится во дворе.
Жуткое то было зрелище. Черные тучи нависли над горным хребтом, а под этой дымно-черной пеленой далеко, насколько хватало глаз, бурлил и вихрился серый снег. Ветер дул неистово, и его мощный леденящий порыв внезапно хлестнул по входной двери с такой силой, что она, распахнувшись, сбила меня с ног. Свеча, горевшая в коридоре, тотчас погасла, а из глубины дома донесся бешеный рык Бьёрна – какого, мол, черта мне вздумалось пускать в его дом вьюгу?
Я всем телом навалилась на дверь, пытаясь ее закрыть, но ветер неизменно оказывался сильнее. Руки мои закоченели от холода. Казалось, ветер, воющий снаружи, воплотился в некоего злого духа, который неукротимо рвется в дом. И тут ветер вдруг стих, опал, и дверь с грохотом захлопнулась. Словно дух наконец добился своего, проник в дом и закрыл за собой дверь.
Я вернулась в бадстову и подлила масла в лампы. Бьёрн был сердит на меня: Инга в тягости, а я напустила холода в дом.
Снежная буря обрушилась на наш хутор вскоре после обеда и бушевала три дня. На второй день у Инги начались роды.
Слишком рано.
Поздно ночью, под завывания ветра, швырявшегося снегом и льдом, Инга почувствовала сильные схватки. Думаю, она опасалась, что и этот ребенок появится на свет раньше срока.
Когда Бьёрн осознал, что жена вот-вот разродится, он послал работника по имени Йоун на хутор своего брата – за невесткой и ее служанкой. Мой приемный отец велел Йоуну рассказать женщинам, что происходит с Ингой, пусть если сами не смогут отправиться с ним, то хотя бы посоветуют, что делать.
Йоун возражал: метель, дескать, чересчур сильная, и вряд ли у него выйдет исполнить такое поручение; но Бьёрн был человек настойчивый. А потому Йоун закутался потеплее и вышел наружу, но очень скоро вернулся, весь покрытый снегом и льдом, и сказал моему приемному отцу, что на два шага впереди ничего не видать и что в этакую непогоду он околел бы, не дойдя и до амбара. Бьёрн, однако, заставил его сделать вторую попытку, а когда Йоун вернулся, полуживой от холода, и рассказал, что едва мог устоять на ногах против ветра и сумел пройти не больше шести шагов – мой приемный отец сгреб его за ворот куртки и вытолкал наружу. Наверное, именно тогда, распахнув дверь, он своими глазами увидал, что творится снаружи, потому что, когда Йоун через пару минут ввалился в дом, трясясь от холода и злости, Бьёрн ничего не сказал, но позволил Йоуну раздеться и забраться в кровать, чтобы прийти в себя.
Я уверена, что Бьёрн тогда и сам испугался не на шутку.
Все это время Инга так и лежала в постели, а теперь начала стонать от боли. Она побелела, как мел, ее безостановочно бил озноб, отчего она вся обливалась потом. Бьёрн перенес ее из бадстовы в комнату на чердаке – тогда в этом доме был чердак, – чтобы она могла побыть в тишине и покое, но, когда он поднял Ингу на руки, ее сорочка и постель оказались мокрыми насквозь, и я вскрикнула от изумления. Подумала, что Инга обмочилась.
– Бьёрн, не трогай ее с места! – крикнула я, но Бьёрн меня не послушал и потащил мою приемную мать на чердак, попросив меня вскипятить воды и принести сукна. Я исполнила его просьбу, взяв сукно, которое сама же недавно и соткала. И спросила, можно ли мне увидеть маму, но Бьёрн велел, чтобы я ушла и присмотрела за Кьяртаном, – а потому я вернулась в бадстову.
Кьяртан, должно быть, почувствовал, что творится неладное, потому что, когда я пришла, он хныкал. Едва я присела на краешек нашей общей кровати, он подполз ко мне; будучи сама охвачена страхом и нуждаясь в утешении, я усадила его к себе на колени, и так мы сидели, дожидаясь, когда Бьёрн скажет, что делать дальше, и прислушиваясь к вою бури.
Ждать пришлось долго. Кьяртан заснул, уткнувшись мне в шею, тогда я уложила его в постель и взялась было чесать шерсть. Я работала гребнями, разделяя спутанные пучки шерсти на тонкие волоконца, терпеливо выуживая из них крохотные репьи. Вот только руки у меня тряслись. Все это время наверху, на чердаке, кричала Инга. Я твердила себе, что крик во время родов – дело обычное, что скоро у меня появится новый приемный братик – или сестричка – и я буду его очень любить.
Через пару часов Бьёрн спустился с чердака. Он вошел в бадстову, и я увидела в руках у него небольшой сверток. То был младенец. Лицо Бьёрна было мертвенно-бледным; он протянул сверток, и мне пришлось взять кроху на руки. Затем он вышел из комнаты и вернулся на чердак, к жене.
Младенец привел меня в восторг. Он был совсем крошечный и легкий и почти не шевелился, только тоненько хныкал, жмурился и кривил ротик; личико у него было багровое и страшненькое. Я развернула младенца и увидела, что это девочка.
К тому времени проснулся Кьяртан. В комнате похолодало; морозный ветер проникал в дом через какую-то щель, и внезапный порыв сквозняка задул почти все сальные свечи, которые мы раньше зажгли и поставили на стол. Лишь одна свеча осталась гореть, и в ее зыбком свете плясали по стене наши тени; Кьяртан заплакал. Потом крепко зажмурился и уткнулся лицом в мое плечо.
Сделалось так холодно, что я завернула младенца вместе с одеялом в свой платок и взяла подушку, чтобы с ее помощью теснее прижать малышку к своей груди. Правда, все подушки у нас были набиты не пухом, а водорослями и потому почти не грели. Все же малышка перестала плакать, и я решила, что она, должно быть, не так уж сильно и замерзла и с ней все будет хорошо. Пальцами я кое-как стерла с ее головки вязкую слизь, а затем мы с Кьяртаном по очереди поцеловали новорожденную.
Так мы сидели долго. Прошло несколько часов, может быть, даже дней. В доме было все так же темно и холодно, и буран ярился без устали. Я велела Кьяртану снять одеяла с кровати отца, и мы в них закутались, тесно прижавшись друг к другу, чтобы хоть как-то согреться. С чердака непрерывно доносились стоны Инги. Так стонут люди, которым снится кошмар, – глухое жуткое бормотание без единого внятного слова, одни только звуки. И ветер все это время завывал так громко, что я не могла разобрать – то ли это Инга кричит, то ли надрывается ветер, терзая пламя свечи.
Я обняла одной рукой Кьяртана, другой крепко прижала к себе малышку и велела им обоим вслушиваться в стук моего сердца, чтобы отвлечься от беснования бури.
Наверное, мы заснули. Я говорю «наверное», потому что не помню, как проснулась – просто вдруг увидела, что посреди бадстовы стоит Бьёрн. Последняя свеча погасла, в сумраке комнаты я могла различить только, что он стоит совершенно неподвижно, низко опустив голову.
– Инга умерла, – молвил он, и слова эти, будто камни, упали в тишину и темноту. – Моя жена умерла.
– Бьёрн, – сказала я, – вот ребенок. Возьми ребенка.
С этими словами я достала крошечное тельце из-под одеял и протянула Бьёрну.
Тот не шелохнулся.
– Ребенок тоже мертв, – сказал он.
Я поглядела на то, что держала в руках, и обнаружила, что малышка стихла и совсем застыла. Одеяла, которыми я ее укрывала, были теплыми только оттого, что я прижимала их к собственному телу. Я заплакала. Кьяртан увидал посиневшее личико младенца с засохшей кровью на щечке, увидел, что малышка не шевелится, – и тоже захныкал. Бьёрн не сводил с нас глаз. Отчаяние охватило меня, и, положив мертвое тельце на кровать, я бросилась на пол, закрыв лицо руками. Я рыдала, выла от горя и кричала:
– Пускай я тоже умру!
– Может быть, и умрешь, – сказал Бьёрн. Только это и нашлось у него, чтобы утешить меня. – Может быть, ты тоже умрешь.
Долго я валялась так на полу и кричала. Помню, что доски пола – те самые, по которым мы ступаем сейчас, – отсырели от моих слез и соплей. Я злилась на Бьёрна, который сидел в темноте на своей кровати, обхватив голову руками, и не плакал, не кричал, не приказывал мне немедля встать и замолчать. Застыл, как застыла земля за стенами дома. И потому я вопила и каталась по полу до тех пор, пока глаза не распухли, а руки не разболелись оттого, что я молотила ими по полу. Я завывала точно так же, как буря за окном, – до тех пор, пока не вспомнила про Ингу, которая так и лежит на чердаке, и тогда я вскочила и опрометью бросилась из бадстовы, на бегу запутавшись в юбках и упав на колени. Взбежав по лестнице, я вихрем ворвалась на чердак.
Тогда в крыше, над балками, было небольшое окошко. Обычно мы затыкали отверстие ветошью, чтобы защитить чердак от дождя или снега, но затычка давно вывалилась, и сейчас, хотя снаружи все так же бушевала буря, в окошко проникал неяркий голубоватый свет. В комнате стоял лютый холод. Дыхание вырывалось из моего рта невесомыми белыми облачками. Через отверстие в крыше намело изрядное количество снега, и он, растаяв, образовал на полу внушительную лужу. Именно эту лужу я первым делом и увидела – свет, сеявшийся из окошка, отражался в ней, и она сверкала на полу, словно зеркало. И только потом я увидела Ингу.
В голубоватом свете ее кровь казалась лиловой. Она лежала на узком сенном тюфяке, поверх того самого сукна, что я относила Бьёрну, вот только сукно больше не было белым – его заливала кровь. Глаза Инги были открыты и, отражая свет, влажно мерцали, отчего мне почудилось, будто она все-таки жива. Я наклонилась к ней, крикнула: «Мама!» – тронула рукой ее плечо – и лишь тогда стало ясно, что она и вправду мертва. Тело ее уже окоченело и было холодным на ощупь.
Кровь была повсюду. Ночная сорочка Инги почернела от крови, кровь сплошь залила ее ноги и постель. Обнаженные плечи тоже были измазаны в крови, и я заметила, что и руки Инги, уложенные вдоль тела ладонями вверх, покрыты кровью – точь-в-точь как когда она делала колбасу и, дав крови свернуться, процеживала ее через чистое полотно. Лицо Инги было белым, чересчур белым в полумраке комнаты, и волосы, выбившись из-под чепчика, густо облепили лоб.
Я никогда не забуду, как там пахло. Та чердачная комната пропиталась запахом крови, и с ним смешивался чистый и резкий запах снега, который намело на половицы. Я вдохнула эту смесь – и меня замутило.
Сорочка Инги была задрана и скомкана на талии, а потому я расправила ткань, заскорузлую от крови, прикрыла ноги, чтобы не было этой вызывающей наготы. Затем поцеловала Ингу в мертвые, безвольно приоткрытые губы. И под конец стянула с ее головы чепчик и уткнулась лицом в волосы Инги. Только от них одних пахло сейчас не кровью, а моей приемной матерью. Я легла рядом с ней, зарылась лицом в ее длинные волосы и вдыхала родной запах; сколько времени это продолжалось, не знаю – до тех пор, пока Йоун не отдернул занавеску чердачного проема, взял меня на руки и отнес вниз, в кровать.
А когда я проснулась, буря уже стихла.
Вот что я рассказываю преподобному. Я пускаю в ход весь свой сказительский опыт, чтобы рассказ вышел как можно лучше. Сплетая слова, я украдкой поглядываю на преподобного и пытаюсь понять, тронула ли его моя история.
Я чувствую, что все прочие тоже слушают меня. Чувствую, как Стейна и Маргрьет, Кристин и Лауга напрягают слух, ловя каждое слово, долетевшее из нашего темного угла, смакуют эту историю, точно свежий хлеб с маслом. Маргрьет и Лауга, наверное, думают, что так мне и надо, быть может, жалеют меня. Стейна думает, что я похожа на нее – такая же всеми заброшенная и несчастная.
Но именно потому, что нас слышат остальные, я не могу задать преподобному вопросы, которые меня мучают. Не могу спросить – преподобный, думаете ли вы, что я сейчас здесь именно потому, что когда-то ребенком кричала, что хочу умереть? Ведь я тогда и вправду хотела смерти. Твердила, как молитву: «Только бы мне умереть». Неужели я уже тогда определила свою теперешнюю участь?
Я хочу спросить преподобного: не думает ли он, что это я убила младенца Инги? Неужели я слишком тесно прижимала ее к себе? Вот только я не знаю, как правильно задать этот вопрос, и не хочу, чтобы этим женщинам взбрело в голову невесть что. Есть вещи, которых им лучше не слышать.
Кажется, всех, кого я люблю, отняли у меня и положили в землю, а я осталась совсем одна.
Вот и хорошо, что мне больше некого любить. Зато и хоронить тоже больше некого.
– Что было дальше? – спросил Тоути. Он вдруг осознал, что слушал рассказ, затаив дыхание.
– Вот что странно, – промолвила Агнес, мизинцем наматывая шерстяную нитку на кончик спицы. – Почти всякий раз, когда я вспоминаю о своих детских годах, былое видится мне смутно, как в тумане. Словно я смотрю на мир сквозь закопченное стекло. Но вот смерть Инги и все, что последовало за ней… мне почти кажется, что это было вчера.
В другом конце комнаты скрипнул стул. Маргрьет приглушенно кашлянула.
– Я помню, что после смерти Инги Йоуна послали за родственниками Бьёрна, – продолжала Агнес. – Помню, как я лежала в кровати и смотрела на своего приемного отца, сидевшего на том же табурете, где обычно сиживала Инга, когда пряла. Сиденье табурета было для него маловато. Кьяртан спал со мной в постели, навалившись на мое плечо, тяжелый и горячий. Ветер вдруг прекратился, и стало необыкновенно тихо.
Наконец со двора донеслось позвякивание конской сбруи. Тогда Бьёрн медленно поднялся с табурета и шагнул к моей кровати. Одной рукой он подхватил моего брата, чтобы я могла сесть, и сказал мне взять мертвого младенца, обернуть его личико одеялом и снести в кладовую.
После смерти малышка стала, казалось, легче, чем при жизни. Держа ее на вытянутых руках, я в одних чулках двинулась по коридору.
В кладовой царил лютый холод. Я видела, как мое дыхание клубится передо мной белым облачком, от холода у меня заныл лоб. Я прикрыла лицо малышки уголком ткани, в которую она была завернута, и уложила крохотное тельце поверх мешка с сушеными тресковыми головами. Когда я вышла в коридор, лицо мне обожгло стужей, и я, повернувшись, увидела, что входная дверь открыта, а затем из темноты возникли брат и невестка Бьёрна и их служанка. Лица их влажно блестели от стаявшей изморози.
Я помню, как дядя Рагнар и Йоун бережно снесли с чердака тело Инги; Бьёрн в это время был на дворе, обихаживая овец. Я следила, чтобы его родственники, спускаясь, не задевали головой покойницы о ступеньки лестницы. Они отнесли Ингу в бадстову и положили на незастланную кровать. Тетя Роуса в кухне грела воду, и когда я спросила, зачем она это делает, пояснила, что хочет омыть тело моей бедной приемной мамы. Посмотреть на это она мне не разрешила. Кьяртану было дозволено играть у ее ног, а мне тетя Роуса приказала пойти на чердак и помочь ее служанке Гудбьёрг.
Поднявшись по лестнице, я увидела, что Гудбьёрг оттирает с половиц кровь. От запаха крови меня замутило, и я заплакала. Гудбьёрг обняла меня и притянула к себе.
– Агнес, она ушла к Господу. С ней больше ничего плохого не случится.
Я сидела на полу, закутанная в платок Гудбьёрг, и смотрела, как трясется дряблый жир на ее руках, когда она, опустившись на колени, оттирала половицы. Вновь и вновь она отжимала тряпку от розоватой воды. И все время качала головой, а иногда останавливалась и вытирала глаза.
Я поведала Гудбьёрг, что сказал Бьёрн, когда я кричала, что хочу умереть: мол, я, может быть, тоже умру. Гудбьёрг шикнула на меня и пояснила, что Бьёрн был не в себе и сам не понимал, что говорит.
Я рассказала о том, как Бьёрн отдал мне малышку, чтобы я за ней присмотрела, как я крепко прижимала ее к себе, о том, что она умерла у меня на руках, а я этого даже не заметила.
Гудбьёрг обняла меня и принялась баюкать, словно я сама была младенцем. Малышке, сказала она, не суждено было зажиться на этом свете, и в том, что она умерла, нет моей вины. Еще она сказала, что я держалась молодцом и что Господь меня охранит.
– Тебе известно, где сейчас Гудбьёрг? – перебил Тоути.
Я подняла взгляд от вязания.
– Умерла, – ответила я недрогнувшим голосом. И потянула за моток шерсти, чтобы высвободить нить. – Когда Рагнар, Кьяртан и Бьёрн вернулись из амбара, Роуса позвала меня и Гудбьёрг с чердака, и все мы уселись в бадстове вокруг кровати, на которой лежала Инга. Она была уже чистая, но совершенно неподвижная. Жуткая неподвижность – так бывает, когда подует ветер, а трава даже не шелохнется, и чувствуешь, точно остался один на свете.
Дядя Рагнар достал фляжку бренвина и молча пустил ее по кругу. Именно тогда я впервые попробовала спиртное, и мне оно не слишком пришлось по вкусу, но Йоун уехал на лошади моего приемного отца за преподобным, и делать пока было нечего – только сидеть и пить. Время едва ползло, и меня уже подташнивало от бренвина, а ноги затекли от неподвижного сидения.
Йоун вернулся вместе со священником только поздно ночью. Я впустила их в дом. Преподобный забыл оббить снег с сапог.
Я, Гудбьёрг и тетя Роуса подали мужчинам еду, и они поели, держа миски на коленях и сидя прямо напротив кровати, где лежала Инга. Еще до того тетя Роуса зажгла свечу и поставила в изголовье кровати, и я все время следила, чтобы свеча не упала; опасалась, как бы пламя не подожгло волосы Инги.
Когда мужчины покончили с едой, женщины увели меня и Кьяртана в кухню, а преподобный завел разговор с мужчинами. Я пыталась подслушать, о чем они говорят, но тетя Роуса взяла меня за руку, усадила Кьяртана к себе на колени и, чтобы отвлечь нас, принялась рассказывать какую-то сказку. Прервалась она, лишь когда в открытую дверь вошли дядя Рагнар и Йоун, неся тело Инги. Лицо ее было прикрыто куском полотна. Я хотела узнать, куда ее несут, и вскочила, чтобы двинуться следом, но тетя Роуса сильней сжала мою руку и рывком притянула к себе. Гудбьёрг торопливо сообщила: преподобный, мол, сказал, что с похоронами придется подождать до весны, потому что земля на кладбище промерзла насквозь, а потому мою бедную приемную маму положат в какой-нибудь кладовой и будут хранить там до тех пор, пока земля не оттает и не удастся выкопать могилу. Мы подошли к дверному проему и смотрели, как уносят Ингу.
Преподобный шел по коридору вслед за Бьёрном. Я услышала, как он говорит: «По крайней мере, у тебя будет достаточно времени сладить гробы». Затем он предложил поместить Ингу в амбар.
– Там слишком тепло, – ответил мой приемный отец.
Дядя Рагнар и Йоун устроили Ингу в кладовой, рядом с мертвой малышкой. Вначале ее положили на мешок с солью, но потом дядя Рагнар указал, что надобность в соли может возникнуть скорее, нежели возможность похоронить Ингу, а потому соль заменили на сушеную рыбу, и я слышала, как пощелкивают сухие тресковые косточки под тяжестью тела.
– Когда ее похоронили? – спросил Тоути. Ему вдруг стало душно и страшно в полумраке бадстовы, среди приглушенного клацанья спиц и свистящего шороха шерстяных ниток.
– Со временем, – ответила Агнес. – Инга и ее ребенок пробыли в кладовой до конца зимы. Всякий раз, когда мне нужно было принести масла для ламп или помочь Йоуну перекатить какой-нибудь бочонок в кухонный чулан, я видела их тела, сложенные в углу, на мешках с сушеной рыбой.
Кьяртан не понимал, что произошло с его мамой. О младенце, я думаю, он позабыл, но все время плакал и звал Ингу, сидя на полу в бадстове и подвывая, точно щенок. Пабби не обращал на него внимания, но, когда приезжал дядя Рагнар, Кьяртан неизменно получал подзатыльник. Вскоре он перестал плакать.
Дядя Рагнар, казалось, сидел в Корнсау почти безвылазно – разговаривал с Бьёрном в бадстове или угощал его бренвином. Бьёрн после той бури стал молчаливей прежнего. Когда я приносила ему обед, он не благодарил меня, как раньше, просто брал ложку и начинал есть.
А потом мне сказали, что Бьёрну я больше не нужна. Пришла уже, думается мне, ранняя весна, я была не в духе и отказалась есть обед. Мой приемный отец не сказал мне ни слова, даже не обругал за то, что еда пропадет без толку. Он все время проводил со скотом, у которого от мороза начался падеж, и меня злило, что эти безмозглые создания дороже Бьёрну, чем Кьяртан или я.
Зима пошла на попятный, и в тот день уже немного посветлело, а потому я, поднявшись из-за стола, решила выйти во двор. Никто меня не остановил. Я промчалась по коридору, схватила лопату, стоявшую у входной двери, и принялась расшвыривать снег от порога, наслаждаясь холодком снежинок, тающих на моем разгоряченном лице. Расчистив путь наружу, я отшвырнула лопату и принялась грести снег руками, хватая его большими горстями и бросая насколько могла дальше. Я трудилась так до тех пор, пока не вырыла внушительных размеров яму. Остановившись, чтобы перевести дух, я подняла глаза и разглядела вдалеке черное пятнышко – это опять явился в Корнсау дядя Рагнар. Он поздоровался и спросил, что я делаю во дворе, вся по уши в снегу. Я пояснила, что начала копать могилу для мамы. Дядя Рагнар нахмурился и сказал, что мне не следует звать Ингу мамой и с чего это я вообще такое удумала – хоронить ее у порога, где могилу будут топтать все, кому не лень, а не в освященной земле у церкви.
– Разве не лучше ей лежать в тепле кладовой до тех пор, пока не сможет мирно упокоиться в церковной земле? – спросил он.
Я помотала головой.
– Кладовая холодная, как ведьмины титьки.
– Думай, что говоришь, Агнес! – шикнул дядя Рагнар. – Дурные слова – прямая дорожка к дурным делам.
Тем вечером он сообщил мне, что Бьёрн хочет отказаться от аренды Корнсау и вернуться в Рейкьявик, работать на разделке рыбы. Зима убила мою приемную маму и ее ребенка, а также половину скота, а без жены и без средств, чтобы нанять батрака, Бьёрн больше не может меня содержать. Кьяртан отправился жить к своим дяде и тете, а меня, когда стало теплей, выставили из Корнсау на содержание прихода.
– И так ты стала беспризорной, – сказал Тоути.
Агнес кивнула, прервав вязание, чтобы размять пальцы. И, положив носок на колени, сквозь темноту в упор глянула на Тоути.
– Так я стала нищенкой. Оставленной на милость окружающих, не важно, милосердны они или нет.
Я проснулась рано, и в бадстове пока что стоит темнота. Мне показалось, что некто наклонился ко мне и зашептал на ухо: «Агнес, Агнес!» Этот шепот и вырвал меня из сновидений, однако рядом нет никого, и в сердце мое вдруг впивается когтями леденящий страх.
Я могла бы поклясться чем угодно, что меня кто-то звал.
Я лежу неподвижно, вслушиваюсь в дыхание других, пытаюсь понять – бодрствует ли еще кто-то кроме меня. Ближе всех ко мне кровать преподобного Тоути – он решил заночевать в Корнсау из-за позднего часа. Однако я знаю, что это не он разбудил меня. Священник не станет будить узницу, нашептывая ей на ушко, словно пылкий любовник.
Проходят минуты. Почему в комнате так темно? Я не вижу собственных ладоней, хотя подношу их к самым глазам. Мрак вторгается в мое сознание, и сердце мое трепещет, точно пойманная птица, которую проворно стиснули в кулаке. Даже когда я принуждаю себя закрыть глаза, темнота никуда не девается, и теперь в ней то и дело вспыхивают зловещие пятнышки дрожащего света. Так открыты у меня глаза или нет? Может быть, меня разбудил призрак – чем еще объяснить эти блики, возникающие передо мной во мраке? Они словно язычки пламени, оторвавшиеся от сплошной стены огня, и перед моими глазами плывет лицо Натана, рот его раскрыт в пронзительном крике, зубы залиты кровью и влажно блестят, и горящее тело его роняет на мою постель хлопья испепеленной кожи. Все пропахло китовым жиром, и нож Фридрика ушел по рукоять в живот Натана, и крик рвется из моей груди, словно выдранный веревкой изнутри меня.
Огоньки гаснут. Неужели я спала? Кажется, и минуты не прошло.
– Преподобный Тоути! – шепчу я.
Он переворачивается на бок и продолжает спать.
– Преподобный! Можно мне зажечь лампу?
Разбудить преподобного оказывается делом нелегким – он дрыхнет самозабвенно, точно пьяница, принявший лишку. Я трясу его за плечо сильнее, чем хотелось бы. Наверное, он смущается не на шутку, когда, проснувшись, видит меня в нижнем белье.
– Что такое?
– Мне снова снился сон.
– Что?
– Можно мне зажечь лампу?
– Истинному христианину надлежит довольствоваться светом Божиим, – сонно и оттого невнятно бормочет он.
– Ну пожалуйста!
Преподобный не слышит меня. Он начинает храпеть.
Не обретя утешения, я возвращаюсь в свою кровать. И чувствую запах дыма.
Моя мама умерла. Инга умерла.
Она лежит, укрытая ветошью, в кладовой, потому что землю сжали челюсти льда и стужи и нельзя копать ямы и рыть могилы.
Так холодно, что ей приходится ждать, когда ее похоронят.
Так одиноко, что я завожу дружбу с во́ронами, которые охотятся на ягнят.
Я закрываю глаза, и вот уже крадусь по коридору в зыбком свете прихваченной с собой лампы, и дрожу всем телом, потому что мне страшно. Слышно, как в ночи за стенами дома воет ветер, и мне чудится, будто я слышу, как моя приемная мать царапает ногтями дверь кладовой, где ее уложили, спеленатую, ждать прихода весны, когда можно будет заколотить гвоздями ее гроб и похоронить. Я останавливаюсь, и напряженно вслушиваюсь, и за воем ветра словно бы улавливаю тихий скребущий звук, а затем голос, который зовет меня: «Агнес, Агнес!» Это Инга зовет меня, просит, чтобы я ее выпустила. Я не умерла, я вернулась, я опять жива, меня надо выпустить из кладовой, а не держать тут, словно разделанную тушу, которую оставили подвяливаться. Вместе с солью, ячменем и мукой, в которой кишат датские черви.
Я стою, словно приросла к месту, и трясусь от страха. А потом – да, мама, да! Я делаю шаг в сторону кладовой и рывком распахиваю дверь – она не заперта. Я распахиваю дверь, поднимаю повыше едва коптящую лампу и вижу недвижное тело Инги, которое лежит на полу, головой на мешках с сушеными рыбьими головами, и горько рыдаю, потому что гораздо хуже знать, что она действительно мертва. Моя приемная мать умерла, а моя родная мать бросила меня. И я опускаюсь на пол, обессиленная безысходным, безутешным горем осиротевшего ребенка, и ветер рыдает и причитает за меня, потому что мой язык уже на это не способен. Ветер кричит и стонет, кричит и стонет, а я сижу на земляном полу, отвердевшем от мороза, и вдыхаю запах рыбьих голов, тошнотворный запах, в котором пресный аромат зимы смешался с вонью соли и сушеной кости.
Глава 7
Убийца Фридрик Сигюрдссон родился в Катадалюре, а именно в приходе Тьёрн 6 мая 1810 года и был конфирмован моим предшественником в названном приходе, преподобным Сэмундуром Оддсоном, в 1823 году. В то время названного Фридрика описывали как обладающего «недюжинным умом», а также глубоким знанием и пониманием основ веры. Однако же поведение его мало соотносилось с перечисленными добродетелями. Он настолько закоснел в дерзости и непокорстве родительской воле, что осенью 1825 года его родители даже сетовали мне на это. Именно из разговора с ними я узнал о его в высшей степени упрямом нраве.
Не могу с уверенностью судить о том, каково было полученное им воспитание – поскольку сам к тому времени служил в этом приходе всего пятый год. Однако мое мнение таково, что его растили, давая ему слишком много воли.
Свидетельство преподобного
Йоуханна Тоумассона
5 сентября 1829 года
Преп. Т. Йоунссону Брейдабоулстадур, Вестурхоуп
Младшему проповеднику Торвардуру Йоунссону
Я пишу затем, чтобы узнать, каковы твои успехи в отношении преступницы Агнес Магнусдоттир. Не так давно я встречался с преподобным Йоуханном Тоумассоном из прихода Тьёрн, каковой счел нужным уведомить меня о духовном росте и смягчении нрава у преступника Фридрика Сигюрдссона, коего он опекает. Я полагаю необходимым встретиться также и с тобой. Если бы ты подобным образом отчитался мне о том, что происходит между тобою и преступницей, я мог бы оценить, насколько наставления в вере способствуют исправлению осужденных.
А потому прошу тебя на следующей неделе прибыть в Хваммур, дабы доложить мне о своих беседах с преступницей, а также о том, каким образом ты ее наставлял.
Сислуманн
Бьёрн Блёндаль
– БЛАГОДАРЮ, ЧТО ПРИЕХАЛ, младший проповедник Торвардур, – промолвил Бьёрн Блёндаль, выходя из хозяйственной двери Хваммура. Он был облачен сообразно своей должности, под расстегнутым красным мундиром виднелась свежая, кремового цвета, сорочка. Тоути, который до сих пор встречался с сислуманном лишь несколько раз, в основном еще мальчиком, когда сопровождал отца в поездках, замер в благоговейном трепете, взирая на роскошный мундир и более чем внушительную фигуру Блёндаля.
– Добрый день, господин сислуманн Блёндаль.
Тоути спешился и передал поводья слуге. Хваммур, похоже, место людное: на просторном дворе перед господским домом кипела жизнь. Слева от Тоути работник потрошил на большом камне форель, выловленную этим утром в реке, две женщины расстилали одежду, чтобы хоть немного просушить ее на скудном сегодняшнем солнце. Тоути заметил еще одну служанку в исландском головном уборе – шапочке с кистью; девушка вывела погулять стайку детишек.
– Здрасте! – звонко выкрикнули они, дружно кивнув Тоути.
– У вас славный дом, – сказал Тоути с улыбкой, направляясь к Блёндалю.
– Истинно так. Добро пожаловать, преподобный. Надеюсь, поездка вышла не слишком утомительной. Входи, прошу тебя, и не споткнись о ступеньку.
Пожилая служанка провела Тоути лабиринтом коридоров в небольшую комнату для гостей. Блёндаль шел за ними по пятам и остановился на пороге, следя, как она усаживает Тоути на стул с мягкой обивкой и ловко снимает с него дорожную шляпу и плащ.
– Ты бывал здесь раньше? – спросил Блёндаль, дожидаясь окончания этой процедуры. Тоути вдруг осознал, что глазеет по сторонам разинув рот.
– Только мальчиком, – ответил он, покраснев. – Дом просто великолепен. Я вижу, у вас есть несколько гравюр.
Блёндаль хмыкнул и, сняв шляпу с плюмажем, рассеянно погладил перо.
– Да, – небрежно подтвердил он. – Мы имеем счастливую возможность наслаждаться благами, которые доступны только на материке. Однако же я мечтаю о том, что еще в этом столетии многие другие исландцы познают преимущество застекленных окон, обшитых деревом стен, кухонных плит и тому подобной роскоши. Я полагаю, что деревянные дома будут лучше проветриваться и это пойдет на благо здоровью нации.
– Уверен, что вы правы, – пробормотал Тоути, глядя на служанку, которая все возилась с его шнурками. Женщина мельком, без улыбки глянула на него.
– Ну же, Каритас, оставь нашего гостя в покое, – сказал Блёндаль. – Преподобный Торвардур, прошу пройти за мной в кабинет.
– Спасибо, Каритас.
Служанка выпрямилась, держа в руках башмаки Тоути, и посмотрела на него так, словно собралась что-то сказать.
– Каритас, – повторил Блёндаль, – ступай.
Он дождался, пока женщина выйдет из комнаты, и лишь тогда жестом предложил Тоути следовать за ним.
– Сюда, преподобный. Мои апартаменты располагаются в дальней части дома. Таким образом шум, производимый слугами, становится не более чем незначительной помехой.
Тоути пошел вслед за Блёндалем по длинному коридору, где тоже сновали, разбегаясь по разным комнатам, слуги и дети. Тоути мысленно дивился внушительным размерам дома – ничего подобного ему прежде видеть не доводилось.
– Прошу, преподобный.
Блёндаль распахнул дверь в просторный светлый кабинет. Вдоль голубых стен стояли два массивных шкафа, заполненные рядами кожаных переплетов. Посреди комнаты красовался большой письменный стол, и поверхность его сверкала в солнечном свете, проникавшем в небольшое окошко наверху фронтона.
– Как красиво! – восторженно выдохнул Тоути.
– Прошу садиться, преподобный. – Блёндаль указал на мягкое кресло.
Тоути послушно сел.
– Что ж, теперь можно заняться делом. – Блёндаль провел крупными ладонями по гладкой столешнице. – Приступим?
– Безусловно, господин сислуманн, – нервно отозвался Тоути. Великолепие кабинета действовало на него угнетающе. Он и не подозревал, что тут, на севере, встречается подобная роскошь.
– Мои люди сообщили, что осужденная была доставлена в Корнсау без происшествий.
– Насколько я понимаю, это именно так, – подтвердил Тоути. – И я рад сообщить, что Агнес вполне обжилась в новом месте заключения, то есть в Корнсау.
– Понимаю. Ты называешь ее по имени.
– Таково ее пожелание, господин сислуманн.
Блёндаль откинулся в кресле.
– Дальше.
– В последнее время заключенная наряду со всеми трудилась на сенокосе, – продолжал Тоути. – И окружной староста Йоун Йоунссон уведомил меня, что за работой она держится послушно и кротко, как того требует ее положение в глазах закона.
– Ее не держат в кандалах?
– Как правило – нет.
– Понимаю. А ее домашние обязанности?
– Заключенная исполняет их с величайшим усердием. В непогоду она целыми днями охотно занималась вязанием.
– Напомни там, пусть будут начеку, когда дают ей острые предметы.
– Там об этом помнят, господин сислуманн.
– Хорошо.
Блёндаль вместе с креслом отодвинулся от стола и, вытянув ящик, бережно достал оттуда лист светло-зеленой бумаги и перочинный нож. Затем повернулся и снял с полки шкафа хрустальную вазочку с лебедиными перьями.
– Я всегда отправляю служанок собирать эти перья, – заметил Блёндаль, ненадолго отвлекшись от темы разговора. – В конце лета. Перья лучше собирать во время линьки. Нет нужды их выдергивать.
С этими словами он протянул Тоути вазочку со связкой перьев.
– Нет-нет, что вы, я не могу… – Тоути замотал головой.
– Я настаиваю, – пробасил Блёндаль. – Достойного человека отличает от всех прочих качество его письменных принадлежностей.
– Благодарю. – Тоути робко взял перо.
– Лебеди, – сказал Блёндаль, – снабжают нас множеством полезных материалов. Из кожи их лап получаются превосходные кошельки.
Тоути рассеянно провел по ладони кромкой пера.
– Да и вареные яйца лебедей вполне сносны на вкус. – Блёндаль аккуратно смахнул со стола обрезки очиненного пера и откупорил крохотную чернильницу. – А теперь, будь любезен, вкратце изложи, каковы твои религиозные наставления преступнице.
– Да-да, конечно. – Тоути почувствовал, что ладони его вспотели. – Во время сенокоса я посещал ее нерегулярно, будучи, как вы понимаете, занят сенокосом в Брейдабоулстадуре.
– Каким образом ты готовился к беседам с осужденной?
– Я… я покривил бы душой, сказав, что поначалу долг спасения души осужденной не показался мне чрезмерно тяжким бременем.
– Чего-то подобного и я опасался, – мрачно заметил Блёндаль. И сделал пометку на лежавшем перед ним листе бумаги.
– Я думал, что осужденная может очистить свою душу от грехов только через молитвы и увещевания, – продолжал Тоути. – Я провел несколько дней, перебирая стихи, псалмы и прочие источники, которые, по моей мысли, привели бы ее к стопам Господа.
– И что же ты выбрал?
– Выдержки из Нового Завета.
– Из каких глав?
– Э-э… Тоути пугала стремительность, с которой сыпались вопросы сислуманна. – Евангелие от Иоанна. Послание к коринфянам, – запинаясь, выдавил он.
Блёндаль искоса глянул на Тоути и продолжал писать.
– Я пытался беседовать с ней о важности молитвы. Она попросила меня уйти.
Блёндаль усмехнулся.
– Меня это не удивляет. Во время суда у меня сложилось впечатление, что она – закоренелая безбожница.
– Нет, что вы! Она, судя по всему, весьма начитана в христианской литературе.
– То же самое, я уверен, можно сказать и о Сатане, – заметил Блёндаль. – Преподобный Йоуханн усадил Фридрика Сигюрдссона читать «Страстны́е псалмы»[12]. А также «Откровение Иоанна Богослова». Куда более полезное чтение.
– Возможно. Как бы то ни было… – Тоути выпрямился в кресле. – Мне стало очевидно, что осужденной для того, чтобы подготовиться к смерти и приобщиться к слову Господню, необходимы иные средства, нежели церковные назидания.
Блёндаль нахмурился.
– И каким же способом ты, преподобный, приобщал осужденную к Господу?
Тоути откашлялся и осторожно положил перо на стол перед собой.
– Боюсь, вы сочтете его не вполне каноничным.
– Так поделись же со мной, и мы оба узнаем, насколько обоснованны твои опасения.
Тоути помолчал.
– Господин сислуманн, – наконец сказал он, – я пришел к убеждению, что путь к душе Агнес Магнусдоттир откроет не суровый глас священнослужителя, грозящий неизбежной плахой, но мягкий и вопрошающий голос друга.
Блёндаль уставился на него во все глаза.
– Мягкий голос друга, – повторил он. – Надеюсь, я ошибся, сочтя, что ты говоришь всерьез.
Тоути залился краской.
– Нет, господин сислуманн, боюсь, что не ошиблись. Все попытки повлиять на осужденную проповедями производили противоположное действие. Поэтому я… побуждаю ее рассказывать о своем прошлом. Вместо того чтобы обращаться к ней, я позволяю ей говорить самой. Я предоставляю ей последнего слушателя, который внемлет ее горестному повествованию о прожитой жизни.
– Ты молишься вместе с ней?
– Я молюсь за нее.
– А она молится за себя?
– Я полагаю немыслимым, господин сислуманн, чтобы она, оставаясь наедине с собой, не молилась. В конце концов, она обречена на смерть.
– Обречена, – повторил Блёндаль. – Нет, преподобный, она приговорена к смерти и всецело заслужила этот приговор.
В дверь постучали.
– А, – сказал Блёндаль, поднимая взгляд. – Это ты, Сэунн. Входи.
Молодая испуганного вида служанка вошла в кабинет, неся перед собой поднос.
– Поставь на стол, будь любезна, – сказал Блёндаль, внимательно следя за тем, как служанка расставляет перед ним кофе, сыр, масло, копченое мясо и плоский хлеб. – Ешьте, если голодны, – предложил он и сам сразу принялся перекладывать на свою тарелку ломти баранины.
– Благодарю, я сыт, – сказал Тоути. Он наблюдал за тем, как сислуманн сунул в рот солидный кусок хлеба с сыром. Блёндаль неспешно разжевал порцию, проглотил и достал носовой платок, чтобы вытереть пальцы.
– Младший проповедник Торвардур, – сказал он, – тебе простительно помышлять, будто дружеское отношение может направить эту убийцу на путь истины и раскаяния. Ты юн и неопытен. Отчасти здесь и моя вина.
С этими словами сислуманн медленно подался вперед и утвердил локти на столе.
– Позволь, я буду с тобой прям. В марте прошлого года Агнес Магнусдоттир спрятала Фридрика Сигюрдссона в коровнике хутора Идлугастадир. Натан Кетильссон вернулся с хутора Гейтаскард вместе с тамошним работником Пьетуром Йоунссоном…
– Прошу прощения, господин сислуманн, но мне думается, я уже знаю, о чем вы намереваетесь…
– А мне думается, что всего ты не знаешь, – перебил Блёндаль. – Натан вернулся домой после визита в Гейтаскард, где он пользовал Ворма Бека, местного старосту. Бек был серьезно болен. Натан отправился в Идлугастадир, чтобы справиться со своими книгами и – насколько я понимаю – прихватить еще кое-какие снадобья, а Пьетур вызвался его сопровождать. А час, преподобный, был уже поздний. Они решили заночевать в доме Натана, а поутру вернуться к больному.
Тем вечером Фридрик Сигюрдссон тайно явился на хутор из Катадалюра, и Агнес укрыла его в коровнике. Всю зиму они замышляли убить Натана и завладеть его деньгами – и именно так поступили. Агнес дождалась, когда мужчины заснут, и позвала Фридрика. Это было хладнокровное нападение на двоих беззащитных людей.
Блёндаль помолчал, наблюдая, какое впечатление его слова произвели на Тоути.
– Фридрик признался в убийстве, преподобный. Признался, что принес в бадстову молоток и только что наточенный нож из кухни и убил вначале Пьетура, проломив ему голову одним ударом молотка. Считал ли он, что перед ним Натан, либо хотел избавиться от свидетеля – не знаю. Однако затем он, вне всяких сомнений, попытался убить Натана. В своем признании Фридрик сообщил, что поднял молоток и нанес удар Натану по голове, но промахнулся. Он сказал, что услышал хруст костей, и, преподобный, обследование останков показало, что у Натана действительно была сломана рука.
Фридрик поведал мне, что Натан после этого проснулся и решил, по всей видимости, помрачась умом от боли, что он в Гейтаскарде и что перед ним его друг Ворм.
Вот слова Фридрика: «Натан увидел в комнате меня и Агнес и стал умолять нас остановиться, но мы продолжали, пока он не испустил дух». Обратите внимание, преподобный, – «меня и Агнес». Фридрик сказал, что Натан был убит ножом.
– Значит, Агнес их не убивала.
– Но она была в комнате, преподобный, и это – неоспоримый факт.
– Однако не она наносила удары.
Блёндаль откинулся на спинку кресла, соединил кончики пальцев. И улыбнулся.
– Преподобный, когда Фридрик признался в убийстве, он не проявил ни малейшего раскаяния. Он полагал, что исполняет волю Господа. Он считал, что это расплата за дурные дела Натана, и заявлял, что оба убийства – дело его рук. Мое мнение таково, что на самом деле это было не совсем так.
– Вы думаете, что Агнес убила Натана.
– У нее были на то причины, преподобный. Причем куда более веские, чем у Фридрика. – Блёндаль принялся возить пальцем по крошкам, оставшимся на тарелке. – Я верю, что Фридрик убил Пьетура. Этот человек был убит одним ударом, а молоток – довольно тяжелое орудие для женской руки.
По словам Фридрика, Натан проснулся и понял, что с ним собираются сделать. Я уверен, преподобный, что именно тогда Фридрик потерял присутствие духа. Как же легко забыть, что Фридрику в ту роковую ночь было всего семнадцать! Совсем юнец. Головорез, безусловно – уже установлено, что между ним и Натаном существовала своего рода вражда. Но задумайся, преподобный… – Блёндаль подался ближе. – Задумайся, каково это – убивать человека ради его денег. Представь – что, если он молит тебя о пощаде? Обещает заплатить любой выкуп, ни слова не сообщать властям, только бы ты оставил его в живых?
В горле у Тоути пересохло.
– Я не могу представить подобного.
– А я – обязан смочь, – сказал Блёндаль. – И смог. По моему разумению, Фридрик, увидев, что Натан проснулся, услышав, как он молит о пощаде, потерял самообладание и дрогнул. Он хотел денег, а они в тот момент ему, безусловно, были предложены. – Блёндаль понизил голос. – По моему разумению, Агнес схватила нож и убила Натана.
– Но ведь Фридрик ничего такого не говорил.
– Натан был заколот. Фридрик – сын хуторянина, а стало быть, знает, как забить ножом скот. Перерезать горло. – С этими словами Блёндаль потянулся через стол и пальцем ткнул в горло Тоути. – От сих… – он провел ногтем по шее Тоути, – до сих. Горло у Натана перерезано не было. Его ударили ножом в живот. Это указывает на мотив более омерзительный, нежели простое ограбление.
– Разве этого не могла сделать Сигга? – едва слышно спросил Тоути.
Блёндаль покачал головой.
– Девица шестнадцати лет, которая, едва ее привели, сразу залилась слезами? Сигга даже не пыталась прибегнуть ко лжи – она слишком простодушна, слишком юна, чтобы уметь лгать. Она рассказала мне все. Как Агнес ненавидела Натана, как ревновала, что он ухаживал за Сиггой. Девчушка не слишком смышленая, но уж такое и она приметила.
– Женщины часто ревнуют, господин сислуманн, но далеко не всегда убивают из ревности.
– Убийство и впрямь дело редкое, преподобный, с этим спорить не стану. Однако же Агнес вдвое старше Сигги. Она перебралась в Идлугастадир из этой долины – немалое, между прочим, расстояние, покинула край, в котором прожила всю жизнь. Почему? Уж верно не ради работы – этого для нее и здесь хватало. Была, безусловно, еще какая-то причина, побудившая Агнес наняться к Натану Кетильссону.
– Господин сислуманн, – сказал Тоути, – я не понимаю, к чему вы клоните.
Блёндаль фыркнул.
– Прошу прощения за прямоту, преподобный, но я скажу так: Агнес считала, что заслуживает большего. По всей видимости – предложения руки и сердца. Натан отличался, мягко говоря, нескромным нравом – в долине полным-полно его незаконных отпрысков.
– И он нарушил обещание?
Блёндаль пожал плечами.
– Кто сказал, что он вообще ей что-то обещал? Агнес, насколько я понимаю, пребывала в уверенности, что завоевала благосклонность Натана. Сигга, однако, показала, что Натан Кетильссон предпочитал ее… общество.
– И об этом открыто говорилось на суде?
– Неделикатно, согласен, но процесс по делу об убийстве и не может быть деликатен.
– Вы считаете, что Агнес замыслила убить Натана, потому что он ее отверг?
– Преподобный, перед нами семнадцатилетний грабитель с молотком, шестнадцатилетняя служанка, дрожащая от страха за свою жизнь, и старая дева, чья неутоленная страсть переросла в жгучую ненависть. Один из них вонзил нож в Натана Кетильссона.
Голова у Тоути кружилась. Он сосредоточил взгляд на белом пере, которое лежало перед ним на краю стола.
– Я не могу в это поверить, – наконец сказал он.
Блёндаль вздохнул.
– Преподобный, в рассказах Агнес о ее жизни ты не отыщешь доказательств ее невиновности. Ей не присущи ни умеренность в чувствах, ни твердость нравственных устоев. Подобно многим служанкам зрелых лет, она в совершенстве овладела наукой обмана, и я не сомневаюсь, что она придала истории своей жизни облик, который должен вызвать у тебя сочувствие. Я не стал бы верить ни единому ее слову. Она лгала мне в глаза – вот здесь, в этой самой комнате.
– Мне она кажется искренней, – возразил Тоути.
– Могу заверить тебя, что это не так. Ты должен поучать ее словом Божьим, как поучают хлыстом тугоуздого упрямого коня. Никаким иным способом ты ничего не добьешься.
– Господин сислуманн, я приложу все свои силы к тому, чтобы склонить ее к раскаянию.
– Позволь указать тебе иной путь к этой цели. Послушай о том, как трудился над Фридриком преподобный Йоуханн Тоумассон.
– Священник из Тьёрна.
– Да. Я впервые увидел Фридрика Сигюрдссона в тот день, когда явился арестовать его. То было в марте прошлого года, вскоре после того, как я узнал о пожаре в Идлугастадире и своими глазами увидел останки Натана и Пьетура.
С несколькими своими людьми я поехал в Катадалюр, хутор родителей Фридрика, и мы сразу направились на задний двор, чтобы застать его врасплох. Когда я постучал на скотный двор, Фридрик самолично отодвинул засов, и я тут же приказал своим людям взять его. Фридрика заковали в кандалы. Юноша впал в ярость, речью и поведением являя образчик самого низкого непотребства. Он дрался с моими людьми, а когда я предостерег его, чтобы не пытался сбежать, он крикнул так громко, что слышно было всем вокруг: жаль, дескать, что он не прихватил с собой ружья, не то влепил бы мне пулю прямо в лоб.
По моему приказу Фридрика доставили в Хваммур, и я принялся допрашивать его – как допросил прежде Агнес и Сигридур, которая и рассказала мне о его участии в преступлении. Фридрик упорствовал и молчал. Только после того, как я вызвал для разговора с ним преподобного Йоуханна Тоумассона, он наконец признался, что с помощью обеих женщин убил Натана и Пьетура. Фридрик не испытывал ни раскаяния, ни сожаления, столь естественных для человека, совершившего непреднамеренное убийство. Он неоднократно выражал свою убежденность в том, что поступил с Натаном справедливо и по необходимости. Преподобный Йоуханн предположил в разговоре со мной, что преступные действия Фридрика суть прямое последствие дурного воспитания, и воистину, помня, какая истерика случилась с матерью Фридрика, когда мы арестовали ее сына, я целиком и полностью согласился с мнением преподобного. Что еще могло бы подвигнуть юнца, прожившего на свете от силы семнадцать зим, убить молотком человека?
Фридрик Сигюрдссон, преподобный, вырос в семье, где с пренебрежением относились к добродетели и христианским заповедям. Лень, алчность и низменные, грубые наклонности взрастили в нем слабый дух и жажду мирских благ. Записав его признание, я пришел к неколебимому мнению, что у него упрямый, несговорчивый нрав. Сильнейшие подозрения такого рода пробудила во мне его внешность: веснушчатое лицо и – прошу прощения, преподобный, – рыжие волосы, явный признак вероломной натуры. Отправляя Фридрика под стражу в Тингейрар, к Бирни Ольсену, я, признаться, почти не питал надежды на его исправление. Но Ольсен и преподобный Йоуханн, по счастью, продолжали уповать и приступили к его душе с тем благочестивым рвением, которое и делает этих двоих людей столь бесценными для местного прихода. Преподобный Йоуханн сообщил мне, что благодаря сочетанию молитв, ежедневных изобличающих проповедей и праведного примера, который являют собой Ольсен и его домочадцы, Фридрик наконец раскаялся в своем преступлении и признал свои заблуждения. Теперь он открыто и честно говорит о своей вине и признаёт, что неминуемая казнь им в полной мере заслужена в силу чудовищности совершенного им преступления. Она, по его словам, есть справедливость Господня. Ну, что ты на это скажешь?
Тоути сглотнул.
– Что успех преподобного Йоуханна и господина Бирни Ольсена заслуживает наивысшей похвалы.
– Я того же мнения, – сказал Блёндаль. – А что, Агнес Магнусдоттир раскаивается в своем преступлении подобным же образом?
Тоути заколебался.
– Она об этом не говорит.
– Это потому, что она скрытна, замкнута и преступна.
Тоути молчал. Больше всего на свете ему хотелось удрать из этой комнаты и влиться в толпу обитателей Хваммура, чьи оживленные разговоры просачивались и под дверь кабинета.
– Я не жестокий человек, младший проповедник Торвардур. Однако я набожен, и для меня очевидно, что наш округ кишит преступниками наихудшего сорта. Воры, грабители, а теперь еще и убийцы. Все те годы, что миновали после моего назначения на эту должность, я наблюдал за тем, как слабеют и распадаются нравственные заслоны, прежде удерживавшие местных жителей от преступления и греха. Это обстоятельство тревожит меня и как политика, и как человека верующего, и долг мой состоит в том, чтобы преступников, которые столь долго оставались в этом округе безнаказанными, настигло справедливое возмездие перед лицом их соотечественников.
Тоути кивнул и медленно взял со стола лебединое перо. Пух у очина пера прилип к влажным от пота пальцам.
– Вы хотите казнить ее в назидание остальным, – тихо проговорил он.
– Я хочу осуществить суд Божий здесь, на земле, – нахмурясь, поправил Блёндаль. – Я хочу достойно ответить властям предержащим, которые назначили меня на это место, тем, что исполню свой долг блюстителя закона.
Тоути помедлил.
– Говорят, – сказал он, – вы назначили палачом Гвюндмюндура Кетильссона.
Блёндаль выразительно вздохнул и откинулся на спинку кресла.
– Нигде сплетни не разлетаются с такой быстротой, как в этой долине.
– Так это правда, что вы пригласили для свершения казни брата убитого?
– Преподобный, я не обязан объяснять тебе, почему решил так, а не иначе. Я не подотчетен приходским священникам. Я держу ответ только перед Данией. Перед его величеством.
– Я ведь не сказал, что осуждаю вас.
– Твое мнение, преподобный, написано на твоем лице буквами размером в локоть. – Блёндаль снова взял перо. – Однако мы здесь не затем, чтобы обсуждать, как я исполняю свои обязанности. Предмет нашей беседы – твои действия, и я должен сказать, что они меня разочаровали.
– Что же, по-вашему, я должен делать?
– Вернуться к слову Господню. Пренебречь словами Агнес. Ей нечего тебе сказать, кроме как чистосердечно раскаяться.
Преподобный Тоути покинул кабинет Бьёрна Блёндаля с гудящей от боли головой. Ему все время чудилось бледное лицо Агнес, ее тихий голос, звучащий в темноте, и перед мысленным взором возникал образ рыжеволосого Фридрика, который заносит молоток над спящим. Неужели Агнес и вправду лгала ему? Тоути поборол искушение осенить себя крестом прямо в коридоре, на глазах у деловитой стайки служанок, что волокли ведра с молоком и бадьи с отбросами. Привалившись к стене, он натянул башмаки.
Во дворе Тоути почувствовал себя гораздо легче. Снаружи стало пасмурно и сумеречно, но холодный воздух и резкий запах рыбы казались созвучными внутреннему смятению. Священнику припомнился чиркнувший ему по горлу жирный палец Блёндаля. Хруст костей. Натан Кетильссон, умоляющий о пощаде. Тоути едва не стошнило.
– Преподобный! – позвал женский голос. Тоути обернулся и увидел, что к нему, задыхаясь, спешит Каритас, служанка Блёндаля. – Преподобный, вы забыли свой плащ!
Тоути улыбнулся и потянулся за плащом, но женщина почему-то не выпустила его из рук. Она взяла Тоути за рукав и, глядя в землю, прошептала:
– Мне нужно с вами поговорить.
Тоути опешил.
– То есть?
– Тсс! – шикнула женщина. И с опаской оглянулась на слуг, которые потрошили на камне рыбу. – Пойдемте со мной. В коровник.
Тоути кивнул и, взяв плащ, побрел к большому строению. Внутри было темно и сильно пахло навозом, хотя все стойла уже успели вычистить. Скотины внутри не оказалось – всех коров до единой выгнали на пастбище.
Он повернулся и разглядел в открытом дверном проеме силуэт Каритас.
– Не то чтобы я хочу секретничать, но… – Она подступила ближе, и Тоути заметил, что вид у нее испуганный. – Прошу прощенья, что так невежливо в вас вцепилась, но уж очень я испугалась, что другого случая поговорить не подвернется.
Каритас жестом указала на табурет для дойки, и Тоути сел.
– Вы ведь тот самый преподобный, который посещает Агнес Магнуссон?
– Да, это я, – подтвердил Тоути, изнывая от любопытства.
– Я работала в Идлугастадире. У Натана Кетильссона. Я ушла оттуда в 1827 году, как раз перед тем, как туда приехала Агнес. Она должна была занять мою должность экономки. Во всяком случае, так мне сказал Натан.
– Понятно. И что же ты хотела мне рассказать?
Каритас помедлила, словно пытаясь подобрать нужные слова.
– Видно, правду в старину говорили: пришла ко мне беда, да с моего двора.
– Не понимаю.
– Это из саги о Гисли сыне Кислого[13]. – Каритас быстро оглянулась на дверной проем, проверила, не идет ли кто. И добавила шепотом: – Он дал ей слово, а потом нарушил.
– Слово?
– Натан обещал Агнес мое место, сударь. Только перед тем, как она приехала, он решил, что экономкой станет Сигга.
Тоути растерялся. И продолжал стоять, рассеянно поглаживая перо, которое подарил ему Блёндаль, – оказывается, священник до сих пор держал его в руках.
– Сигга, преподобный, была совсем молода – лет пятнадцати или шестнадцати. Натан знал, что Агнес будет обидно оказаться в подчинении у соплячки.
– Боюсь, Каритас, я не понимаю, о чем ты ведешь речь. Почему Натан обещал Агнес должность, а потом отдал это место неопытной девушке вдвое моложе ее?
Каритас пожала плечами.
– Преподобный, вы были знакомы с Натаном?
– Нет, я ни разу с ним не встречался. Хотя, насколько я понимаю, в этой долине его знали многие. – Тоути улыбнулся. – Мне доводилось слышать довольно противоречивые мнения. Одни говорят, что он был хорошим лекарем, другие – что он был колдун.
Но Каритас не улыбнулась ему в ответ.
– Но ты уверена, что он обманул Агнес?
Мыском деревянного башмака женщина растерла в порошок соломину, валявшуюся на полу.
– Просто… здешний народ вовсю чернит Агнес, а мне это не по нраву.
Тоути поколебался.
– Каритас, к чему ты мне все это рассказываешь?
Женщина склонилась к нему.
– Я уехала из Идлугастадира, потому что не могла больше выносить Натана. Он… он играл с людьми. – Она наклонилась еще ниже, губы ее дрожали. – Мне казалось, это у него такая забава была. С ним я никогда не знала, на каком я свете. Говорит одно, а делает совсем другое. А уж когда я, бывало, отпрошусь в церковь… – Она искоса глянула на Тоути. – Преподобный, я добрая христианка и клянусь – никогда в жизни мне не доводилось слышать, чтобы человек изрыгал такое богохульство. – Каритас скорчила гримасу и вновь оглянулась на дверь. – Вы ведь не скажете Блёндалю, что говорили со мной?
– Конечно нет. Однако я не понимаю, чем может быть полезен для меня этот твой рассказ о Натане. Очевидно, что мнения о нем бытовали самые разные, но все-таки ни один человек, будь он даже безбожник и баламут, не заслуживает, чтобы его зарезали в собственной постели.
Каритас, казалось, опешила.
– Баламут? – переспросила она и одарила Тоути многозначительным взглядом. – Агнес что-нибудь говорила вам о Натане?
– Нет. Она его никогда не поминает.
– А Блёндаль что? – Женщина кивнула на господский дом.
– Пока что я не слышал о нем ничего, что было бы достойно доверия, – помимо суеверных россказней о том, что его назвали в честь Сатаны.
Каритас слабо усмехнулась.
– Да, так говорят. Блёндаль в любом случае не стал бы говорить о Натане дурно. Натан вылечил его жену.
– Я не знал, что она была больна.
– Смертельно больна. Блёндаль, само собой, заплатил Натану кучу денег, однако дело того стоило. Натан Кетильссон вернул жену Блёндаля от самых райских врат.
Тоути вдруг почувствовал злость. Он резко встал, отряхнул брюки от соломинок и пыли.
– Мне пора.
– Так вы не скажете Блёндалю, что я с вами говорила?
– Не скажу. – Тоути выдавил натужную улыбку. – Каритас, я желаю тебе всего лучшего. Да хранит тебя Господь.
– Преподобный, вы непременно должны расспросить Агнес про Натана. Мне кажется, эти двое знали друг друга лучше, чем самих себя.
Тоути обернулся к ней с порога, озадаченный этими словами.
– А ты сама не хотела бы навестить Агнес?
Каритас издала резкий смешок.
– Да Блёндаль за такое шкуру с меня спустит и на солнышке повесит. Да и, когда она прибыла в Идлугастадир, меня там уже не было. Я к тому времени была сыта всем этим по горло.
– Понимаю.
Секунду-две Тоути пристально глядел на женщину, а затем торопливо коснулся ладонью края шляпы.
– Благослови тебя Господь.
С этими словами он вышел из конюшни, чтобы привести со двора свою кобылку. Забравшись в седло, Тоути обернулся и помахал на прощание Каритас, которая так и стояла в дверях коровника. Она не стала махать в ответ.
Сенокос завершен, и все, кто трудился, стиснув зубы и не покладая рук, наконец откроют рты для угощения, выпивки и досужей болтовни. Я помогаю Маргрьет в кухне, варю баранину для гостей, которые уже начали прибывать на праздник в честь окончания страды. Для посторонних мыслей времени почти не остается. Хозяйских дочерей сейчас тут нет – их вместе с Кристин отправили на горную пустошь собирать ягоды и ягель, – и нам с Маргрьет приходится вдвоем готовить ячменное тесто, сбивать масло, кормить мужчин и вовремя убирать со двора просохшее белье, пока соседи не увидели нашего исподнего. Я даже удивилась, до чего мне не хватает девочек; по видимости, я успела привыкнуть к тому, как Лауга округляет глаза, точно сердитый теленок, а Стейна бродит за мной по пятам, словно тень.
– Я понимаю тебя, – сказала она, отправляясь в путь. – Мы похожи.
Я совсем не похожа на Стейну. Да, мы обе несчастны, но она совсем не такая, как я. В ее годы я трудилась в Гвюдрунарстадире, зарабатывая на пропитание тем, что присматривала за пятью хозяйскими детишками – худенькими и слабыми, как следы прилива на песке, – стряпала, убирала, прислуживала, едва не валясь с ног. И всегда была по уши изгваздана то в рассоле, то в молоке, то в саже, навозе или крови. Когда родился Индриди, самый младший из гвюдрунарстадирских детишек, я была рядом с его несчастной матерью, держала ее за руку и перерезала запутавшуюся пуповину. Что знает Стейна о жизни? В ее годы я была одна-одинешенька и по ночам дремала вполглаза, следя, чтобы охальник слуга, решив, что я заснула, не задрал мне юбку. Впрочем, он не всегда действовал скрытно. Как-то утром он поймал меня у ручья, заломил руки за спину и швырнул наземь, лицом в воду, и я не на шутку опасалась, что захлебнусь, покуда он возится с портками. Приходилось ли Стейне вот так извиваться под тяжестью мужского тела? Приходилось ли ей когда-нибудь выбирать, позволить ли, чтобы хозяин хутора задрал тебе юбки, а потом оказаться в немилости у его жены, которая станет сваливать на тебя самую черную работу, – или же ответить ему отказом и лишиться места и крова, скитаться в снегу и тумане, когда все двери перед тобой закрыты?
Индриди, малыш с жестким ершиком волос, которому я помогла появиться на свет, умер пару лет спустя после того, как я перерезала его пуповину. Он успел научиться говорить. Успел узнать, что такое голод. Что знает Стейна об умерших детях? Она не такая, как я. Ей ведом только ствол дерева жизни. Она никогда не видела его спутанных корней, оплетающих гробы и могильные камни.
Я покинула Гвюдрунарстадир после смерти Индриди, когда хозяин хутора, его жена и оставшиеся детишки исхудали с голода, словно щепки. Они расцеловали меня, дали с собой рекомендательное письмо и пару яиц на дорогу до Гилстаудира. Яйца я отдала двум светловолосым девочкам, которые встретились мне на пути.
Даже смешно. Подумать только, что эти круглолицые девчонки, бросавшие своему псу комья земли, чтобы он гонялся за ними, стали теперь моими тюремщицами в Корнсау.
Лауга разобиделась, когда Йоун объявил девочкам, что они отправятся на сбор ягод и пропустят праздник окончания сенокоса. Она превосходно умеет кукситься и этим отчасти похожа на Сиггу, только куда смышленее той. Йоун разговаривал с ней и Стейной прошлой ночью, когда думал, что я сплю.
– Ей, – сказал он, – суждено предстать перед Господом и держать ответ за свои злодеяния. Нашей семье следует продолжать жить, как жили. Мы должны уберечь вас от нее.
Он не хочет, чтобы девочки сострадали мне. Не хочет, чтобы мы чрезмерно сблизились, а потому отослал их подальше, едва только позволила погода. На время избавил их от меня.
Маргрьет говорит, что гости сегодня будут есть на свежем воздухе, потому что стоит погожее сентябрьское утро и всем нам не помешает насладиться солнышком, потому что скоро грянет зима. Трава в горах уже сделалась цвета вяленого мяса, и вечера пахнут рыбьим жиром, потому что опять приходится зажигать лампы. В Идлугастадире очень скоро выброшенные на берег водоросли подернет иней. Тюлени станут собираться на отрогах скал, уходящих в воду, и наблюдать за тем, как зима спускается с горы. Будут слышны крики и хлопанье кнутов, когда конные пастухи станут сгонять овец, а потом начнется забой скота.
– Привет всем жителям Корнсау! – доносится от входа на подворье, и Маргрьет встревоженно поднимает взгляд.
– Оставайся здесь, – бросает она и поспешно выходит. Женский голос становится громче, потом тише, и в кухню вплывает здоровенная беременная баба в окружении стайки белобрысых ребятишек с сопливыми носами. За ней следует другая – худенькая, седая женщина. Я поднимаю взгляд от котла, в котором помешиваю кипящий на огне суп, и вижу, что беременная толстуха уставилась на меня, зажав рот ладонью. Ребятишки тоже таращатся на меня разинув рты.
– Роуслин, Ингибьёрг, это Агнес Магнусдоттир, – со вздохом говорит Маргрьет.
Я делаю книксен, прекрасно сознавая, какое являю собой зрелище. Волосы, намокшие от пара, прилипли ко лбу, фартук после разделки мяса заляпан кровью.
– Дети, прочь отсюда! Сейчас же!
Белобрысая стайка выпархивает из кухни, кто-то из ребятишек напоследок шумно чихает. Они явно разочарованы.
Чего нельзя сказать об их матери. Толстуха по имени Роуслин поворачивается к Маргрьет и хватает ее за плечо.
– Ты пригласила нас всех, зная, что она будет здесь?!
– Где же ей еще быть-то? – Маргрьет украдкой бросает взгляд на худенькую Ингибьёрг, и я замечаю в их глазах заговорщический блеск.
– В Хваммуре, на весь день под стражей! Под замком в кладовой! – кричит Роуслин. Лицо ее раскраснелось; она вопит с явным удовольствием.
– Роуслин, хватит накручивать себя, не то родишь прямо сейчас.
Я бросаю взгляд на огромный живот женщины. Да, до родов ей и впрямь недалеко.
– Это девочка, – говорю я прежде, чем успеваю подумать.
Все три женщины так и уставились на меня.
– Что она сказала? – шепотом спрашивает Роуслин, и на лице ее написан страх.
Маргрьет негромко покашливает.
– Что ты сказала, Агнес?
Мне вдруг становится не по себе.
– Твой будущий ребенок – девочка. Судя по животу.
Ингибьёрг разглядывает меня с неподдельным интересом.
– Ведьма! – визжит Роуслин. – Скажи ей, чтоб не смела на меня смотреть!
С этим выкриком она в гневе покидает кухню.
– Как ты догадалась? – спрашивает Ингибьёрг. Голос ее мягок.
– Мне когда-то объясняла Роуса Гвюндмюндсдоттир. Повитуха с запада.
Маргрьет медленно кивает.
– Скальд-Роуса. Я не знала, что вы дружили.
Мясо готово. Я кладу половник на крышку бочонка и обеими руками снимаю котел с крюка над очагом.
– А мы и не дружили, – говорю я.
Ингибьёрг берет стоящую рядом со мной тарелку с маслом и кивает Маргрьет.
– Надеюсь, твоя хозяйка позволит тебе ненадолго выйти во двор, – говорит она улыбаясь. – Тебе нужно больше бывать на солнце.
Она и Маргрьет уходят, но слова, сказанные Ингибьёрг, еще долго звучат в моих ушах. «Тебе нужно больше бывать на солнце».
– Пока еще жива, – не удержавшись, добавляю я вслух под треск углей в очаге.
Гости прибывают пешком и верхами, женщины несут еду, а мужчины украдкой достают из-за пазухи либо из карманов фляжки с бренвином. Я вижу их, когда помогаю накрывать столы, но по большей части Маргрьет находит для меня работу в кухне, подальше от соседских глаз. Люди искоса поглядывают на меня и смолкают, когда я расставляю на столах кувшины с молоком и круги масла.
Я не хочу выходить к гостям. Наверняка там будут люди, которые знали меня раньше, – быть может, хозяева хуторов, на которых я работала, или слуги, с которыми спала в одной комнате. Голова моя ноет от туго заплетенных кос, и внезапно меня охватывает жаркое желание расплести их, чтобы распущенные волосы падали мне на спину и искрились на солнце.
Тоути отыскал Агнес в молочне – она сбивала масло.
– Отчего ты не на празднике? – негромко спросил он.
Она даже не обернулась на его голос.
– Здесь от меня больше проку, – сказала она, все так же размеренно поднимая толкач и с силой погружая его в сливки. Негромкий и ровный плеск маслобойки казался Тоути приятным на слух.
– Надеюсь, ты не против, если я побуду с тобой.
– Не против. Только, с вашего разрешения, я не стану отвлекаться, пока не собьется масло.
Тоути привалился к дверному косяку, наблюдая за тем, как Агнес ритмично орудует толкачом. Через несколько секунд он начал различать дыхание Агнес, тяжелое и частое. Было нечто откровенное в мерных движениях толкача, сочетавшихся с учащенным женским дыханием. При мысли об этом Тоути почувствовал, что краснеет. Наконец из глубин бочонка донесся глухой стук; Агнес остановилась и ловко выудила из пахты комок масла. Глядя, как она ополоснула комок, придала ему форму и, постукивая лопаткой, умело отжала остатки жидкости, Тоути вздрогнул, припомнив вдруг слова Блёндаля. Один из них вонзил нож в Натана Кетильссона.
Когда круг свежего масла был завернут в чистое полотно, Тоути предложил выйти во двор и подышать свежим воздухом. Это предложение вызвало у Агнес явное беспокойство, но все же она, взяв из бадстовы вязанье, последовала за Тоути наружу. Они уселись на груде дерна под стеной дома и стали наблюдать за гостями, взрослыми и детьми. Мужчины, регулярно прикладывавшиеся к бренвину, неуклонно пьянели, женщины, одетые в черное, собирались тесными кружками и от души сплетничали. Несколько женщин по очереди тискали младенца и умиленно клохтали над ним, покуда он не разразился громким ревом.
– Я был у Блёндаля, – наконец сказал Тоути.
Агнес побелела как мел.
– Чего он хотел?
– Он считает, что я должен больше заставлять тебя молиться и слушать проповеди и меньше позволять тебе говорить самой.
– Превыше церковных наказаний Блёндаль ставит только одно – звук собственного голоса, – сквозь зубы процедила она.
– Это правда, что Блёндаль просил Натана лечить его жену?
Агнес настороженно глянула на Тоути.
– Да, – медленно ответила она. – Да, это правда. Несколько лет тому назад Натан ездил в Хваммур, давал ей снадобья и пускал кровь.
Тоути кивнул.
– Кроме того, Блёндаль рассказал мне кое-что о Фридрике. Судя по всему, надзор Бирни Ольсена и наставления преподобного Йоуханна пошли ему на пользу.
С этими словами он глянул на Агнес, чтобы оценить ее реакцию. Глаза женщины сузились.
– За него тоже будут подавать прошение? – осведомилась она.
– Этого Блёндаль мне не сказал. – Тоути откашлялся. – Агнес, одна служанка по имени Каритас просила передать тебе привет. И интересовалась, говорила ли ты со мной о Натане.
Руки Агнес замерли, она стиснула зубы.
– Каритас? – севшим голосом переспросила она.
– Она обратилась ко мне после того, как я закончил разговор с Блёндалем. Сказала, что хочет рассказать кое-что о Натане.
– И что же она о нем сказала?
Тоути достал рожок с нюхательным табаком, высыпал понюшку на ладонь и втянул ноздрями.
– Сказала, что не смогла больше у него служить. Что он играл людьми.
Агнес промолчала.
– Мне довелось беседовать с другими местными жителями, которые утверждают, что Натан был колдуном и что его назвали в честь Сатаны, – прибавил Тоути.
– Да, это расхожая байка. И многие в нее верят.
– Ты тоже?
Агнес расправила на коленях недовязанный чулок.
– Не знаю, – наконец ответила она. – Натан верил в сны. Его мать обладала провидческим даром, и ее сны часто сбывались. Говорят, у них в семье все были такие. Он требовал, чтобы я рассказывала ему свои сны, а потом подробно истолковывал их.
Она перестала разглаживать ладонью чулок и подняла взгляд на Тоути.
– Преподобный, – проговорила она тихо, – если я вам кое-что расскажу, вы обещаете мне поверить?
Сердце Тоути остановилось на миг и тут же неистово заколотилось.
– Что ты хочешь мне рассказать, Агнес?
– Помните, при первой нашей встрече вы спросили, почему я выбрала своим духовником именно вас, и я ответила, что поступила так из-за вашего доброго поступка, из-за того, что вы помогли мне переправиться через реку? – Агнес настороженно глянула на людей, собравшихся на краю поля. – Я не лгала, – продолжала она. – Та встреча у реки была на самом деле. Я только умолчала о том, что мы встречались и до того.
Тоути вскинул брови:
– Прости, Агнес, но я что-то не припомню.
– И не можете припомнить. Это было во сне.
С этими словами она впилась взглядом в Тоути, словно опасаясь, что он сейчас рассмеется ей в лицо.
– Во сне? – Преподобный вновь поразился тому, какими пронзительно светлыми кажутся глаза Агнес, оттененные черными ресницами. Все-таки она удивительная, подумал он, совсем не такая, как все.
Уверившись, что он не собирается смеяться, Агнес снова принялась за вязанье.
– Когда мне было шестнадцать, мне приснилось, что я иду босиком по лавовому полю. Его покрывал снег, а я была растеряна и напугана – потому что не знала, где нахожусь, и вокруг не было ни души. Всюду, куда ни глянь, были только скалы и снег, а еще громадные расселины и трещины. Ноги мои кровоточили, но останавливаться было нельзя – я не знала, куда иду, но старалась идти как можно быстрее. В тот самый миг, когда я уже думала, что умру от страха, появился юноша. Он был с непокрытой головой, но с воротником священника, и он протянул мне руку. Мы продолжали идти в том же направлении, что и раньше, – потому что не знали, куда еще идти, – и хотя мне по-прежнему было очень страшно, я держала его за руку, и оттого делалось спокойней.
И вдруг я почувствовала во сне, как земля уходит из-под ног. Руку мою выдернуло из пальцев юноши, и я рухнула в пропасть. Помню, как, падая во тьму, я подняла взгляд и увидела, что земля смыкается над моей головой, отсекая свет и лицо человека, которого я встретила во сне. Я канула в толщу земли, оказалась погребена в тишине, и это было невыносимо… а потом я проснулась.
У Тоути пересохло во рту.
– И тот человек был я? – спросил он.
Агнес кивнула. В глазах ее стояли слезы.
– Увидев вас тогда в Гёйнгюскёрде, я очень испугалась. Я узнала юношу, которого встретила во сне, поняла, что между нами существует некая связь, и это меня не на шутку обеспокоило. – Агнес вытерла нос рукавом. – После того как мы расстались, я узнала ваше имя. Узнала, что вы собираетесь стать священником, как ваш отец, что едете на юг, учиться в тамошней школе, – и тогда поняла, что мой сон был вещим и что мы когда-нибудь встретимся в третий раз. Даже Натан верил, что все в этой жизни происходит трижды.
– Но ведь ты не упала в пропасть, и вокруг не темно, – заметил Тоути.
– Пока еще не темно, – тихо отозвалась Агнес и судорожно сглотнула. – Да это и не важно. Не темнота испугала меня тогда, во сне. Тишина.
Тоути задумался.
– На свете – и на этом, и на том – есть много такого, что нам не дано постичь. Однако же если мы чего-то не понимаем, это вовсе не значит, что непонятного надо страшиться. В жизни, Агнес, так мало того, что известно нам наверняка… и да, это действительно страшно. Я солгал бы, утверждая, что не страшусь неизвестности. Но, Агнес, ведь с нами Господь и, что куда важнее, Его любовь, и Он спасает нас от страха.
– А вот я ничего подобного не чувствую.
Тоути шагнул к ней и осторожно взял за руку.
– Доверься мне, Агнес. Я здесь, с тобой, так же как в твоем сне. И твоя рука в моей, – добавил он.
С этими словами Тоути слегка сжал ее тонкие пальцы. Он вдыхал ее запах, сладкий запах свежей пахты с кисловатым привкусом… кожи Агнес? Воздуха молочни? Тоути поборол внезапное искушение поднести ее пальцы ко рту и ощутить их вкус.
Агнес, не подозревая об этом, улыбнулась и свободной рукой похлопала его по колену.
– Когда-нибудь из вас выйдет замечательный священник, – сказала она. – Я в этом уверена.
Тоути погладил тыльную сторону ее ладони.
– Знаешь, – сказал он, чувствуя себя почти заговорщиком, – а Блёндаль не хочет, чтобы я посещал тебя.
– Ну еще бы.
– Когда я сегодня встречался с ним, я всерьез опасался, что он запретит мне видеться с тобой.
– Ну и как – запретил?
Тоути покачал головой.
– Он сказал, что я должен проповедовать тебе.
Агнес мягко высвободила руку, и Тоути неохотно позволил ей это сделать. И смотрел, как она снова принялась за вязанье.
– Может быть, расскажешь мне о Натане? – спросил он, чувствуя смутную досаду.
Агнес мельком глянула на гостей.
– Как думаете, не нужно ли принести им еще еды?
– Маргрьет позвала бы тебя, если бы это понадобилось. – Тоути украдкой вытер о брюки вспотевшие ладони. – Ну же, Агнес, рассказывай. Блёндаля здесь нет.
– И слава богу. – Агнес сделала глубокий вдох. – Что же вы хотите от меня услышать? Вы уже знаете, что я работала у Натана. Вы явно наслышались о нем всякого от других людей. Что еще вам хочется узнать?
– Когда ты с ним познакомилась?
– Я впервые увидела Натана Кетильссона, когда работала в Гейтаскарде.
– Где это?
– В Лангидалюре. Это был шестой по счету хутор с тех пор, как я стала наниматься. Хозяин его звался Ворм Бек. Он хорошо относился ко мне. До того я работала в Фаннлаугастадире, на востоке, потом в Бюрфедле. Именно тогда мы с вами и повстречались, преподобный, – я направлялась в Бюрфедль, а вы помогли мне переправиться через реку. Я отправилась туда, потому что узнала, что там служит Магнус Магнуссон, человек, который считался моим отцом, и надеялась, что смогу пожить при нем.
В Бюрфедле я надолго не задержалась. Магнус был добр, но, когда я напомнила, что зовусь Магнусдоттир в его честь, он разъярился и стал кричать, что моя мать опозорила его доброе имя и что вечно ему от женщин одни неприятности. После этого мне уже и не хотелось там оставаться. Магнус выделил мне кровать и разрешил жить со всеми прочими слугами, но время от времени я замечала, что он как-то странно смотрит на меня, и понимала: это потому, что он видит во мне сходство с матерью. Когда я собралась уходить, он дал мне денег. Впервые в жизни я держала в руках деньги.
Я решила отправиться в Гейтаскард. Я покинула хутор рано поутру, на своих двоих, и шла вдоль мутной Бланды вниз по течению, когда заметила группу людей, спускавшихся с восточного перевала. Они нагнали меня и моих спутников – тоже слуг по большей части, мы назвались друг другу, и подумать только – одним из этих людей оказался не кто иной, как мой маленький братик, только теперь совсем уже взрослый! Мы даже не узнали друг друга. Йоуас был потрясен. Он сжимал мою руку и называл меня сестренкой, а его спутники стали насмехаться над ним, когда заметили слезы в его глазах. Я тоже была рада встретиться с Йоуасом, однако заметила, что от него пахнет спиртным и одет он неряшливо. Он назвался слугой, но рекомендательного письма при нем не оказалось, и держался он беспокойно – так ведут себя бродяги, которых хватает в этих местах. Что-то мне подсказывало, что дела у брата не ахти, и сердце мое при мысли об этом защемило. В то утро мы болтали без умолку до самого Гейтаскарда, и я узнала, что детство Йоуаса выдалось таким же безрадостным, как мое собственное. Мама бросила его вскоре после того, как спихнула меня в Корнсау, и он рассказал, что его перебрасывали с одного хутора на другой, точно раскаленный уголек. Где сейчас пребывает Ингвельдур, Йоуас не знал; по мне, сказал он, так хоть в аду. Словом, оба мы были нищие, но только дела у Йоуаса оказались гораздо хуже. Он не умел ни читать, ни писать, а когда я предложила научить его грамоте, он разозлился и велел мне не задирать нос.
Йоуас и его спутники – чумазая орава, ни единого умытого лица – сообщили мне, что направляются в Гейтаскард узнать, не найдется ли для них временной работы, хозяйство-то там большое. В отличие от меня Йоуас не условился заранее о найме, однако я поручилась за него перед Вормом, и брата также приняли на работу. То были почти счастливые дни – во-первых, рядом со мной находился брат, хоть мы едва знали друг друга, а во-вторых, нам довелось работать в хорошем месте. В Гейтаскарде всегда было вдоволь еды – не то что в Гвюдрунарстадире, Габле или даже Гилсстадире. На тех хуторах случались времена, когда мне поневоле приходилось скармливать ребятишкам сальные свечи, а самой перебиваться клочками вареной кожи. К тому же и слуги в Гейтаскарде никогда не позволяли себе лишнего. Легко быть добродетельным, когда вокруг полно коров и коней, травы и масла, да еще вдоволь кормят мясом. Я сблизилась с одной из местных служанок, Марией Йоунсдоттир. Друзей у меня всегда было раз и обчелся, но Мария оказалась, подобно мне, приходской сиротой, и, наверное, это помогло нам в некотором роде найти общий язык.
Йоуасу как будто нравилось в Гейтаскарде, и я втайне этому радовалась. Вот только его приятелей я терпеть не могла. Шайка была та еще – пустоглазые, никчемные люди в грязных штанах, и гниды в волосах. Йоуас расчесал себе голову до крови. От нескольких этих типов Ворм избавился в первую же неделю – застиг их спящими за коровником, – да и все прочие тоже долго не продержались. Может, Йоуас все-таки был лучше своих сотоварищей, или на него благотворно подействовало мое соседство – не знаю, но он позволил мне отмыть его дочиста и вычесать гнид, а к тому же трудился не покладая рук. По вечерам, когда выпадало свободное время, мы разговаривали. Йоуас рассказал, что много слышал обо мне, что расспрашивал людей в округе и узнал, что я отправилась в Гвюдрунастадир. Он прибавил, что искал меня там, но так уж вышло, что я покинула хутор как раз перед тем, как Йоуас туда прибыл. Я не подала виду, но потом всласть поплакала, представляя, как брат разыскивал меня. А еще у него был ребенок. Крохотная девочка, дочка от служанки. Вот только Йоуас рассказал мне, что малышка родилась мертвой, а ее мать его в грош не ставила. Я поведала ему о Хельге, нашей бедной покойной сестренке, и Йоуас сказал, что был на ее похоронах и что Йоунас, хозяин хутора и отец Хельги, дал ему немного денег в возмещение того, что Йоуаса бросила распутная баба. Йоуас все твердил, что наша мама была сущей дрянью, и пускай, мол, она горит себе в аду, если смогла оставить двоих детей на милость прихода, которая и не милость вовсе, и наговорил о ней еще много других гадостей. Он говорил о маме в точности как Магнус, и как-то вечером мы долго пререкались об этом, а когда поутру я проснулась, Йоуаса нигде не могли найти. Он прихватил с собой деньги, которые дал мне Магнус. С тех пор я его больше не видела.
От толпы, собравшейся на нижнем поле, долетел громкий взрыв смеха. Тоути увидел, что двое мужчин впустили на двор корову, а остальные безуспешно пытаются выгнать ее назад на поле.
– Я сберегала эти деньги на случай замужества, – продолжала Агнес. – Чтобы оплатить разрешение на брак, помочь мужу купить клочок земли, чтобы мы жили достойно и независимо.
– У тебя был жених? – спросил Тоути.
Агнес усмехнулась.
– Да был в Гейтаскарде один слуга, Даниэль Гвюндмюндссон. Я ему, видно, нравилась, вот он и твердил всем и каждому, что мы помолвлены и обязательно поженимся. То же самое он сказал на суде, но я не представляю, как он мог говорить такое серьезно. Ни у кого из нас гроша за душой не было. Я позволяла ему тешиться своими мечтаниями, поскольку благодаря им он хорошо ко мне относился.
Даниэль работал и в Идлугастадире – как раз когда я там служила. Он выступал на суде, вначале как свидетель, но потом Блёндаль решил, что ему наверняка было известно, что произойдет, и Даниэля приговорили отбыть срок в тюрьме Распхус в Копенгагене.
– А ему и вправду было известно, что произойдет? – спросил Тоути.
Агнес оторвалась от вязания и окинула его холодным взглядом.
– Если бы хоть кому-то было заранее известно, что произойдет, – думаете, я бы сейчас сидела тут и болтала с вами? Думаете, Даниэля или родных Фридрика привязали бы ремнями к бочке и били плетьми едва не до смерти, будь им известно, что произойдет?
Оба замолчали. Наконец Агнес сделала глубокий вдох.
– После ухода Йоуаса единственной отрадой моей жизни на хуторе стала Мария. В детстве и в юности у меня почти не было друзей; меня вечно переправляли с одного хутора на другой, точно тюк с добром. Ко всякому, кто хотел исполнить свой долг добронравного прихожанина или нуждался в паре девичьих рук для сенокоса, ухода за овцами либо работы на кухне. Я и сама предпочитала держаться особняком. Мне куда интересней было читать, нежели общаться с людьми. – Агнес подняла взгляд. – А вы любите читать? – спросила она.
– Очень, – ответил Тоути.
Она широко улыбнулась, и тут-то наконец он увидел перед собой юную служанку, которой помог переправиться через реку. Глаза Агнес сияли, губы приоткрылись, обнажив ровный ряд зубов; женщина вдруг чудесно преобразилась, помолодела. Тоути почувствовал, что дыхание его участилось. До чего же она красива!
– И я тоже, – проговорила Агнес, понижая голос до шепота. – Больше всего я люблю саги. Знаете, как говорят – blínður er bóklaus maður, человек без книги слеп.
Что-то всколыхнулось в груди Тоути – непонятно, смех или плач. Он глядел на Агнес, глядел, как играет предвечернее солнце на кончиках ее ресниц, и думал о словах Блёндаля – что Агнес якобы убила Натана, потому что он ее отверг. Священник видел, что в сердце своем сислуманн давно вынес приговор.
– Еще девочкой меня часто нанимали работать на соседских полях. Иногда на этих хуторах обнаруживались книги. – Агнес жестом указала на каменистые холмы, простиравшиеся у них за спиной. – Я брала эти книги с собой, устраивалась где-нибудь над холмом Корнсау и читала. Бывало, что я там же и задремывала, укрываясь на время от хуторской суеты и своих многочисленных обязанностей. Правда, порой меня застигали на месте преступления и строго наказывали.
– В записи о твоей конфирмации сказано, что ты была начитана.
Агнес выпрямилась.
– Конфирмация пришлась мне по душе: святое причастие, и все смотрят, как ты идешь по проходу и опускаешься на колени рядом со священником. Хозяева хуторов и их жены не могли запретить мне читать, поскольку знали, что я готовлюсь к конфирмации. Я могла ходить в церковь и заниматься с преподобным, если у него находилось время для занятий. Мне дали белое платье, а потом угощали оладьями.
– А стихи?
Агнес скептически глянула на него.
– Что – стихи?
– Ты любишь стихи? Ты сама сочиняешь?
– Я не похваляюсь повсюду своими виршами. Не то что Роуса. Ее стихи все знают. – Она пожала плечами.
– Потому что они красивы.
Агнес ненадолго примолкла.
– Именно это и нравилось Натану в Роусе. Нравилась ее власть над словом. Она изобрела собственный язык, чтобы выразить то, что все другие могли только чувствовать.
– Я слыхал, будто Натан тоже был скальдом, – заметил Тоути с деланной небрежностью. – Вы с ним тоже общались стихами, как, говорят, общались Натан и Роуса?
– Не совсем так, как Роуса, но наши с ним разговоры и впрямь были сродни стихам. – Агнес окинула взглядом лежавшее перед ними поле. – Я познакомилась с Натаном точно в такой же день.
– Праздник окончания страды?
Агнес кивнула.
– Это было в Гейтаскарде. Мы с Марией накрывали столы. Мы носили из дома еду и питье, не торопясь и не особо утруждая себя. Мария знала подноготную всех и каждого, и я помню, как она, показав пальцем на округлившийся живот одной из хуторских служанок, что-то съязвила про нее, и я хохотала до колик. Потом Мария схватила меня за локоть, оттащила к коровнику и сказала, будто только что видела, что на праздник прискакал Натан Кетильссон.
Я, конечно, уже была наслышана о Натане. Говорили о нем всякое – в зависимости от того, при ком помянешь его имя. Всем было известно о его шашнях с Роусой. Все знали, что дети у нее от Натана, а не от Олафа. Натан изъездил весь север. Еще в молодости он занялся кровопусканием, потом уехал в Копенгаген, и все в один голос утверждали, что он вернулся оттуда колдуном. Еще говорили, будто он свел дружбу с Блёндалем, который в то время учился в Копенгагене, и что именно из-за этой дружбы он ни разу не понес наказания за свои делишки. Все считали, что Натан нечист на руку; и правда, в юности ему доводилось отведать плетей за воровство. Люди попросту не могли вообразить, откуда у него столько денег, поскольку своими глазами видели, как мало получает он за труды. Иные клятвенно утверждали, что Натан нанимает всяческих пройдох, чтобы они крали для него скот. Врагов у него было множество, однако же трудно сказать, вправду ли Натан причинил им зло, или они чернили его из зависти. Слухи разрастались и множились, а сам Натан помалкивал, позволяя сочинять о себе небылицы.
– А что ты тогда думала о Натане?
– Да в общем-то ничего особенного. Я тогда еще и знакома не была с Натаном, хотя его брат Кетиль как-то пытался за мной ухлестывать. Тогда, в коровнике, Мария рассказала мне, что Натан наконец-то покинул Роусу и обзавелся собственным хутором. Новость эту обсуждали многие, потому что Роусу все любили и сострадали ее сердечным мукам, хоть она и была замужняя женщина. Мария рассказала мне, что Ворм в большой дружбе с Натаном и потому помог ему купить Идлугастадир, хутор у самого моря, где полно тюленей и гаг, а также плавника, если только сумеешь натаскать его с берега. Мария прибавила, что Натан после этого заважничал, стал зваться не Кетильссоном, а Линдалем, хотя мы обе не понимали, зачем это ему – чудное отчество, такое исландцам не подобает. Мария считала, что Натан, верно, решил строить из себя датчанина, а я удивлялась, что ему вообще позволили поменять имя. Мария заявила, что мужчины вправе делать все что им заблагорассудится, в конце концов, все они потомки Адама, который дал имена всему, что есть под солнцем.
Мы отряхнулись, привели себя в порядок, и Мария накусала себе губы, чтоб те стали краснее. Затем мы вышли из коровника, притворяясь, будто высматриваем, не появилось ли на столах пустых тарелок.
Вот тогда-то я впервые увидела Натана. Я воображала себе рослого статного белокурого красавца, наподобие тех, от которых обычно млеют молодые служанки. Натан, однако, оказался вовсе не красавцем. Человек, который разговаривал с Вормом, был невысок ростом, с худощавым тонким лицом – сильным он не выглядел. Волосы у него были рыжевато-каштановые, нос явно длинноват. Каштановый цвет волос и блестящие глазки придавали ему что-то лисье, и я сообщила об этом Марии. Она расхохоталась и сказала: не зря, мол, некоторые северяне считают Натана оборотнем.
Тогда-то Натан и обратил на нас внимание. Очевидно было, что мы смеемся над ним, но он как будто ничего не имел против. Он что-то сказал Ворму и направился к нам.
Припоминаю, что Натан, глядя на нас, улыбался, как будто мы были уже знакомы. Наверное, ему нравилось внимание.
– Добрый день, девушки, – сказал он. Ростом он был немногим выше меня, но голос у него оказался низкий, звучный. – Удостоюсь ли я чести узнать ваши имена? – осведомился он, и я представила себя и Марию.
Натан улыбнулся и отвесил поклон, и именно тогда я впервые обратила внимание на его руки. Они были на удивление белые, как у женщины, пальцы тонкие, словно березовые веточки, и такие же длинные. Неудивительно, что Натана прозвали «длиннопалым». Он сказал, что рад с нами познакомиться, и добавил, что погода нынче славная. Потом начал расспрашивать, нравится ли нам праздник, но я перебила его и заявила, что он забыл нам представиться. Мария возмущенно фыркнула, но Натану, как он признался мне позже, всегда нравились девицы, бойкие на язык. Он сказал, что его зовут Натан Линдаль, и глаза его при этом блеснули.
Мария спросила, вправду ли он Кетильссон, и Натан ответил – да, его действительно также зовут Кетильссон, а еще у него много других прозваний, хотя не все они пригодны для нежных девичьих ушек. С людьми он держался легко, преподобный. Всегда точно знал, что сказать собеседнику, знал, как лучше всего польстить… и как больнее ранить.
Мы говорили недолго. Ворм позвал Натана, и тот распростился с нами, однако прежде сказал, понизив голос, что надеется еще повидаться с нами попозже, когда будет не так занят.
Преподобный Тоути провел пальцем по деснам, смахивая прилипшие крошки табака. Затем он вытер кончик пальца о брюки и помимо воли отметил, что собственные его ладони – розовые, совсем маленькие и с виду ничем не примечательные. Тоути почувствовал легкий укол зависти.
– И когда же ты снова увиделась с Натаном?
Агнес помолчала, подсчитывая петли, прежде чем сбросить.
– Да в тот же день, – наконец отозвалась она. – Мы с Марией всю вторую половину дня трудились без роздыха, бегали по поручениям Вормовой жены и следили, чтоб детишки не путались под ногами у взрослых, а потому вечером нас отпустили попраздновать на свой лад. Сумерки выдались легкие, прозрачные, и все слуги собрались на свежем воздухе, наблюдая за наступлением ночи. Один из работников рассказывал сказку о скрытом народце, когда рядом кто-то кашлянул, и я, обернувшись, увидела, что позади нас стоит в сумерках Натан. Он извинился, что подобрался к нам украдкой, но объяснил, что обожает сказки, и, может быть, мы будем так добры и позволим постороннему присоединиться к нашим развлечениям? Один из мужчин заметил, что Натана Кетильссона трудно назвать посторонним, особенно для женщин, – и многие засмеялись, однако пара слуг, а также несколько служанок отвели глаза.
Мария подвинулась, освобождая Натану место возле себя. Я сидела с краю, поскольку другие слуги не очень-то жаловали мою манеру держаться с людьми, однако Натан прошел мимо Марии и уселся рядом со мной.
– Ну вот, теперь мы все готовы слушать, – сказал он и посмотрел на рассказчика, взглядом приглашая его продолжать. Мы просидели так до самой темноты, слушая истории и сказки, пока не пришла пора отправляться спать.
– Как думаешь, почему Натан захотел сидеть рядом с тобой?
Агнес пожала плечами.
– Он сказал потом, что весь день наблюдал за мной и никак не мог меня прочесть. Я вначале не поняла, что он имеет в виду, и ответила – что ж, ничего удивительного, ведь я женщина, а не книга. Тогда Натан засмеялся и сказал, что умеет читать людей, как книги, вот только некоторые из них словно бы написаны на непонятном ему языке. – По губам Агнес скользнула едва заметная усмешка. – Понимайте это, как хотите, преподобный, но именно так он и сказал.
Преподобный наверняка гадает, что было между мной и Натаном. Я слежу за ним и знаю, что он думает о нас, перекатывает эту мысль в своем сознании, смакует ее, как ребенок, обсасывающий мозговую косточку. Впрочем, с тем же успехом преподобный мог бы смаковать камень.
Натан.
Как могу я по-настоящему воскресить в памяти нашу первую встречу, тот миг, когда рука его, сжимавшая мою, была просто рукой? Невозможно думать о Натане как о незнакомом, постороннем человеке, хотя тогда он был для меня именно незнакомым и посторонним. Я могу представить себе, как он выглядел, вспомнить, какая стояла тогда погода, – но тот изначальный миг уловить невозможно. Я не могу вспомнить, каково это было – не знать Натана. Я не могу вообразить, каково это было – не любить его. Смотреть на него и понимать, что я наконец-то обрела то, чего, сама не ведая, так жаждала. Столь глубока оказалась та жажда, столь повелителен ее зов, что я испугалась.
Я не солгала преподобному. Тот вечер, звезды, сказочные истории, тепло руки Натана, сжимавшей мою руку, – все было именно так, как я рассказала Тоути. Умолчала я лишь о том, что произошло, когда слуги ушли спать. Умолчала о том, как ушла со всеми Мария, напоследок с упреком глянув на меня. Умолчала о том, что мы остались одни и что Натан попросил меня посидеть с ним в сумерках. Поговорить, сказал он, просто поговорить.
– Расскажи мне, Агнес, кто ты такая. Дай мне руку, и я попробую хоть что-то разузнать о тебе.
Беглое тепло его пальцев, проворно скользящих по моей раскрытой ладони.
– Вот мозоли, стало быть, ты много трудишься. Однако пальцы у тебя сильные. Ты трудишься не только много, но и хорошо. Понимаю, почему Ворм нанял тебя. Вот, видишь? Ладонь твоя пуста. Так же, как и моя, – гляди. Чувствуешь, как ей чего-то недостает?
Мягкий бугорок, едва уловимые паутинки морщин, смутно проступающие под кожей кости.
– Знаешь, что это означает – пустая ладонь? Это означает, что в нас обоих есть нечто скрытое. Эта пустота может заполниться злосчастьем, если не поберечься. Если оставить ладонь открытой миру, его тьме и бедам.
– Как это – поберечься? – со смехом спросила я. – Если ладонь пустая – как ее уберечь?
– Накрыть другой ладонью, Агнес. Другой ладонью.
Теплые пальцы его опустились поверх моих, как птица опускается на ветку. Искра полыхнула мгновенно. Я и не подозревала, что пожар так близок, пока пламя не охватило меня с головой.
Глава 8
Стихи Скальд-Роусы, посвященные Натану Кетильссону (написаны в 1827 году)
- Ó, hve sæla eg áleit mig, —
- engin mun því trúande, —
- þá fjekk eg liða fyrir þig
- forsmán vina, en hinna spé.
- Sá min þanki sannur er, —
- Þó svik þín banni nyting arðs —
- Ó, hve hefr orðið þjer
- Eintruð rósin Kiðjaskarðs!
- Ах, как жизнь была светла,
- Как любились мы с тобой, —
- Пусть я горем изошла,
- Пусть глумятся надо мной.
- Все я знала наперед
- В оны дни с тобой вдвоем:
- Кидьяскарда роза – вот
- Чьи слова во рту твоем.
ОСЕНЬ НАВАЛИЛАСЬ НА ДОЛИНУ, ТОЧНО УДУШЬЕ. Маргрьет, лежа без сна в затянувшемся сумраке октябрьского утра и чувствуя, как в легких копится мокрота, размышляла о том, как медленно стало светать, как мучительно неуклюже вползает в окошко утренний свет, словно обессиленный долгой дорогой. Уже сейчас солнцу, казалось, стоит большого труда вскарабкаться на небо. Стылыми ночами Маргрьет просыпалась оттого, что Йоун во сне прижимал большие пальцы ног к ее ногам, чтобы согреться, а работники, задав корма корове и лошадям, возвращались с покрасневшими от холода носами и щеками. Дочери рассказали, что во время сбора ягод каждое утро на земле лежал иней, а во время загона скота выпал снег. Сама Маргрьет, опасаясь, что легкие не выдержат, не решилась отправиться пешком через гору, чтобы пригнать овец с летних пастбищ – однако отправила туда всех кого могла. Кроме Агнес. Ее в горы отпускать нельзя. Не то чтобы Агнес могла сбежать – поди не дура. Она хорошо знает эту долину и понимает, как нелегко отсюда выбраться. Ее непременно заметили бы. Всякий в этих местах знает, кто она такая.
День загона скота выдался тревожным. Первыми, еще до света, двинулись в путь работники хутора – верхом, вместе с другими мужчинами из Видидальской долины они перевалили гору; чуть погодя следом уже пешими отправились некоторые женщины. Маргрьет осталась с Агнес, чтобы приготовить еду к их возвращению. В тот день, едва посветлело, ее начало терзать беспокойство. Небо с утра приняло зловещий серый оттенок, и Маргрьет знала: что-то непременно должно произойти. Слишком уж низко к земле стелились тучи. В воздухе пахло железом. Все утро она думала о людях, которым довелось заблудиться в горах. Всего лишь год назад, когда во время загона скота налетел буран, пропала одна служанка, и ее кости нашли только следующей весной, за много миль от того места, где ее видели в последний раз. Такая тревога охватила Маргрьет, что она завела разговор с Агнес – просто чтобы выговориться и хоть немного успокоиться. Вдвоем они вспоминали, сколько народу погибло в горах. Не самый веселый разговор, подумала Маргрьет, но от него все равно как-то легче, словно назвав нечто по имени, ты не даешь ему случиться на самом деле. Возможно, именно поэтому Агнес больше разговаривала с преподобным, нежели с ней.
Маргрьет конечно же оказалась права – кое-что произошло. Вскоре после полудня, когда еще ни одна живая душа не вернулась с горы, раздался торопливый стук в дверь, и в дом ворвалась Ингибьёрг.
– Роуслин! – выдохнула она.
Подворье Гилсстадир кишмя кишело ребятней. Маргрьет заметила, что, несмотря на царивший в доме хаос, несмотря на то что в задымленной кухне на огне вовсю кипели горшки и котелки с водой, многочисленным отпрыскам Роуслин словно и дела не было до того, что их матушка рожает. Когда все три гостьи прошли в бадстову, туда приплелась бледная, в испарине, Роуслин. Что-то не так, непрерывно повторяла она, что-то не так. При виде Агнес, молча стоявшей в дверях, она конечно же пришла в ужас, но, как невозмутимо заметила Ингибьёрг, куда же еще Маргрьет было девать свою подопечную?
Ребенок пошел неправильно. Так сказала Агнес, шагнув вперед и положив руки на живот Роуслин. Та завизжала, стала требовать, чтобы Агнес сейчас же убрали от нее, но ни Маргрьет, ни Ингибьёрг даже не шелохнулись. Роуслин била Агнес по рукам, царапалась, но та, словно не замечая, все так же бережно прижимала тонкие пальцы ко вздувшемуся животу роженицы.
Ребенок идет ножками вперед, сказала она. Тогда Роуслин застонала и перестала сопротивляться. Агнес тоже не двинулась с места, однако велела Роуслин лечь на пол и сидела при ней неотлучно, пока все не закончилось. Маргрьет вспомнила, как Агнес ни на секунду не отнимала рук от живота женщины. На всем протяжении родов она гладила Роуслин своими узкими ладонями, успокаивала ее, приказывала детям не толпиться, принести чистое полотно, вскипятить воды. Одного из ребятишек Агнес отправила в Корнсау за дягилем, которого дочери Маргрьет набрали в горах во время сбора ягод. «Он в кладовой, в поддоне с песком», – прибавила она, и Маргрьет лишь молча удивилась, как это Агнес сумела так хорошо изучить ее дом. «Смотри, не помни корешки. Возьми пучок и возвращайся». Потом она велела Ингибьёрг заварить корешки, сказав, что это питье облегчит роды. Когда чашку с горячей жидкостью поднесли к губам Роуслин, та сцепила зубы и отказалась пить.
– Роуслин, это не отрава, – сказала Маргрьет. – Не привередничай и не начинай свару.
После этих слов наступил момент, который запомнился Маргрьет. Они с Агнес переглянулись и обменялись быстрыми вымученными усмешками.
Ребенок, как и говорила Агнес, шел ножками вперед. Вначале из утробы появились покрытые кровью крошечные пятки, затем тельце и наконец головка. Пуповина обмотала шейку и ручку ребенка, но он был жив, и это все, что Роуслин надлежало знать.
Принимать младенца Агнес отказалась. Она попросила Ингибьёрг помочь ему явиться на свет, а сама не притронулась к ребенку даже позже, когда Роуслин уснула и по всей долине стало разноситься блеянье вернувшихся овец. Маргрьет показалось странным, что Агнес не захотела покачать на руках новорожденного. Что там она сказала? «Дитя должно жить». Как будто младенец умер бы, если б Агнес взяла его на руки.
Тем вечером у них был двойной повод для празднования. Снэбьёрна известили о радостном событии, и хозяева других хуторов так накачали его ромом и бренвином, что когда он забрался в загон, чтобы отделить своих овец и погнать их домой, то не удержался на ногах, поскользнулся в грязи, и чей-то баран чувствительно боднул его в голову. Маргрьет слышала, как Паудль рассказывает об этом происшествии матери, приходящей в себя после родов, живо описывая, как Снэбьёрна пришлось выволочь из загона, чтобы отлежался на травке, пока все прочие разберут своих овец.
Поесть удалось только ближе к ночи. Дочери Маргрьет спасли, что сумели, из брошенной впопыхах стряпни, и эти остатки тем вечером подали проголодавшимся как волки работникам.
– Сыпал снежок, – сказала Стейна после того, как они узнали о родах Роуслин. И осторожно оглянулась на Агнес. – Наверное, это был добрый знак.
– Я почти ничего и не сделала, – отозвалась Агнес. – Ребенка приняла Ингибьёрг.
– Вот уж неправда, – вмешалась Маргрьет. – Скажем, тот отвар из корешков дягиля – откуда ты знала, что он поможет?
– Это все знают, – пробормотала Агнес.
– От Натана, наверное, – поджав губы, заметила Лауга.
До чего же быстро – считай, что часу не прошло, – Агнес словно стала одним из домочадцев. На следующий день Маргрьет неожиданно для себя заговорила с Агнес, спросив, чем та обычно красила шерсть, и завязался обстоятельный разговор – обычный разговор хозяйки и служанки, – продолжавшийся до тех пор, пока в комнату не вошла Лауга и не возмутилась, что Агнес пялится на ее вещи. Лауга не хуже Маргрьет знала, что, будь Агнес воровкой, они к этому времени наверняка бы уже обнаружили какую-нибудь пропажу. Между тем даже пресловутая серебряная брошь так до сих пор и валялась в пыли под кроватью. Маргрьет на мгновение задумалась, уж не завидует ли Лауга Агнес, но тут же выбросила эту мысль из головы. С какой стати Лауге завидовать женщине, которой не суждено дожить до следующей весны? И все же отвращение дочери к Агнес было столь сильно, что Маргрьет сомневалась, будто оно порождено только обычной неприязнью.
Осторожно выпростав ноги из-под тяжелого тела спящего мужа, Маргрьет выбралась из кровати, подошла, бесшумно ступая босыми ногами, к окну и вгляделась в тусклую желтизну высушенной кожи. Снаружи шел дождь. Экая досада, подумала Маргрьет. Хотя баранов и дойных овец выгнали пастись на скошенном ближнем поле, первогодки остались в загонах. Сегодня должен был начаться забой.
Она вернулась мыслями в тот день, когда Агнес появилась в Корнсау. Тогда Маргрьет в глубине души радовалась молчанию, которым ее близкие окружили преступницу, и даже всячески поощряла его. Это отчуждение объединяло их, сближало Маргрьет с мужем и дочерьми. Теперь, однако, Маргрьет поняла, что это молчание изменилось, стало более спокойным и менее настороженным. Это ее тревожило. Она слишком привыкла к тому, что Агнес живет под их кровом. Быть может, потому что им и впрямь оказалась крайне полезна лишняя пара рабочих рук. Теперь, когда часть домашних забот легла на Агнес, у Маргрьет гораздо меньше болела спина, и приступы кашля случались вроде бы реже, чем раньше. Маргрьет старалась не думать, что произойдет, когда будет назначен день казни. Нет, лучше уж вообще обо всем этом не думать, а если она и стала спокойнее относиться к присутствию Агнес, то лишь оттого, что так проще управляться по хозяйству. Какой прок вечно озираться в поисках неведомой опасности, если у тебя и без того забот невпроворот?
С забоем скота приходит ощущение, что время не ждет. Погода ухудшается, к дождю примешивается ледяная крупа, и ветер, точно волк, кусает тебя за пятки, напоминая, что зима не за горами. Мысли мои тягостны, как набрякшие снегом тучи, которые нависли над землей.
Ни у кого нет охоты работать до самой ночи, а потому мы все, хорошенько закутавшись, торчим снаружи в тусклом свете октябрьского утра, ожидая, когда Йоун и батраки возьмут первую овцу. Для забоя согнали ровно столько овец, сколько, по мнению хозяев, понадобится мяса, чтобы пережить зиму. Интересно, меня тоже посчитали как едока? Я борюсь с искушением подставить горло под нож Йоуна. Почему бы не прикончить меня здесь, сейчас, в самый обыкновенный день? Страшнее всего – ожидание. Овцы выискивают в траве стебельки, еще не обожженные заморозком. Знают ли эти бессловесные твари, что их ждет? Собранным в загоне, разлученным с сородичами, им суждена лишь одна-единственная стылая ночь, полная ужаса. А я живу так уже много месяцев.
Гвюндмюндур заваливает первую овцу, прижимает ей голову коленом. Я не люблю его, но действует он умело – горло овцы рассечено до самого позвоночника, и Гвюндмюндур так проворно подставляет бадейку, что на траву не проливается ни капли крови. Пара минут – и вся кровь уже вышла. Я делаю шаг вперед, чтобы взять бадейку у Гвюндмюндура, но он намеренно не замечает меня и отдает ее Лауге. Ну и пусть. Ты его тоже не замечай. Я жду бадейку с кровью от Йоуна, который взвалил забитую овцу на ограду загона, чтобы ловчее было направлять красную струю в бадейку. Крови вечно оказывается больше, чем ожидалось, и она вечно хлещет не в ту сторону. Малая часть крови попадает на раскисшую землю и на серую шерсть овцы, но скоро бадейка наполняется.
Я возвращаюсь в дом, где Маргрьет подбрасывает в огонь куски кизяка и торфа. Глаза мои слезятся от дыма, и Маргрьет надсадно кашляет, однако напоминает мне, что все это мигом забудется, когда придет пора есть копченое мясо, подвешенное на балках. Я ставлю бадейку с кровью и вновь выхожу наружу.
Мы ждем, пока овец не освежуют. Овца Бьярни до сих пор истекает кровью – он не умеет убивать как следует. Вот Гвюндмюндур, тот ловко обращается с ножом. Он напоминает мне Фридрика, который приходил в Идлугастадир помочь с забоем – это было до того, как они с Натаном окончательно разругались. Мне казалось, Фридрику нравилось резать овец – чересчур уж лихо он управлялся с ножом. Йоун действует медленней, но основательней. Он начинает свежевание сзади и рассекает задние бабки так чисто, что не остается ни единой жилки. Гвюндмюндур более-менее сносно свежует верхнюю часть спины, но снять шкуру с подгрудка у него никак не выходит, и Йоун просит Бьярни помочь ему. Вдвоем они оттаскивают овцу к стене и там наконец сдирают оставшуюся шкуру с туши. Бьярни никудышный помощник. Жаль, не могу подойти к нему и показать, как это делается. Представляю, какие были бы у них лица, попроси я нож.
Тушу потрошат, и мы забираем ливер: сердце, легкие, пищевод, кишки и желудок.
Той осенью в Идлугастадире Натан задел желчный пузырь. Желчь попала на мясо, и Фридрик покатывался от хохота. «Врач называется!» – сказал он Натану. Странно, почему это теперь всплыло в памяти.
Наполнив бадейки потрохами, мы оставляем мужчин разделывать туши и развешивать мясо, а сами возвращаемся в кухню. Дым уже отчасти рассеялся, огонь разгорелся. Маргрьет подвесила над очагом котел с водой, и мы все принимаемся делать колбасу. Даже Лауга взялась за дело – процеживает кровь сквозь чистое полотно. И вздрагивает, когда капли нечаянно попадают на лицо. Я выхожу наружу, чтобы забрать овечьи желудки для колбас, а когда возвращаюсь, во всем доме стоит густой мясной дух от кипящего сала и почек, которые жарят мужчинам на завтрак. Часть почечного жира Маргрьет положила в другой котел и поставила вариться на медленном огне. Кристин, Маргрьет, Стейна и я зашиваем желудки, превращая их в мешочки с узким отверстием для начинки. Лауга закончила процеживать кровь, и я добавляю в нее остатки почечного сала с ржаной мукой, а потом предлагаю подмешать туда же немного лишайника – так мы делали в Гейтаскарде. Когда Маргрьет соглашается и посылает Лаугу в кладовую за лишайником, сердце мое сладостно сжимается от счастья. Вот она, моя всегдашняя жизнь – руки по локоть в потрохах и усердный труд во имя выживания. Девочки болтают и пересмеиваются, набивая желудки кровяной смесью. Сейчас я могу забыть, кто я на самом деле.
Почечный жир растапливается быстро. Втроем мы стаскиваем котел с огня и ставим поодаль остывать, чтобы потом разломать корку жира над жидкостью.
Мужчины приходят есть почки, принося с собой запах навоза и мокрой шерсти. Наверное, батраки с завистью смотрят на нас, женщин, в теплой задымленной кухне опускающих кровяные колбасы в котел с кипящей водой. Когда я подаю завтрак Йоуну, он – впервые за все время – прямо смотрит мне в глаза.
– Спасибо, Агнес, – говорит он тихо. Могу поклясться – это из-за ребенка Роуслин. Сейчас он видит меня по-иному.
Мужчины, покончив с едой, уходят, чтобы принести первые порции мяса. Я начинаю отмерять селитру и смешивать ее с солью. Сразу вспомнилось то время, когда я помогала Натану в его аптеке – отмеряла серу, сухие травы, молотые семена. Сегодня мне часто вспоминается Идлугастадир. Забой скота в ту единственную осень, которую я прожила там. Мне доставляло наслаждение заготавливать провизию на зиму. Все то, что мы будем есть с ним вместе, что подкрепит силы Натана в долгих путешествиях. В тот день, пока я замешивала муку с кровью, Натан стоял в дверях кухни, читал мне саги и рассказывал о своей жизни в Копенгагене, где в кровяную колбасу добавляют пряности и кусочки сушеных фруктов. Потом в кухню, пересмеиваясь, ввалились Фридрик и Сигга, которые несли бадейки с потрохами, волосы их были припорошены снегом – и Натан оставил меня, ушел к себе в мастерскую.
Руки зудят, когда я слой за слоем вминаю посыпанное солью мясо в деревянную бочку. Розовая крошка хрустит между пальцами, спина ноет оттого, что приходится стоять, нагнувшись над бочкой. Стейна наблюдает за моей работой, спрашивает, каким количеством воды нужно сбрызгивать каждый слой, сообщает, что у нее от соли сморщились кончики пальцев. Облизывает палец и морщится, недовольная вкусом.
– Не понимаю, почему нельзя заливать мясо сывороткой, – замечает она. – Соль такая дорогая.
– Иностранцам так больше нравится, – отзываюсь я. Эта бочка предназначена для обмена на заморские товары. Мясо пожирнее мы станем держать в сыворотке и съедим сами.
– А соль добывают из моря?
– Стейна, почему ты задаешь мне столько вопросов?
Девушка молчит, лицо ее розовеет.
– Потому что ты на них отвечаешь, – наконец бормочет она.
Дальше черед костей и голов. Я прошу Лаугу опорожнить засаленный котелок с водой и хрящами, но она упорно смотрит прямо перед собой, притворяясь, будто не слышит. За нее это делает Кристин. Когда Стейна вновь бочком подбирается ко мне, застенчиво улыбаясь, и спрашивает, чем еще помочь, я прошу ее наполнить котел теми костями, которые больше уже ни на что не сгодятся. Соль. Ячмень. Вода. Вдвоем со Стейной мы перетаскиваем котел туда, где варится кровяная колбаса – чтобы соль и жар вытянули из костяка всю мякоть. Когда мы вешаем плещущий котел на крюк, Стейна хлопает в ладоши и тут же принимается подбрасывать кизяки в очаг.
– Не так много, Стейна, – говорю я. – Не заваливай угли.
Овечьи головы я подношу вплотную к раскаленным углям в очаге – опалить. Шерстинки не загораются, только съеживаются от пламени, и от вони у меня щиплет в носу.
Боже милостивый, этот запах…
Бадстова в Идлугастадире. Дощатый пол и кровати вымазаны китовым жиром, и огонь лампы лижет одеяла, и пропитанная жиром шерсть обильно дымится. Запах паленой шерсти. Запах горящих волос.
Я больше не могу; мне нужно вдохнуть свежего воздуха. О господи!
Не позволяй им заметить, что с тобой творится. Я вручаю овечьи головы Стейне, пускай она этим займется. Мне нужно на свежий воздух. Я объясняю Стейне, что хочу продышаться от дыма.
Изморось касается лица, точно благословляя… но вонь паленой шерсти и сожженных волос все так же забивает мои ноздри, и от этой едкой вони меня выворачивает наизнанку.
Меня находит Маргрьет – в темноте, сидящую на корточках, уткнув голову в колени. Я жду, что она примется меня бранить. Агнес, что ты творишь? Ступай в дом. Делай что велено. Как ты смела бросить все на Стейну? Она сожгла мясо дотла.
Но Маргрьет молчит. Она присаживается рядом со мной, и я слышу, как хрустят ее колени.
– Как быстро стало темнеть. – И это все, что она намерена сказать?
Но это правда. Синие сумерки уже выползли из темной утробы реки.
В темноте запахи всегда становятся острее, и сейчас я отчетливо чую, что от Маргрьет пахнет кухней. Кровяной колбасой. Дымом. Рассолом. Она тяжело дышит, и в вечерней тишине явственно слышен натужный хрип ее легких – хворь вцепилась в них мертвой хваткой.
– Мне нужно было подышать воздухом, – говорю я.
Маргрьет издает короткий вздох, откашливается.
– От свежего воздуха еще никто не умер.
Мы сидим и вслушиваемся в едва слышный шум реки. Мелкий дождь прекращается. Начинается снегопад.
– Надо бы глянуть, как там девочки, – говорит наконец Маргрьет. – Я не удивлюсь, если Стейна сама себя подвесила к балке вместо мяса. Придем – а она уже прокоптилась.
Негромкий глухой стук доносится из кузни. Верно, мужчины растягивают овечьи шкуры для просушки.
– Пойдем, Агнес, не то застудишься до смерти.
Опустив глаза, я вижу, что Маргрьет протягивает мне руку. Я принимаю ее – кожа у Маргрьет на ощупь точно бумага. Мы входим в дом.
От огня в очаге осталась лишь груда чуть слышно потрескивающих углей, и ночная тьма укрыла пролитую в загонах кровь, когда Лауга распухшими пальцами подвязала сушиться последнюю порцию кровяной колбасы. Стейна, чей фартук был густо измазан кровью и овечьими потрохами, оперлась о дверной косяк, наблюдая за сестрой.
– Снег идет, – сообщила она.
Лауга пожала плечами.
– Все пошли спать, – продолжала Стейна и принюхалась. – Приятно здесь пахнет, правда?
– Не припомню, чтобы от резни был приятный запах. – Лауга нагнулась и подхватила бадьи, в которые складывали овечьи внутренности.
– Да оставь ты их, пускай сохнут. Утром вымоем. – Стейна подошла к сестре, поставила табурет напротив очага. – А ты видела, как Агнес укладывала мясо? В жизни не видала, чтобы так быстро работали.
Лауга составила бадьи у стены и села рядом со Стейной, протянув руки к дышащим теплом углям.
– Она, наверное, отравила весь бочонок.
Стейна скорчила рожицу.
– Агнес никогда бы так не поступила. Во всяком случае, с нами. – Послюнив уголок фартука, она принялась оттирать засохшую грязь на руках. – Интересно, что это на нее нашло?
– Нашло? О чем ты?
– Сидим мы с Агнес, вот как сейчас с тобой, опаливаем овечьи головы, и вдруг она сует их мне и, что-то бормоча, выскакивает из кухни. Мама пошла за ней, и я видела, как они сидели рядком снаружи и о чем-то толковали. А потом вернулись в дом.
Лауга нахмурилась и встала.
– Занятно, – продолжала Стейна. – Что бы там мама ни говорила, а я думаю, что теперь она жалеет Агнес.
– Стейна… – предостерегла Лауга.
– Она, конечно, нам не скажет, но…
– Стейна! Ради всего святого, ты способна говорить хоть о чем-то, кроме Агнес?
Стейна подняла на сестру удивленный взгляд.
– А что плохого в разговорах об Агнес?
Лауга фыркнула.
– Что плохого? Неужели я единственная, кто видит, какова она на самом деле? – Голос ее упал до свистящего шепота. – Ты говоришь о ней так, точно она обычный человек. Обычная служанка, и ничего более.
– Ох, Лауга! Жаль, что ты не…
– Что – «я не»? Что? Не снюхалась с ней, как вы все?
Стейна уставилась на сестру с приоткрытым ртом. Лауга бросилась в дальний угол кухни, прижала ко лбу стиснутые кулаки.
– Лауга?
Сестра не обернулась, лишь медленно подняла грязные бадьи.
– Я их вымою. – Голос ее срывался. – А ты, Стейна, шла бы уже спать.
– Лауга! – Стейна поднялась и неуверенно шагнула к сестре. – В чем дело?
– Ни в чем. Просто иди спать, Стейна. Оставь меня в покое.
– Никуда я не уйду, пока ты не скажешь, чем я тебя так расстроила.
Лауга помотала головой, лицо ее скривилось.
– Я думала, все будет по-другому, – сказала она наконец. – Когда приезжал Блёндаль, я думала, что нам почти не придется иметь с ней дело, потому что здесь будут офицеры. Я думала, что ее запрут! Мне и в голову прийти не могло, что она вечно станет торчать рядом с нами и беседовать с преподобным в нашей бадстове! А теперь, вижу, и мама разговаривает с ней так, словно она одна из нас! А что вся долина на нас косится, вам будто и безразлично!
– Вот и неправда. Никому до нас дела нет.
Глаза Лауги сузились, и она со стуком поставила бадьи на пол.
– Есть, Стейна, еще как есть. Ты этого не понимаешь, но мы все сейчас точно клейменые. И то, что все видят, как мы говорим с ней, кормим ее вдоволь, только ухудшает дело. Нас с тобой никто замуж не возьмет.
– Да почем тебе знать? – Стейна вновь опустилась на табурет перед очагом. – И к тому же, – прибавила она наконец, – это не навсегда.
– Жду не дождусь, когда ее не станет.
– Как ты можешь такое говорить?
Лауга судорожно вздохнула.
– Все видят, что преподобный таскается за Агнес, точно влюбленный сопляк, и даже пабби теперь здоровается с ней и желает ей доброго утра – после того как она ведовством помогла младенцу Роуслин появиться на свет. А ты, Стейна! – Лауга развернулась к сестре, взглянула на нее так, словно видела впервые. – Ты ведешь себя с ней так, словно твоя сестра – она, а не я!
– Неправда!
– Правда. Ты ходишь за ней по пятам. Помогаешь ей. Из кожи вон лезешь, чтобы ей понравиться.
Стейна сделала глубокий вдох.
– Просто… просто я помню, какой она была раньше, много лет назад. И все время думаю о том, что она не всегда была убийцей. Когда-то она была такой, как мы теперь. У нее есть отец и мать, как у нас.
– Нет! – прошипела Лауга. – Не как у нас! Потому что она не такая, как мы. Она явилась сюда, и никто не замечает, как с тех пор все изменилось. Причем не в лучшую сторону.
С этими словами она наклонилась, подняла измазанные в крови бадьи и широким шагом вышла из кухни.
На севере уже много дней почти непрерывно шел снег. Брейдабоулстадур был окутан холодом и густым туманом, который не рассеивался, даже когда октябрьское солнце из последних сил пыталось озарить мир своим скудным светом. Несмотря на непогоду, Тоути не испытывал желания сидеть дома в обществе отца. Он чувствовал, что между ним и Агнес разрушилась какая-то невидимая перегородка. Женщина наконец-то начала говорить о Натане, и Тоути полагал, что теперь станет ей ближе, что Агнес доверится ему настолько, чтобы рассказать правду о том, что случилось в Идлугастадире.
Дрожа всем телом и старательно укутываясь во все шерстяные одежки, которые только отыскались в сундуке, Тоути вновь задумался о своей первой встрече с Агнес. Он смутно припоминал стремительное течение Гёйнгюскёрда, помнил, как ревела и рокотала на перекате река, напоенная вешними водами, как блестела на солнце мокрая галька. И как впереди него, у самого края воды темноволосая женщина, наклонившись, снимала чулки, чтобы вброд перейти стремнину.
Натягивая перчатки в бадстове Брейдабоулстадура, Тоути мучительно пытался припомнить ее лицо. При его приближении женщина подняла голову и молча, без улыбки взглянула на него, и он увидел, что она щурится на солнце. От долгой ходьбы волосы у нее взмокли на лбу и шее. У ног ее, на речных камнях, лежал белый полотняный мешочек.
Потом было тепло ее спины, прижимавшейся к его груди, когда они верхом на кобыле переезжали через реку. Был запах пота и диких трав, исходивший от ее шеи. От этого воспоминания Тоути бросило в жар.
– Куда ты так спешишь?
Тоути поднял голову – отец пристально следил за ним с другого конца комнаты.
– Меня ждут в Корнсау.
На лице преподобного Йоуна отразилась задумчивость.
– Ты проводишь там много времени, – заметил он.
– У меня там много работы.
– Говорят, у окружного старосты две дочки.
– Да. Сигурлауг и Стейнвор.
Отец сощурился.
– И что они – хорошенькие?
Тоути озадаченно глянул на него.
– Наверняка есть люди, которые так считают. – Он повернулся, чтобы уйти, и добавил: – Рано меня не жди.
– Сынок! – Преподобный Йоун шагнул к двери и вручил Тоути его Евангелие. – Ты кое-что забыл.
Тоути покраснел, выхватил небольшой томик и сунул в карман мундира.
Едва он вышел во двор Брейдабоулстадура, как невыносимый холод обжег лицо и уши. С трудом вдыхая морозный воздух, Тоути оседлал сонную кобылку и направил ее в сторону Корнсау. Туман сменился снегопадом, крупные снежинки застревали в лошадиной гриве, руки и ноги заныли от стужи – но Тоути вновь и вновь возвращался мыслями к женщине, которую повстречал у брода, – и это воспоминание согревало его целиком.
– После праздника окончания страды я какое-то время не виделась с Натаном. И вот однажды я отправилась в клеть во дворе, чтобы срезать мясо, подвешенное на балке. Я стояла на приставной лестнице с ножом в руке, на секунду отвлеклась, чтобы взглянуть на синеющие в дверном проеме ноябрьские сумерки… Гляжу, а на пороге стоит Натан, прислонившись к дверному косяку.
Агнес передвинулась на кровати, чтобы оказаться поближе к свету. Тоути украдкой оглянулся на сидевших в другом конце бадстовы домочадцев Корнсау. Он подозревал, что все они как один прислушиваются к рассказу, но Агнес это, похоже, было безразлично. Казалось, она не смогла бы замолчать, даже если бы захотела.
– Я настолько не ожидала увидеть его, что едва не свалилась с лестницы. Мясо шлепнулось бы в грязь, если б Натан его не подхватил. Он сказал, что заехал навестить Ворма, что был в Хваммуре, пользовал больную жену Блёндаля и решил, что не видит смысла возвращаться домой, где его никто не ждет, кроме тюленей да работы. Во всяком случае, так он сказал.
Кажется, я спросила, как ему нравится Идлугастадир, и Натан сказал, что там не хватает рабочих рук. Служанка у него есть, но она, по словам Натана, простовата. Кроме того, она слишком молода, а Каритас, экономка Натана, в ближайший День переезда[14] намерена перебраться в долину Ватнсдалюр.
Мы тогда еще немного поговорили. Помню, я спросила Натана о его пустых ладонях – то, о чем мы разговаривали в его прежний визит, – а он засмеялся и сказал, что скоро они наполнятся звонкой монетой, если Блёндаль, конечно, хочет, чтобы его жена дожила до весны.
Потом мы вместе пошли в дом, и кое-кто из работников нас заметил. Мария как раз выносила золу, и когда она увидела Натана, то остановилась как вкопанная и уставилась на него во все глаза. Это моя подруга, сказала я, но Натан не обратил на Марию никакого внимания. Он заговорил о том, что скоро пойдет снег, он, дескать, это нутром чует… а кстати, что это за человек? Натан указывал на Пьетура-Овцеубийцу.
– Другой убитый в Идлугастадире? – спросил Тоути.
Агнес кивнула.
– Имя ему было Пьетур Йоунссон. Его отправили в Гейтаскард на зиму после того, как уличили в том, что он резал чужой скот. Странный это был человек. Мне он не очень нравился. У него имелась привычка заливаться смехом, когда смеяться было не над чем, а еще он пересказывал нам, слугам, свои кошмарные сны, и от этих рассказов многим становилось не по себе.
– Он тоже обладал даром предвидения?
Агнес замялась, оглянулась на тех, кто сидел в дальнем конце бадстовы. Когда она вновь заговорила, голос ее звучал приглушенно:
– Многие помнят один сон, о котором Пьетур рассказывал в Гейтаскарде. Он видел этот сон не единожды, и всякий раз меня от него пробирал озноб. Снилось Пьетуру, что он идет по какой-то долине, и вдруг бегут к нему три овцы – из тех, которых он прикончил на пару с Йоуном Арнарсоном. Пьетур говорил, что впереди была овца, которую он убил собственноручно, и, когда животные подбежали к нему, эта овца изрыгнула кровь и облила его с головы до пят. Пьетур смеялся над этим сном, но позднее нашлись люди, которые из него кое-что поняли.
– Пророчество? Ты рассказывала Натану об этом сне Пьетура?
– Да. А потом Натан рассказал мне о некоторых странных снах, которые ему довелось видеть в жизни. Впрочем, сейчас эти сны уже не имеют никакого значения.
– Я знаю, какие сны видел Натан, – донесся задыхающийся голос из дальнего конца комнаты. Агнес и Тоути разом оглянулись и увидели, что Лауга наблюдает за ними, изменившись в лице.
– Лауга! – предостерегла Маргрьет.
– Мне рассказала про них Роуслин, мама. Думаю, тебе будет любопытно.
– Мы не желаем слушать ни о чем подобном, – медленно поднимаясь, проговорил Йоун.
– Нет, – возразила Стейна, – пускай расскажет нам о снах Натана Кетильссона! Если Лауга считает, будто знает про них, – я уверена, что всем нам захочется ее послушать. В том числе и Агнес.
Йоун задумался.
– Пускай преподобный Торвардур беседует со своей подопечной без твоего вмешательства.
– Мое вмешательство! – Лауга зло расхохоталась и швырнула вязанье на кровать. – А разве она не вмешивается в нашу жизнь? Она в нашем доме! Вечно торчит у меня за спиной в кухне! Рассказывает лживые басни в нашей бадстове! – Она повернулась к родителям: – Мама, пабби, простите меня, но вы же сами говорили, чтобы мы со Стейной не слушали эту женщину! А теперь позволяете ей плести небылицы в пяти шагах от нас? «Ах, пожалейте меня, я нищенка!»
– Не можем же мы выставить ее и преподобного Тоути на снег, – резонно заметила Стейна.
– Что ж, ладно, пабби, если одному из нас дозволено рассказывать сказки на ночь, почему нельзя это делать всем остальным?
Лицо Маргрьет окаменело.
– Лауга, возьми свое вязанье.
– Да, Лауга, возьми свое вязанье! – подхватила Стейна.
– А ну-ка, прекратите обе! – прикрикнула Маргрьет на дочерей. – Преподобный Тоути, вы же понимаете, что мы не можем не слышать…
– Лауга, что рассказала тебе Роуслин о снах Натана? – перебила ее Агнес. Она перестала вязать и не сводила напряженного взгляда с обеих сестер.
В комнате стало тихо.
– Ну… – Лауга откашлялась, неуверенно глянула на Агнес, затем на отца – тот прикрыл глаза. – По словам Роуслин, Натан рассказывал многим людям, что ему снилось, как злой дух бьет его ножом в живот. А еще он видел другой сон и в этом сне оказался на кладбище. Роуслин рассказывала, что Натан увидел в незарытой могиле какое-то тело, то ли живое, то ли мертвое, и три ящерицы пожирали его. Потом рядом с Натаном появился некий человек, и, когда Натан спросил у него, чей это труп, человек ответил: «Разве ты не узнаешь собственного тела?»
– Иисусе милосердный! – пробормотала Кристин.
– А что было потом? – спросил Бьярни со своей кровати.
Лауга пожала плечами.
– Наверное, он проснулся. Но Роуслин говорила, что Натан очень многим рассказывал об этом сне, и все, кто слышал рассказ, в один голос твердят, что именно это и произошло с ним на самом деле. Роуслин узнала эту историю от Оуск, та – от своего брата, а брат – от самого Натана.
Все посмотрели на Агнес. Она явно задумалась, затем решительно спустила ноги с кровати и повернулась лицом ко всем, кто был в бадстове.
– А мне Натан рассказал, будто ему приснилось, что он увидел в незарытой могиле свое тело, а на дальнем краю могилы стояла его душа. Тогда тело Натана воззвало к душе и запело псалом сочинения епископа Стейна. – Голос ее вдруг сел.
Никто не произнес ни слова. Наконец Тоути кашлянул.
– Агнес, – сказал он, – не продолжишь ли ты свой рассказ? Помнится, ты говорила о Пьетуре.
– Можно мне сесть поближе к лампе?
Йоун искоса глянул на Маргрьет, затем на своих дочерей – и отрицательно покачал головой.
Маргрьет поморщилась.
– Йоун, – прошептала она едва слышно, – теперь-то какой от этого вред?
Взгляд его снова метнулся к дочерям.
Маргрьет вздохнула.
– Лучше будет, если все мы останемся на своих местах, – сказала она Агнес. – Для рассказов тебе света и так довольно.
Лицо Агнес на мгновение вспыхнуло гневом, но когда она вновь заговорила, голос ее был негромок и ровен.
– Пьетур, как вам наверняка известно, пользовался худой славой в Лангидалюре, а также в Ватнсдалюре. Никто не доверяет человеку, который перебил столько скота. Тогда, в Гейтаскарде, я очень удивилась, что Натан не узнал Пьетура, поскольку считала, что ему известно все и про всех; и тогда я рассказала ему, что Пьетур – преступник, который содержится тут под стражей, что он перерезал горло более чем трем десяткам овец – в том числе и потехи ради – и что его могут отправить в Копенгаген. Натан окинул этого человека долгим взглядом, но более не сказал о том ни слова.
– Может, хотел нанять Пьетура, чтобы тот украл для него пару овец, – едко заметила Лауга.
– Все может быть, – отозвалась из своего темного угла Агнес. И продолжила, обращаясь к Тоути: – В тот день я проводила Натана к Ворму, а потом присоединилась к Марии на ближнем поле. Когда я рассказала ей, как Натан неожиданно появился в кладовой, она спросила, что ему было нужно. Я объяснила, что он приехал в Гейтаскард повидаться с Вормом. Тогда Мария взяла меня за руку и велела быть поосторожней.
– Почему? – спросила Кристин. Гвюндмюндур утробно хохотнул из темноты.
Агнес не обратила на них никакого внимания.
– Я ответила ей, что я уже взрослая и у меня своя голова на плечах. Мария сказала, что именно это ее и беспокоит.
– Преподобный, – проговорил вдруг Йоун, – может быть, вам лучше продолжить беседу без участия моей семьи?
– А в чем дело, пабби? – удивилась Стейна. – Я хочу узнать, что произошло.
– Ступай в постель, Стейна.
– Извини, Йоун, – вмешался Тоути. – Со всем уважением к твоим хозяйским правам – я здесь все-таки для того, чтобы выслушать все, что Агнес ни пожелает мне рассказать. Как мне уже недвусмысленно дали понять твои жена и дочь, наше пребывание в одной комнате неизбежно приводит к тому, что твои родные и домочадцы не могут не слышать нашего разговора.
– Разговора? – проворчал Гвюндмюндур. – Да вы просто позволяете ей языком молоть, точно она рассказывает вам сказку на ночь.
Прежде чем Тоути нашелся с ответом, подала голос Маргрьет.
– Заткнись, Гвюндмюндур, – велела она. – Не мешай Агнес говорить с преподобным. Йоун, родной мой, да какая, собственно, разница? Девочки и так уже все знают, а чего не знали раньше, о том им нашептала Роуслин.
– Вам нечего опасаться, – заверил Тоути.
– Надеюсь, что это так, – отозвался Йоун. И, поджав губы, снова принялся валять чулок.
Тоути повернулся к Агнес:
– Почему твоя подруга так сказала?
– Я решила, что она просто завидует. Она же и сама была бы не прочь перехватить Натана. Видите ли, мы знали, что он подыскивает экономку.
– И что с того? – спросил Тоути.
– Работать на хозяина, у которого денег без счету? Получить должность, на которой ты будешь выше простой служанки? Вести дом и хозяйство, делать все, как тебе заблагорассудится, и не держать ответа перед хозяйкой? – Агнес покосилась на Маргрьет.
– Продолжай, Агнесс, – пробормотала та.
– Слухи о подобном месте, преподобный, расходятся очень быстро. Все девушки в Гейтаскарде знали, что Натан Кетильссон холост, что ему требуется экономка, а может, и не только экономка, и Мария конечно же мечтала о лучшей доле для себя ничуть не меньше, чем я сама. – Агнес оглянулась на прочих слушателей. – Я-то прежде всего хотела получить место Каритас. В этом не было ничего непристойного.
Гвюндмюндур фыркнул, и глаза Агнес сверкнули.
– На самом деле мы с Натаном сдружились потому, что нам нравилось разговаривать друг с другом. Он приезжал в Гейтаскард почти каждую неделю, и мы подолгу беседовали. – Агнес неприязненно глянула на Лаугу. – Натан предложил мне свою дружбу, и я приняла ее с радостью, потому что у меня было крайне мало друзей. Мария вскоре стала чуждаться меня, и чем чаще навещал меня Натан, тем холоднее относились ко мне все остальные. Ну да ведь они были всего лишь слуги. – Она словно швырнула эти слова в лицо работникам, которые устроились в углу бадстовы. – Натан был умный человек, врач, знал арифметику и не скупился на деньги. Той осенью он вылечил от кашля многих слуг Гейтаскарда – и чем же они ему отплатили? Черной неблагодарностью, вот чем. Они знали, что Натан зачастую приезжает лишь за тем, чтобы повидаться со мной, и мстили мне за это. А я-то в чем была виновата? Когда я рассказала слугам, что Натан наконец-то предложил мне работу в Идлугастадире, я ожидала, что за меня порадуются. Как бы не так – меня обвинили в зазнайстве, дескать, возомнила о себе невесть что, а на самом деле обычная нищенка. Та зима открыла мне новую разновидность одиночества, и только визиты Натана радовали меня, помогая развеяться. Я была так довольна, что скоро покину Гейтаскард. Брат ушел без оглядки, Мария не желала со мной знаться – больше меня там ничто не держало.
Агнес смолкла и яростно застучала спицами. Тоути заметил, что Лауга и Гвюндмюндур украдкой переглядываются. Несколько мгновений царила неловкая тишина, которую нарушали лишь позвякивание спиц да сдавленные смешки Кристин. Наконец, когда ветер снаружи взвыл с новой силой, Йоун поднялся и предложил всем отправиться спать. Тоути, вдруг ощутив усталость, охотно согласился занять свободную кровать. Пока Агнес рассказывала о Натане, он почувствовал недомогание, теперь у него першило в горле, и больно было глотать. Когда лампа погасла, он задумался, правильно ли поступил, позволив Агнес говорить.
Иногда после разговоров с преподобным у меня мучительно пересыхает во рту. Язык так устает, что не в силах шевелиться – лежит между зубов, точно мертвая, мокрая насквозь птица между камнями.
Что я наговорила преподобному? Что поняли из моего рассказа все остальные? Не важно. Никто не в состоянии понять, каково это было – знать Натана. В те первые встречи мы словно возводили вдвоем некую святыню. Мы с превеликой бережностью складывали слова, составляли их вместе так, чтобы не оставалось зазоров. Каждый из нас строил свою башню, свою веху наподобие тех, которые ставят вдоль дорог, чтобы путники не заблудились в непогоду. Мы видели друг друга сквозь туман, сквозь душную обыденность жизни.
Тогда, в Гейтаскарде, мы бродили вечерами по снегу, и он скрипел у нас под ногами. Однажды, поскользнувшись на льду, я ухватилась за руку Натана, и он потерял равновесие. Хохоча, мы вместе упали на снег, и Натан толкнул меня на спину, и мы лежали рядом, завороженно глядя на звезды, беспорядочно рассыпанные в небе. Натан принялся называть мне созвездия.
– Думаешь, это туда люди отправляются после смерти? – спросила я.
– Я не верю в рай, – сказал Натан.
Его слова поразили меня.
– Разве можно не верить в рай?
– Это ложь. Человек создал Бога, потому что боялся смерти.
– Как ты можешь такое говорить?
Натан повернул ко мне голову, в волосах у него блестели льдинки.
– Агнес, не притворяйся, будто не согласна со мной. Мы существуем только здесь и сейчас, и ты это знаешь. Жизнь вот здесь, в наших венах. Есть только снег, небо, звезды, то, что они нам говорят, – и более ничего. Все прочие просто слепы. Они сами не знают, живы они или мертвы.
– Они все же не так уж плохи.
– Агнес, ты делаешь вид, будто не понимаешь меня, но ведь это не так. Мы с тобой одного поля ягоды. – Натан приподнялся на локтях, и лунный свет залил его лицо. – Мы лучше, чем вот это. – Он движением головы указал на дом. – Тут жизнь – это грязь и борьба. И тут все готовы принимать ее такой, как есть. – Натан придвинулся ближе, а затем нежно поцеловал меня. – Тебе не место в этой долине, Агнес. Ты другая. Ты не боишься ничего на свете.
Я засмеялась.
– Тебя-то я уж точно не боюсь.
Натан улыбнулся.
– У меня есть к тебе один вопрос.
Сердце мое так и подпрыгнуло в груди.
– Правда? Какой же?
Он снова улегся на снег.
– Как называется пространство между звездами?
– У него нет названия.
– Так придумай.
Я погрузилась в размышления.
– Пристанище души?
– Агнес, это то же самое, что рай.
– Нет, Натан. Не то же самое.
Только потом я задохнулась под тяжестью его доводов и его мрачных мыслей, высказанных вслух. Только потом работа наших языков породила лавину, и мы застряли в расселинах между тем, что сказали и что хотели сказать, – пока не потеряли друг друга, не перестали доверять словам, которые произносили наши уста.
Той ночью мы пошли в коровник. Я наполнила пустоту его ладоней своими губами и грудями; тела наши прильнули друг к другу. Руки Натана смяли ткань моей юбки, подняли ее, и я ощутила нагой кожей прикосновение холодного воздуха. Я опасалась, что нас могут обнаружить; опасалась, что меня объявят шлюхой. Затем я впервые ощутила прикосновение его наготы, и это было как выстрел, как падение в пустоту. Завязки моих чулок болтались у колен, и мягкие волосы Натана щекотали мою шею.
Тогда я жаждала тяжести его тела. Жаждала ощущать его дыхание – учащенные вздохи и властный натиск горячих губ. Его запах, гладкая нагота его тела – ни в чем он нисколько не был похож на других. Я выгибала шею до тех пор, пока лицо мое не покрылось каплями пота. И ощущала в себе его жар, его напористые движения. Он застонал, и звук этот завис в воздухе, точно облако пепла над вулканом.
Потом мне хотелось плакать. Все было слишком настоящим. Множество чувств нахлынуло на меня, не позволяя осмыслить истинную суть происходящего.
Натан улыбался, заправляя рубашку. На кончиках его всклокоченных волос искрились крохотные капельки воды. Он погладил меня по щеке, спросил, не было ли мне больно, не кровило ли. Рассмеялся, когда я ответила – «нет». Что он испытал при этом – облегчение? Или досаду?
– Не уходи, пожалуйста. Не спеши.
– Вставай с соломы, Агнес. Ступай спать.
– Ты вернешься?
Он вернулся. Снова и снова он возвращался ко мне той долгой зимой. Были холодные ночи в рыхлом снегу и вечера в коровнике, когда все уже спали. И хотя долина тонула в толще снега, а в молочне замерзало молоко, душа моя таяла. Снаружи пронзительно завывал ветер, но прикосновение его губ опаляло огнем. Когда ударили морозы, мы встречались в кладовой, и над нами маячили, точно созвездия, куски вяленого мяса. Солома пропитывала нас ароматом лета. Помню ощущение, будто кровь так переполняет меня, что вот-вот выплеснется наружу. Знаменитый Натан Кетильссон, великий мастер кровопусканием изгонять болезнь из тела, любовник не менее знаменитой Скальд-Роусы, тот, кто слышал колокола Копенгагена и самоучкой выучился латыни, – необыкновенный человек, точно вышедший из саги. И вот этот человек избрал меня. Впервые в жизни кто-то наконец заметил меня, и я любила его, потому что он подарил мне ощущение самоценности.
Вспомнить только, как я тайком просовывала руку между складок юбки, чтобы нащупать синяки, которые он оставил на моем теле, чтобы надавить на эти синяки – и ощутить, как, вспыхнув, растекается боль. То был след его прикосновений, напоминание о том, как его руки оплетали меня, как его бедра прижимались к моим – ликующий взрыв, слитное движение наших тел в темноте. В тупом и бездумном круге повседневной работы, одиночестве ночного сна, пробуждении, которое обещало только новые труды и ничего более, эти потаенные синяки сулили мне нечто иное – конец удушливой заурядности моего существования.
Как же я злилась, когда они начинали проходить. Синяки были единственной частицей Натана, которая пребывала со мной до его очередного возвращения. Все эти дни, все ночи, проведенные в одиночестве, меня снедал нестерпимый голод. Там, в коровнике, когда моя голова, запрокинувшись, упиралась в пол, Натан проник в самую сердцевину моей души. Я скрывала свои подлинные чувства от других слуг. Это стоило усилий воли – держать в себе то, что хотелось выкрикнуть навстречу ветру, выцарапать на земле, выжечь в траве.
Мы сговорились, что я стану жить с Натаном. Он вытащит меня из долины, из шелухи моего жалкого безлюбого прозябания, и тогда настанет новая жизнь. Натан подарит мне весеннее возрождение.
И все это время там была Сигга.
Глава 9
- Handar-vara-Freyjum fjóð
- Flytur sagnir ljóða.
- Kennd við Magnús, blessað blóð,
- Búrfells-Agnes góða.
- …Сплесть из слов умела вязь
- Складно и не медля
- И по Магнусу звалась,
- Агнес из Бурфедля.
Анонимный автор, 1825 год
– ПРЕПОДОБНЫЙ, ВЫ БЫВАЛИ В ИДЛУГАСТАДИРЕ?
Тоути покачал головой.
– Мне редко приходится ездить на север от Брейдабоулстадура.
Утро следующего дня выдалось еще сырым и снежным, и Маргрьет убедила Тоути отложить возвращение домой до тех пор, пока не прояснится. Его это более чем устраивало. Спал он беспокойно и проснулся с больной головой.
Теперь, когда овец согнали с пастбищ, забой скота завершился, а сено было благополучно свезено на подворье, обитатели Корнсау проводили день в четырех стенах: пряли, вязали и вили веревки.
Агнес, сидя на кровати, выискивала на недовязанной варежке петли, пропущенные Стейной.
– Идлугастадир – это почти на самом краю света. – Она мотнула головой, словно указывая, в какой стороне расположен хутор. – Дороги туда я не знала, и все в один голос твердили, как будет там одиноко – не то что в долине, где всюду, куда ни глянь, знакомые лица. Только я очень хотела работать у Натана.
– И когда ты отправилась в Идлугастадир?
– Как только смогла. В конце мая, в один из Дней переезда.
– В каком году это было? – спросил Тоути.
– В 1827-м. Я встретила в Гейтаскарде Рождество и Новый год, затем дождалась, когда золотистая ржанка прилетит и растопит лед[15]. Тогда-то я сложила вещи и пешком вышла в путь. Немало слуг и батраков шли по долине с одного хутора на другой, но никто из них не собирался в Ватнснес, и ни одна живая душа не направлялась в Идлугастадир. Когда я двинулась по полуострову на север, спустился туман, и я испугалась, что заблужусь. Однако издалека доносился шум моря, и это говорило мне, что я иду в верном направлении. Когда туман рассеялся, я увидала, что нахожусь недалеко от церкви Тьёрна. Я попросилась переночевать там, а на следующее утро священник рассказал мне, как дойти до Идлугастадира.
Из Тьёрна я уже довольно быстро добралась до хутора. В то утро я впервые увидела такой бескрайний морской простор. Ветер дул с севера, срывая пену с гребней волн, которые накатывались на берег, и над водой с пронзительными криками кружили сотни морских птиц. Над серой зыбью вод я могла даже различить западные фьорды – смутные, точно тени.
Зрелище было впечатляющее. Священник из Тьёрна сказал мне высматривать дом у скалистой бухты, и я вскоре его увидела. На берегу лежала небольшая лодка, развешанное на сушилке для рыбы постельное белье неистово хлопало. Тогда это показалось мне добрым знаком – простыни и покрывала словно приветствовали меня.
Я успела немного спуститься по склону, когда из дома вышел человек и двинулся в гору. Когда он подошел ближе, я увидела, что это девушка, совсем юная, не старше пятнадцати зим. Она махала мне рукой, и вид у нее был оживленный. Едва я оказалась в пределах слышимости, она выкрикнула приветствие и побежала ко мне. Знаете, преподобный, вблизи она выглядела еще моложе. Нос у нее был курносый, губы сочные и ярко-красные, светлые волосы развевались на ветру. Для сельчанки девушка была слишком хороша собой, и мне, помнится, пришло в голову – уж не дочь ли это Натана? Наряд у нее был совсем не подходящий для служанки.
Девушка взяла мешок с моими пожитками и поцеловала меня. Потом она уточнила, действительно ли я Агнес Магнусдоттир, и назвала свое имя – Сигридур, но тут же добавила, что все называют ее просто Сигга.
– Это была та самая служанка, о которой Натан упоминал в Гейтаскарде?
Агнес кивнула.
– Сигга радостно защебетала – что ждала меня всю эту неделю, и не голодна ли я часом, и что ведь это так далеко от моих родных мест, и не боялась ли я грабителей или просто лихих людей, когда шла в одиночку по горным тропам? Она так тараторила, что я едва успевала отвечать на вопросы, и прежде, чем я глазом моргнула, меня уже отвели в дом и показали кровать, которую Сигга застелила для меня как раз сегодня утром. Местная бадстова была совсем невелика – всего четыре кровати и узенький проход между ними. Над одной было крохотное окошко, но я подозревала, что это место Сигга приберегла для себя. В Идлугастадире оказалось куда теснее и грязнее, чем мне представлялось… однако же я подбодряла себя мыслью, что лучше быть полновластной хозяйкой скромного хутора, чем бесправной служанкой в хоромах губернатора. Сигга сказала, что на некоторое время оставит меня разложить вещи, а сама пойдет сварить кофе. Когда я заметила, что подобная расточительность ни к чему и я прекрасно могу обойтись водой и сывороткой, Сигга заулыбалась и заверила меня, что Натан обожает кофе и что они пьют его постоянно. Мне подобный обиход показался чересчур роскошным.
Я дождалась, покуда Сигга выйдет из комнаты, и лишь тогда позволила себе осмотреться. Застланы оказались только две кровати из четырех – моя и Сигги, – и я поневоле задумалась, где же в таком случае спит Натан и нет ли в доме жилого чердака, который я до сих пор не заметила.
Когда вернулась Сигга, я спросила у нее, где сейчас Натан. Я ожидала, что он окажется дома и лично встретит меня. Сигга заметно смутилась, покраснела и сказала, что Натана нет дома.
Было воскресенье, а потому я осведомилась, не отправился ли он в церковь, но Сигга отрицательно покачала головой. Натан, сказала она, вообще в церковь не ходит. Кроме того, он – единственный из знакомых ей мужчин, кто не желает читать благодарственную молитву перед ужином, и если, прибавила Сигга, у меня имеется сборник псалмов, лучше прятать его под подушку, иначе Натан может растопить этой книжкой очаг. Нет, продолжала Сигга, Натан отправился на гору охотиться на песцов, но в его отсутствие она охотно покажет мне хутор.
Знаете, преподобный, я не могу припомнить, каковы были мои первые впечатления об Идлугастадире. Я тогда была слишком вымотана дорогой и ошеломлена огромностью моря. Зато я совершенно точно могу рассказать, каков он, после того как год или больше проживешь безвылазно в этом глухом уголке Божьего мира.
– Я был бы не прочь выслушать твое описание, – кивнул Тоути.
– Идлугастадир – это не только подножие горы и берег моря. Это длинная полоса каменистой земли, где есть лишь одно-два места, пригодных как зимние пастбища, а так кругом сплошь осока да валуны. Берег усыпан галькой, а в бухте плавают гигантские космы водорослей, похожие на волосы утопленниц. За ночь, точно по волшебству, на берегу появляются груды плавника, а на прибрежных скалах, по соседству с лежбищами тюленей, гнездятся гаги. В ясный день там необычайно красиво, но в другое время тоскливей, чем похороны под дождем. С моря то и дело наползает туман, а до ближайшего хутора – Стапара – идти и идти.
Несколько каменистых островков выдаются в глубь фиорда, и на одном из них Натан устроил свою мастерскую. Чтобы добраться до нее, надо пройти по узкой каменной гряде. Помнится, я тогда подумала, что место для мастерской выбрано странное, вдалеке от жилья и вдобавок окруженное водой, но Натан, оказывается, все так устроил не без умысла. Даже окно мастерской выходило не на море, а на сушу, поскольку он желал следить за тем, не появится ли кто на горе. У него имелись враги.
По словам Сигги, она не знала, где хранится ключ от мастерской, но в этом домике у Натана кузня и аптека, где он готовит свои снадобья, и там же, вполне вероятно, он прячет кучу денег. Эти слова сопровождались дурацким хихиканьем, и я, помню, подумала, что девица и впрямь простовата, как говорил о ней Натан.
Сигга рассказала также, что Натан часто отправляется бить тюленей и что если я захочу, мне достанутся туфли из тюленьей кожи, а еще у них в доме тюфяки с гагачьим пухом, точь-в-точь как у всех сислуманнов Исландии, – такие мягкие, что спать я на них буду как убитая. Сигга прибавила, что сама она выросла в Стоура-Борге, но мать ее умерла, что сама она служить пошла совсем недавно и никогда прежде не работала экономкой, но Натан весьма похвально отзывался обо мне, и она надеется, что я научу ее всему, что необходимо.
Я поразилась, услышав, что Сигга назвала себя экономкой. «А, – сказала я вслух, – так ты здесь хозяйка? Ты заняла место Каритас?» И она закивала – да, верно, раньше она была здесь простой служанкой, но, когда Каритас объявила о своем уходе, Натан попросил ее, Сиггу, стать его экономкой. После этих слов Сигга поблагодарила меня за то, что я согласилась стать ее служанкой, взяла меня за руку и выразила надежду, что мы поладим, потому что Натан часто бывает в разъездах, а ей тут так одиноко.
Я решила, что, по всей видимости, произошла ошибка. Может, Натан всего лишь предложил Сигге исполнять обязанности экономки до моего прибытия… или, может быть, она самая обыкновенная врунья. Я сомневалась, что Натан стал бы мне лгать.
Потом мы пили кофе, и я немного рассказала Сигге о том, где работала раньше. Я постаралась перечислить изрядное количество хуторов, и мой рассказ произвел на Сиггу большое впечатление. Она все твердила, как рада тому, что у нее в Идлугастадире будет такая помощница, спрашивала, научу ли я ее, как сделать узорчатый платок вроде того, что я носила на плечах, – словом, в конце концов на душе у меня заметно полегчало.
Вскоре разговор опять перешел на Натана, и Сиг-га сказала, что ждет его возвращения к ужину. Однако вернулся он гораздо позже.
– Ты выяснила у него, что за путаница с твоей должностью? – спросил Тоути.
Агнес покачала головой:
– Когда он вошел в дом, я уже спала.
Быть может, именно в то, первое утро в Идлугастадире я поняла, что происходит. А может, и нет.
Я проснулась поздно под рыдающие вопли чаек и, выйдя наружу, увидела Натана, который спускался к ручью. Ниже, на берегу, все так же хлопало на ветру белье с его постели. Тогда мне подумалось, что он вернулся только утром.
Даже когда Сигга сообщила, что он пришел домой около полуночи, неся на плече две песцовые шкурки, мне и в голову не пришло спросить, в какой постели он провел оставшуюся часть ночи.
В то утро я так рада была видеть Натана, что позабыла спросить у него, с какой это стати Сигга считает себя хозяйкой Идлугастадира. И заговорила об этом только позже днем, когда вслед за Натаном шла по каменной гряде к его мастерской.
Я не хотела показаться невежливой, а потому только спросила – крайне небрежным тоном, – как ему понравилась Сигга в должности экономки. Вот только Натан, как всегда, видел меня насквозь. Он остановился и выразительно вскинул брови.
– Она мне не экономка, – сказал он.
Слышать это было приятно, но все же я объяснила, что, когда пришла в Идлугастадир, Сигга сообщила мне, что заняла место Каритас.
Натан рассмеялся, помотал головой и напомнил, как предупреждал меня, что Сигга слишком молода и простовата. А потом он отпер дверь мастерской, и мы вошли внутрь. Я никогда прежде не видела подобных помещений. Там были самые обычные мехи и наковальня, но, кроме того, вдоль стен висели огромные охапки сухих цветов и трав и стояли в ряд сосуды, наполненные разными жидкостями – и мутными, и прозрачными. Еще там была большая бадья чего-то похожего на жир, а также иглы, лезвия и стеклянный сосуд, в котором содержалась какая-то мелкая зверюшка, бледная и пупырчатая, точно вареный желудок.
– Ужас какой, – пробормотала Стейна из дальнего угла бадстовы. Агнес недоуменно подняла взгляд от работы, словно вообще забыла о существовании семейства из Корнсау.
В это мгновение в наружную дверь постучали.
– Лауга, – сказала Маргрьет, – поди глянь, кто там пришел.
Младшая дочь пошла открывать. Вскоре она вернулась, ведя за собой пожилого мужчину, который энергично отряхивал снег с плеч. Это был преподобный Пьетур Бьярнасон из Ундирфельда.
– Благослови Господь всех присутствующих, – пророкотал гость, вытирая запотевшие очки о рубашку. После пешей прогулки по льду и ветру он дышал шумно и тяжело. – Я пришел, дабы сделать о всех вас записи в приходской книге, – нараспев проговорил священник. – А, младший проповедник Торвардур, здравствуйте. Вижу, вы до сих пор здесь. О да, разумеется. Блёндаль…
– Это Агнес, – перебил Тоути.
Женщина шагнула вперед.
– Я – Агнес Йоунсдоттир, – сказала она. – Нахожусь тут под арестом.
Маргрьет в изумлении вскочила, оглянулась на Йоуна, сидевшего на постели. От ужаса у него отвисла челюсть.
– Что?! Она не… – начала было Лауга, но Тоути прервал ее на полуслове.
– Агнес Йоунсдоттир – моя духовная подопечная. Как я вам уже говорил.
Он чувствовал, как хозяева Корнсау сверлят его взглядами, потрясенные тем, что он согласился с подобным именем. В комнате надолго воцарилась неловкая тишина.
– Приму к сведению. – Преподобный Пьетур опустился на табурет под мигающей лампой и извлек из-за пазухи внушительных размеров книгу. – А как поживают домочадцы Корнсау? Забой скота окончен?
Маргрьет вперила в Тоути странный взгляд, затем медленно опустилась на место.
– Э-э… да, окончен. Осталось только разбросать навоз по лугам, а уж потом мы примемся за шерстяные вещи на продажу.
Пожилой священник кивнул.
– Истые труженики. Староста Йоун, не будешь ли ты любезен побеседовать со мной первым?
Священник по очереди переговорил со всеми обитателями Корнсау, проверяя у каждого навыки чтения и знание катехизиса. Также он задавал собеседникам вопросы о тех, с кем рядом они жили и работали. После того как преподобный побеседовал со всеми слугами, он вызвал Агнес. Тоути пытался расслышать, о чем они говорят, но Кристин, радуясь тому, что проверка ее умения читать наконец осталась позади, так бурно веселилась на пару с Бьярни, что из-за их хохота Тоути не сумел разобрать ни слова. Священник говорил с Агнес недолго и вскоре кивком отпустил ее.
– Благодарю, что уделили мне время, – сказал преподобный Пьетур. – Надеюсь скоро увидеть вас на церковной службе.
– Не хотите ли выпить кофе? – спросила Лауга, сделав изящный книксен.
– Спасибо, дорогая моя, но мне еще нужно посетить оставшиеся хутора, а погода, судя по всему, не намерена улучшаться.
С этими словами преподобный водрузил на голову шляпу и бережно убрал приходскую книгу в глубины своего плотного плаща.
– Я провожу вас, – сказал Тоути прежде, чем Лауга успела предложить свои услуги.
В коридоре он спросил пожилого священника, что именно тот записал об Агнес.
– Зачем вы хотите это знать? – с любопытством спросил старик.
– Она – моя подопечная, – ответил Тоути. – Мой долг – знать, как она ведет себя. Насколько хорошо читает. Я стараюсь ради ее блага.
– Что ж, хорошо. – Священник вновь извлек из-под плаща приходскую книгу, пролистал страницы, дойдя до самых свежих записей. – Вот, можете прочесть сами.
Тоути поднес книгу к свече, которая горела в настенном подсвечнике, и в неярком ее свете, прищурясь, постепенно разобрал: «Агнес Йоунсдоттир. Осужденная. Sakapersona. 34 лет от роду».
– Читает она весьма хорошо, – заметил священник, дожидаясь, когда Тоути закончит чтение.
– А что это вы написали о ее характере? – Тоути едва различал буквы: в полумраке все расплывалось перед глазами.
– А! Здесь, преподобный, написано blendin. Противоречивый.
– У кого же вы получили этот ответ?
– Таково было мнение окружного старосты. И его жены.
– А вы, преподобный, что вы сами думаете об Агнес?
Старик убрал книгу и пожал плечами.
– Изъясняется весьма красноречиво. Можно подумать, что она получила образование, что удивительно при ее внебрачном происхождении. Безупречные манеры. Тем не менее староста Йоун в разговоре со мной сказал, что ее поведение бывает… непредсказуемо. Он имел в виду истерические припадки.
– Агнес приговорена к смертной казни, – сказал Тоути.
– Это мне известно, – сухо ответил священник, открывая дверь. – До свиданья, преподобный Торвардур. Желаю вам всего наилучшего.
– И вам того же, – пробормотал Тоути, но дверь уже захлопнулась перед самым его носом.
Агнес Йоунсдоттир. Я никогда не думала, что будет так легко назвать себя этим именем. Дочь Йоуна Бьярнассона, хозяина Бреккукота, а не слуги Магнуса Магнуссона. Пускай все знают, чей я внебрачный ребенок на самом деле.
Агнес Йоунсдоттир. Имя женщины, которой я могла бы стать. Экономка хутора с окнами на долину, муж, который всегда рядом, стайка детишек, что в сумерки с пением помогают загнать домой овец. Эта женщина учила бы детишек разным наукам и пугала рассказами о привидениях. И любила бы. Эта женщина могла бы даже быть сестрой Сигурлауг и Стейнвор Йоунсдоттир. Дочерью Маргрьет. Рожденной в законном браке. Рожденной в семье, которую не разлучит нищета.
Агнес Йоунсдоттир не была бы настолько глупа, чтобы полюбить мужчину, который всю жизнь отворял жилы, заглядывал в чужие рты, раздвигал чужие ноги. Мужчину, который получал плату за то, что пускал кровь. Она стала бы бабушкой. В смертный час вокруг ее ложа собралось бы множество близких. Ей говорили бы, что она попадет в рай. И она бы верила.
А поверить, что я была счастлива в Идлугастадире, почти невозможно. Но однажды, пожалуй, это случилось. В тот, самый первый день, когда я весь вечер до темноты провела с Натаном в его мастерской. Он показал мне две песцовые шкурки. Они сушились в доме – снаружи тем утром было слишком влажно, чтобы развесить их вместе с рыбой.
Натан взял мои ладони и провел ими по белоснежному меху песца.
– Хороши, а? Нынешним летом в Рейкьявике за них отвалят недурные деньги.
Он рассказал, как образом ловил песцов в горах.
– Самое главное, – говорил он, – отыскать и поймать детеныша. Затем – заставить его кричать, чтобы услышали родители, а иначе их невозможно выманить из норы. Песцы – хитрые твари. Хитроумные. Они издалека чуют приближение человека.
– И как же ты заставляешь детеныша кричать?
– Ломаю ему передние лапы. После этого он не может убежать. Родители слышат, как он скулит, выскакивают из логова и становятся легкой добычей. Они никогда не бросают своих детенышей.
– А что ты делаешь с детенышами после того, как убьешь их родителей?
– Иные охотники оставляют таких детенышей умирать. На продажу их шкурки не годятся – слишком малы.
– А ты?
– А я разбиваю им головы камнем.
– Вот единственно достойный поступок.
– Именно. Бросать их с перебитыми лапами – это жестоко.
Потом Натан показал мне свои книги. Они, подумалось ему, могут прийтись мне по душе.
– Сигга не любит печатное слово, – сказал он. – Читатель из нее еще тот. Заставлять ее читать – все равно что заставлять корову говорить по-человечески.
Я водила пальцами по страницам книг, пытаясь прочесть вслух новые слова, которыми они пестрили.
– Гинекологические болезни, – поправлял Натан мое неуклюжее произношение. – Кохлеария оффициналис. Повтори еще разок.
– Цетрария исландика. Ангелика архангелика. Ахилла миллефолиум. Румекс дигинус.
Я не понимала этого чудно́го наречия, а потому прервала смех Натана поцелуем – и тотчас ощутила, как его язык легонько прижался к моему. Что означали все эти слова? Названия предметов, которыми изобиловала его мастерская? Того, что размещалось в кувшинчиках, бутылках и глиняных горшках? Натан целовал меня в шею, и мысли мои стремительно растворялись в нарастающем жаре желания. Натан усадил меня на стол, мы лихорадочно возились с одеждой, и вдруг он вошел в меня – прежде, чем я осознала, что происходит, прежде, чем была готова принять его. Я вскрикнула. Я чувствовала под собой сухое шуршание бумаги и воображала, как слова поднимаются со страницы и проникают в мое тело. Ноги мои плотно обхватили талию Натана, и от стылого морского воздуха перехватывало горло.
Потом я стояла, нагая, бедрами прижимаясь к краю его стола. Книги Натана лежали передо мной, страницы их были измяты – напоминание о нашем бурном соитии.
– Смотри, Натан, все это – о болезнях. Столько книг, и все посвящены бедам и ужасу.
– Агнес.
Он произнес мое имя негромко, перекатывая на языке конечное «с», точно смакуя.
– Натан… если в мире столько болезней, столько бед, которые в любую минуту могут приключиться с любым человеком, – как же выходит, что все мы до сих пор еще живы?
Сигга наверняка знала, что происходит между нами. В те первые ночи в Идлугастадире мы дожидались, пока она заснет. Я слышала, как Натан осторожно ступает по дощатому полу бадстовы, а затем чувствовала, как он легонько дергает мое одеяло. Я изо всех сил старалась не шуметь. Тела наши сплетались так, словно им не суждено было разъединиться, но первый же луч утреннего света, проникавший в окно, рассекал нашу страсть, словно острый нож.
Натан всегда возвращался в свою постель до того, как проснется Сигга.
Агнес, казалось, глубоко задумалась. Лишь когда Тоути легонько тронул ее за плечо, она встрепенулась и наконец заметила, что он вернулся в комнату.
– Извини, что побеспокоил тебя, – сказал он.
– Нет-нет, все в порядке, – глуховато отозвалась Агнес. – Я просто считала петли.
– Продолжим? – спросил Тоути.
– На чем я остановилась?
– Ты рассказывала про первый свой день в Идлугастадире.
– Ах да. Натан был рад меня видеть. Удостоверившись, что я успокоилась, он рассказал мне кое-что о соседних хуторах и людях, которые там обитали. В первые недели моей жизни в Идлугастадире не случилось ничего примечательного. Каждый день мы с Сиггой трудились от рассвета до заката, а вечера проводили все вместе, рассказывали друг другу разные истории или просто над чем-нибудь смеялись. Словом, первые пару месяцев, проведенные на этом хуторе, я была счастлива. Сигга сказала, что Натан обычно не проводит столько времени дома, и я решила, что его удерживает на хуторе мое присутствие. Почти все дни он проводил в своей мастерской, предпочитая лудить и чинить инструменты, нежели работать по хозяйству. Он считал, что лучше нанять работников, которые накосят травы или обиходят лошадей, чем заниматься этими делами самому. Не то чтобы он был ленив. Он показал мне, как пускают кровь, и поведал обо всех болезнях, какие могут приключиться с человеком. Мне кажется, он обрадовался, наконец-то заполучив собеседника, которому интересна его работа; Сигга была хорошенькая, отменно стирала и ловко управлялась с ножом, потроша рыбу, которую мы ловили, однако не имела ни малейшей склонности к тому, что Натан именовал премудростями. Мне было дозволено читать, сколько пожелаю, и извлекать кое-какие познания из научных трудов. Знаете ли вы, преподобный, что, если у человека кровоточат десны и выступили пятна на ногах, ему нужно есть капусту?
Тоути улыбнулся.
– Нет, я этого не знал.
– Я вначале думала, что Натан надо мной потешается, но потом своими глазами увидела, как самая незамысловатая вещь – отвар из листьев, мазь из свиного жира с серой, сок, выжатый из корней, или даже капуста – может исцелить больного человека.
Мне казалось, переезд в Идлугастадир обернулся для меня большой удачей. Натан смастерил мне новые туфли из тюленьей кожи, подарил платок, а уж гагачьих яиц можно было есть сколько влезет. Всякий раз, когда Натан уезжал из дома, он привозил подарки для меня и Сигги. Вот почему при первой встрече я подумала было, что Сигга – дочь Натана. Он дарил ей наряды, и меня, когда я приехала, тоже осыпал подарками. Кружева, шелк и крошечный платочек – по словам Натана, из самой Франции. Такая жизнь казалась мне роскошной – несмотря на безлюдье, несмотря на тесный и захламленный дом. Гости у нас бывали нечасто. Впрочем, у меня был Натан, да и Сигга не слишком допекала. – Агнес понизила голос. – Вы ее видели, преподобный? Она получила помилование?
Тоути покачал головой.
– Этого я пока что не знаю.
– Сигга, наверное, изменилась, – задумчиво проговорила Агнес. – Стала, наверное, на редкость набожной. А ведь в Идлугастадире она порой вела себя как сущий чертенок. Вечно судачила о соседях, и Натан, бывало, спрашивал: как, мол, она думает, кто на ком должен бы жениться и на кого были бы похожи их дети; простодушие Сигги его забавляло. Я даже не возражала, когда Сигга именовала себя экономкой или приказывала мне сделать то, чем ей бы полагалось заняться самой: опорожнить ночной горшок, выгрести навоз из коровника, повесить сушиться рыбу, которую поймал Натан. Она, как и говорил Натан, была сущее дитя, и образ мыслей у нее был соответственный.
Фридрик Сигюрдссон появился в Идлугастадире вскоре после моего приезда. Я никогда прежде с ним не встречалась, но Сигга рассказала мне о нем и прибавила, что они с Натаном вроде как приятели. Всякий раз, говоря о Фридрике, она пунцовела, точно освежеванный ягненок. Надо сказать, что Фридрик вызывал у меня неприязнь. Сидело в нем некое буйство. Натан, впрочем, был не лучше. Настроение у них, когда оба находились в одной комнате, менялось каждую минуту – только что смеялись и шутили и вот уже смотрят друг на друга волком. Причем эта злоба была как зараза. В их присутствии всякая мелкая обида ощущалась болезненно, точно острый шип, вонзившийся в палец. Фридрик, думалось мне, безрассудно смелый мальчишка, который вон из кожи лезет, чтобы доказать, что он мужчина. Оскорбить его было легче легкого. Полагаю, он считал, что весь мир настроен против него, оттого и бесился. Не нравилось мне это в нем – как он вечно ищет повод разозлиться. Он любил драться. Любил ходить с ободранными костяшками пальцев.
Натан был совсем другой. Он не считал, будто должен кому-то что-то доказывать. Зато ему не давали покоя приметы и знамения. И то, что так меня восхищало в Натане, – его взгляд на мир, тяга к знаниям, легкость в общении с теми, кто ему по душе, – имело свою недобрую изнанку. Кто слишком радуется ясному дню, тому и ненастье снести стократ тяжелее.
Агнес прервала рассказ, заметив, что Тоути морщится и трет ладонью горло.
– Что-то не так, преподобный? – спросила она.
Тоути откашлялся.
– Просто здесь душновато, только и всего, – сказал он. – Продолжай. Чуть попозже я схожу за водой.
– Вы бледны.
– Слегка простыл, мотался туда-сюда в непогоду.
– Может быть, вам не следует сегодня ехать на ночь в Брейдабоулстадур.
Тоути, улыбаясь, покачал головой.
– Бывало и похуже, – сказал он. – Я не хотел прерывать твой рассказ. Пожалуйста, продолжай.
Агнес окинула его обеспокоенным взглядом, но все же кивнула:
– Что ж, хорошо. В тот день, когда я впервые увидела Фридрика Сигюрдссона, я несла воду от ручья. Я услышала крик, а потом увидела рыжеволосого молодого всадника, который ехал рысью по горной тропе. С ним была женщина. Натан выглянул на шум из окна мастерской и вышел, не дав себе труда запереть за собой дверь. Гости в Идлугастадире появлялись редко, и Натана, судя по всему, такое положение дел устраивало.
Натан представил мне юношу как Фридрика, а тот добавил, что приходится сыном Сигюрду, владельцу хутора Катадалюр, который находится выше по горе. Фридрик сказал, что уезжал на зиму, а затем познакомил нас со своей спутницей – Тоурунн, служанкой с испорченными зубами, которые она беспрестанно скалила. Я заметила, что Сигга встревожилась при виде Тоурунн. Правду говоря, преподобный, оба они не понравились мне с первого взгляда. Фридрик показался мне бахвалом и задавакой. Он болтал без умолку, уверял, что сделает своего отца богачом, а потом сообщил, что, дескать, отделал троих взрослых мужчин в Вестурхоупе, да так, что подбитыми глазами дело не обошлось. Словом, обычное бестолковое мальчишечье вранье. Не знаю, почему Натан так его заслушался – не любил он подобные разговоры, хотя и сам не прочь был похвастать своими удачами. Впрочем, я предполагала, что он чувствует себя наставником Фридрика – примерно таким же, каким, по его словам, он пытался стать для Сигги.
В тот день Натан пригласил Фридрика и Тоурунн в дом. Новые знакомцы не вызвали у меня особого интереса, но все же я догадалась, что семья Фридрика живет бедно. Он набросился на свою порцию рыбы так жадно, будто умирал с голода. Странно было представить его другом Натана.
Едва Фридрик отправился восвояси – Тоурунн затрусила вслед за ним, точно верная собачонка, – как Натан куда-то исчез. А когда появился снова, я спросила, где это он пропадал, а он усмехнулся и ответил, что проверял, цело ли его добро. Почему, спросила я. Да потому, отвечает, что Фридрик вороват и что чужие деньги ему покоя не дают.
Тогда я спросила, зачем он, раз такое дело, вообще пускает Фридрика в дом, а Натан расхохотался и сообщил, что денег в доме не держит и к тому же его эта игра забавляет. Так что дружбой их отношения было не назвать – скорее странным, от скуки, соперничеством. Фридрик считал Натана богачом и стремился урвать толику его богатства, а Натан потакал этому исключительно потехи ради, прекрасно зная, что Фридрик никогда в жизни не сыщет его денег. После этих слов я заявила Натану, что, по-моему, вот так подзуживать человека опасно, но он лишь со смехом ответил, что Фридрик вовсе не опасен, поскольку его и мужчиной назвать нельзя – так, безрассудный юнец. Меня это не успокоило. Я возразила, что Фридрик вдвое крупней его, Натана, и, если дойдет до драки, без труда его одолеет. Натану мои слова не понравились. Тогда-то и случилась наша первая размолвка.
– И что сказал Натан?
– О, он схватил меня за руку, выволок во двор и потребовал, чтобы я впредь не смела говорить о нем так в присутствии Сигги. Я возразила, что всего лишь сказала правду и вовсе не хотела его задеть и что Сигга о нем самого лучшего мнения, как, впрочем, и я. Эти слова его отчасти умаслили, но меня напугало то, как стремительно у него сменилось настроение. Потом я узнала, что Натан и впрямь изменчив, как море, и если увидишь, как лицо его переменилось и потемнело, – помоги тебе Господь. Он мог признаваться тебе в дружеских чувствах, а минуту спустя грозить, что вышвырнет за дверь, случись тебе уронить ведро с водой. Как говорится, за каждой горой есть свое ущелье.
– Возможно, если бы ты знала об этом раньше, то не пошла бы к нему на службу, – предположил Тоути.
Агнес помолчала немного, затем покачала головой.
– Я хотела вырваться из Ватнсдалюра, – тихо проговорила она.
– Расскажи про Сиггу, – попросил Тоути. – Какая она?
– Ну, тем вечером, после визита Фридрика, Сигга завела речь о замужестве. Я спросила, не считает ли она Фридрика Сигюрдссона весьма привлекательным молодым человеком, да еще с такими заманчивыми перспективами. Я шутила, конечно. Фридрик – рыжий, веснушчатый, весь в пестринах, точно ломоть колбасы, а родители у него бедны, как церковные мыши. И однако же, когда я задала Сигге этот вопрос, она заалела, словно свежая кровь, и спросила – как по-моему, помолвлен ли Фридрик с Тоурунн? Тогда-то я и поняла, что у нее есть виды на этого юнца.
Я продолжала подшучивать над Сиггой. «Знаешь ли ты, сколько надо потрудиться, чтобы выйти замуж?» – спросила я. Сигга ответила, что вряд ли этот труд будет тяжелее нынешнего. Тогда я рассмеялась и объяснила, что имею в виду вовсе не работу по хозяйству, но препятствия, которые служанка вроде нее должна преодолеть для того, чтобы связать свою жизнь с мужчиной. Я напомнила, что она должна получить разрешение на брак от священника и от старосты, а также заручиться согласием сислуманна округа, но, кроме того, ей надлежит всячески ублажать Натана, потому что последнее слово в этом вопросе всегда остается за хозяином.
«Словом, – заключила я, – для того чтобы выйти замуж, мало найти себе мужа». Сигге мои слова не слишком понравились. Она побледнела, услышав, что ее выбор должен одобрить Натан, и более не проронила об этом ни слова, даже когда я попыталась развеселить ее, сообщив то, что поведал мне Натан, – об игре, которую он ведет с Фридриком.
– Ты и вправду думаешь, что Фридрик – вор? – спросила Сигга, и я ответила – нет, конечно, я уверена, что он в высшей степени достойная персона.
Натан хохотал от души, когда я рассказала ему, как Сигга встретила известие о том, что ей придется спрашивать его согласия на брак. Натан заметил, что Сигге полезно держать это в голове. Я поделилась своими подозрениями, что Сигга неравнодушна к Фридрику, и напомнила, что Натан считает этого человека вором. Натан ответил – так, мол, и бывает, когда держишь овечку и барашка в одном загоне, и больше мы тогда об этом речи не вели.
Все произошло незадолго до окота. Погода стояла ясная, и Натан решил воспользоваться ею, чтобы подзаработать – поездить по северу, леча больных и продавая собственноручно изготовленные лекарства. Так вышло, что он был далеко, когда в Идлугастадире начался окот. Выйдя во двор, чтобы покормить корову, мы с Сиггой обнаружили, что одна из овец ягнится. Ни у одной из нас не хватило бы сил как следует встряхнуть ягненка, если тот вдруг не задышит, выйдя из утробы, и мы опасались, что Натан, вернувшись через пару недель, обнаружит, что его отара не так велика, как ожидалось. Я сказала Сигге сбегать к кому-нибудь из соседей и попросить в помощь работника – хотя Натан и велел перед отъездом не пускать на его хутор никого постороннего. Сигга привела Фридрика.
Вначале мне – памятуя о предостережениях Натана – было боязно пускать его на подворье, но ведь мы и вправду нуждались в помощи, а к тому времени, когда он прибыл, схватки начались еще у нескольких овец. Фридрик был истым сыном хуторянина. Он помогал нам вытаскивать ягнят и сноровисто встряхивал их, чтобы начали дышать. Когда обнаружилось, что у одной матки слишком тугое вымя, Фридрик смастерил из подручного тряпья соску, чтобы мы могли сами покормить новорожденных ягнят. После этого я стала относиться к нему чуть лучше, однако все равно не пустила спать в дом, постелив ему в коровнике.
Фридрик пробыл с нами всю неделю окота. Я зорко следила за тем, чтобы он и пальцем ни к чему в доме не притронулся, потому что заметила, что он новорит прицениться ко всему, что попадается на глаза. Он подсчитывал, почем наши новорожденные ягнята, матки, корова, хуторские угодья и даже шелковая лента в волосах у Сигги. Я объясняла это тем, что он вырос в бедности. Тем не менее глаз с него я не спускала, особенно после того как застигла у порога дома: он успел выкопать там яму. Когда я спросила, чем это он занимается, Фридрик делано засмеялся и сказал – да так, ничего особенно, просто он давал-де Натану деньги на хранение, а Натан возьми да и забудь, где их закопал, так и пропали бесследно. Я понимала, что он лжет. У Фридрика Сигюрдссона и гроша ломаного отродясь не водилось – разумеется, он искал Натановы деньги.
Сигге, впрочем, словно и дела до этого не было. Той весной я часто замечала, как она хлопочет вокруг Фридрика, приносит ему во время работы то одно, то другое, как хихикает над его россказнями о драках и удальстве. Вечерами она часто выходила в коровник, чтобы отнести Фридрику молока и пожелать ему спокойной ночи, и подолгу не возвращалась. Как я уже говорила, Сигга довольно хорошенькая, и Фридрик, я полагаю, вскоре позабыл о Тоурунн с ее гнилыми зубами. Он был отличный наездник и, случалось, нахлестывал своего конька до полусмерти, стремясь произвести впечатление на Сиггу. Даже когда эта славная лошадка сбросила его за то, что он плетью раскровенил ей бока, Сиг-га принесла ему ужин и, сидя рядом, смотрела, как он жадно ест, промокала салфеткой ушибленный висок и время от времени наклонялась, чтобы поцеловать место ушиба – когда думала, что я ничего не увижу.
Натан, вернувшись, увидел, что большинство его овец объягнилось, и похвалил нас за то, что все правильно сделали. Сигга сказала, что без Фридрика мы бы нипочем не справились, и Натан взвился – какого, мол, черта мы пустили на хутор этого вороватого щенка, когда он, Натан, отсутствовал и не мог за ним присмотреть? Сигга расплакалась – она не выдерживала, когда на нее кричат, – и, когда Натан продолжил бранить ее за недомыслие, я вмешалась и заявила, что позвать Фридрика на помощь пришло в голову именно мне.
Я сказала Натану, что понимаю – у него помимо Идлугастадира есть и другие заботы, но мы с Сиггой далеко не со всем можем управиться без мужской помощи. Я напомнила Натану, что ни у нее, ни у меня не хватило бы силы встряхивать ягнят после появления на свет, да и прежде нам стоило немалого труда справляться со многими хозяйственными делами. Я прибавила, что Фридрик, при всех его недостатках, все же спас нам изрядную часть отары и к тому же мы не пускали его ночевать в доме. О том, что Фридрик рылся у порога в поисках денег, я рассказывать не стала.
В конце концов Натан остыл, и жизнь в Идлугастадире вернулась в обычное русло. Натан сказал, что съездит в Гейтаскард и на время сенокоса наймет Даниэля Гвюндмюндссона. Он, дескать, не против, чтобы в его отсутствие нам кто-нибудь помогал, однако не хочет, чтобы этим помощником был Фридрик.
Глава 10
13 апреля 1828 года
Роуса Гвюндмюндсдоттир из Ватнсенди была приглашена для выступления в суде. Она отказалась дать какие-либо сведения о настоящем деле, однако сообщила, что Агнес той зимой иногда посещала ее и хорошо отзывалась о своем хозяине Натане. Ребенок, который проживал под опекой в Идлугастадире, в настоящее время живет в доме Роусы, поскольку это ее дочь. По словам Роусы, девочке сейчас три года. Роуса не думала, что убийство нанесло ребенку какой-либо ущерб, однако отметила, что малышка неизменно повторяет «Натан ушел в горы». Именно это было сказано ребенку после того, как произошло убийство. Роуса заявила на суде, что не может сказать об Агнес или Сигридур ничего особенного, поскольку недостаточно близко знает обеих женщин. Она также сказала, что Натан покинул Ватнсенди летом 1825 года – после того, как в течение двух лет жил там с Роусой и ее мужем. Роусе известно, что к тому времени Натан обладал значительной суммой денег. Она приняла у него 50 серебряных монет на хранение.
Следующей весной после отъезда Натана в Ватнсенди явился Фридрик из Катадалюра и вызвал Роусу в коровник для приватного разговора. Далее Роуса сообщила, что Фридрик начал говорить о своей страсти к ней и просил дозволения остаться ночевать на хуторе и прийти к ней в постель. Роуса заверила суд, что отказала Фридрику, ушла из коровника и попросила своего мужа не позволять Фридрику ночевать в их доме, хотя позднее оный Фридрик повторил свою просьбу. После того, по словам Роусы, к ней пришел Оулав, ее муж, и сообщил, что Фридрик просил разрешения осмотреть кладовую, дабы отыскать деньги Натана, которые, по его убеждению, хранились у Роусы. Натан якобы разрешил ему взять эти деньги с одним условием – если Фридрик сумеет переспать в постели Роусы. Фридрик предложил ее мужу две или четыре серебряные монеты и рассказал, что его матери приснился сон: деньги, дескать, хранятся под бочкой в кладовой. По словам Роусы, она сказала мужу: деньги Натана хранятся отнюдь не в кладовой, так что Фридрик может шарить там столько, сколько его душе угодно. После того муж Роусы вышел, и, хотя она и ее служанка спали, Фридрик вошел в кладовую, вывернул все из упомянутой бочки, но ничего не сыскал. По свидетельству Роусы, он заметил, что матери следовало бы «повнимательней смотреть свои сны». Еще он сказал, что нашел какой-то тяжелый предмет, который не смог сдвинуть с места, и вернется попозже, когда получит от матери более точные указания, где следует искать. Однако он не вернулся.
После того считалось, что Фридрик ненавидит Натана, поскольку не смог отыскать его деньги. Роуса сказала, что отдала Натану деньги, которые хранила для него, той самой весной, после визита Фридрика, но прибавила, что долгое время от него не было никаких известий. Она заметила также, что, когда Натан жил в ее доме, он закапывал свои деньги в землю – как в самом доме, так и снаружи. Никаких других сведений или свидетельств от этой женщины получить не удалось, более того – она отказалась подтвердить, что записанное здесь верно.
Неизвестный писарь,
1828 год
ТОУТИ ПРОСНУЛСЯ В ТЕМНОЙ БАДСТОВЕ Брейдабоулстадира, почувствовав, что задыхается. Он сел – и тут же жаркая кровь ударила в голову, руки задрожали и бессильно обвисли. Тоути попытался кашлянуть, но язык прилип к пересохшему нёбу.
В другом конце комнаты спал отец, прерывисто похрапывая; на несколько пугающих мгновений дыхание его замирало, а затем воздух снова с рокотом выходил из легких. «Почему он еще спит? – подумал Тоути. – Уже, должно быть, утро. Мне нужно глотнуть воды».
Борясь с головокружением, Тоути кое-как спустил ноги на пол, осторожно утвердил босые стопы на половицах. «Мне, наверное, приснился кошмар, – подумал он, чувствуя, как неистово колотится в груди сердце. – Схожу за водой».
Прохлада чулана приятно остужала липкую от пота кожу. «Может, мне лучше поспать здесь, – подумал Тоути, бессильно оседая на пол. – В бадстове так жарко, кто-то развел под нами огонь».
Его разбудило прикосновение огрубевших ладоней отца – тот подхватил Тоути под мышки, приподнимая его с пола.
– Ты что, хочешь простудиться? Бродишь во сне, точно лунатик.
– Мама?..
Последовало недолгое молчание.
– Нет, сынок. Это я.
Преподобный Йоун, пошатнувшись, сумел поднять Тоути на ноги.
– Теперь иди, – скомандовал он, наклоняясь, чтобы взять принесенную с собой свечу. – Или ты еще спишь?
Тоути покачал головой:
– Нет-нет. Я не сплю. Мне стало нехорошо, и я пошел выпить воды. А потом, наверное, потерял сознание.
Он вцепился в руку, протянутую отцом, и вдвоем они кое-как добрели до бадстовы.
– Теперь сядь на свою кровать, – велел отец. И отступил на пару шагов, наблюдая за тем, как Тоути тяжело покачивается на ногах. Глаза юноши неестественно блестели, волосы в зыблющемся свете свечи лоснились от пота. – Ты изнурил себя, сын. Все эти поездки в Корнсау по такой непогоде. Тебя точно околдовали.
Тоути поднял на него взгляд.
– Отец?..
Преподобный Йоун успел подхватить падающего сына.
Дни становятся короче. Теперь времени хватает на все, даже с избытком, и потому семейство из Корнсау отправилось в церковь, чтобы убить темные докучные часы воскресного утра. Горы засыпаны снегом, а вода в поилке для скота прошлой ночью покрылась льдом. Йоун велел Бьярни разбить ее молотком, и теперь мы втроем – Йоун, Бьярни и я – ждем, когда вернутся из церкви остальные.
Куда мог подеваться преподобный? Я не видела его много дней. Мне думалось, что он непременно приедет на мой день рождения – ведь он видел дату в приходской книге, – однако этот день настал и миновал, и я ни словом не посмела обмолвиться о нем хозяевам Корнсау. Теперь один за другим уходят и ноябрьские дни, а преподобный все не приезжает, ни письма от него, ни весточки, которая могла бы поддержать меня. Стейна спросила, не думаю ли я, что преподобного удерживает дома непогода – неделю назад был такой буран, что нас едва не завалило снегом. Быть может, преподобный целиком поглощен своими пасторскими обязанностями, объезжает сейчас собственную паству с приходскими книгами, записывает бесчисленные имена, чтобы они остались в памяти потомков. Или, может быть, ему надоели мои рассказы; может быть, какие-то мои слова убедили его, что я виновна, что меня следует отвергнуть и покарать. К тому же я безбожница. Я отвлекаю его от христианского образа мыслей, заставляю сомневаться в любви Господней. А может, Блёндаль снова вызвал его, приказал больше меня не слушать. Так или иначе, это жестоко – бросить меня без предупреждения, не пообещав вернуться. Без посещений преподобного дни кажутся длиннее, хотя свет и бежит из наших краев, точно пес, которого отодрали плетью. Дел у меня все меньше и меньше, и бесплодное ожидание поглощает все мое существо. Заскрипит ли снаружи снег под ногами, кашлянут ли в коридоре – я тут же вскидываюсь, решив, что сейчас появится преподобный. Но нет – это вернулись слуги, задав ввечеру корм скоту, это Маргрьет сплевывает мокроту в носовой платок.
Ожидание так измучило меня, что я начинаю желать смерти. Отчего бы этому не случиться прямо сейчас? Отчего бы не взять топор и не разделаться со мной прямо здесь, на хуторе? Это мог бы сделать Бьярни. Или Гвюндмюндур. Или любой из здешних мужчин. Видит Бог, они бы наверняка с радостью ткнули меня лицом в снег и снесли бы мне голову безо всяких церемоний, без священника или судьи. Если уж меня собираются убить – отчего бы не совершить убийство сейчас, сию минуту, и наконец покончить с этим делом?
Это все Блёндаль. Он хочет измучить меня ожиданием, прежде чем подставить мою шею под топор. Хочет, чтобы я сломалась, он – изверг и потому отнимает единственное утешение, которое осталось у меня в мире. Отнимает Тоути и принуждает меня бессмысленно следить за тем, как течет время. Какой жестокий дар – дать мне столько времени на то, чтобы проститься с жизнью. Почему мне не скажут, когда, в какой день я должна умереть? Быть может, это случится завтра – а преподобного не будет рядом, чтобы мне помочь. Почему он не приезжает?
Меня угнетает эта бесповоротность. Смертный приговор вкупе с серыми буднями хуторской жизни терзает сердце, точно острый нож. Возможно, было бы лучше, если бы меня оставили в Стоура-Борге. Я могла бы умереть от истощения. Обросла бы коростой грязи, насквозь пропиталась холодом и безнадежностью, и моя плоть, ощутив неминуемость смерти, сама бы охотно рассталась с этим миром. Все лучше, чем снежным днем праздно мотать шерсть, дожидаясь, пока кто-нибудь меня убьет.
Быть может, в следующее воскресенье я попрошусь пойти с Маргрьет в церковь. Для чего еще Бог, как не для того, чтобы отвлечься от той трясины, в которой мы погрязли? Все мы – жертвы кораблекрушения, выброшенные на зыбучие пески нищеты. Когда я вообще в последний раз посещала церковь? Уж верно не в те времена, когда жила в Идлугастадире. Скорее всего – в Гейтаскарде, вместе с другими слугами. Мы прибывали туда верхом и за церковной стеной переодевались в лучшую свою одежду, и холодный утренний ветер щипал нас за голые ноги, покуда мы, отряхнувшись от конского волоса, торопливо натягивали свои наряды. Мне не хватает душного тепла и тесноты, чихания, кашля и хныканья маленьких детей. Я хочу, чтобы голос священника журчал, омывая мой слух, – просто ради того, чтобы внимать его журчанию. Вот так я в детстве, когда меня нанимали на хутора по ту сторону реки подмывать обделавшихся младенцев и стирать белье с золой и жиром, сбегала в церковь, чтобы ощутить себя частицей некоего целого. Очиститься.
Возможно, все обернулось бы иначе, если бы Натан дозволял мне посещать церковь в Тьёрне. Я могла бы там с кем-нибудь сдружиться. Познакомиться с какой-нибудь семьей и обратиться к ним за помощью – потом, когда все пошло кувырком. С хозяевами других хуторов, к которым я могла бы наняться. Но Натан не пускал меня в церковь, и не было у меня ни другого друга, ни огонька, чтобы идти на него через зимнюю пустошь.
Быть может, мы с Роусой и подружились бы, если бы свели знакомство иным образом. Натан всегда говорил, что у нас с ней сходства столько же, сколько у лебедя с вороном, однако он ошибался. Прежде всего мы обе любили его. И, кроме того, что бы я там ни говорила преподобному, душа моя от стихов Роусы вспыхивала, точно сухая стружка, и пламя это освещало меня изнутри. Натан всегда любил ее. Да и разве могло быть иначе? Ее стихи превращали людей в живые светильники.
Мы с ней так и не поняли друг друга, хотя Роуса была виновата в этом ничуть не меньше меня самой. В первую же нашу встречу она ясно дала понять, что мы враги. Однажды летним вечером она возникла как призрак в бадстове Идлугастадира. Никто не слышал ее шагов, не слышал, как открылась входная дверь. Она просто возникла на пороге, держа на руках маленькую дочку. С ног до головы она была одета в черное, и на этом мрачном фоне ее светлая кожа, казалось, излучала сияние. Сигга всегда говорила, что Роуса похожа на ангела, но только тем вечером мне подумалось, что вид у этого ангела усталый, словно он утратил вкус к жизни.
Мне было известно о Роусе намного больше, чем ей обо мне.
– Она чудесная женщина, – сказал как-то Натан, и эти слова болезненно задели чувствительную струнку моей души. – Превосходная повитуха и несравненный скальд.
Натан был отцом ее ребенка! Эта дочь Роусы унаследовала его проницательный взгляд, не упускавший ни единой мелочи! Однако Натан успокоил меня. «Она давила на меня, – сказал Натан. – Она хотела, чтобы я всегда жил с ней и ее мужем. Но мне необходимо было создать собственную жизнь. И я это сделал. Вот он – мой хутор. Моя независимость».
Он уверил меня, что посылал Роусе письма, в которых говорилось, что она ему больше не нужна. Что его любовь ко мне затмила чувство, которое он питал к Роусе. Ему нравилось, что я – внебрачный ребенок, нищенка, служанка. «Все, что у тебя есть, тебе пришлось брать с боем, – говорил он. – Ты хватаешь жизнь за горло, Агнес. Ты не такая, как Роуса».
И вот настал тот летний вечер, когда Роуса возникла на пороге, держа на руках их дочь, – и лицо Натана осветилось.
Роуса ничего не сказала. Взгляд ее остановился на мне, глаза сузились. Казалось, она смотрит на меня в прицел ружья.
– Ты, верно, Агнес Магнусдоттир. Роза Кидьяскарда. Цветок долинных земель.
Рука ее, высвободившись из варежки, легла в мою, холодная, точно камень.
– Скальд-Роуса. Приятно наконец познакомиться с тобой.
Роуса перевела взгляд на Сиггу, затем на Натана – и брови ее многозначительно взлетели вверх.
– Рада видеть, что ты обзавелся очаровательными домочадцами.
От меня не укрылся прозвучавший в ее голосе упрек. Я намеренно встала рядом с Натаном. Он теперь мой.
– А это, должно быть, Тоуранна, – проговорила я вслух. Девочка улыбнулась, услышав свое имя.
Роуса снова взяла ее на руки.
– Да. Наша с Натаном дочь.
– Полно вам, девочки, – вмешался Натан, явно забавляясь. – Давайте не будем ссориться. Сигга, принеси всем нам кофе. Роуса, раздевайся и проходи.
– Нет уж, спасибо. – Роуса поставила Тоуранну на ножки – в угол комнаты, подальше от меня. – Я приехала только для того, чтобы привезти ее сюда.
– Что?
Натан не говорил, что дочь Роусы будет жить у нас. Я шепотом спросила у него, почему он не сообщил мне об этом раньше. Почему не предупредил, что Роуса может появиться на хуторе. Мне и в голову не приходило, что они до сих пор общаются друг с другом.
– Это самая малая услуга, которую я могу оказать Роусе, – ответил он. – Тоуранна гостила у нас и в прошлую зиму. Она моя дочь, и было бы только справедливо, чтобы часть года она проводила здесь.
– Натан, – резко перебила Роуса, – ты что же, по всякому поводу справляешься о ее мнении? Вот уж не думала, что ты настолько у нее под каблуком. Совершенно ясно, что она не желает, чтобы наш ребенок жил в ее доме.
– В ее доме? – Натан от души смеялся. – Роуса, Агнес моя служанка.
– Служанка и более ничего? Неужели? – Роуса вскинула брови. – Я не хочу, чтобы эта женщина присматривала за нашей дочерью.
– Я буду счастлива позаботиться о Тоуранне, – вмешалась я. Покривив душой.
– Будешь ты счастлива, Агнес, или нет, меня это не беспокоит.
Натану, верно, не по душе было смотреть на стычку его бывшей любовницы с нынешней.
– Ну же, Роуса, перестань. Давайте все вместе выпьем кофе.
Смех Роусы прозвучал визгливо.
– О да, тебе бы это понравилось! Собрать всех своих шлюх на трапезу под твоим кровом! Нет уж, спасибо.
С этими словами Роза вырвала у него свою руку и развернулась, чтобы уйти. И все-таки прежде, чем шагнуть за порог, она обратилась ко мне:
– Пожалуйста, будь добра к Тоуранне. Прошу тебя.
Я кивнула, и Роуса вдруг подошла ко мне вплотную. Я ощутила на плече почти невесомое касание ее руки.
– Brennt barn forðast eldinn. – Голос ее был негромок и нежен. – Обжегшееся дитя страшится огня.
А потом она ушла, даже не оглянувшись.
Малышка начала плакать и звать маму, и Сигга утешала ее. Натан неотрывно глядел в пустой дверной проем, словно надеялся, что Роуса вернется.
– Что ты говорил ей о нас? – шепотом спросила я у него.
– Я ей ничего не говорил.
– А что это за речи про розу Кидьяскарда? И твоих шлюх?
Натан пожал плечами.
– Роусе свойственно давать людям прозвания на свой лад. Скорее всего, она считает, что ты красива.
– Ее слова мало походили на похвалу.
Он пропустил мою реплику мимо ушей.
– Я буду у себя в мастерской.
– Сигга сейчас приготовит нам кофе.
– Черт бы тебя взял, Агнес! Оставь меня в покое, хорошо?
– Хочешь нагнать Роусу?
Натан ничего не ответил и ушел.
Как-то ночью в горячечном бреду Тоути увидал, что на пороге бадстовы появилась Агнес.
– Смотри-ка, ее отпустили сюда, – сказал он отцу, который склонялся над кроватью, безмолвно укутывая одеялами трясущегося от лихорадки сына. – Входи, – прошептал Тоути. Кое-как выпростав руки, он в духоте бадстовы протянул их к Агнес: – Подойди сюда. Видишь, как переплетены наши жизни? Такова воля Господа.
И вот Агнес уже склонилась над ним, что-то шепча. Длинные темные волосы ее щекотно прикоснулись к мочке уха – и дрожь желания пробежала по его телу.
– Здесь так жарко, – пробормотал Тоути, и Агнес, подавшись к нему, принялась поцелуями обирать с его кожи капельки пота, вот только язык у нее был шершавый, а руки нашаривали его горло, кончики пальцев больно впивались в кожу. – Агнес, Агнес! – Тоути отбивался как мог, хрипя от натуги. Сильные пальцы обхватили, стиснули его руки, затолкали их назад под простыни.
– Не сопротивляйся, – сказала Агнес. – Прекрати.
Тоути застонал. Языки огня лизали его кожу, дым заползал в рот. Он зашелся кашлем, и грудь его вздымалась и опадала под тяжестью Агнес, которая уселась на него верхом и занесла нож.
– Я этому не верю! – отрезала Стейна, подметая в бадстове таким манером, что пыль взлетала с половиц и клубилась в воздухе.
– Стейна! От твоей уборки здесь грязнее, чем было!
Сестра и бровью не повела, все так же яростно работая метлой.
– Эта история – жестокая, и я вовсе не удивлюсь, если Роуслин сама ее и придумала!
– Роуслин не единственная, кто слышал об этом! – Лауга чихнула. – Вот видишь, пыли только прибавилось.
– Ну так и подметала бы сама! – Стейна сунула метлу сестре и уселась на кровати.
– О чем это вы тут препираетесь?
Маргрьет вошла в комнату и с ужасом воззрилась на пол.
– Кто все это натворил?
– Стейна, – ядовито сообщила Лауга.
– Я же не виновата, что у нас осыпается крыша! Гляди, эта пыль повсюду. – Стейна резко встала с кровати. – И сырость просачивается. Вон в углу уже каплет. – Она зябко поежилась.
– Я смотрю, ты не в духе, – снисходительно заметила Маргрьет и обратилась к Лауге: – Что ее так разозлило?
Лауга завела глаза к потолку:
– Мне рассказали одну историю про Агнес, а Стейна не верит, что это правда.
– В самом деле? – Маргрьет кашлянула, ладонью отгоняя пыль от лица. – И что это за история?
– Люди помнят Агнес маленькой, и некоторые рассказывают, будто один странник предрек ей смерть от топора.
Маргрьет сморщила нос.
– Это Роуслин рассказывает?
Лауга скорчила гримасу.
– Не только она. Говорят, когда Агнес была ребенком, в ее обязанности входило присматривать за сенокосным лугом, и однажды она обнаружила путника, который устроил там стоянку. Его лошадь топтала траву, и, когда Агнес велела ему убираться, он проклял ее и крикнул, что когда-нибудь ее обезглавят.
Маргрьет фыркнула – и тут же зашлась в приступе кашля. Лауга бросила метлу и бережно отвела мать к кровати. Стейна осталась стоять, где стояла, угрюмо наблюдая за ними.
– Тише, мама, тише, все будет хорошо, – приговаривала Лауга, поглаживая мать по спине, и вскрикнула, когда изо рта Маргрьет вылетел ярко-алый кровяной сгусток.
– Мама! У тебя кровь! – Стейна рванулась к матери и споткнулась о метлу.
Лауга оттолкнула сестру:
– Не мешай ей дышать!
Охваченные тревогой, они смотрели, как Маргрьет содрогается от надсадного кашля.
– Вы не пробовали студень из исландского мха?
В дверном проеме стояла Агнес, глядя на Лаугу.
– Мне уже легче, – прохрипела Маргрьет, прижимая ладонь к груди.
– Он очищает легкие.
Лауга развернулась к дверному проему, лицо ее исказилось:
– Оставь нас в покое, слышишь?
Агнес и бровью не повела.
– Так вы пробовали этот студень?
– Нам не нужны твои зелья! – отрезала Лауга.
Агнес покачала головой:
– А я думаю, что нужны.
Маргрьет перестала кашлять и пронзительно глянула на нее.
– Что ты хочешь этим сказать? – прошептала Лауга.
Агнес сделала глубокий вдох.
– Нарезанный мох сварите в кипящей воде. Варить надо долго, очень долго. Когда варево остынет, оно превратится в серый студень. Вкус у него отвратительный, но он может остановить кровотечение в легких.
На миг воцарилась тишина – Маргрьет и Лауга неотрывно смотрели на Агнес.
Стейна вновь присела на кровать.
– Тебя научил этому Натан Кетильссон? – тихо спросила она.
– Говорят, это помогает, – отозвалась Агнес. – Я могу сама сварить – хотите?
Маргрьет медленно вытерла рот уголком фартука и кивнула.
– Свари, – сказала она.
Мгновение Агнес колебалась, затем развернулась и стремительно вышла в коридор.
– Мама, – сказала Лауга, – я не думаю, что тебе стоит принимать из ее рук…
– Довольно, Лауга, – прервала ее Маргрьет. – Довольно.
Преподобный все не едет. Зато пришла зима. Ветер, швыряющий в кровлю дома горсти снега, прогнал осень, воздух стал сухим и хрустким, точно лист бумаги. Каждый мой выдох облачком повисает у губ, точно призрак, и туманы, спускаясь с гор, застилают пеленой долину. Наступает тьма; она угнездилась в этих местах, точно черный кровоподтек на теле земли, но преподобного все нет.
Отчего он не приезжает?
Соль в воздухе. Ветер поднялся во тьме, и черный песок впивается в кожу. Спуск. Стылая дорога вниз, к еще более стылой воде. Соль в воздухе.
Что я поведала бы Тоути?
Преподобный, сказала бы я, на исходе того лета Натан стал все чаще покидать Идлугастадир и всякий раз, вернувшись, казался мне все более чужим. Улучив минуту, когда я была одна в молочне, он отнимал у меня проволочную щетку, затем привлекал меня к себе, но лишь затем, чтобы спросить: согревала ли я постель Даниэля, пока он, Натан, зарабатывал на пропитание, изгоняя смерть из нутра своих соотечественников. Он даже заявил, будто бы я влюбилась в Фридрика! В этого настырного и драчливого щенка, от которого вечно несло немытой шерстью. Обвинения Натана казались мне смешными, нелепыми. Неужели он не понимает, как я истосковалась по нему? Что он совсем не такой, как все другие мужчины?
Я представляю, как лицо Тоути заливается стыдливым румянцем. Представляю, как он украдкой вытирает о брюки свои вспотевшие ладони. Как медленно кивает. Как зыбкие блики свечи, горящей в бадстове, пляшут на его лице, когда он не сводит с меня широко раскрытых глаз.
Преподобный, я говорила Натану, что Даниэль для меня ничего не значит. Что Фридрик без ума от Сигги. Я твоя, говорила я Натану, и буду твоей до тех пор, пока ты этого желаешь, я и женой твоей стала бы, если б только ты захотел.
Такие вот приступы дурного настроения все больше отдаляли его от меня. Я приходила в мастерскую и видела, что Натан разливает по меркам отвары, снимает мутную пену с воды, в которой кипят корешки. Я предлагала помочь ему, как помогала прежде, когда только появилась здесь. Он гнал меня прочь. Говорил, что я ему не нужна. Что он имел в виду – что не нуждается в моей помощи или просто не желает меня видеть? Он решительно толкал меня к двери:
– Уходи. Ты мне здесь не нужна. Я занят.
Порой я уходила в кладовку и била коровьим мослом по сушеным рыбьим головам. Просто чтобы выместить злость. Он тебя больше не любит, говорила я себе. Да и любил ли когда-нибудь?
И однако же по-прежнему случалось, что Натан заставал меня одну на берегу, когда я собирала гагачий пух. Тогда он овладевал мною прямо у птичьих гнезд, пальцы его путались в моих волосах, на лице застывало безнадежное отчаяние утопающего. Натан нуждался во мне, как нуждаются в глотке воздуха. Я читала это в его взгляде, в том, как он цеплялся за мое тело, точно за спасательный буй.
Преподобный Тоути, придвиньте поближе табурет. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле.
Прислуживать Натану сделалось нестерпимо трудно. Ночью я была его любовницей, и наше дыхание сливалось в неистовом ритме страсти. Потом наступал день, и я становилась служанкой по имени Агнес. Даже не экономкой! И сухие приказания Натана все чаще походили на попреки.
«Загони овец с пастбища. Подои корову. Подои овец. Принеси воды. Покорми Тоуранну. Успокой ее, чтоб не плакала. Успокой, я сказал! Котел все равно грязный. Попроси Сиггу, пусть покажет, как правильно мыть мерные стаканы».
Преподобный, вы понимаете, о чем я говорю? Или для вас любовь – величина постоянная? Вы когда-нибудь любили женщину? Знаете, что такое любить человека и в то же время ненавидеть за ту власть, которую он над тобой имеет?
Меня бесило, что Натан весь день напролет не шел у меня из головы – до тех пор, пока мне не становилось муторно от собственных мыслей. Бесила тошнота, подступавшая к горлу от одного предположения, что он меня больше не любит. Бесило от того, как я вновь и вновь пробиралась по каменистой тропе в мастерскую, чтобы принести Натану то, в чем он больше не нуждался.
И только разговор с Даниэлем показал мне, как все это выглядит со стороны.
Даниэль подстерег меня однажды днем, когда Натана не было дома. Я вышла из мастерской, заперла дверь – и увидела, что он стоит на берегу, в одной руке коса, в другой шляпа.
– Что ты там делала? – спросил он.
– Тебя не касается.
– Нам не разрешено ходить в мастерскую, – сказал Даниэль. – Откуда у тебя ключ?
– Натан дал. Он мне доверяет.
– Ну да, конечно, – проговорил Даниэль. – Я и забыл, что вы, служанки, здесь на особом счету.
– Что ты хочешь этим сказать?
Даниэль рассмеялся.
– Где мои башмаки из тюленьей кожи? Где моя новая одежда?
Приступы щедрости у Натана случались, и нередко.
– Просто ты здесь совсем недавно, – заметила я Даниэлю. – Вот увидишь, когда Натан вернется, ты тоже получишь подарок.
– Мне от Натана ничего не нужно.
– Правда? Ты только что сетовал, что служанки на особом счету.
– Мне нужно кое-что от тебя.
Голос Даниэля разительно переменился. Теперь он звучал гораздо мягче:
– Агнес, ты же знаешь, что я тебя обожаю.
– Обожаешь? – рассмеялась я. – Да ты в Гейтаскарде всем уши прожужжал о том, что мы помолвлены!
– Я на это надеялся, Агнес. И теперь надеюсь. Ты не вечно будешь с Натаном.
От этих слов я похолодела. На миг перед глазами все поплыло.
– Что ты сказал?
– Не думай, будто нам ничего не известно. Сигга, Фридрик, я – мы все знаем. Весь Гейтаскард знал, что ты по ночам тайком бегаешь в кладовую, – ухмыльнулся Даниэль.
– Если бы ты меньше времени уделял сплетням, а больше работе, это бы всем нам пошло на пользу. Так что ступай, Даниэль, занимайся тем, ради чего тебя наняли.
Лицо Даниэля исказилось от бешенства:
– Думаешь, ты здесь лучше всех, потому что хозяин хутора соизволил пустить тебя в свою постель?
– Не будь похабником.
– А ты не будь наивной дурочкой. Сколько бы ты ни изображала жену хозяина, замужней женщиной ты от этого не станешь.
– Я его экономка и ничего более.
Даниэль расхохотался.
– Ну да, помогаешь простыни экономить.
И тут у меня лопнуло терпение. Я выхватила у Даниэля косу и ткнула рукоятью его в грудь.
– А ты, Даниэль, кто такой? Слуга, который заглазно чернит своего хозяина? Мужчина, поливающий грязью женщину, которую якобы мечтает назвать своей? Ты мне противен.
Рассказала бы я об этом случае преподобному, если бы он сейчас оказался здесь? Быть может, он уже сделал собственные выводы. Быть может, именно поэтому он и не приезжает.
Я могла бы рассказать ему о другом дне и о волнах смерти. Сигга отправила меня к морю – собрать камней для починки очага, и вот тогда, бродя по берегу, я услышала громкий плеск весел о воду. День выдался безветренный, из тех дней, когда весь мир как будто задерживает дыхание. Море было спокойно.
Натан и Даниэль отправились порыбачить, но сейчас еще утро, возвращаться им рано. Я разглядела, что Даниэль гребет, а Натан сидит в лодке прямо и совершенно неподвижно. Когда они подплыли ближе, я увидела, что лицо Натана стянуто мрачной маской, а руки с такой силой вцепились в борта, словно он борется с позывами рвоты.
Едва они достигли линии прибоя, Натан выскочил из лодки и зашагал по мелководью. Он так загребал сапогами, что мелкая галька разлеталась из-под ног во все стороны.
К тому времени я уже достаточно долго прожила с Натаном, чтобы знать: в таком мрачном настроении его ничем нельзя умиротворить. А потому, когда он, насквозь промокший, топал по песку, я и не вздумала его окликнуть. Проходя мимо, он даже не глянул на меня, но направился прямиком к дому.
Когда Даниэль выволок лодку на берег, я подошла к нему, чтобы спросить, что стряслось. Они что, поссорились? Потеряли сеть?
Даниэля, судя по всему, дурное настроение хозяина изрядно забавляло. Он принялся вытаскивать сети из лодки и несколько сетей вручил мне, чтобы я отнесла их в Идлугастадир.
– Натан думает, что мы угодили под волны смерти, – сказал он. Борода его побелела от осевшей соли. Он прибавил, мол, понятия не имел, что Натан такой суевер.
Они тащили сеть, когда вдруг, словно из ниоткуда, ударили три большие волны. По словам Даниэля, им крупно повезло, что лодка сразу не опрокинулась. Он изо всех сил вцепился в линь и сумел не дать лодке перевернуться, но, подняв взгляд, увидел, что Натан побелел как смерть. Когда Даниэль спросил, в чем дело, Натан уставился на него, словно умалишенный. «Даниэль, – сказал он, – это были волны смерти».
Тогда Даниэль заявил, что волны смерти – это бабьи сказки и такому ученому человеку, как его хозяин, не пристало верить в подобную чепуху. После этих слов, сказал Даниэль, Натан зарычал, схватил его за рукав и крикнул, что у него бы живо отпала охота смеяться, если б он сейчас камнем шел ко дну.
Даниэль оттолкнул его руку и предложил вычерпать воду, которую эти волны наплескали в лодку, но Натан на это лишь ответил: «Черт бы тебя взял, ты и вправду думаешь, что я стану сидеть тут и ждать, когда следующая волна меня утопит? Мы возвращаемся».
Даниэль подумал, что с Натана в таком настроении вполне станется утопить его в море, только бы доказать справедливость своих суеверий, – а потому послушно погреб к берегу.
Выслушав этот рассказ до конца, я решила поговорить с Натаном, хотя Даниэль и предостерегал, что сейчас его лучше не трогать. Натан, сказал он, вбил себе в голову, будто обречен злой участи, и надо бы дать ему время остыть. Тем не менее я последовала в дом за Натаном, а когда пришла, он кричал на Сиггу. Она, видите ли, попыталась снять с него мокрую одежду и нечаянно шлепнула промокшей рубашкой по лицу.
Видя, что Сигга сама не своя от ругани Натана, я велела ей уйти и принялась сама его раздевать, но он оттолкнул меня и закричал Сигге, чтобы она вернулась. «Ты забываешься, Агнес», – бросил он.
Позднее в тот же день я пошла вслед за Натаном в мастерскую, прихватив незажженную лампу, которая, думалось мне, могла ему пригодиться. Дни к этому времени становились все короче, и свет стремительно убывал. Море было неспокойно.
Принявшись отпирать дверь мастерской, Натан обнаружил, что она уже открыта. Он резко спросил, была ли я здесь без его разрешения, и я ответила: ему прекрасно известно, что, пока он был на рыбалке, я заходила в мастерскую, чтобы подбросить топлива в очаг. Должно быть, я просто забыла запереть дверь, но Натан стал обвинять меня в том, что я копалась в его вещах, искала его деньги, что я обманывала его.
Обманывала его! Тут уж я не сумела смолчать и напомнила Натану, что это он ложью заманил меня на свой уединенный хутор. Он сказал, что я буду его экономкой, а на самом деле все это время должность экономки занимала Сигга. Я спросила, платит ли он ей больше, чем мне, и с какой вообще стати он меня обманывал, если знал, что ему достаточно пальцем поманить и я прибегу?
Натан стал рыться в вещах, проверять, все ли на месте. Меня глубоко уязвило, что он считает меня способной присвоить хоть что-то из его имущества. Да на кой мне сдались его деньги, лекарства и все прочее, что бы он тут ни прятал?
Я так и осталась в мастерской. Натан не смог меня выставить. Убедившись, что ничего не пропало, он достал несколько тюленьих шкур, которые нужно было просолить, и больше не пожелал сказать мне ни слова. Однако уже смеркалось, небо снаружи было тускло-серым, света для работы не хватало. Я молча сидела у очага и наблюдала за Натаном, ожидая, что он обернется, обнимет меня и извинится.
Наверное, Натан забыл, что я здесь, или же ему это было безразлично, но некоторое время спустя он воткнул нож в земляной пол и вытер руки ветошью. Затем он вышел из мастерской и встал на самом краю скального выступа, неотрывно глядя на море. Я последовала за ним.
Стремясь его утешить, я обвила руками его талию и попросила прощения, что так вышло.
Натан не отстранился, не высвободился из моих объятий, но я почувствовала, как от моего прикосновения он весь напрягся. Я уткнулась лицом в засаленные складки его рубахи и поцеловала его спину.
– Не надо, – пробормотал Натан. Лицо его все так же было обращено к морю. Я крепче обхватила его руками и прижалась к нему. – Агнес, прекрати! – Он схватил меня за руки и оттолкнул от себя. На скулах его заходили желваки.
Налетел ветер. Он сорвал с головы Натана шляпу и унес в море.
Я спросила, что случилось. Спросила, не угрожал ли ему кто-нибудь, и он рассмеялся. Глаза его были холодны, точно камни. Волосы, которые больше не прикрывала шляпа, развевались вокруг головы, как темные водоросли.
Натан ответил, что видит повсюду приметы близкой смерти.
В тишине, которая последовала за этими словами, я сделала глубокий вдох.
– Натан, ты не умрешь.
– Тогда объясни, откуда взялись волны смерти? – Голос его звучал тихо и напряженно. – Объясни предчувствия. Сны, которые мне снились.
– Натан, ты же сам смеешься над этими снами. – Я изо всех сил старалась сохранить спокойствие. – Ты рассказываешь о них всем подряд.
– Разве я смеюсь, Агнес?
Внезапно Натан шагнул ко мне, схватил за плечи, придвинулся так близко, что мы соприкасались лбами.
– Каждую ночь, – прошипел он, – мне снится смерть. Я вижу ее повсюду. Я вижу повсюду кровь.
– Ты свежевал животных и…
Пальцы Натана сильнее впились в мои плечи.
– Я вижу кровь на земле – темные вязкие лужи крови. – Он облизал губы. – Я чую вкус крови, Агнес. И просыпаюсь с привкусом крови во рту.
– Ты прикусил язык во сне…
По губам Натана скользнула недобрая усмешка.
– Я видел, как вы с Даниэлем говорили обо мне у лодки.
– Натан, отпусти меня.
Он словно и не услышал.
– Отпусти! – Я резким движением вырвалась из его цепкой хватки. – Слышал бы ты себя! Толкуешь о снах и знамениях, точно старуха.
Было холодно. Огромная черная туча надвинулась с моря, поглощая скудные остатки света. Но даже сейчас в темноте я видела, каким огнем полыхают глаза Натана. Его взгляд пугал меня.
– Агнес, – сказал Натан, – мне снилась ты.
Я не ответила, испытав вдруг жгучее желание вернуться в дом и зажечь масляные лампы. Я отчетливо сознавала, что совсем рядом, в неполных двух шагах от наших ног, шумит море.
– Мне снилось, будто я лежу в постели и вижу, как по стенам текут ручейки крови. Кровь капает мне на голову, и эти капли обжигают кожу.
Натан сделал шаг ко мне.
– Будто я привязан к кровати, и кровь поднимается все выше, пока наконец не накрывает меня с головой. Затем вдруг она исчезает. Я снова могу двигаться; я сажусь в кровати, оглядываюсь по сторонам и вижу, что комната пуста.
Натан с силой сжал мою руку, и я ощутила, как его ноготь больно впился в мякоть ладони.
– Но потом я вижу тебя. Я иду к тебе. И вижу, подойдя ближе, что твои волосы прибиты гвоздями к стене.
В это мгновение сильный порыв ветра сдернул с моей головы чепчик, и освобожденные волосы рассыпались по плечам. Я не заплетала кос, и длинные пряди тут же подхватил ветер. Натан тотчас вскинул руку и, ухватив пучок волос, рывком подтянул меня к себе.
– Натан! Мне же больно!
Он словно и не услышал – его внимание было привлечено другим.
– Что это? – прошептал он.
Ветер внезапно донес до на нас густой гнилостный смрад.
– Гниющие водоросли. Или дохлый тюлень. Отпусти мои волосы.
– Тсс!
Но я была уже по горло сыта его выходками.
– Слушай, Натан, никто за тобой не охотится. Не такая уж ты важная персона.
С этими словами я выдернула свои волосы из его цепких пальцев и уже повернулась, чтобы уйти в дом, но тут Натан схватил меня за рукав сорочки, с силой развернул к себе и наотмашь ударил по лицу.
Я задохнулась, и рука моя взлетела к лицу, но Натан перехватил ее и, стиснув мои пальцы, с силой дернул меня к себе. Даже на холодном ветру я чувствовала, как приливает к месту удара жаркая кровь.
– Не смей говорить со мной в таком тоне, – прошипел Натан, уткнувшись губами в мое ухо. Голос его был тих и безжалостен. – Я уже жалею, что позвал тебя сюда.
Еще секунду он сжимал мою руку, сдавливая пальцы, пока я не закричала от боли, а потом разжал хватку и оттолкнул меня прочь.
Шатаясь, я побрела в полумраке по камням, затем вверх по холму – туда, где стоял дом. Ноги мои путались в юбках, ветер невыносимо свистел в ушах. Я плакала, но даже сквозь завывания ветра и свои всхлипы я различила, как Натан, оставшийся стоять над морем, прокричал мне вслед:
– Знай свое место, Агнес!
В тот вечер я ждала возвращения Натана и не гасила лампу, теша себя надеждой, что, когда он вернется, мы помиримся. Однако время плелось, точно закованный в кандалы преступник, наступила и миновала полночь, а Натан все не приходил. Сигга и Даниэль давно уже разделись и заснули в своих постелях, но я все так же бодрствовала и не сводила глаз с язычка пламени, плясавшего на фитиле лампы. Сердце мое билось тяжело и гулко. Я ждала какой-то беды.
Несколько раз мне казалось, что я слышу во дворе шаги, но, распахнув дверь, всякий раз обнаруживала за ней только темноту и грохот волн, непрестанно бьющих о берег. Лег плотный туман, и я не могла разглядеть, горит ли в мастерской Натана лампа. Я возвращалась в свою остывающую постель и продолжала ждать.
Должно быть, я задремала. Проснувшись, я обнаружила, что в комнате темно, поскольку лампа погасла; однако я поняла, что Натан еще не вернулся. Затем в коридоре разнесся знакомый звук его шагов – как видно, меня и разбудило звяканье засова на входной двери. Я затаила дыхание, надеясь, что сейчас его теплые руки нашарят в темноте и отдернут мое одеяло, что я почувствую тяжесть его тела, когда он опустится на кровать рядом со мной, что услышу его голос, нашептывающий мне на ухо извинения.
Однако Натан не подошел к моей кровати. Из-под опущенных век я следила за тем, как он уселся на табурет и принялся снимать сапоги. За сапогами последовали штаны, а затем он медленно стянул через голову рубаху. Скоро вся его одежда валялась на полу. Натан выпрямился, и на мгновение мне показалось, что он сейчас двинется в мою сторону… но затем он сделал два бесшумных шага к окну, и почти в полной темноте я разглядела, как Натан откидывает одеяла на кровати Сигги.
Тогда-то я поняла, что имела в виду Роуса, когда назвала нас его шлюхами. Я закаменела, всеми силами стараясь не крикнуть, не выдать себя, когда услыхала шепот Натана и ответное сонное бормотание Сигги. Я впилась зубами в мякоть ладони, борясь с подкатившей к горлу дурнотой. Сердце мое перестало биться, точно обратилось в камень, и я задыхалась от тяжести этого камня.
Я слышала, как Натан глухо постанывает, двигаясь в ней. Я закрыла глаза и задержала дыхание, зная, что, если позволю себе выдохнуть, из груди неизбежно вырвется дикий вопль; я терзала ногтями свое плечо, пока не ощутила под пальцами липкую влагу и не поняла, что это кровь.
Я дождалась, пока Натан не выберется из постели Сигги и не уйдет в свою собственную. Я дождалась, пока дыхание Сигги не станет ровным и сонным, а Натан не начнет похрапывать. Только убедившись, что оба они крепко спят, я села на кровати и бездумно уставилась на свое одеяло. Горло мое стискивала боль, но не только – было и нечто другое, обжигающе твердое, черное, как смола. Я не позволяла себе плакать. Гнев захлестывал меня, растекаясь по всему телу, пока не пропитал всю до кончиков ногтей. Я могла бы втихомолку собрать свои пожитки и уйти до света – но куда бы я пошла? Я знала только долину Ватнсдалюр, ее каменистые осыпи, снежные главы гор, белое от лебедей озеро и морщинистый дерн по берегам реки. И воронов, безостановочно кружащих в небе воронов. Идлугастадир совсем иной. Здесь у меня не было друзей, и я не понимала этой местности. Кроме торчащих скальных клыков, что вонзались в безупречную линию слияния моря и неба, здесь не было ничего и никого. И некуда идти.
Глава 11
Апреля 19-го числа перед судом вновь предстал Бьярни Сигюрдссон, брат Фридрика из Катадалюра, десятилетний мальчик, с виду смышленый и развитой. Долгими расспросами от него не удалось добиться никаких сведений, однако в конце концов он сообщил, что Фридрик прошлой осенью, когда его отец отсутствовал дома, перерезал горло двум молочным овцам и одному ягненку. Бьярни Сигюрдссон припомнил, что овцы эти принадлежали Натану. Мать, прибавил он, в свое время велела ему говорить, будто он ничего не знает об этом случае, а также запретила ему упоминать его, буде дело дойдет до суда. Как мы затем ни пытались, и строгостью, и лаской, добиться от него иных сведений, мы в этом не преуспели.
Неизвестный писарь,
1828 год
МАРГРЬЕТ РАЗБУДИЛО ВСХЛИПЫВАНЬЕ. Она вгляделась в темноту, туда, где стояли кровати дочерей. Девочки спали.
Агнес.
Маргрьет опустила голову на подушку, рядом с головой спящего мужа, и прислушалась. Да, это плакала убийца, верней – тоненько, сдавленно хныкала, и от этого звука у Маргрьет перехватило горло. Может, подойти к ней? А если это коварная уловка? Маргрьет пожалела, что в темноте ничего не разглядеть. Хныканье стихло, затем возобновилось. Как будто плакал ребенок.
Маргрьет осторожно выбралась из постели, ощупью добрела до дверного проема и двинулась по коридору на отсвет тлеющих в кухонном очаге углей. Взяв из подсвечника свечу, она раздула угли и зажгла от пламени фитиль. Прежде чем покинуть теплую кухню, Маргрьет помедлила. Жалобный плач был слышен все так же отчетливо. Маргрьет вдруг осознала, что ей страшно, но почему, отчего – не понять.
Отблески пламени плясали на стенах и потолочных балках бадстовы. Все спали, с головой закутавшись в одеяла, чтобы уберечься от декабрьского холода, который разукрасил стены инистыми узорами. Маргрьет ладонью прикрыла огонек свечи от сквозняка и медленно направилась к Агнес. Та спала, но глаза ее метались под веками, а одеяла оказались сбиты до самого изножья. Она дрожала всем телом, прижав локти к бокам, стиснув кулаки, точно собиралась с кем-то драться.
– Агнес!
Женщина застонала. Маргрьет свободной рукой взялась за одеяла, принялась укрывать ими спящую, но, когда натянула одеяла до груди, Агнес вдруг стиснула ее запястье.
Маргрьет хотела вскрикнуть, но не сумела. И окаменела, потрясенная тем, с какой неожиданной силой сжимали ее руку ледяные пальцы Агнес.
– Что тебе нужно? – В ее голосе сквозила та же враждебность, что и в цепкой хватке пальцев.
– Ничего. Ты дрожала от холода.
– Ты следила за мной.
Маргрьет закашлялась и ощутила во рту вкус крови. Она проглотила кровяной сгусток, не желая отставлять свечу.
– Я за тобой не следила. Ты разбудила меня. Ты плакала.
Мгновение Агнес пристально вглядывалась в Маргрьет, затем уронила руку. Провела ладонью по лицу и придирчиво осмотрела влажные от слез пальцы.
– Я правда плакала?
– Да, – кивнула Маргрьет, – и разбудила меня.
– Это во сне. – Агнес вперила отрешенный взгляд в потолочные балки.
Маргрьет опять закашлялась, но на сей раз не успела прикрыть ладонью рот. Обе женщины разом глянули на одеяла и увидели крохотное пятнышко крови. Агнес перевела взгляд на Маргрьет.
– Хочешь присесть? – Она подтянула ноги, и Маргрьет опустилась на краешек кровати.
– Две обреченные, – пробормотала Агнес.
В иное время Маргрьет почувствовала бы себя оскорбленной, но сейчас, сидя напротив Агнес, она понимала, что это правда.
– Йоун тревожится за меня, – призналась Маргрьет. – Он ничего не говорит, но, когда столько лет живешь бок о бок, и говорить-то не обязательно.
– Ты говорила ему про студень из исландского мха?
– Он знает, что ты разбираешься в травах. Он слышал о родах Роуслин.
Агнес задумалась.
– Так он не против?
Маргрьет покачала головой.
– Ты не думай, что он плохой человек, мой Йоун. – Она опустила глаза, разглядывая половицы. – Он изо всех сил старается жить мирно, по-христиански… как и все мы. Никогда в жизни он бы никому не пожелал зла, но только с тех пор, как ты появилась здесь… – Маргрьет открыла рот, собираясь что-то добавить, но удержалась. – Он думает прежде всего о долге, вот и все. Однако мы постараемся продержаться подольше… насколько сумеем.
– Но он знает, что твое состояние ухудшается?
Маргрьет ощутила тяжесть в легких и пожала плечами.
– Что тебе снилось? – спросила она после минутного молчания.
Агнес натянула одеяло до подбородка:
– Катадалюр.
– Хутор Фридрика?
Агнес кивнула.
– Это был кошмар?
Взгляд женщины скользнул к пятнышку крови на одеяле. Казалось, Агнес внимательно изучает его.
– Я жила там в дни перед смертью Натана.
– Разве ты жила не в Идлугастадире? – Маргрьет поежилась, и Агнес, сдернув с изголовья кровати свой платок, подала его собеседнице.
– В Идлугастадире я жила, пока Натан не выставил меня за дверь. Мне больше некуда было податься, и я попросила приюта у родителей Фридрика, хозяев Катадалюра.
– Ты говорила, что между тобой и Фридриком не было приязни.
– И это правда. – Агнес подняла взгляд на Маргрьет. – Отчего ты не спрашиваешь меня про убийство?
Вопрос застал Маргрьет врасплох.
– Я думала, ты говоришь об этом только с преподобным.
Агнес покачала головой.
У Маргрьет вдруг пересохло во рту. Она оглянулась на спящего мужа. Йоун мирно похрапывал.
– Может, пойдем на кухню? – спросила Маргрьет. – Мне нужно погреться, не то, чего доброго, к утру промерзну насмерть.
Агнес сидела на табурете, принесенном из молочни, и глядела, как Маргрьет разгребает угли в очаге, подкармливая редкие язычки пламени кусочками кизяка. Она кашляла от дыма и вытирала слезящиеся глаза.
– Пить хочешь?
Агнес кивнула, и Маргрьет подвесила на крюк котелок с молоком. Затем она опустилась на табурет рядом с Агнес, и они вдвоем смотрели, как огонь в очаге постепенно набирает силу.
– Моя мать никогда не допускала, чтобы в очаге ее дома погас огонь, – сказала Маргрьет. И почувствовала, что Агнес повернулась, чтобы взглянуть на нее, однако не стала встречаться с ней взглядом. – Мать верила, что, покуда в очаге горит огонь, Сатана не может проникнуть в дом. Даже в час ведьмовства.
Агнес долго молчала.
– А ты во что веришь? – спросила она наконец.
Маргрьет протянула руки к очагу.
– Я считаю, что огонь незаменим, когда нужно согреться.
Агнес кивнула. В очаге перед ними трещало и вспыхивало пламя.
– Когда я работала на хуторе Габл, в разгар зимы у нас погас огонь в очаге. То была моя вина. Хутор занесло снегом, дети голодали, и я так выбилась из сил, пытаясь покормить самого младшего сывороткой из полотняной соски, что забыла заглянуть в кухню. Три дня мы прожили без света, без огня, пока снегопад не унялся и до нас не добралась подмога с соседнего хутора. Я думала, соседи найдут нас замерзшими насмерть в постелях.
– Такое бывает, – согласилась Маргрьет. – Для тела есть множество способов умереть.
Женщины примолкли. Молоко начало закипать, и Маргрьет поднялась, чтобы разлить его по кружкам. Она протянула дымящуюся кружку Агнес и снова села.
– Повезло вам, что у вас вдоволь припасов, – сказала Агнес.
– В этом году у нас оказалось немного свободных денег, – отозвалась Маргрьет. – Сислуманн Блёндаль выплатил нам компенсацию.
Она тут же пожалела о сказанном, но Агнес ее слова как будто не задели.
– Об этом я не подумала, – сказала она наконец.
– Заметь, довольно скромную, – добавила Маргрьет.
– Ну да, зачем же на меня тратиться, – съязвила Агнес. Маргрьет искоса глянула на нее, прихлебывая молоко и чувствуя, как горячее питье заполняет желудок и прогревает изнутри тело.
– Преподобный что-то давно не приезжал, – сказала она вслух, меняя тему.
– Да.
Лицо Агнес припухло от сна, и Маргрьет вдруг ощутила безотчетное желание обнять ее за плечи. Это потому что она похожа на маленькую девочку, сказала себе Маргрьет и сильнее сжала в ладонях кружку.
– Я совсем не хотела тебя разбудить, – проговорила Агнес.
Маргрьет пожала плечами.
– Я часто просыпаюсь по ночам. Когда дочери были еще маленькие, я обычно вставала ночью проверить, дышат ли они.
– Ты поэтому сейчас не спишь?
Маргрьет глянула на Агнес:
– Нет. Не поэтому.
– Прости, что тебе пришлось за них бояться, – сказала Агнес. – Я имею в виду – когда меня поселили здесь.
– Матери всегда боятся за своих детей, – сказала Маргрьет.
– Я никогда не была матерью.
– Да, но у тебя же есть мать.
Агнес покачала головой.
– Моя мать бросила меня, когда я была совсем маленькой. С тех пор у меня нет матери.
– Это не важно, – после паузы проговорила Маргрьет. – Где бы она сейчас ни была, она думает о тебе.
– Сомневаюсь.
Маргрьет помолчала.
– Матери всегда думают о своих детях, – повторила она, чуть переделав собственную фразу. – Твоя мать, мать Фридрика, мать Сигги…
– Мать Сигги умерла, – отчеканила Агнес. – А мать Фридрика собираются отправить в Копенгаген.
– За что?
Агнес искоса, настороженно глянула на Маргрьет.
– Тоурбьёрг догадывалась, что задумал Фридрик. Ей было известно об овцах, которых он украл. Она лгала суду.
– Понимаю, – сказала Маргрьет. И отхлебнула молока.
– Тоурбьёрг спасла мне жизнь, – после небольшой паузы добавила Агнес. – После того как Натан прогнал меня с хутора, она обнаружила меня на пороге своего дома. Я умерла бы, если бы она не впустила меня в дом и не позволила остаться.
Маргрьет кивнула.
– Во всяком человеке найдется что-то хорошее.
– Когда Тоурбьёрг была молода и служила по найму, она подожгла кровать своей хозяйки и убила топором хозяйского пса. На суде все это припомнили.
– Силы небесные!
– Мне это нисколько не помогло, – быстро прибавила Агнес. – Тоурбьёрг сказала, что мы с ней друзья. Она сообщила судьям, что мы с Натаном ссорились и что я спрашивала у нее совета.
– Но ты же не спрашивала?
– Тоурбьёрг не советовала мне поджечь Идлугастадир, как то утверждали судьи. Я пришла в Катадалюр не затем, чтобы попросить Тоурбьёрг о пособничестве или вступить в заговор с Фридриком. Судьи, однако, выставили все так, будто я отправилась в Катадалюр с определенной целью. Составить план убийства. – Агнес прихлебнула из кружки молока, поперхнулась, однако проглотила. – Я же отправилась в Катадалюр, потому что Натан прогнал меня из Идлугастадира и мне больше некуда было податься.
Маргрьет молчала. Неотрывно глядя в огонь, она мысленно представляла, как Агнес глубокой ночью крадется по Корнсау, зажигает факел от кухонного очага и, пока все спят, поджигает дом. Почует ли она, Маргрьет, запах дыма, успеет ли проснуться?
– Агнес, ведь это Фридрик сжег Идлугастадир? – Маргрьет постаралась не выдать голосом снедавшей ее тревоги.
– На суде я сказала, что огонь распространился из кухни, – твердо проговорила Агнес. – Я сказала, что Натан оставил на огне котел с травами. Оттого и начался пожар.
С минуту Маргрьет молчала.
– Я слыхала, что хутор поджег Фридрик.
– Это не так, – сказала Агнес.
Маргрьет снова закашлялась и сплюнула в очаг. Вязкая влага запузырилась на раскаленных углях.
– Если ты защищаешь своего дружка…
– Фридрик мне не друг! – перебила Агнес. И, помотав головой, поставила кружку с остатками молока на пол. – Он мне не друг.
– Я думала, что вы много времени проводили вдвоем, – пояснила Маргрьет.
Агнес хмуро уставилась на нее, затем снова перевела взгляд на пламя в очаге.
– Нет. Просто в Идлугастадире… – Она вздохнула. – Натана часто не было дома. Одиночество… – Агнес запнулась, подыскивая слова. – Одиночество, скаля зубы, вечно кралось за нами по пятам. Приходилось принимать то общество, какое было.
– Значит, Фридрик бывал в Идлугастадире.
Агнес кивнула.
– Катадалюр, где он жил, неподалеку. У Фридрика были шашни с Сиггой.
– Я наслышана о Сигге. – Маргрьет поднялась, чтобы подбросить в огонь кизяку.
– Людям она нравится. Хорошенькая.
– И, как я слыхала, простовата.
Агнес окинула Маргрьет настороженным взглядом.
– В общем, да, но Фридрик считал иначе. Всякий раз, когда Натан был в отъезде, Фридрик являлся на хутор по какому-нибудь пустячному делу или с выдуманным посланием от своих родителей либо священника, а потом притворялся, будто голоден или хочет пить. Сигга приносила молока или что-нибудь перекусить, они смеялись и болтали, и к осени стало обычным делом, когда я, войдя в бадстову, видела, как они сидят рядышком на кровати Сигги и воркуют, точно пара голубков.
– Зимой нелегко переносить одиночество, – согласилась Маргрьет.
Агнес кивнула.
– В Идлугастадире это еще тяжелее. Совсем не так, как здесь, в долине. Дни ползли, один тоскливее другого, а у меня не было ни друзей, ни добрых соседей. Только Сигга, Даниэль – работник, которого Натан нанял на время в Гейтаскарде, – и иногда Фридрик.
– В темное время особенно остро чувствуешь одиночество, – задумчиво проговорила Маргрьет. – Нехорошо, когда человек вынужден слишком долго оставаться наедине с самим собой.
Она налила Агнес еще молока.
– Натан терпеть не мог зиму. За всю свою жизнь он так и не привык к темноте.
– Если так – удивительно, что он купил именно Идлугастадир, а не какой-нибудь другой хутор поближе к людям.
– Он часто уезжал из дома, – пояснила Агнес. – По большей части – в Гейтаскард. Говорил, что по делам, но, я думаю, скорее для того, чтобы встретиться с друзьями. Или оказаться подальше от меня, – прибавила она. – Будь он дома, все было бы не так плохо. Мы нуждались в нем. И тем не менее каждый месяц он уезжал на все более долгий срок, а когда возвращался, казалось, был вовсе не рад видеть нас. Не рад был даже Тоуранне, собственной дочери. Он оставлял ее на нас.
– Думаю, с его стороны было жестокосердно попрекать вас тем, что принимаете гостя, – ведь вам троим было так тоскливо, вы оказались, по сути, заперты на хуторе наедине друг с другом.
Слабая улыбка мелькнула на лице Агнес.
– Думаю, его злило не то, что мы принимали гостя, а то, что этим гостем был Фридрик.
– Понимаю.
– Дружба Натана с Фридриком и в лучшие времена была еще та. Они всегда относились друг к другу с подозрением. А потом между ними случилась драка. Это произошло той осенью, когда на берег в Хиндисвике выбросило кита.
– Помню этот случай. Мы тогда прикупили китового жира у хуторян с севера долины. Они отправились туда, надеясь чем-нибудь поживиться.
– Для нас это было настоящее везение. В тот год пора сенокоса выдалась дождливой, и мы опасались, что сено сгниет либо сгорит, а тогда весь наш скот падет, и мы к началу весны иссохнем от голода. Когда Натан узнал насчет этого кита, он как раз был дома и тут же отправился прикупить мяса у хозяев прибрежного участка.
Натан отсутствовал весь день и вернулся только вечером. Открыв ему дверь, я увидела, что он весь в грязи. Грязью были покрыты волосы, лицо, на одежде не осталось ни единого чистого места. Я спросила, что случилось, и Натан объяснил, что срезал с кита свою долю мяса, уже купленную и оплаченную, когда появился Фридрик и принялся без зазрения совести хватать мясо. Натан велел ему взять нож и разжиться мясом за собственный счет, а не за чужой, и тогда Фридрик толкнул его на землю и стал избивать. Позднее люди с хутора Стапар, соседнего с Идлугастадиром, поведали мне совсем другую историю. По их словам, Натан закричал на Фридрика и толкнул его в спину, а Фридрик бросился на него и сшиб с ног. Затем он избил Натана и вывалял с головы до ног в грязи. В то время, однако, я знала только, что Натан вернулся домой в ужасном состоянии и в таком же настроении.
– Сочувствую тебе, – пробормотала Маргрьет.
Агнес покачала головой.
– Сигге пришлось гораздо хуже. Занимаясь засолкой китового мяса, я слышала голоса Натана, который отмывался от грязи перед очагом, и Сигги, пытавшейся его успокоить. Натан кричал, что Фридрик рехнулся, что он и до двадцати не доживет, как убьет кого-нибудь. Сигга была по уши влюблена во Фридрика, и речи Натана были ей как острый нож в сердце. Само собой, она ни словом не посмела возразить Натану, но позднее, когда все легли спать, я слышала в темноте, как она плачет.
Маргрьет ничего не сказала. Ей безумно хотелось взглянуть на Агнес, но она опасалась, что, если повернет голову, та прервет рассказ, и все пойдет как прежде. Наконец она сказала, тщательно подбирая слова:
– Должно быть, твоя жизнь в Идлугастадире была нелегка.
– После той истории с китом она стала еще хуже. Натан все меньше и меньше бывал дома. Возвращаясь, он часами разглагольствовал, что платит нам с Сиггой жалованье не затем, чтобы мы сидели сложа руки. Ко всему, что бы мы ни делали, он находил повод придраться. Масло слишком мягкое, в бадстове грязно, кто-то побывал в его мастерской и опрокинул колбы. Это при том что ни одна из нас не посмела бы сунуться в мастерскую в его отсутствие. Ветер ли сдвинул с места какую-то вещь или кто-то из нас, затаскивая в дом плавник, взрыл землю во дворе – Натан тотчас обвинял нас в том, что мы перекопали двор, ища припрятанные им деньги. Мы-то и понятия не имели, что он закопал свои сбережения во дворе, покуда он сам об этом не сказал.
А дальше больше. Натан, вернувшись с юга, столкнулся с Фридриком на выходе из Идлугастадира. Вначале все выглядело вполне прилично, но потом я, Сигга и Даниэль услышали, как они, стоя по разные стороны тропы, во все горло кричат друг на друга. Натан грозился поколотить Фридрика, а еще пожаловаться сислуманну, если Фридрик еще раз посмеет хоть ногой ступить на его землю. Они переругивались какое-то время, а затем Фридрик развернулся и отправился домой.
Тем вечером Натан был вне себя от бешенства. Он выволок Сиггу во двор, и я слышала, как он обвиняет ее, она, мол, обманула его доверие и лгала ему. Натан грозился выгнать ее, а Сигга умоляла его сжалиться. Ей некуда пойти. В это время года никто не станет нанимать работницу. Идет снег, она замерзнет до смерти. Наконец Натан понизил голос, и я больше не могла разобрать его слов. Все это продолжалось больше часа, а когда они наконец вернулись в дом, глаза у Сигги были красны от слез, и она сразу отправилась в постель. Тогда Натан велел мне встать и пойти за ним.
Снаружи стояла непроглядная темнота. Натан повел меня на берег моря и там сообщил, что Фридрик просил у него разрешения жениться на Сигге. И прибавил: он, мол, знал, что Сигга за его спиной амурничает с Фридриком, но не думал, что у них дойдет до такого. Он считал, что это лишь праздные заигрывания.
Когда я сказала, что, по моему мнению, это лишь безобидная влюбленность двух невинных детей, Натан от души расхохотался и заявил, что никого из этой парочки он даже с натяжкой не назвал бы невинным. Затем он запустил руку в карман, показал мне три серебряные монеты и пояснил, что мальчишка предложил ему деньги за разрешение жениться на Сигге. Я спросила, зачем же он взял деньги, если явно против этого брака, и Натан рассмеялся – дескать, только болван откажется задарма получить звонкую монету. Потом он спросил, зачем я попустительствовала шашням Фридрика с Сиггой, если знала, что он, Натан, не желает, чтобы этот мальчишка в его отсутствие шлялся в Идлугастадир. Я ответила, что Фридрик мне совсем не нравится, но я привыкла жить на хуторах, где много слуг и всякого другого народа, а в Идлугастадире дни тянутся долго, как нигде.
Агнес допила молоко и выплеснула осадок в огонь. Маргрьет вздрогнула от резкого шипения.
– Я теперь уже не засну, – сказала Агнес.
Маргрьет кивнула.
– Я, пожалуй, тоже. – И, поколебавшись, добавила: – Я не знала, что Фридрик и Сигга были помолвлены.
Агнес издала отрывистый смешок.
– Они так и не поженились, – сказала она. – Хотя Фридрик действительно предлагал Сигге свою руку. Он вернулся на следующий день. Натан уехал в Гейтаскард. Сигга пребывала в унынии и слонялась по дому, точно тень, а когда я поймала ее в кухне и спросила, что сказал ей Натан предыдущей ночью, она залилась слезами и ничего не ответила. Я спросила, говорила ли она Натану, что любит Фридрика, и она помотала головой. Тогда я рассказала про деньги, которые Фридрик дал Натану за согласие на ее брак с ним, и это так потрясло Сиггу, что слезы у нее мгновенно высохли. Она уставилась на меня круглыми глазами и бормотала, что поверить не может, будто Натан согласился на этот брак. Сигге он сказал, что этот человек ей не пара. Она, мол, слишком молода, а кроме того, она – его, Натана, служанка и таковой останется до тех пор, пока он не сочтет нужным ее отпустить.
В тот день Даниэль, увидев в Идлугастадире Фридрика, посоветовал ему драпать, поджав хвост, если хочет дожить до лета, однако Фридрик и бровью не повел, а только спросил меня, где Сигга. Мне не хватило духу последовать за ним в дом и увидеть, что произойдет дальше, а потому я просто ушла на берег и ждала, чем все закончится. Вскорости Фридрик вышел из дома, ведя Сиггу за руку, и сообщил мне и Даниэлю, что они помолвлены.
– И что же ты сделала? – спросила Маргрьет.
Агнес вздохнула.
– А что я могла сделать? Поднялась вверх по склону в дом и налила нам всем по стаканчику бренвина. Фридрик сиял, но Сигга была встревожена. После пары глотков Даниэль принялся распевать песенки в честь молодой пары, а я незаметно выскользнула наружу подышать свежим воздухом и отправилась на берег моря.
В очаге перед ними трещал огонь. Ком горящего кизяка рассыпался, взметнув к самым потолочным балкам сноп искр.
Наконец Агнес вновь подала голос:
– Ты когда-нибудь бывала у моря?
Маргрьет покачала головой и плотнее закуталась в платок.
– В молодости мне довелось какое-то время работать неподалеку от моря. В окрестностях Лангидалюра.
– Близ Ватнснеса море совсем другое. Порой вода во фьорде гладкая и блестящая, словно зеркало. Иногда так и тянет провести по ней языком. Остекленевшая, точно глаз мертвеца, как говаривал Натан. – Агнес придвинулась ближе к огню. – Однажды я видела, как со скрежетом терлись друг о друга два айсберга. Их согнал вместе ветер. Когда айсберги подплыли ближе, я разглядела, что на их уступах темнеет скопившийся плавник, а через некоторое время услышала жуткий треск и увидала, что весь плавник охвачен пламенем.
– Точно в саге, – заметила Маргрьет.
– Да, – согласилась Агнес, – зрелище было сверхъестественное. Я глаз не могла оторвать. Даже когда стемнело, я еще различала далеко в море огненные блики.
Несколько мгновений обе молча смотрели на очаг. Пламя угасало, багровым сиянием заливая лица обеих женщин. Снаружи донесся приглушенный стон, возвещая о том, что зимние ветра задули с новой силой.
– После того как Фридрик сделал предложение Сигге, снег повалил такой, что мог бы засыпать с головой разбойника на большой дороге. О том, чтобы Фридрику уехать домой, не могло быть и речи, и я постелила ему вместе с Даниэлем. После выпитого оба заснули как убитые.
Я не спала. Мысли о Натане и Сигге ворочались в моей голове и отгоняли сон. Я знала, почему Натан ненавидит Фридрика. Не потому, что юнца влекло его богатство, хотя отчасти причина была и в этом. Главным образом дело касалось Сигги. Я пришла к выводу, что Натана влечет к Сигге так же сильно, как воротит от меня.
Вероятно, в конце концов я все же забылась тяжелым сном. Когда я проснулась, в бадстове не было ни души, и снег наконец прекратился. Снаружи все было бело, если не считать маслянисто-серого моря. С ближнего поля доносился какой-то звук, и я, выйдя посмотреть, в чем дело, увидела Фридрика, который пинал ногами дохлую овцу. Так яростно, что меня замутило.
– Что ты делаешь?!
В безветренном воздухе голос мой прозвучал особенно отчетливо и громко. Фридрик меня не услышал. Сопя от натуги, он продолжал пинать труп животного. Из-под его сапог его россыпью взлетал окровавленный снег.
– Фридрик, что ты делаешь?! – снова крикнула я.
Он остановился и обернулся. Затем утер рукавом лицо и двинулся ко мне, загребая сапогами глубокий снег. Когда Фридрик подошел ближе, я увидела, что он вне себя от бешенства.
– Привет, Агнес, – проговорил он, тяжело дыша.
– Зачем ты пинаешь овцу?
Фридрик сопел, переводя дух. Дыхание вырывалось из его рта туманным облачком.
– Она была уже дохлая.
– Но зачем тебе вообще понадобилось ее трогать?
– А какая разница? – Фридрик сощурился, глядя на низкое сумрачное небо. – Думаю, скоро опять пойдет снег. Надо бы поторопиться, чтобы не застрять.
Он шмыгнул носом и вытер его рукавицей. На шерсти остался влажный блестящий след.
– Натан убьет тебя. – Я кивнула на пятно крови и грязи вокруг мертвой овцы. – Ты испортил мясо. И шкуру.
Фридрик расхохотался. Мне до смерти хотелось отвесить ему оплеуху за измывательство над павшей скотиной, но я была ему не указ, и он это отлично знал.
– Агнес, овца была уже дохлая. Она пала сегодня утром. – Фридрик стер со щеки тающее пятнышко окровавленного снега и с усилием выволок ногу из глубокого рыхлого снега, собираясь пройти мимо меня. – Не волнуйся, мясо вполне еще сгодится в пищу.
– Ты его истоптал.
Фридрик закатил глаза.
– Смотри, простудишься до смерти, – бросил он через плечо, пройдя мимо меня. Я смотрела, как снеговые тучи поднимаются над горой, и вдыхала колючий ледяной воздух, покуда не задрожала всем телом от холода.
Вид Фридрика, яростно топчущего сапогами труп овцы, пробудил во мне тревогу. Нечто зловещее было в том, как его ноги, темнея на фоне снежной белизны, стремительно и безжалостно врезались в обмякший труп, да так, что в воздух взлетали кровавые брызги.
Пошел снег. Я повернулась, чтобы вслед за Фридриком зайти в дом, и увидела, что на труп спускается ворон. Птица скорбно каркнула и вонзила клюв во внутренности овцы. Крупные снежинки оседали на черных перьях.
Когда я вошла, Фридрик и Сигга сидели рядышком на ее кровати и перешептывались. Лицо у Сигги было заплаканное.
– Пропали две овцы, – сказала я.
– Ну, одна из них пала. Ты своими глазами видела ее труп. – Фридрик зевнул.
– Та, которую ты пинал, не в счет. Не хватает еще двух овец.
Фридрик недобро ухмыльнулся, и я сразу поняла, что произошло.
– Ты их убил, – всхлипнула Сигга.
Фридрик поднялся с кровати. Подошел ко мне, наклонился так низко, что я уловила запах его пота.
– Агнес, я думаю, тебе не помешает знать, что у нас с Сиггой был сегодня утром долгий разговор. – Голос Фридрика зазвенел от гнева. – Натан с ней переспал.
Я помолчала, дожидаясь, пока смогу заговорить спокойно.
– Об этом я уже знаю.
Сигга разрыдалась.
– Прости, Агнес! Я хотела, я так хотела тебе обо всем рассказать!
Фридрик помедлил, прежде чем продолжить:
– Ты знала?
– Я полагала, что это происходит с ее согласия, – колко ответила я.
– Это было насилие! – Фридрик принялся мерить шагами комнату. Я заметила, что в кулаке он сжимает ночную сорочку из зеленого шелка, которую Натан подарил Сигге. – Я убью его!
Я завела глаза к потолку.
– Валяй, действуй. Можно подумать, это теперь хоть что-то исправит. – Я повернулась к Сигге: – Он принуждал тебя?
– Ясное дело, принуждал! – Фридрик снова уселся рядом с Сиггой и стукнул кулаком по тюфяку. Сигга вздрогнула.
– Я не знаю, – прошептала она.
Я мыслями вернулась в ту ночь, когда прислушивалась к звукам соития. В ночь того дня, когда Натан встретился с волнами смерти. Учащенное дыхание. Быстрый, едва слышный стон. И никакого шума сопротивления.
– Это против воли Господней! – заявил Фридрик.
Я, не выдержав, рассмеялась.
– Не думаю, чтобы в этом доме хоть что-то происходило по воле Господней.
На лице Сигги отразился испуг.
– Агнес! Я тебя очень огорчила?
– Да с какой же стати мне огорчаться? – Мой голос был безмятежен, точно море в полный штиль.
Фридрик с ненавистью воззрился на злосчастную сорочку.
– Натан – просто ублюдок! Я убью его.
– Я не хочу, чтобы Натан умер! – самодовольно заявила Сигга, и мне безумно захотелось влепить ей пощечину.
Я засмеялась.
– Фридрик никого не убьет.
– Нет, убью! – Он снова вскочил, стиснув мясистые кулаки.
– Нет, не убьешь, – бросила я. – И в любом случае, какое это имеет значение? Ты же все равно на ней женишься.
Фридрик фыркнул:
– Я и не ждал, что такая, как ты, способна понять мои чувства.
У меня разом пересохло во рту.
– Сигга сказала, что Натан и с тобой давал себе волю. Только нам обоим кажется, что ты, в отличие от нее, получала от этого удовольствие!
Я шагнула к Сигге, и та отпрянула.
– Не бойся, я тебя не ударю, – сказала я. Но могла бы ударить. Хотела ударить.
Вошел Даниэль, и Фридрик примолк. Меня трясло от гнева. Я ненавидела Фридрика. Ненавидела его прыщавое лицо, раскрасневшееся от холода. Ненавидела голубые глаза и жесткие светлые ресницы. Ненавидела его пронзительный голос, запах конского навоза, которым от него вечно несло, его постоянные визиты.
– Поезжай домой, Фридрик, – первым нарушил молчание Даниэль.
– Близится снежная буря.
– И поделом тебе, – бросила я, вдруг почувствовав глубокую благодарность к Даниэлю за то, что он появился так вовремя.
– Никуда я не поеду, – объявил Фридрик и вновь уселся рядом с Сиггой, жестом защитника обхватив ее за плечи.
– Он сказал правду, да? – шепотом спросил у меня Даниэль. – Натан спал с вами обеими? – Он помотал головой. – Это же грех.
– Фридрик убил нескольких овец.
– Что? Здесь?
– Думаю, он прошлой ночью или рано поутру увел по меньшей мере двух овец в Катадалюр и там прикончил.
– Натан его убьет!
– Не убьет, если Фридрик его опередит, – сказала я. – Он вне себя.
Даниэль провел ладонями по волосам и окинул взглядом парочку, сидевшую на кровати.
– Фридрик – болван и ублюдок, – со вздохом проговорил он. – Я потолкую с ним, когда он остынет.
Натан вернулся в Идлугастадир три дня спустя. Когда он появился, Фридрика на хуторе не было. Не представляю, что произошло бы, если бы они столкнулись. Разумеется, Натан отнюдь не пришел в восторг, узнав о помолвке Фридрика и Сигги. Эту новость ему сообщила я. Сигга, едва заслышав знакомый голос во дворе, поспешила укрыться в кладовой.
– Вас нельзя оставить одних без того, чтобы на нашу голову не свалилось какое-нибудь несчастье.
– Натан, это вряд ли можно назвать несчастьем. Ты принял у Фридрика деньги за согласие на его брак с Сиггой, и тебе следовало понять, к чему это приведет.
– А ты, уж верно, прыгаешь от радости, – проворчал он.
– Я? Какое отношение все это имеет ко мне?
– Но ведь ты же всю осень прилежно играла роль свахи.
Натан расседлал лошадь, и я протянула руку за уздой.
– Ничего подобного я не делала.
– Представляю, как вы все тут празднуете это событие.
– Нет. Даже Сигга, по-моему, в растерянности.
Натан повернулся, чтобы оказаться лицом к лицу со мной, и поднял бровь:
– В самом деле?
Я кивнула.
– Фридрик от счастья едва из штанов не выпрыгивает, но у Сигги что-то радости незаметно.
Тогда Натан улыбнулся и покачал головой.
– Вот ведь парочка юных обалдуев.
С этими словами он взял у меня из рук узду и потник, положил их на снег. Лицо его было серьезно.
– Агнес, – сказал он, – моя Агнес, я должен попросить у тебя прощения. Я был неправ, когда ударил тебя.
Я ничего не ответила, но не стала сопротивляться, когда он взял меня за руку.
– Я разговаривал с Вормом, и он считает, что я умом подвинулся. Слишком много путешествую по сырости. Эти сны… – Голос Натана дрогнул, прервался. – Все мы причинили друг другу немало боли. Я был не в себе.
Он отпустил мою руку, поднял со снега узду и потник.
– Вот, – сказал он, вручая их мне, – отнеси на место, а потом вместе пойдем в дом.
Я повернулась, чтобы уйти, но Натан удержал меня.
– Агнес, – проговорил он негромко и мягко, – я рад тебя видеть.
Той ночью огонь прежнего желания вспыхнул в нас с новой силой. И когда мы проснулись в темноте зимнего дня, меня переполняло счастье от сознания того, что Натан всю ночь проспал рядом со мной. Если Сигга или Даниэль, проснувшись, обнаружили, что мы с Натаном спим в одной постели, говорить об этом они не стали. Я сняла с кровати Натана одеяла и сложила их в изножье своей собственной постели.
Маргрьет принесла из молочни еще одну миску молока. Ветер снаружи дул с такой силой, что отчетливо был слышен глухой стон.
Агнес наклонилась к очагу, поворошила кочергой раскаленные угли.
– Кизяка подбросить или торфа? – спросила она.
Маргрьет указала на кизяк.
– Продолжай. Пока мы здесь сидим, вполне можно поддерживать огонь.
– На чем я остановилась?
– Ты говорила, что Фридрик сделал предложение Сигге.
Маргрьет аккуратно налила в котелок молока. Струя зашипела, коснувшись раскаленного металла.
– После того как Сигга согласилась стать женой Фридрика, она очень боялась встречи с Натаном. Она спряталась в кладовой, но Натан отыскал ее. Позднее Сигга передала мне слова Натана: дескать, он вел себя неразумно, поскольку был ослеплен собственной неприязнью к Фридрику. Он дал Сигге благословение на брак и прибавил, что если она хочет стать женой сопляка без достойного имени и без гроша в кармане, то это ее право. Мне Натан сказал, что не станет мешать двоим щенятам играть друг с другом.
Я подумала, что Натан, вполне вероятно, осознал: если Сигга выйдет замуж за Фридрика, ему больше не придется сталкиваться с этим мальчишкой. Не придется беспокоиться за свои деньги, спрятанные на хуторе.
Миновали рождественские праздники, но мы их почти не отмечали. Натан отослал Даниэля назад в Гейтаскард, и я думала, что теперь все станет, как раньше, когда с Натаном были только Сигга и я. В праздник святого Торлака[16] я хотела прибрать в доме и приготовить ската, но Сигга после помолвки с Фридриком не выказывала ни малейшего желания разговаривать со мной. Она стала раздражительна, работала спустя рукава и все время выглядывала в окно. Вздрагивала, когда к ней обращались. Избегала смотреть в глаза. Натан сказал ей, что она может на Рождество пригласить Фридрика в Идлугастадир пропустить по стаканчику, однако Фридрик так и не появился. Быть может, Сигга не доверяла той благосклонности, которую Натан так неожиданно стал проявлять к ее жениху. Полагаю, она готова была сделать все, только бы эти двое не столкнулись лицом к лицу.
Как-то ночью я наконец решилась ему это сказать:
– Натан, я знаю, что ты спал с Сиггой.
Он дремал, но при этих словах открыл глаза.
– Я знаю, Натан. Я прощаю тебя.
Он поглядел на меня и вдруг рассмеялся:
– Прощаешь?
Я сжала в темноте его руку.
– Я говорю об этом не для того, чтоб затеять ссору. Просто хочу, чтоб ты знал, что я об этом знаю.
Рука Натана, которую сжимали мои пальцы, была неподвижна, как мертвая. Он о чем-то размышлял.
– Я знал, что ты наблюдаешь за нами, – сказал он наконец.
Эти слова точно ударили меня под дых. Я открыла рот и тут же закрыла, так ничего и не сказав. Потом выбралась из постели и принесла лампу. Я не могла продолжать разговор с Натаном, не видя его лица. Я не доверяла его словам, сказанным в темноте.
Отсветы лампы плясали на его обнаженной коже. Он смотрел на меня ледяными глазами, неотрывно, лишь единожды отвлекшись, чтобы глянуть в сторону Сигги и убедиться, что она спит.
– Натан.
Я услышала собственный голос, глухой, как у старухи. Потом опустила взгляд, увидела собственную наготу и впервые задумалась о том, какой видит меня Натан.
– Ты играл со мной.
Натан прикрыл глаза ладонью.
– Убери лампу, Агнес.
Я ухватилась за столбик кровати, чтобы не потерять равновесия.
– Ты жесток.
– Я не желаю об этом говорить.
– Ты с самого начала не собирался дать мне место экономки. Верно ведь?
– Убери лампу, и давай спать. У тебя глаза точно дырки в снегу от мочи.
– Спать?! – Я смотрела на него во все глаза, терпеливо дожидаясь, пока смогу заговорить, не разрыдавшись. – Откуда ты знал, что я наблюдаю за вами?
Натан усмехнулся этим словам. И ничего не ответил.
– Ты меня любишь?
– Ты ведешь себя глупо.
– Отвечай!
Он протянул руку к лампе:
– Убери ее!
– Натан! – взмолилась я. И ужаснулась плаксивым нотам в собственном голосе.
– Разве я пригласил бы тебя в Идлугастадир, если б не хотел, чтобы ты здесь жила?
– Ну да, служанкой.
– Агнес, ты больше чем служанка.
– Правда?
– Убери лампу.
– Не уберу! – Я отдернула руку с лампой подальше, чтобы Натан не мог до нее дотянуться. – Ты не смеешь так со мной обращаться!
Глаза Натана вспыхнули.
– Хватит меня пилить!
И тут я взорвалась.
– Ах, пилить? Да иди ты к черту! Я всегда позволяю тебе делать все что вздумается. Разве я мешаю тебе вечно отлучаться из дома? Или барахтаться в соседней постели с Сиггой, когда ты думаешь, что я сплю? Да ведь ей всего пятнадцать! Кобель ты проклятый!
Натан откинулся назад, опираясь на локти.
– А с чего ты взяла, будто я дожидаюсь, пока ты заснешь?
Выражение его лица нельзя было назвать издевательским – скорее презрительно-веселым. Отчаяние утраты обрушилось на меня, и в один миг я оказалась погребена под лавиной непоправимого горя.
– Я тебя ненавижу. – Слова мои прозвучали глупо, ребячески.
– Думаешь, я тебя люблю? – Натан покачал головой. – Тебя, Агнес?
Он недобро прищурился и встал, жарко дыша мне в лицо.
– Ты дешевка, Агнес. Я ошибся в тебе.
– Если я дешевка, то только потому, что ты меня такой сделал!
– О да, продолжай. Ты чиста и свята, а виноваты все остальные.
– Нет, только ты!
– Прости, но я думал, что ты сама этого хотела. – Натан схватил меня за плечи и грубо притянул к себе. – Я думал, что ты хочешь выбраться из той долины. А тебе, как выяснилось, хочется именно того, что ты не можешь получить.
– Я хотела тебя! Я хотела покинуть долину, чтобы быть с тобой! – Меня замутило от бешенства. – Я больше не могу здесь оставаться.
– Так уходи! – Натан отступил на шаг и схватил меня за запястье. – Убирайся! Все равно от тебя одни неприятности!
С этими словами он поволок меня к выходу из бадстовы. Краем глаза я заметила, что Сигга проснулась и сидит на кровати, глядя на нас. Тоуранна расплакалась.
– Пусти меня!
– Я просто даю тебе то, чего ты хочешь. Ненавидишь меня? Хочешь уйти? Отлично! Вот порог.
Натан был невысок ростом, но силен. Он протащил меня по коридору и вытолкнул на крыльцо. Я запнулась о порог и, как была нагая, растянулась в снегу. К тому времени, когда я поднялась на колени, Натан захлопнул передо мной входную дверь.
Снаружи было темно и шел обильный снег, но от гнева и горя я словно утратила чувствительность. Мне хотелось замолотить кулаками в дверь, побежать к окну и крикнуть Сигге, чтобы впустила меня в дом… но еще мне хотелось наказать Натана. Обхватив руками голые плечи, я задумалась, куда же податься. Холод пробирал до костей. Мелькнула мысль покончить с собой, пойти на берег моря и окунуться в ледяную воду. Стужа убьет меня; даже не придется топиться. Я представила, как Натан найдет на берегу мое мертвое тело, выброшенное на берег вместе с водорослями.
И пошла в коровник.
Заснуть в таком холоде было невозможно. Я свернулась калачиком возле коровы, прижалась нагим телом к ее теплому боку и натянула на себя попону. И засунула мерзнущие пальцы ног в коровью лепешку, чтобы им стало хоть немного полегче.
Позже ночью в коровник кто-то вошел.
– Натан? – Голос мой прозвучал тоненько и жалобно.
Это была Сигга. Она принесла мою одежду и башмаки. Глаза ее припухли от слез.
– Натан не пустит тебя в дом, – сказала она.
Я медленно одевалась, едва шевеля закоченевшими от холода пальцами.
– А если я здесь умру?
Сигга повернулась, чтобы уйти, но я схватила ее за плечо.
– Поговори с ним, попробуй его образумить! На сей раз он действительно спятил.
Сигга глянула на меня, и в глазах ее появились слезы.
– Как же мне обрыдло здесь, – прошептала она.
Проснувшись утром, я не сразу смогла сообразить, где нахожусь. Затем в памяти всплыли события минувшей ночи, и тугой комок гнева подкатил к горлу, придав мне новые силы. Я прислонилась к корове, отогревая застывшие пальцы и кончик носа, и стала размышлять, что делать дальше. Я хотела уйти прежде, чем Натан выйдет задать корм скоту.
Тоути проснулся в полумраке бадстовы Брейдабоулстадура и увидел отца, который сидел, привалившись к стене, в изножье его кровати. Седая голова священника свесилась на грудь. Он спал.
– Пабби! – С губ Тоути сорвался лишь едва слышный шепот, и от попытки заговорить тотчас заныло горло.
Он попытался толкнуть отца ногой, чтобы разбудить, но все тело казалось невероятно тяжелым, точно налито свинцом.
– Пабби! – сделал он вторую попытку.
Преподобный Йоун шевельнулся и вдруг открыл глаза.
– Сынок! – Он вытер бороду и наклонился к Тоути. – Ты пришел в себя. Хвала Господу.
Тоути попытался поднять руку – и обнаружил, что она привязана к боку. Он был весь запеленат в одеяла.
– Тебя лихорадило, – пояснил отец. – Тебе нужно было хорошенько пропотеть.
Он приложил мозолистую ладонь ко лбу сына.
– Мне нужно в Корнсау, – пробормотал Тоути. Пересохший язык едва ворочался во рту. – Агнес…
Отец покачал головой.
– Ты из-за нее-то и заболел.
На лице Тоути промелькнуло беспокойство.
– Не могу вспомнить, какой сейчас месяц.
– Декабрь.
Тоути попытался сесть, но преподобный Йоун мягко прижал его голову к подушке:
– Забудь о ней, пока Господь не вернет тебе силы.
– Она совсем одна, – возразил Тоути, вновь пытаясь приподняться. Тело почти не повиновалось ему.
– И поделом, – отозвался отец. В тесноте скромной бадстовы его голос прозвучал неожиданно громко. Он удерживал сына за плечи, не давая привстать, и лицо его в сумраке казалось серым. – Она не стоит времени, которое ты на нее тратишь.
С минуту Маргрьет молчала. Молоко в ее кружке совсем остыло.
– Он вышвырнул тебя на снег?
Агнес кивнула, настороженно вглядываясь в нее. Маргрьет покачала головой.
– Ты же могла замерзнуть до смерти.
– Натан был не в себе. – Агнес плотнее запахнула наброшенный на плечи платок. – Он хотел, чтобы Сигга принадлежала ему. И в конце концов понял, что она предпочитает Фридрика.
Маргрьет фыркнула и кочергой затолкала в глубь очага откатившийся к краю горящий уголек.
– Что ж, тебе виднее. – Она украдкой глянула на Агнес, которая неотрывно смотрела в огонь. – Продолжай, – тихо проговорила Маргрьет.
Агнес вздохнула и расцепила руки.
– Я отправилась в Катадалюр, где жили родители Фридрика. Прежде я там не бывала, но знала, что хутор расположен по ту сторону горы, а день выдался достаточно ясный, чтобы я смогла добраться туда пешком, не попав в буран. Тем не менее путь занял у меня несколько часов, и к тому времени, когда я вошла в устье долины, где стоял Катадалюр, сознание мое уже помутилось от усталости. Мать Фридрика обнаружила меня на пороге своего дома – я стояла на коленях.
Катадалюр – ужасное место. Жалкие постройки покосились, крыша вот-вот провалится, и внутри хозяйский дом так же непригляден, как снаружи. Кизячный дым осел копотью на стенах кухни, бадстова больше смахивает на хлев. Когда я вошла туда, стайка ребятишек – все братья и сестры Фридрика – сбилась на одной кровати, прижимаясь друг к другу, чтобы хоть как-то согреться. Фридрик вместе с отцом и дядей сидел на другой кровати и точил ножи.
Первое, что вырвалось у него при виде меня, было: «Что он еще натворил?» Фридрик спросил, уж не решил ли Натан жениться на Сигге.
Я помотала головой и пояснила, что Натан вышвырнул меня из дому, что я провела ночь в коровнике. Фридрик не выказал ни капли сочувствия. Только спросил, чем я вызвала такую немилость, и я сказала, что повздорила с Натаном, потому что не могла выносить того, как он обращается с Сиггой.
Именно тогда в разговор вмешалась мать Фридрика. Все это время она помалкивала, слушая нас, а теперь вдруг схватила сына за руку и заявила:
– Он хочет отнять у тебя жену!
Мне показалось, что Фридрик при этих словах украдкой глянул на нож, лежавший на кровати, и меня охватил страх.
Я предложила Фридрику поговорить со священником из Тьёрна или обратиться к старосте… но Тоурбьёрг, мать Фридрика, снова меня перебила. Она поднялась, крепко взяла Фридрика за плечи и, глядя ему в глаза, проговорила:
– Сигга не будет твоей, пока Натан жив.
Потом все они уселись и, по всей видимости, именно тогда, покуда я спала, решили убить Натана.
Маргрьет молчала. Огонь погас. Лишь один раскаленный уголек живо и ярко мерцал в серой толще золы. Снаружи все так же завывал ветер. Маргрьет медленно выдохнула, ощутив вдруг безмерную усталость.
– Наверное, нам стоит вернуться в постель.
Агнес повернулась к ней:
– Разве ты не хочешь дослушать до конца?
Глава 12
В Лаугаре, в Селиигсдале, Гудрун рано была на ногах, сейчас же после восхода солнца. Она пошла туда, где спали ее братья. Она разбудила Оспака. Он сразу же проснулся, а также и некоторые из других братьев. И когда Оспак узнал свою сестру, он спросил ее, что ей нужно и почему она так рано на ногах. Ей хочется знать, ответила Гудрун, что они будут делать в течение дня. Оспак ответил, что они думали провести этот день спокойно.
– Ведь сейчас мало работы, – пояснил он.
Гудрун сказала:
– Ваш нрав можно было бы назвать прекрасным, если бы вы были дочерьми какого-нибудь бонда, так что никому от вас не было бы ни пользы, ни вреда. Несмотря на все обиды и оскорбления, которые Кьяртан вам нанес, вы спокойно спите в то время, как он едет мимо вашего двора с одним-единственным провожатым. У таких людей память, как у свиней. Я теряю надежду, что вы когда-нибудь нападете на Кьяртана в его доме, раз вы не осмеливаетесь встретиться с ним сейчас, когда он проезжает мимо с одним или двумя людьми, а вы сидите дома и ограничиваетесь громкими словами, хотя вас так много.
Оспак отвечал, что она слишком взволнована, но что на ее слова трудно возразить, и сейчас же вскочил и стал одеваться, а вместе с ним все остальные братья. После этого они начали приготовления, чтобы устроить засаду Кьяртану.
Сага о Людях из Лососьей долины
КОГДА МЫ С ФРИДРИКОМ ПРИБЫЛИ в Идлугастадир, Натана там не было. Не представляю, что произошло бы, окажись он дома. Нам пришлось стучать добрых несколько минут, прежде чем Сигга открыла дверь и впустила нас в дом. Она держала на руках дочь Натана.
– Он велел прогнать тебя, если вздумаешь вернуться, – сказала она, но тем не менее нас впустила.
Я согласилась выпить кофе, который принесла нам Сигга.
– Где Натан? – спросила я.
– Из Гейтаскарда прислали работника с письмом. Ворму нездоровится. Натан уехал рано поутру.
– Как он?
Сигга глянула на меня.
– Не в духе.
– Он опять приставал к тебе? – Фридрик шарил на полке у кровати Натана. Сигга обеспокоенно наблюдала за тем, как он взял пару коробок и потряс, прислушиваясь.
– Что ты ищешь?
– Вознаграждение за хлопоты, – пробормотал Фридрик. И выглянул в окно, за которым белел снег. – Бьюсь об заклад, он зарыл все во дворе.
Я поглядела на Сиггу.
– Натан говорил что-нибудь обо мне?
Она покачала головой.
Я невесело, через силу усмехнулась:
– Ничего такого, что ты решилась бы повторить мне в лицо.
Фридрик смахнул снег с плеч и устроился рядом с Сиггой, усадив ее к себе на колени.
– Птичка моя, – проговорил он. – Моя милая женушка.
Сигга увернулась от его ласк и пересела на кровать.
– Не зови меня так, – сказала она.
Фридрик побагровел:
– Почему это? Ты же моя.
– Натан сказал мне, что передумал. Он не позволит мне стать твоей женой. – Речь Сигги перешла в судорожный всхлип. – Никогда.
– Будь он проклят!
Несмотря на общее безрадостное настроение, трудно было удержаться от улыбки, услышав этот надрывный возглас.
– Уверена, что Натан все же сменит гнев на милость, – сказала я.
Сигга вытерла глаза и покачала головой.
– Он говорит, что если кому-то и суждено взять меня в жены, так только ему.
Сердце мое упало, и я заметила, что Фридрик побледнел.
– Что?!
– Да, так и сказал, – шмыгнула носом Сигга.
– А ты что ответила? – Голос мой сорвался.
Сигга вновь разразилась бурными рыданиями.
– Ты же не сказала, что согласна? Не сказала, верно? – Фридрик одной рукой обнял ее за плечи. Сигга уткнулась лицом в его шею и горестно взвыла.
Следующие два дня мы провели в Идлугастадире, решая, куда податься. Сигга подумывала о возвращении в Стоура-Борг, а я предлагала ей, как только позволит погода, отправиться со мной в долину. Фридрик сказал, что я могла бы устроиться до конца зимы на хуторе Аусбьярнастадир. По его словам, хозяин этого хутора терпеть не может Натана и, вполне вероятно, проникся бы ко мне сочувствием.
Примерно в таком духе мы разговаривали как-то днем, после обеда, когда увидели, что по горной тропе спускаются к хутору два всадника. Мы настолько были поглощены обсуждением планов бегства, что даже не заметили их появления. Погода улучшилась, и разговор велся во дворе, на свежем воздухе, а потому прятаться было поздно – нас наверняка уже заметили.
– Агнес! – громко прошептала Сигга. – Это же Натан! Когда он увидит тебя здесь, он с меня шкуру спустит!
Сердце мое колотилось, словно армейский барабан, но я собралась с духом и скрыла страх.
– Сигга, он не один. При постороннем он ничего такого себе не позволит.
Мы стояли втроем, ожидая всадников. Когда они подъехали ближе, я с изумлением обнаружила, что рядом с Натаном скачет Пьетур-Овцеубийца.
– Гляди-ка, Пьетур, – проговорил Натан, – по двору шныряют три лисицы.
Он усмехался, но глаза его оставались холодны. Я ждала, что он накинется на Фридрика, но вместо этого Натан, спешившись, подошел ко мне.
– Что она здесь делает? – Усмешка его исчезла. Я жарко покраснела и украдкой глянула на Пьетура. Тот явно опешил.
– Позволь ей остаться хотя бы до весны, – вступилась Сигга.
– Агнес, ты мне надоела.
– Чем я провинилась? – спросила я, стараясь сохранять спокойствие.
– Ты сказала, что хочешь уйти, так уходи! – Натан сделал шаг ко мне: – Убирайся!
Лицо Сигги исказилось тревогой.
– Натан, ей негде заночевать, и вот-вот пойдет снег.
Натан рассмеялся.
– Не умеешь ты, Агнес, отвечать за свои слова. Говоришь одно, а имеешь в виду совсем другое. Ты собиралась уйти отсюда? Уходи!
Я хотела сказать Натану, что мне нужен только он; мне нужно, чтобы он любил меня, как прежде… но я промолчала – да и что тут было говорить?
Молчание нарушил Фридрик:
– Я не допущу, чтобы ты женился на Сигге! – процедил он сквозь зубы.
Натан расхохотался.
– Снова здорово! Видишь, – обратился он к Пьетуру, – что получается, когда живешь в одном доме с детьми? Они втягивают тебя в свои детские игры.
Пьетур натянуто усмехнулся.
– Ладно. – Натан повел свою лошадь через двор. – Агнес может остаться на ночь, но не в бадстове. Пьетур и я намерены здесь заночевать, а утром снова отправимся в Гейтаскард. Если ты, Агнес, еще будешь тут, когда мы вернемся, я передам тебя в руки сислуманна как злоумышленницу. А ты, Фридрик, пошел вон, пока я не велел Пьетуру перерезать тебе горло.
Он захохотал, но Пьетур опустил глаза, уставившись себе под ноги.
И опять я ночевала в коровнике. Было не так холодно, как в ту ночь, когда Натан выставил меня из дома, и Сигга, прежде чем вернуться в дом, помогла мне устроить что-то вроде постели. Мое ложе воняло навозом, пол кишел вшами, но в конце концов я все же заснула.
Когда я проснулась, было темно. Я поднялась, подошла к дверному проему и увидела, что окно дома до сих пор светится. Сон освежил меня, и мелькнула мысль зайти в дом и попробовать как-то договориться с Натаном, но тут по снегу за коровником захрустели чьи-то шаги.
– Сигга?
Негромкий хруст снега замер, но тут же возобновился. Шаги приближались. Я отступила в темноту коровника, прижалась спиной к стене.
И услышала едва различимый шепот:
– Агнес!
Это был Фридрик.
Он проскользнул в коровник.
– Какого черта ты здесь делаешь?
Фридрик тяжело дышал. В темноте я не могла разглядеть его лица, зато чуяла запах пота. Что-то звякнуло.
– Ты пришел пешком из Катадалюра?
Фридрик закашлялся и сплюнул.
– Да.
– Натан тебя убьет, если увидит.
– Я дождусь, покуда он заснет.
– Зачем? Если Натан проснется и обнаружит, что вы с Сиггой воркуете на соседней кровати, он тебя на месте вздернет и четвертует.
Я услышала, как Фридрик фыркнул.
– Я пришел не за этим.
Что-то в его тоне вынудило меня остановиться и призадуматься.
– Фридрик, зачем ты сюда пришел?
– Я намерен разобраться с этим делом раз и навсегда. Я пришел за тем, что принадлежит мне.
Позади нас глухо замычала корова. Я услышала, как ее копыта скребут земляной пол.
– Фридрик?..
– Ты ведь тоже этого хочешь, Агнес. Признайся.
В это мгновение из-за пелены облаков выскользнула луна, и я увидела, что Фридрик держит в руках. Молоток и нож.
Что я помню? Я ему не поверила. Меня вдруг охватила усталость, и я вернулась к своему жалкому ложу на полу коровника. Я не хотела иметь с Фридриком ничего общего.
Что произошло дальше?
Я задремала вполглаза, потом проснулась и вышла наружу. Свет в окне дома погас. Фридрика нигде не было видно.
Я отправилась искать его. Мне вдруг стало страшно. Ночное небо было ясно, и подворье заливал лунный свет. Колюче сверкали звезды. Под моими башмаками повизгивал снег. С засовом пришлось повозиться, но все-таки дверь со скрипом отворилась.
Сигга скорчилась у стены коридора, крепко прижимая к себе дочурку Роусы. Обе тихонько хныкали.
– Сигга?
Она не сразу сумела отозваться на мой голос.
– В бадстове, – прошептала она. Я едва сумела разобрать ее шепот.
Я пошла дальше по длинному коридору. Что-то надоумило меня взять из кухни лампу. Сердце застряло тугим комком в горле.
Что случилось?
Меня била крупная дрожь, руки тряслись, и я уронила в темноте лампу. В ноздри ударил запах погасшего фитиля, и из угла донеслись какие-то звуки. Скрип половицы, частое прерывистое дыхание и глухие удары – словно ребенок молотил кулаками подушку. Раздался стон, влажный чавкающий звук – и кто-то прошептал:
– Агнес!
Сердце мое подпрыгнуло. Мне показалось, что меня зовет Натан.
Но это был Фридрик.
– Агнес, – повторял он, – Агнес, где ты?
Голос у него был тонкий, едва слышный.
– Я здесь, – отозвалась я. И нагнулась, ощупью шаря по полу. – Я уронила лампу.
Я услышала, как Фридрик шагнул в темноте на звук моего голоса.
– Агнес, я не знаю, жив он или мертв. – Голос его на последнем слове дрогнул. – Я не могу понять, жив он или мертв.
Сердце мое застыло. Пальцы не желали двигаться. Я водила ими по шершавым половицам, пытаясь отыскать лампу, но костяшки пальцев словно окаменели. Фридрик не убил Натана. Он мальчишка, почти ребенок. Он не убил Натана.
Каким-то образом мне удалось найти лампу. Я сгребла ее, занозив ладонь о половицу.
– Агнес!
– Да здесь я! – Звук собственного голоса изумил меня. В нем не было и следа моего страха. – Мне нужно зажечь лампу.
– Тогда давай поскорее, – сказал Фридрик.
Я ощупью двинулась по коридору – туда, где в настенном подсвечнике горела одна-единственная свеча. Я зажгла от нее лампу и повернула назад, к бадстове. Руки мои дрожали, и отсветы пламени беспокойно плясали по шероховатым стенам, выхватывая из темноты черный провал входа в бадстову. Дойдя до дверного проема, я ощутила, как горло стиснул страх. Я не хотела входить туда. Однако мне нужно было увидеть, что натворил Фридрик.
Вначале я решила, что он меня обманул. Вытянув руку с лампой к кровати Натана, я увидела, что он укрыт одеялами и глаза его сомкнуты, как у спящего. Все как будто бы в порядке. Затем Фридрик прошептал: «Сюда, Агнес, посвети сюда», и, когда свет лампы скользнул по кровати, стало видно, что у Пьетура размозжена голова. Подушка почернела от крови. Что-то влажно поблескивало на стенах, и, опустив глаза, я увидела капли крови, медленно расползающиеся по половицам.
– Господи, – пробормотала я. – Господи Боже мой.
Я перевела взгляд на молоток в руке Фридрика и увидела, что к головке молотка прилипли волосы. Тогда меня стошнило – прямо на пол.
Фридрик помог мне подняться. Он все так же сжимал молоток, готовый в любой момент пустить его в ход.
– Что ты сделал с Натаном? – спросила я, и Фридрик велел мне поднести лампу ближе к кровати. Натан тоже истекал кровью. Одна сторона его лица выглядела странно – словно ему расплющили скулу, и кровь, которую я вначале сочла кровью Пьетура, натекла в ямку между ключиц.
Пронзительный крик вырвался из моей груди, и силы разом покинули меня. Я опять выронила лампу и упала на пол в нахлынувшей темноте.
Фридрик, должно быть, принес свечу из коридора. Когда он вошел в комнату, я увидела его лицо, лоснящееся в отблесках пламени. А затем мы оба услышали какой-то звук.
– Что это было? – Фридрик поспешил ко мне, помог встать. Мы оба дрожали. Звук повторился. Стон.
– Натан? – Я выхватила у Фридрика свечу, метнулась к кровати, поднесла свечу вплотную к лицу Натана. Веки его дернулись от яркого света, и он попытался шевельнуться. – Что ты с ним сделал?!
Фридрик был бледен, как мертвец, зрачки его так расширились, что глаза казались черными.
– Молоток… – пролепетал он.
Натан вновь застонал, и на сей раз Фридрик нагнулся к нему, прислушиваясь.
– Он сказал: «Ворм».
– Ворм Бек?
– Может, ему что-то снится.
Мы замерли, высматривая, не подаст ли Натан еще какие-то признаки жизни. В комнате стояла глухая, мертвая тишина. Затем Натан медленно открыл один глаз и поглядел прямо на меня.
– Агнес? – пробормотал он.
– Я здесь, – отозвалась я. Безмерное облегчение охватило меня. – Натан, я здесь.
Взгляд открытого глаза переместился на Фридрика. Затем Натан повернул голову и увидел расколотый череп Пьетура. И мне стало ясно: он понял, что произошло.
– Нет, – прохрипел он, – нет, нет, нет!
Фридрик отступил от меня. Я не собиралась дать ему уйти.
– Смотри, что ты натворил! – прошипела я. – Смотри на дело своих рук!
– Натан, я не хотел! Клянусь! – Фридрик тяжело задышал, уставясь на окровавленный молоток, который валялся у наших ног.
Натан вновь застонал. Он пытался встать с постели, но пронзительно закричал, когда налег всем весом на руку. Фридрик раздробил ее молотком.
– Ты хотел, чтобы он умер! – выкрикнула я в лицо Фридрику. – И что же ты теперь намерен делать?
Раздался глухой удар, и мы, обернувшись, увидели, что Натан лежит на полу. Опираясь на здоровую руку, он сумел кое-как выбраться из постели, но удержаться на ногах не смог.
– Помоги мне поднять его! – бросила я Фридрику, отставив свечу на пол, но этот щенок не дал себе труда и пальцем пошевелить. Нагнувшись к Натану, я попыталась усадить его, чтобы он мог хотя бы прислониться головой к балке, но он был чересчур тяжел для меня, и когда я увидела, как распух его затылок, увидела натекшую вниз по спине кровь, силы разом оставили меня, руки и ноги сделались точно деревянные. Я бережно уложила голову Натана к себе на колени и поняла, что до утра он не доживет.
– Фридрик, Фридрик, – вновь и вновь повторял Натан, – я дам тебе денег, дам…
– Он обращается к тебе, – сказала я Фридрику, но тот уже отвернулся и даже не смотрел в нашу сторону. – Повернись! – пронзительно выкрикнула я. – Изволь хотя бы поговорить с человеком, которого ты убил!
Натан перестал бормотать. Я ощутила, как тело его оцепенело, и он снизу вверх поглядел на меня. Голова его едва заметно, безвольно покачивалась.
– Агнес…
– Да, это я, Агнес. Я здесь, Натан. Я здесь.
Натан открыл рот. Я решила, что он собирается что-то сказать, но на сей раз изо рта его вырвался лишь невнятный клекот. Я поглядела на Фридрика – он так и стоял, белый как мел, и всклокоченные волосы, падавшие ему на глаза, были измазаны красным в том месте, куда после удара брызнула струя крови. В широко раскрытых глазах Фридрика застыл страх.
– Зачем он так делает? – вопросил он.
Натан задыхался, кровь вытекала изо рта на подбородок, заливала мою юбку.
– Зачем он так делает?! – визгливо выкрикнул Фридрик. – Уйми его!
Я подняла нож, валявшийся на полу.
– Сам этим займись, закончи то, что начал!
Фридрик замотал головой. Лицо его было пепельно-бледным, и он смотрел на меня с ужасом.
– Ну же! – не отступала я. – Или так и бросишь его медленно умирать?
Фридрик все так же мотал головой. Его передернуло, когда из раны на голове Натана брызнул новый фонтанчик крови.
– Нет, – выдавил он, – я не могу. Не могу.
Натан поглядел на меня; зубы его были красны от крови. Губы Натана беззвучно зашевелились, и я поняла, что он хочет сказать.
Нож вошел в тело, не встретив сопротивления. Лезвие аккуратно вспороло рубаху Натана, издав чмокающий звук неумелого поцелуя, – я не смогла бы остановиться, даже если б хотела. Я налегала на рукоять, пока над запястьем не сомкнулась теплая влага, и я осознала, что мою руку заливает кровь Натана. В холоде ночи кровь казалась еще горячей. Я выпустила рукоять и оттолкнула Натана от себя, глядя на нож. Он торчал в животе Натана, и рубаха вокруг лезвия потемнела, набухла влагой. Мгновение мы с Натаном смотрели друг другу в глаза. Пламя свечи выхватывало из темноты очертания его лба и ресниц, и меня вдруг накрыла с головой волна благодарности – Натан смотрел на меня прямо и ясно. Как будто прощал.
– Агнес! – Фридрик стоял позади меня, держась руками за голову, молоток валялся на полу. – Агнес, ты убила его.
Мне хотелось заплакать. Хотелось упасть на колени пред телом Натана и разрыдаться, оплакивая его. Вот только времени на это не было.
Я ненавидела Фридрика. Совершенно пав духом, он съежился на полу и громко всхлипывал, хватал ртом воздух в приступе паники, который, казалось, будет длиться вечно. Наконец он поднялся, судорожно и часто дыша, и выдернул нож, торчавший в животе Натана.
– Что ты делаешь? – спросила я едва слышно. У меня не осталось сил на крик.
– Это мой нож, – сказал Фридрик. Вытер лезвие о штаны и направился к выходу.
– Стой! – потребовала я.
Фридрик обернулся и пожал плечами.
– Тебя за это повесят, – прохрипела я.
Фридрик помедлил. Я увидела, как его пальцы стиснули липкую от крови рукоять ножа.
– Если меня повесят, – сказал он медленно, втягивая воздух шмыгающим носом, – то тебя сожгут живьем.
Я опустила глаза и увидела кровь. Кровь была на моих руках, на шее, платье промокло от крови. Огонек свечи заплясал от невидимого сквозняка, и я помимо воли подумала о том, как будет выглядеть эта комната в тусклом свете дня.
Именно тогда я вспомнила про китовый жир, который Натан купил в Хиндисвике.
Глава 13
22 декабря 1828 года
Сопроводительная записка
Бьёрну Блёндалю, сислуманну округа Хунаватн
Представляю Вашей чести следующие документы.
1. Оригинал постановления Верховного суда от 25 июня сего года по обвинению в убийстве, поджоге, грабеже, а также прочих преступлениях, выдвинутому против Фридрика Сигюрдссона, Агнес Магнусдоттир и Сигридур Гвюндмюндсдоттир, жителей округа Хунаватн. Приговор Верховного суда прибыл сюда 20-го числа текущего месяца срочной почтой из Рейкьявика.
2. Заверенная копия письма Его Королевского Величества касательно Сигридур Гвюндмюндсдоттир, направленного 26 августа сего года амтману Исландии. Волею и милостью королевской вышеупомянутая Сигридур Гвюндмюндсдоттир получает помилование и освобождается от смертного приговора, вынесенного ей вышеупомянутым Верховным судом Копенгагена. Взамен она, согласно указу Его Королевского Величества, будет отправлена в Копенгаген, дабы трудиться на тюремных работах под строгим надзором до конца отпущенных ей дней. Приговор Верховного суда, вынесенный осужденным Фридрику Сигюрдссону и Агнес Магнусдоттир, остается без изменений.
3. Заверенная копия письма от 29 августа сего года, направленного канцелярией Его Величества короля Дании амтману Исландии, в коем секретарь Его Величества выразил мнение, что наилучшим было бы осуществить правосудие в том самом месте, где было совершено преступление, или как можно ближе к нему, и только в том случае, если это событие не вызовет беспорядков или непредсказуемых последствий. Амтману надлежит поступать в полном соответствии с данным пунктом.
4. Подготовленное сегодня утверждение Гвюндмюндура Кетильссона, владельца хутора Идлугастадир, в качестве исполнителя приговора над осужденными Фридриком Сигюрдссоном и Агнес Магнусдоттир, вынесенного Верховным судом, каковое исполнение я, согласно письмам канцелярии, прошу Вашу честь осуществить надлежащим образом. Вашей чести надлежит обеспечить, дабы смертный приговор, с учетом изменений сообразно вышеупомянутому письму Его Королевского Величества, был исполнен в соответствии с законом и без малейшего промедления. После исполнения оного Вашей чести надлежит отрапортовать о приведении приговора в исполнение. Высокочтимый сударь, Вам как сислуманну доверено подготовить к казни и казнить осужденных сообразно требованиям закона и обустроить все с учетом особенностей данной ситуации. Я тем не менее вынужден настаивать на том, чтобы Вы уделили внимание следующим деталям.
A. Если сие не было уже сделано, Вашей чести надлежит немедленно обеспечить, чтобы обвиняемых особ, Фридрика Сигюрдссона и Агнес Магнусдоттир, ежедневно посещали священники. Необходимо осуществлять надзор за этими посещениями, сами же священники должны обращаться к заключенным с религиозными наставлениями, утешать их и приуготовлять к тому, чтобы достойно принять свою участь. Священникам надлежит сопровождать осужденных к месту казни.
Б. Общее мнение таково, что Ваша честь вольны решать, состоится ли казнь поблизости от Идлугастадира, либо же в удобном месте так называемого поля тинга, либо на каком-нибудь возвышенном (но не слишком высоком) холме, где происходящее будет видно со всех сторон.
B. Взамен помоста из досок Ваша честь вольны приказать соорудить помост из торфа с непременным ограждением. Вашей чести надлежит позаботиться о том, чтобы на этом помосте была установлена колода с желобком для стока крови и чтобы колода эта была покрыта красного цвета тканью, хлопковой либо шерстяной.
Г. Выбранного исполнителя приговора надлежит тайно и со всемерной помощью обучить в доме Вашей чести осуществлению дела, которое ему доверили. Сие необходимо для обеспечения того, чтобы он в решающий момент не допустил слабости духа или не утратил власти над собой. Обезглавливание надлежит исполнить единым ударом, без причинения боли осужденным. Гвюндмюндуру Кетильссону дозволяется принять спиртное, однако весьма скромную порцию.
Д. Вашей чести необходимо обеспечить явку как можно большего количества людей с окрестных хуторов, дабы образовать вокруг помоста два или три кольца. Упомянутые хуторяне обязаны откликнуться на призыв, не получая и не рассчитывая на получение какой-либо платы.
Е. Внутрь вышеупомянутых колец не должно быть допущено ни одно постороннее лицо.
Ж. Тому из осужденных, кому предстоит быть казненным вторым, не должно видеть казнь первого осужденного, и его надлежит содержать в месте, откуда помост ему не будет виден.
З. Мертвые тела, оставшиеся после свершения казни, необходимо будет похоронить на том же месте, без обычного обряда, в гробах из некрашеного и необработанного дерева. Категорически необходимо, чтобы Ваша честь лично присутствовали при казни, дабы зачитать приговор Верховного суда и Его Королевского Величества, организовать процедуру казни и надзирать за ее проведением, а также внести запись о казни в соответствующую судебную книгу. Запись может быть сделана на датском либо исландском языке, по желанию Вашей чести, однако четко и ясно, а перевод оной следует отправить мне в канцелярию. Также Вам надлежит упомянуть в записи, какая сумма была предложена Гвюндмюндуру Кетильссону за исполнение приговора, и указать, на что именно он решил потратить деньги, полагающиеся ему за труды, с какой целью и так далее. И, наконец, я хотел бы поблагодарить Вашу честь за Ваше письмо от 20 августа сего года. В ответ на сие письмо сообщаю, что известный Вам топор после свершения казни надлежит возвратить в Копенгаген и что стоимость его доставки будет возмещена вкупе со всеми прочими расходами на данное дело.
Г. Йонсон
Секретарь Его Королевского Величества
Копенгаген, Дания
Старостам общин Свинаватн, Торкельсхоудл и Тверау
Получив приговор Высокочтимого Верховного суда от 25 июня, а также милостивое послание Его Королевского Величества от 25 августа, сим утверждаю, что преступники Фридрик Сигюрдссон и Агнес Магнусдоттир будут казнены во вторник 12 января, на небольшом холме близ горной хижины Раунхоула, между хуторами Хоулабак и Свейнсстадир.
После описания, предоставленного амтману 22 декабря, я должен просить вас приказать хуторянам общины Свинаватн, которых вы изберете сами, присутствовать вместе с вами на казни в указанном месте и в указанный день о полудне. Это должно быть исполнено как можно скорее. Согласно главе седьмой Свода законов Jónsbók, озаглавленной Mannhelgisbalk, и главе второй, озаглавленной Tjófnadarbalk[17], означенные хуторяне обязаны присутствовать на казни, а буде они не подчинятся вашим указаниям, то будут подвергнуты штрафу. Вам рекомендуется предостеречь об этом тех, кто выразит особое нежелание покидать свой хутор или претерпевать тяготы пути. Также будьте добры учесть, что и вы сами должны в непременном порядке присутствовать на этом событии.
Если случится так, что из-за непогоды исполнение казни в назначенный день окажется невозможным, то казнь будет проведена в другой выбранный день, и все, кому было приказано на ней присутствовать, должны будут точно так же исполнить приказ. Всем этим людям необходимо будет обеспечить себя запасом пищи и прочих нужных вещей, поскольку в это время года дорога к месту казни и обратно будет сопряжена с неизбежными задержками.
Сислуманн
Бьёрн Блёндаль
7 января 1830 года, четверг
Высокоуважаемому и возлюбленному другу и брату (Б. Блёндалю)
За все, что ты сделал для меня, за наши многочисленные встречи, а также за твои наставления и письмо, полученное нынче утром, я благодарю тебя со всей сердечностью и подтверждаю, что нынче же утром встречусь с жителями Видидалюра и предупрежу их о том, куда и как они должны без опоздания явиться в следующий вторник. Я сообщил Сигридур об условиях ее помилования, и сейчас она молится Господу и благодарит Его Величество за проявленную к ней доброту. Прости меня за некоторую поспешность, да пребудет Господь с тобою и твоими близкими, желаю всем вам наилучшего как в наступившем году, так и во всех последующих годах, в этой жизни и в будущей. С тем остаюсь, твой преданный и любящий друг
Бр. П. Пьетурссон
из Мидхоупа
Исландский похоронный гимн
- Я мыслю о Спасителе,
- Да будет Он со мной,
- Да длань его хранит меня
- В ночи и в час дневной.
- Христос моя опора,
- Надежная стена,
- Он крестной смертью смерть попрал,
- И смерть мне не страшна.
- Я жил с Христовым именем
- И во Христе умру, —
- Пусть немощная плоть дрожит
- На гибельном ветру.
- О Смерть, где твое жало?
- Где гроба торжество?
- Со мною сила крестная —
- Я не страшусь его[18].
НА ШЕСТОЙ ДЕНЬ ЯНВАРЯ ТОУТИ РАЗБУДИЛ громкий стук в дверь. Открыв один глаз, он обнаружил, что в комнату сочится слабый утренний свет: похоже, он заспался. Стук не прекращался. Тоути неохотно спустил на пол ноги в теплых чулках и выбрался из постели, завернувшись в одеяло, чтобы уберечься от пронизывающего холода. И на подгибающихся ногах двинулся к входной двери, одной рукой придерживаясь за стену, чтобы не упасть.
Гость, оказавшийся курьером из Хваммура, дышал себе на руки и притопывал на утреннем морозе. Он кивнул в знак приветствия и вручил Тоути небольшое, сложенное вчетверо письмо. Сургучная печать Блёндаля алела на белой бумаге, словно капля крови.
– Младший проповедник Торвардур Йоунссон?
– Совершенно верно.
Кончик носа у курьера покраснел от холода.
– Извините за задержку. В такую непогоду я никак не мог прибыть раньше.
Тоути устало предложил посланцу выпить кофе, но тот с беспокойством оглянулся на северный перевал.
– Если вы не против, преподобный, я лучше сразу двинусь в обратный путь. Того и гляди снова пойдет снег, а мне совсем неохота угодить в буран.
Тоути с трудом захлопнул входную дверь и поплелся в кухню, чтобы раздуть угли в очаге. Куда подевался отец? Он подвесил над очагом котелок, чтобы вскипятить воды, и медленно подтянул кухонный табурет поближе к огню. Дождавшись, когда головокружение схлынет, он сломал печать и развернул письмо.
Тоути перечел его трижды, затем положил листок бумаги на колени и устремил взгляд на огонь. Так не должно быть. Только не сейчас. Так много еще осталось несказанного и несделанного, и Агнес совсем одна – его нет рядом с ней. Тоути резко встал, позволив одеялу соскользнуть с плеч, и неверным шагом направился в бадстову. Он доставал из распахнутого сундука дорожную одежду и заталкивал запасную в мешок, когда в дом вошел отец.
– Тоути? Что случилось? Почему ты одеваешься? Ты еще не оправился после болезни.
Тоути выпустил крышку сундука из рук, и она с грохотом упала на место.
– Агнес, – сказал он. – Через шесть дней ее казнят. Я получил письмо только сейчас.
Он почти без сил рухнул на кровать и попытался натянуть сапог.
– Ты не в состоянии никуда ехать.
– Отец, все это произошло слишком внезапно. Я подвел ее.
Старик присел рядом с сыном.
– Ты слишком ослаб, – строго сказал он. – Холод убьет тебя. К тому же пошел снег.
Голова у Тоути раскалывалась от боли.
– Я должен добраться до Корнсау. Если выехать прямо сейчас, я, быть может, успею до бурана.
Преподобный Йоун положил тяжелую руку на плечо сына.
– Тоути, ты едва можешь одеться без посторонней помощи. Не обрекай себя на гибель ради этой убийцы.
Тоути ожег отца гневным взглядом, глаза его сверкнули.
– А как же Сын Божий? Разве Он умер только за праведников?
– Ты не Сын Божий. Если ты отправишься в Корнсау, то погубишь себя.
– Я уезжаю.
– А я запрещаю тебе ехать.
– Такова воля Господа.
Пожилой священник покачал головой.
– Это самоубийство. Это против Господа.
Тоути встал, с трудом сохраняя равновесие, и поглядел на оставшегося сидеть отца.
– Господь меня простит.
В церкви стоял лютый холод. Шатаясь, Тоути двинулся к алтарю и рухнул перед ним на колени. Руки его тряслись, тело, укрытое в несколько слоев одежды, бил озноб. Потолок над ним качался и плыл словно в тумане.
– Господи Боже… – Голос Тоути сорвался. – Смилуйся над ней. Смилуйся надо всеми нами.
Маргрьет повязывала платок, собираясь пойти в кладовую за кизяком, когда услыхала, что кто-то снаружи соскребает слой снега с входной двери. Она остановилась, помедлила. Дверь со скрипом отворилась.
– Силы небесные, это ты, Гвюндмюндур? – воскликнула Маргрьет, поспешно выбежав из бадстовы, и увидела, что по коридору бредет Тоути. Лицо его было молочно-белым, на лбу и висках блестели крупные капли пота. – Боже мой, преподобный! Да вы бледны как смерть! А как исхудали!
– Маргрьет, твой муж дома? – В голосе Тоути звучало лихорадочное волнение.
Маргрьет кивнула и провела его в бадстову.
– Присядьте в гостиной, – сказала она, отдернув занавеску. – Не следовало вам ехать сюда в такую погоду. Господи, как вы дрожите! Нет, пойдемте в кухню, вам надо согреться. Что с вами приключилось?
– Я был болен, – хрипло ответил Тоути. – Лежал в жару, и горло распухло так, что едва мог дышать. – Он тяжело опустился на табурет. – Вот почему я так долго не приезжал. – Тоути помолчал, сипло дыша. – Я ничего не мог поделать.
Мгновение Маргрьет неотрывно смотрела на него.
– Я сейчас позову Йоуна, – сказала она и шепотом велела Лауге помочь преподобному снять заиндевевший плащ.
Через несколько минут Маргрьет вернулась в кухню, ведя с собой Йоуна.
– Преподобный, – тепло проговорил Йоун, протягивая руку. – Рад вас видеть. Жена сказала, вы не со всем здоровы…
– Где Агнес? – перебил Тоути.
Маргрьет и Йоун переглянулись.
– Со Стейной и Кристин. Привести ее? – спросила Маргрьет.
– Нет, не сейчас, – ответил Тоути. С усилием стянув перчатку, он запустил руку под рубашку. – Вот, – сказал он, судорожно сглотнув, и протянул Йоуну письмо сислуманна.
– Что это? – спросил Йоун.
– От Блёндаля. Назначен день казни Агнес.
Лауга вскрикнула.
– Когда? – тихо спросил Йоун.
– Двенадцатого января. А сегодня шестое. Так вы ничего об этом не слышали?
Йоун покачал головой:
– Нет. Погода такая, что и носа наружу не высунешь.
Тоути мрачно кивнул.
– Что ж, теперь вы все знаете.
Лауга поглядела на молодого священника, затем на отца:
– Вы скажете ей об этом?
Маргрьет, потянувшись через стол, взяла Тоути за руку. И заглянула в лицо.
– Какой сильный у вас жар, – проговорила она. – Я схожу за Агнес. Она наверняка хотела бы услышать это именно от вас.
Преподобный говорит со мной, но я не слышу его слов, как будто мы погребены под толщей воды, высоко над головой мерцает свет, и я различаю, как руки преподобного плавно движутся передо мной, он то сжимает мои запястья, то отпускает, он похож на тонущего человека, который безуспешно пытается ухватиться хоть за что-то, лишь бы выбраться на поверхность. Преподобный сильно исхудал, остался лишь скелет. Откуда взялась вся эта вода? Кажется, я не могу дышать.
Агнес, повторяет он, Агнес. Я буду там с тобой.
Агнес, говорит преподобный.
Он такой добрый, он протягивает ко мне руки, привлекает меня ближе к себе, но я не хочу этой близости. Он открывает и закрывает рот, точно рыба, кости на исхудавшем лице проступают сквозь натянутую кожу, точно ножи, но я не могу ему помочь, я не знаю, чего он хочет. Тем, кого не поволокут силком на смерть, не понять, как холодеет и отвердевает сердце, превращаясь в гнездо из камней, в котором лежит лишь пустое яйцо. Я бесплодна, безжизненна; ничто больше не произрастет из меня. Я мертвая рыбина, сохнущая в стылом воздухе. Я мертвая птица на берегу. Я иссохла, и, когда на мою шею опустится топор, я не уверена, что из меня потечет кровь. Нет, моя плоть еще тепла, кровь пока еще бурлит в моих жилах, завывая, точно ветер, сотрясает каменное гнездо и вопрошает: где же птицы, куда они улетели?
– Агнес! Агнес! Я здесь. Я с тобой.
Тоути с тревогой смотрел на нее. Женщина уставилась в пол, тяжело дыша и раскачиваясь так, что под ней скрипел табурет. Он ощутил, как подступают к горлу жгучие слезы, но сознавал, что за спиной у него стоят Маргрьет, Йоун, Стейна и Лауга, что в дверном проеме кухни теснятся слуги, не сводя с них глаз.
– Я думаю, ей нужно дать воды, – сказала Стейна.
– Нет, – отозвался Йоун. И обратился туда, где толпились слуги. – Бьярни! Принеси бренвина, будь добр.
Бьярни сбегал за бутылкой, и Маргрьет поднесла ее к губам Агнес.
– Ну вот, – сказала она, глядя, как Агнес сделала глоток и поперхнулась, расплескав добрую половину на платок. – Теперь тебе станет легче.
– Сколько дней осталось? – прохрипела Агнес.
Тоути заметил, что она впилась ногтями в мякоть собственной руки.
– Шесть дней, – мягко ответил он и, подавшись к Агнес, взял ее ладони в свои. – Но я здесь, я больше никуда не уйду.
– Преподобный Тоути…
– Да, Агнес?
– Может, я сумею упросить их, может, если я пойду к Блёндалю, он передумает, и мы сможем подать прошение? Преподобный, вы можете поговорить с ним от моего имени? Если вы поговорите с ним и все объясните, он, наверное, вас послушает. Преподобный, они не могут так…
Тоути положил дрожащую руку на плечо женщины.
– Я приехал к тебе, Агнес. Я здесь, с тобой.
– Нет! – Агнес оттолкнула его. – Надо с ними поговорить! Надо, чтобы они нас выслушали!
Тоути услышал, как Маргрьет поцокала языком.
– Несправедливо это, – пробормотала она. – То была вовсе не ее вина.
– Что? – Тоути обернулся к ней: – Она говорила с тобой?
Маргрьет кивнула, глаза ее наливались слезами.
– Как-то ночью. Мы сидели вдвоем допоздна. Не справедливо это! – с силой повторила она. – Ох Господи! Мы хоть что-нибудь можем сделать? Тоути? Что мы можем сделать для нее?
Прежде чем он успел ответить, Маргрьет всхлипнула, закрыла лицо руками и, шаркая, вышла из комнаты. Йоун последовал за ней.
Агнес дрожала всем телом, неотрывно глядя на собственные руки.
– Я не могу ими пошевелить, – тихо проговорила она. И подняла на Тоути широко раскрытые глаза. – Я не могу ими пошевелить.
Тоути снова взял ее застывшие ладони в свои. Он не знал, кто из них дрожит сильнее.
– Я здесь, я с тобой, Агнес, – вот и все, что он мог сказать.
Я держусь, я стараюсь думать о мелочах. Мысленно сосредоточиваюсь на прикосновении полотна простыни к своей коже.
Я дышу как можно более глубоко и бесшумно.
Темнеет небо, и холодный ветер дует сквозь тебя, как будто тебя и нет, дует насквозь, как будто ему безразлично, жива ты или мертва, потому что тебя не станет, а он вечно пребудет здесь, вечно будет приминать траву к земле, безразличный к тому, промерзла земля или оттаяла, потому что она промерзнет и снова оттает, и скоро твои кости, омытые теплой кровью, насыщенные костным мозгом, высохнут, станут ломкими, рассыплются на кусочки и станут замерзать и оттаивать вместе с толщей навалившейся на тебя земли, и последние капли влаги твоего тела поднимет наружу трава, и налетит ветер, и прибьет ее к земле, и разбросает тебя по скалам либо же соскребет тебя когтями и унесет в море под безумные пронзительные вопли снежной бури.
Преподобный Тоути безотлучно пробыл с Агнес до глубокой ночи, до тех пор пока она наконец не забылась сном. Маргрьет из угла бадстовы следила за преподобным с тревогой. Он тоже заснул – сидя, привалившись боком к столбику кровати и отчаянно дрожа под одеялом, которым его бережно укрыла Маргрьет. Она подумывала разбудить его и уложить на свободную кровать, но решила, что все-таки не стоит. Вряд ли он согласится.
В конце концов Маргрьет отложила вязанье. Ей припомнилась смерть Хьёрдис. После первого появления Агнес в Корнсау Маргрьет больше ни разу не вспоминала об усопшей служанке… но все это – мрачное ожидание неминуемой смерти, свет, горящий в доме допоздна, состояние, когда больше нет сил плакать, – все это вызывало в памяти те давние дни. Маргрьет окинула взглядом спящих домочадцев. И обнаружила, что постель Лауги пуста.
Она поднялась со стула, чтобы отправиться на поиски дочери, – и тут приступ кашля обрушился на нее с такой силой, что Маргрьет упала на колени. И гулко закхекала, пока легкие не исторгли на половицу комок кровавой слизи. Маргрет охватила слабость, и она так и осталась сидеть на четвереньках, тяжело дыша и дожидаясь, пока вернутся силы.
Лаугу она нашла не сразу. Дочери не было ни в молочне, ни у теплого очага в кухне. Шаркая ногами, Маргрьет заглянула в темноту чулана и повыше подняла свечу.
– Лауга?
Из угла, где стояли сдвинутые друг к другу бочонки, донесся едва слышный шорох.
– Лауга, это ты?
Пламя свечи заплясало, бросая тени по стенам, и наконец высветило за наполовину опустошенным мешком с припасами неясную человеческую фигуру.
– Мама?
– Лауга, что ты здесь делаешь?
Маргрьет шагнула ближе, поднесла свечу к лицу дочери.
Лауга зажмурилась от яркого света и поспешно встала. Глаза ее были красны.
– Ничего.
– Ты расстроена?
Лауга вздрогнула и поспешно протерла глаза.
– Нет, мама.
Маргрьет окинула дочь испытующим взглядом.
– Я тебя искала, – сказала она.
– Мне просто захотелось немного побыть одной, вот и все.
Мгновение они смотрели друг на друга в неверном свете оплывающей свечи.
– Тогда иди спать, – наконец промолвила Маргрьет. Вручила Лауге свечу и молча вышла вслед за ней из чулана.
Не было никакого набитого кошеля. Фридрик так и не нашел денег, которыми так жаждал завладеть. Агнес, Агнес, где он спрятал деньги, в сундуке? Поздно, мои пальцы уже покрыты скользким китовым жиром, жир уже втерт в половицы и смешался с натекшей на пол кровью, я уже швырнула в эту смесь лампу, и Сигга пронзительно закричала, услышав звон бьющегося стекла.
Меня пытаются накормить, но, Тоути, я не могу есть. Не корми меня, или я тебя укушу, укушу руку, которая кормит меня, которая отказывает мне в любви, которая покидает меня. Где мой камушек? Ты не понимаешь! Мне нечего сказать тебе – где вороны? Йоуас отослал их прочь, они больше не говорят со мной, это нечестно. Видишь, что я делаю ради них? Жую камни, крошу зубы о камни, а они все равно не говорят со мной. Только ветер. Только ветер что-то говорит, но речи его бессмысленны, он воет и причитает, словно вдова всего мира, и не станет ждать ответа.
Ты сгинешь бесследно. Не будет последнего приюта, не будет похорон, будет лишь непрерывное рассеяние, путешествие окольными путями, куда угодно, только не домой, ибо дома нет, есть лишь этот холодный остров, и твоя темная душа рассеется по нему, и ты переймешь вой ветра и станешь вторить его одиночеству, ты не найдешь дома, ты уйдешь, безмолвие заберет тебя, втянет твою жизнь в свои черные воды и породит звезды, быть может, похожие на тебя, но если и так, они этого не скажут, они не назовут твое имя, а если никто не назовет твоего имени, ты забыта, я забыта.
В ночь перед казнью все обитатели Корнсау собрались в бадстове. Заплаканная Стейна принесла все лампы, какие сумела найти, зажгла их и расставила по комнате, чтобы разогнать тени, затаившиеся по углам. Слуги расселись по своим кроватям, привалившись спиной к стене, и безмолвно глазели на Тоути и Агнес, которые сидели, прижавшись друг к другу, у нее на постели. Они держались за руки, и преподобный что-то шептал Агнес. Она неотрывно смотрела в пол и дрожала всем телом.
Вернулся, задав корм скоту, Йоун, опустился на кровать рядом с Маргрьет и нагнулся, распутывая завязки на башмаках. Маргрьет отложила вязанье, встала, помогла ему снять куртку и замерла, продолжая держать ее.
– Мама!
Стейна, сидевшая рядом с Лаугой, встала; Лауга осталась сидеть, бесстрастно глядя, как пляшет огонек на фитиле ближайшей лампы.
– Мама, дай я заберу куртку.
Маргрьет поджала губы и молча отдала мокрую куртку Стейне. Затем медленно опустилась на колени и, подавляя кашель, передвинулась ближе к кровати. Дочь безмолвно смотрела, как она засунула руку под кровать.
– Стейна, – позвала Маргрьет.
Та нагнулась и помогла матери выволочь из-под кровати раскрашенный сундук.
– Поставь его вот здесь, рядом с Йоуном.
С видимым усилием Стейна подняла тяжелый сундук и водрузила его поверх одеял. Взлетело облачко пыли. Стейна смотрела, как Маргрьет откинула железный засов. В сундуке лежала одежда.
Искоса глянув на Агнес, которая, дрожа всем телом, прижималась к преподобному, Маргрьет запустила руку в сундук и достала платок из тонкой шерсти. Без единого слова она подошла к кровати Агнес и, кивнув Тоути, набросила платок на ее плечи.
Тоути взглянул на Маргрьет в свете лампы и натянуто улыбнулся. Лицо его было серым.
Все молча наблюдали за тем, как Маргрьет, решительно поджав губы, продолжает рыться в сундуке. Она вынула темную юбку с вышитым узором по подолу и бережно положила ее рядом с собой на одеяла. За юбкой последовали белая хлопчатая сорочка, расшитый корсаж и, наконец, полосатый фартук. Маргрьет разгладила ладонями складки на ткани.
– Мама, что это значит? – спросила Стейна.
– Это – самое меньшее, что мы можем сделать, – ответила Маргрьет. Она оглядела комнату, словно ожидая услышать возражения, затем со стуком захлопнула крышку сундука и жестом велела Стейне убрать его назад под кровать.
Мгновение Маргрьет стояла неподвижно, глядя в другой конец комнаты, где сидела на своей кровати Лауга. Затем в несколько стремительных шагов пересекла бадстову и протянула руку.
– Дай сюда брошь, – сказала она. Лауга подняла глаза, рот ее приоткрылся. После секундной заминки она встала и, нагнувшись, пошарила под кроватью. Затем медленно вручила матери брошь и села на место, смаргивая слезы. Маргрьет вернулась и положила серебряную брошь поверх разложенного на одеялах корсажа. Затем взялась за свое вязание.
Снегопад прекратился, и в мире прекратилось всякое движение; облака зависли в стылом воздухе, точно мертвые. Движутся только вороны да люди из Корнсау, но я не могу отличить одних от других: все они в черном, все безостановочно кружат около меня, дожидаясь пищи. Куда девалось время? Ушло вместе с летом? Я осталась вне времени. Где преподобный? Ждет у реки в Гёйнгюскёрде. Высматривает скелет среди мха, среди лавы, среди пепла.
Маргрьет тянется ко мне, берет мою руку в свои, стискивает так, что становится больно, больно.
– Ты не чудовище, – говорит она. Лицо ее раскраснелось, она кусает губы, впивается в них зубами. Ее пальцы, сплетенные с моими, на ощупь горячие и сальные.
– Меня хотят убить. – Кто это сказал? Неужели я?
– Агнес, мы будем помнить тебя.
Маргрьет сдавливает мои пальцы еще сильнее, так, что я готова заплакать от боли, и вот уже плачу. Я не хочу, чтобы меня помнили, я хочу быть здесь, живой, во плоти!
– Маргрьет!
– Я здесь, Агнес. Все пройдет, девочка моя. Девочка моя.
Я плачу, и рот мой открыт, что-то не дает мне дышать, я почти давлюсь и наконец выплевываю. На снегу лежит камень, и я смотрю на Маргрьет и вижу, что она ничего не заметила. «Этот камень был у меня во рту», – говорю я, и Маргрьет морщится, потому что не понимает. Времени объяснять нет, она уже передала мои руки Стейне, словно я реликвия или облатка, и все они причащаются мною, а пальцы Стейны холодны. Она выпускает мои ладони и обвивает руками мою шею. Ее всхлипывания громко отдаются у меня в ухе, но я приникаю к ней, потому что она теплая, а я не могу припомнить, когда в последний раз меня обнимали вот так, когда хоть кому-нибудь захотелось прижаться щекой к моей щеке.
– Мне так жаль, – слышу я собственный голос. – Мне так жаль.
Вот только я не знаю, о чем жалею. Слова срываются с губ у всех пузырьками воздуха, и последние мои силы уходят на то, чтобы не плакать, судорога скручивает позвоночник оттого, что я стараюсь не плакать, но я плачу, слезы текут по моему лицу, не знаю, может быть, это слезы Стейны. Все мокрое, повсюду вода. Это море?
– Меня утопят? – спрашиваю я, и кто-то качает головой. Это Лауга. «Агнес», – говорит она, а я говорю: «Первый раз, когда ты назвала меня по имени», – и это правда, она скрючивается и оседает, словно я ударила ее ножом в живот.
– Думаю, нам пора, – говорит Тоути, и я хочу повернуться к нему, но не могу, потому что все мы под водой, а я не умею плавать.
– Давай. – Кто-то берет меня за руку, и я отрываюсь от земли. Небо становится ближе, и на долю секунды я взлетаю почти к самым облакам, но потом понимаю, что меня посадили на лошадь и, словно труп, повезут к месту погребения, словно покойницу, засыплют землей, словно камень, бросят в могилу. В небесах – вороны, но что за птица летает под водой? Какая птица может петь, если камень не слышит ее песни?
Натан наверняка знает. Не забыть бы спросить у него.
Снег укрыл долину, точно льняная простыня, точно саван, ждущий, когда в него канет мертвая плоть обмякшего над головой неба.
Все кончено, подумал Тоути. Он пустил кобылку галопом и нагнал коня, на котором везли Агнес. Держа поводья одной рукой, он стащил с другой перчатку и потянулся, чтобы похлопать Агнес по колену. И тут же в нос ударила горячая вонь мочи. Агнес глянула на него широко открытыми глазами. Зубы ее безудержно стучали.
– Извините, – почти беззвучно проговорила она.
Тоути ободряюще сжал ее колено. Он старался смотреть в глаза Агнес, но взгляд ее загнанным зверьком метался по всей долине.
– Агнес, – пробормотал он, – Агнес. Посмотри на меня.
Агнес искоса глянула на него, и ему подумалось, что яркая голубизна ее глаз выцвела почти до белесого оттенка.
– Я здесь, я с тобой, – сказал Тоути и снова сжал ее колено.
Рядом с ним, сжав рот в тонкую линию, скакал приходской староста Йоун. Тоути с удивлением отметил, что к ним присоединились еще несколько всадников. Все они были одеты в черное, рты прикрыты шарфами от морозного воздуха. Всадники ехали россыпью, кони грызли удила, выдыхая тугие облачка пара.
– Преподобный! – окликнули сзади. Обернувшись, Тоути увидел, что их нагоняет крупного сложения всадник с длинными светлыми волосами. Подъехав ближе, он сунул руку за пазуху, достал небольшую фляжку и без лишних слов вручил ее Тоути. Священник кивнул. Наклонившись, он взял Агнес за руку и вложил ей в ладонь фляжку.
– Выпей, Агнес.
Женщина поглядела на фляжку, затем на Тоути, и он снова кивнул. Она обеими руками поднесла фляжку к дрожащим губам, глотнула – и тут же поперхнулась, закашлялась. Тоути ласковым шепотом подбодрил ее.
– Глотни еще, Агнес, – настойчиво проговорил он. – Это поможет.
Второй глоток пошел легче, и Тоути отметил, что Агнес уже не так лихорадочно стучит зубами.
– Выпей все, Агнес, – сказал светловолосый всадник. – Я прихватил эту фляжку для тебя.
Агнес извернулась в седле, пытаясь разглядеть говорившего. И отбросила с лица длинные темные волосы, чтобы лучше его видеть.
– Спасибо, – пробормотала она.
Некоторое время спустя всадники поднялись на гряду, протянувшуюся к выходу из долины, и увидели первые холмы Ватнсдалсхоулара. В голубом свете причудливые очертания холмов казались призрачными, и Тоути при виде их содрогнулся.
Агнес уткнула подбородок в намотанные вокруг шеи шарфы, упавшие волосы целиком закрывали ее лицо. Тоути подумалось было, не задремала ли она под воздействием спиртного, но в тот самый миг, когда эта мысль промелькнула в его голове, лошади резко встали, и Агнес подняла голову. Она поглядела на устье долины и снова затряслась всем телом.
– Мы уже приехали? – шепотом спросила она Тоути. Преподобный спешился и передал поводья одному из всадников. Тряхнув головой, чтобы отогнать подкатившую к горлу тошноту, он сделал несколько шагов по снегу, и в стылом воздухе разнесся отчетливый хруст. Тоути протянул руки к Агнес:
– Дай я помогу тебе спуститься.
Вместе с Йоуном и еще одним спутником преподобный снял Агнес с седла. Когда они поставили женщину на ноги, она зашаталась и упала.
– Агнес! Вот, держись за мою руку.
Агнес подняла взгляд на Тоути, в глазах ее были слезы.
– Меня ноги не слушаются, – прохрипела она. – Ноги не слушаются.
Тоути наклонился, обхватил ее одной рукой за плечи. Когда он попытался поднять Агнес, колени его подогнулись, и они оба упали в глубокий снег.
– Преподобный! – Йоун стрелой метнулся на помощь.
– Нет! – пронзительно выкрикнул Тоути. И снизу вверх пристально оглядел спутников, которые кружком стояли над ними. Агнес цеплялась за его руку. – Нет, – повторил он. – Дайте мне самому поднять ее. Это должен сделать я.
Люди расступились, и Тоути кое-как поднялся на колени, затем медленно встал. Пошатнулся было, но тут же выпрямился, закрыл глаза, глубоко и размеренно дыша, дожидаясь, пока головокружение ослабнет. «Держись», – велел он себе. Затем снова наклонился и протянул руку Агнес.
– Возьми меня за руку, – сказал он. – Возьми.
Агнес поглядела на руку Тоути – и ухватилась за нее изо всей силы, вонзая ногти в кожу.
– Не уходи! – жалобно проскулила она. – Не покидай меня!
– Я тебя не покину, Агнес. Я здесь, с тобой.
Стиснув зубы, Тоути выволок женщину из сугроба, закинув ее руку себе на шею.
– Ну вот, – шепнул он, крепко обхватив ее за талию и словно не замечая зловония испражнений. – Я держу тебя.
Хуторяне округа нестройно двинулись мимо них к трем холмам, которые высились неподалеку. Вокруг среднего холма уже стояли около сорока человек, все до одного в черном. Тоути подумалось, что они смахивают на хищных птиц, окружающих свою добычу.
– Нам идти с ними? – срывающимся голосом спросила Агнес.
– Нет, Агнес. – Тоути свободной рукой отвел с ее глаз пряди волос. – Нет, нам нужно будет пройти совсем немного, а потом – ждать. Первым пойдет Фридрик.
Агнес кивнула и прижалась к Тоути, и они медленно побрели через сугробы к кочковатому лугу. Тоути поддерживал ее, насколько хватало сил. Тяжело дыша, он бережно опустил Агнес на заснеженную землю и почти рухнул рядом. Йоун присел на корточки возле них и поднял фляжку, выпавшую из руки Тоути. Преподобный видел, как староста торопливо отхлебнул из фляжки и поморщился.
Одна за другой тянулись минуты. Тоути старался не замечать, как мертвящие иглы холода все глубже и глубже проникают в тело. Он держал руки Агнес в своих, голова женщины лежала на его плече.
– Почему мы не молимся, Агнес?
Она открыла глаза и невидяще всмотрелась в даль.
– Там поют.
Тоути повернул голову в ту сторону, откуда доносилось пение. Он разобрал похоронный гимн – «Подобно цвету на лугу». Агнес, дрожа, напряженно вслушивалась.
– Что ж, тогда послушаем вместе, – прошептал он. И обнял Агнес за плечи, а слова гимна взлетали над заснеженным лугом и оседали на них, словно туман.
Слева от Тоути стоял на коленях Йоун, молитвенно сложив руки, губы его шевелились, шепча «Отче наш». «И прости нам наши прегрешения». Тоути сильнее сжал руку Агнес, и женщина тихонько вскрикнула.
– Тоути, – проговорила она испуганным голосом. – Тоути, мне кажется, я не готова. Мне кажется, они этого не сделают. Ты можешь попросить их подождать? Они должны подождать.
Тоути теснее прижал Агнес к себе, стиснул ее пальцы.
– Я не покину тебя. Господь с нами, Агнес, он – все, что нас окружает. Я никогда не покину тебя.
Женщина подняла взгляд в пустое небо. По долине эхом прокатился первый удар топора.
Эпилог
Осужденные Фридрик Сигюрдссон и Агнес Магнусдоттир были сегодня доставлены из мест заключения к месту казни, и с ними последовали туда же преподобный Магнус Аурнасон, преподобный Гисли Гисласон, преподобный Йоуханн Тоумассон и преподобный Торвардур Йоунссон, младший проповедник. Осужденные ранее пожелали, дабы двое последних помогли им подготовиться к смерти. После того как проповедник Йоуханн Тоумассон прочел последнее увещевание осужденному Фридрику Сигюрдссону, голова Фридрика была снесена с плеч одним ударом топора. Хуторянин Гвюндмюндур Кетильссон, назначенный исполнителем приговора, управился с делом, кое было ему поручено, весьма ловко и бесстрашно. Затем была доставлена осужденная Агнес Магнусдоттир, которую во время казни Фридрика содержали в месте, откуда она не могла видеть эшафота. После того как младший проповедник Торвардур Йоунссон надлежащим образом приуготовил ее к смерти, тот же палач отделил ее голову от тела и сделал сие так же искусно, как в первый раз. Затем отрубленные головы были водружены на два шеста перед эшафотом, а обезглавленные тела помещены в гробы из неструганых досок и захоронены прежде, чем людям дозволено было разойтись. Как во время самой казни, так и после завершения оной все происходило в надлежащем порядке и без лишнего шума и завершилось краткой речью, которую преподобный Магнус Аурнасон произнес перед собравшимися.
Actum ut supra[19].
Б. Блёндаль, Р. Ольсен, А. Аурнасон
Из судебной книги округа Хунаватн за 1830 год
Послесловие автора
Хотя эта книга – художественный вымысел, в ее основе лежат подлинные события. Смертная казнь Агнес Магнусдоттир стала последней в истории Исландии. Агнес была приговорена к смерти за соучастие в убийстве Натана Кетильссона и Пьетура Йоунссона, совершенном в ночь с 13 на 14 марта 1828 года на хуторе Идлугастадир, на полуострове Ватнснес в Северной Исландии. В 1934 году прах Агнес и Фридрика Сигюрдссона был перенесен из Тристапара на церковное кладбище в Тьёрне, где и захоронен в одной могиле. Могила Натана Кетильссона на том же кладбище сейчас не имеет надгробия. Сигридур Гвюндмюндсдоттир была отправлена на ткацкие работы в одну из тюрем Копенгагена, где, по слухам, через несколько лет скончалась. Какое-то время ходила местная легенда, будто Сигридур спас из заключения некий богач и она прожила еще долго. Правда это или нет, но легенда свидетельствует, что люди и через много лет после этих событий относились к ней с сочувствием.
Моя интерпретация преступления в Идлугастадире рождена многолетними изысканиями, в ходе которых я изучила правительственные документы, приходские записи, данные переписей, местные предания и публикации, а также переговорила с множеством исландцев. Хотя некоторые участники этих событий были придуманы мной или, наоборот, пропущены, или же их имена по необходимости изменены, большинство, в том числе Бьёрн Блёндаль, младший проповедник Торвардур Йоунссон, почти все обитатели Корнсау и родители Агнес взяты мной из исторических записей.
Я никоим образом не хотела обидеть никого из ныне живущих родственников тех людей, чьи имена я позаимствовала, дабы рассказать историю Агнес.
Многие письма, документы и выписки, представленные в начале каждой главы, были заимствованы из оригинальных источников, переведены и адаптированы. Развалины мастерской Натана сохранились в Идлугастадире до наших дней, а место казни в Тристапаре отмечено каменной стелой. Все географические названия, использованные в этой книге, взяты из жизни, и многие хутора, упомянутые Агнес или другими персонажами книги, благополучно существуют до сих пор.
В романе воспроизведены многие известные и установленные факты о жизни Агнес и идлугастадирском убийстве, и события романа либо взяты напрямую из документов, либо придуманы мной; это вымысел, но близкий к истине. Агнес действительно жила под надзором хозяев хутора Корнсау после того, как некоторое время пробыла в Стоура-Борге, и действительно выбрала младшего проповедника Торвардура Йоунссона в качестве духовного наставника в оставшиеся дни перед казнью. Природа их отношений, в том числе мистическая первая встреча во сне Агнес, взята из местных рассказов и преданий. Высокий уровень грамотности, демонстрируемый персонажами книги, является историческим фактом. К началу XIX века исландцы стали почти поголовно грамотной нацией.
Я многим обязана трудам таких ученых, как Гисли Аугуст Гуннлаугссон, Оулёв Гардарсдоттир, Лофтур Гуттормссон, Гуннар Торвальдсен, Сёрен Эдвинссон, Ричард Тоумассон и Сигюрдур Магнуссон. В этих трудах подробно исследуются такие вопросы, как положение приемных детей и приходских сирот, детская смертность, внебрачные отношения и хитросплетения родственных отношений в Исландии XIX века. Также я многое почерпнула из путевых дневников иностранцев, которые посещали Исландию в XIX веке, в том числе записей Эбенезера Хендерсона, Джона Барроу, Александра Брайсона, Артура Диллона, Уильяма Хукера, Нильса Хорребов, сэра Джорджа Маккензи и Уно фон Тройла. Кроме того, бесценными источниками информации стали для меня издания Húnavetningur, Sagnaþettir úr Húnaþing и Húnavatnsþing Brandsstaðaannall.
Идлугастадирскому убийству, а также жизни (и смерти) Натана Кетильссона посвящены несколько достойных внимания книг и статей. Будучи в высшей степени полезными, некоторые из этих источников тем не менее противоречат друг другу, а некоторые разделяют распространенный взгляд на Агнес как на бездушную ведьму и подстрекательницу к убийству. Мой роман был написан для того, чтобы представить миру не столь однозначный образ этой женщины.
Благодарности
Я глубоко признательна многим людям, которые помогали мне в сборе материала и написании этой книги.
Искренняя благодарность Кнутуру Оускарссону и его матери – за гостеприимство, кофе, помощь в переводе и за все разговоры за полночь в Оусаре. Знакомство с вами было и осталось для меня уникальным проявлением взаимного резонанса и удачи.
Спасибо Йоуну Торвасону и его коллегам-архивистам с островов Тьёудскьяласавн – за помощь, энтузиазм и за то, что нашли для меня оригиналы судебных документов.
Спасибо Гвюндмюндуру Йоуханссону за необычайно полезное письмо.
Библиотекари и сотрудники Тьёудминьясавна, Института древнеисландских рукописей имени Арне Магнуссона, Библиотеки Кринглан, музеев Аурбайярсавна и Глумбайра – спасибо за терпение и всемерную помощь.
Тысяча благодарностей моей «исландской семье». Без вас эта книга никогда не была бы написана. Спасибо вам, дорогие мои Пьетур Бьёрнссон, Регина Гуннарсдоттир, Гера Биргисдоттир, Хадльдоур Сигюрдссон, Сильвия Дёгг Гуннарсдоттир и Мария Рейнисдоттир – за доброту, ночлег и гостеприимство. Спасибо многим другим исландцам, с которыми мне довелось встречаться и которые тем или иным образом внесли вклад в эту книгу. Надеюсь, вы увидите в этой книге то, что я вложила в нее, – сокровенное признание в любви, адресованное Исландии.
Спасибо сотрудникам Университета Флиндерс, особенно Рут Старк, которая поддерживала меня с самого начала.
Мои первые читатели – Кайли Карделл и Калинда Эштон, а также Кейт Дуглас, Дэвид Сорниг и Бек Старфорд, – спасибо за дружбу и за возможности, которые вы мне подарили.
Огромная благодарность Джеральдин Брукс – за наставления и мудрые комментарии. Спасибо Writing Australia Unpublished Manuscript Award, Писательскому центру Южной Австралии, а также Питеру Бишопу, Валери Парв, Патрику Аллингтону и Марку Маклеоду – за высокую оценку моего труда.
Я безмерно благодарна чудесной Пиппе Мэссон и дорогой Аннабел Блэй из литературного агентства Curtis Brown Australia. Спасибо, Гордон Браун, Кейт Купер и их коллеги из Curtis Brown UK, а также Дэн Лазар из Writer’s House. Эмма Рафферти, Софи Джонатан, Аманда Брауэр и Джо Джарра – спасибо за зоркий взгляд и обдуманные предложения.
Мои чудесные издатели, Алекс Крэг и Пол Баггали из Picador, Джуди Клейн из Little, Brown, – спасибо, что верили в эту книгу.
Наконец, мои самые сердечные благодарности вам, Пэм, Алан и Брайони, – за любовь и постоянство, за то, что Агнес Магнусдоттир дорога вам не меньше, чем мне.
И последнее, но всегда первое по праву имя в списке благодарностей. Спасибо тебе, Ангарад, за то, что никогда не сомневаешься во мне, что поддерживаешь и укрепляешь мой дух – ежедневно, ежечасно.
Ханна Кент родилась в 1985 году в Аделаиде, Южная Австралия. О судьбе Агнес Магнусдоттир она услышала, будучи совсем юной, в Исландии, где побывала в рамках программы школьного обмена Rotary. Через несколько лет эта трагическая история стала основой ее первой книги – «Вкус дыма», получившей целый ряд престижных премий и изданной общим тиражом более трех миллионов экземпляров на двадцати двух языках.
Ханна живет в Мельбурне, работает издательским директором австралийского литературного журнала Kill Your Darlings. Осенью 2016 года выходит ее вторая книга.