1984. Скотный двор бесплатное чтение
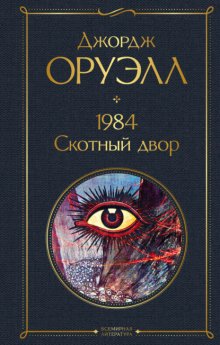
George Orwell
1984 ANIMAL FARM
Перевод с английского
© Шепелев Д.А., перевод на русский язык, 2021
© Беспалова Л.Г., перевод на русский язык, 2021
© Таск С.Э., перевод на русский язык, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
Почему я пишу
С очень раннего возраста, лет с пяти-шести, я знал, что стану писателем, когда вырасту. В промежутке между семнадцатью и двадцатью четырьмя я пытался оставить эту идею, отдавая себе, однако, отчет в том, что тем самым я бросаю вызов своей природе и что раньше или позже мне придется угомониться и писать книги.
Я был вторым ребенком из трех, с разрывом в пять годков с обеих сторон, и до восьми лет отца почти не видел. По этой и другим причинам я чувствовал себя одиноким, и у меня быстро развились дурные манеры, сделавшие меня непопулярным в школе. Как всякий маленький отшельник, я выдумывал истории, вел разговоры с воображаемыми персонажами, и, кажется, с самого начала мои литературные амбиции перепутались с ощущением обособленности и недооцененности. Я легко владел словом, умел смотреть в лицо неприятным фактам и чувствовал, что создаю свой личный мир, где смогу взять реванш за неудачи в обычной жизни. Тем не менее объем серьезных – по намерениям – вещей, написанных мной в период детства и отрочества, не насчитывал и полдюжины страниц. Мое первое стихотворение мама записала с моих слов, когда мне было четыре или пять лет. Деталей не помню, кроме того что оно было посвящено тигру с «зубами как стулья» – неплохо сказано, если бы еще это не было плагиатом блейковского «Тигр, о тигр». В одиннадцать, когда разразилась война 1914 года, я написал патриотическое стихотворение, которое напечатала местная газета, как и другое, двумя годами позже, на смерть Китченера [1]. Став постарше, я периодически писал плохие и, как правило, незаконченные «стихи о природе» в георгианском стиле. Еще я пару раз попробовал себя в жанре короткого рассказа – чудовищный провал. Вот, собственно, итог моей серьезной писанины в те годы.
Но в каком-то смысле я тогда втянулся в литературную деятельность. Были вещи на заказ, я их делал быстро, легко и без особого удовольствия. Помимо школьных заданий, я писал vers d’occasion [2], полушутливые стихотворения, которые, как мне сейчас кажется, выдавал с поразительной скоростью, – в четырнадцать лет я сочинил за неделю целую пьесу в стихах в подражание Аристофану, – и помогал издавать школьные журналы, как печатные, так и рукописные. Эти журналы являли собой самые жалкие карикатуры, какие только можно себе представить, и я с ними расправлялся с куда большей легкостью, чем нынче с дешевой журналистикой. Но параллельно со всем этим, на протяжении пятнадцати с лишним лет, я занимался литературным упражнением совсем иного рода, создавая непрерывную «историю» о себе, что-то вроде дневника, существующего лишь в моей голове. Я полагаю, нечто подобное происходит со всеми детьми и подростками. Будучи ребенком, я воображал себя, к примеру, Робин Гудом, героем захватывающих приключений, однако довольно скоро мои «истории» резко утратили нарциссизм и становились все больше описанием того, что я делаю и вижу. В голове моей складывалась картина: «Он толкнул дверь и вошел в комнату. Желтый луч света, пробивающийся сквозь муслиновые занавески, прилег на стол, где рядом с чернильницей лежал полуоткрытый спичечный коробок. Держа правую руку в кармане, он подошел к окну. На улице кот со спиной, похожей на черепаховый панцирь, гонялся за мертвым листом» и т. д., и т. п. Эта привычка сохранялась лет до двадцати пяти, пока я всерьез не занялся литературой. Притом что я должен был искать и искал точные слова, похоже, я обращался к описаниям, сам того не желая, под воздействием какого-то внешнего толчка. Подозреваю, что мои «истории» отражали стили писателей, которыми я увлекался в разные годы, но, насколько я помню, их всегда отличала дотошная описательность.
В шестнадцать я вдруг открыл для себя красоту самих слов, то есть их звучания и ассоциаций. Строчки из «Потерянного рая»:
- С трудом, упорно Сатана летел,
- Одолевал упорно и с трудом [3],
которые сегодня не кажутся мне такими уж замечательными, тогда вызывали у меня мурашки, а написание «hee» вместо «he» лишь увеличивало восторг. Про то, как надо описывать вещи, я уже все знал. Поэтому понятно, какого сорта книги я хотел писать, если в то время написание книг вообще входило в мои планы. Я намеревался сочинять толстенные натуралистические романы с несчастливым концом, с подробнейшими описаниями и ошеломительными сравнениями, с витиеватыми пассажами, где слова отчасти используются ради самого звучания. И кстати, мой первый роман «Бирманские дни», написанный в тридцать лет, но задуманный гораздо раньше, в сущности, является именно такой книгой.
Я даю всю предысторию, так как, мне кажется, невозможно понять мотивы писателя, не имея представления о его развитии на раннем этапе. Тематику определит само время – особенно если речь идет о таком бурном революционном времени, как наше, – но еще до того, как он начнет писать, у него должно сложиться эмоциональное отношение к миру, от которого уже до конца не уйти. Ему, разумеется, предстоит обуздывать свой темперамент, и он не должен застрять на какой-то незрелой стадии или в каком-то не том состоянии, но совсем избавиться от ранних влияний – значит убить в себе творческий импульс. Оставляя в стороне необходимость зарабатывания на жизнь, я вижу четыре сильных мотива для писательства, во всяком случае для сочинения прозы. В каждом писателе они существуют в разных пропорциях, которые со временем могут меняться в зависимости от атмосферы, в которой он живет. Вот они:
(1) Чистый эгоизм. Желание выглядеть умным или отомстить взрослым за то, что унижали тебя в детстве, желание, чтобы о тебе говорили и чтобы помнили после смерти, и т. д., и т. д. Было бы лицемерием не считать это мотивом; еще какой мотив. Писатели в этом солидарны с учеными, художниками, политиками, законниками, солдатами, успешными бизнесменами – короче, высший слой человеческой расы. Большая масса людей не отличается повышенным эгоизмом. После тридцати они утрачивают личные амбиции – а частенько и ощущение себя как личностей – и начинают жить главным образом для других, если не задыхаются под гнетом повседневности. Но есть также меньшинство одаренных честолюбцев, твердо решивших прожить свою жизнь до конца, и писатели принадлежат к этой категории. Серьезные писатели, я бы сказал, в целом тщеславнее и эгоцентричнее, чем журналисты, хотя не столь корыстны.
(2) Эстетический энтузиазм. Восприятие красоты в окружающем мире или, наоборот, в словах и их правильной расстановке. Удовольствие от воздействия звука на звук, от упругости хорошей прозы или ритма хорошего рассказа. Желание поделиться ценным опытом, дабы он не пропал даром. Эстетический мотив очень слабо развит у большого числа писателей, но даже памфлетист или автор учебников порой вставляет излюбленное словечко или фразу без утилитарной надобности или питает слабость к типографскому шрифту, ширине полей и т. п. Если взять выше железнодорожного справочника, ни одна книга не вполне свободна от эстетических соображений.
(3) Исторический импульс. Желание увидеть все как есть, раскопать подлинные факты и сохранить для потомства.
(4) Политические цели – употребляя слово «политический» в самом широком смысле. Желание подтолкнуть мир в определенном направлении, изменить взгляды людей на общество, за которое они должны бороться. Опять же, никакая книга по-настоящему не свободна от политической ангажированности.
Можно проследить за тем, как эти различные импульсы сталкиваются и как они колеблются в зависимости от конкретного человека и периода времени. По своей природе – понимая «природу» как состояние при вступлении в пору взрослости – я человек, у которого первые три мотива перевешивают четвертый. В мирное время я бы сочинял орнаментальные или просто описательные книжки, даже не догадываясь о своей политической приверженности. А так я был вынужден стать чуть ли не памфлетистом. Пять лет, отданных неподобающей профессии (вест-индская имперская полиция в Бирме), затем бедность и комплекс неудачника. Это усилило мое врожденное неприятие власти и впервые заставило осознать существование рабочего класса, а служба в Бирме открыла мне глаза на природу империализма; однако этого опыта было недостаточно для того, чтобы сформировать внятную политическую ориентацию. Потом был Гитлер, Гражданская война в Испании и проч. Закончился тридцать пятый год, а я все еще не имел твердой позиции. Помню последние три строфы написанного в то время стишка, где выражена тогдашняя дилемма:
- Я личинка, не ставшая бабочкой,
- Я евнух, лишенный гарема.
- Между пастырем и комиссаром
- Я мечусь, как второй Юджин Аром [4].
- Комиссар по руке мне гадает,
- Из радио музыка льется,
- Ну а пастырь мне «остин» сулит,
- Мол, пусть паренек порулит.
- Я жил во дворце в своих снах
- И во дворце просыпался.
- Этот век – для моих ли ты глаз?
- А для Смита? Для Джонса? Для вас? [5]
Война в Испании и другие события 1936–1937 годов перевесили чашу весов, и отныне моя позиция была мне ясна. Каждая серьезная строчка, написанная мной после тридцать шестого, прямо или косвенно направлена против тоталитаризма и за демократический социализм, как я его понимаю. Мне кажется глупостью в такое время, как наше, считать, что можно избежать этих тем. Все так или иначе их касаются. Вопрос лишь в том, на чьей ты стороне и как подходишь к теме. И чем осмысленнее твоя политическая позиция, тем выше шансы, что, занимаясь политикой, ты не будешь приносить в жертву свои эстетические и интеллектуальные принципы.
Больше всего в последние десять лет мне хотелось превратить политическое высказывание в искусство. Для меня всегда отправная точка – чувство солидарности и несправедливости. Когда я сажусь писать книгу, я не говорю себе: «Сейчас я создам произведение искусства». Я пишу, потому что хочу разоблачить какую-то ложь или привлечь внимание к какому-то факту, и моя изначальная забота – быть услышанным. Но я не могу написать книгу или хотя бы большую статью в журнал без эстетической задачи. Любой, кто даст себе труд вникнуть в мои сочинения, увидит, что, даже когда это откровенная пропаганда, там много такого, что профессиональный политик сочтет не относящимся к делу. Я не могу, да и не хочу совсем отказаться от того, как я глядел на мир ребенком. Пока жив и здоров, буду следить за прозаическим стилем, любить все, чем богата земля, и получать удовольствие от добротных предметов и бесполезной информации. Против природы не попрешь. Главное – совместить мои врожденные пристрастия и антипатии с публичными, неиндивидуальными действиями, к которым нас вынуждает само время.
Это непросто. Встают проблемы конструирования и языка, и по-новому встает вопрос правдивости. Позвольте мне дать лишь один пример возникшей неуклюжести. Моя книга «Памяти Каталонии» о гражданской войне в Испании, конечно же, откровенно политическая, но она написана с некоторой отстраненностью и соблюдением формы. Я очень старался рассказать всю правду, при этом не идя против моего литературного инстинкта. В ней, помимо прочего, есть большая глава, изобилующая газетными цитатами и тому подобным и защищающая троцкистов, которых обвиняли в сотрудничестве с Франко. Ясно, что такая глава через год-другой перестанет быть интересной обычному читателю и погубит всю книгу. Критик, чье мнение я уважаю, прочел мне лекцию по этому поводу: «Зачем ты ее включил? Ты превратил потенциально хорошую книгу в журналистский опус». Он был прав, но я не мог поступить иначе. Я располагал информацией, оказавшейся в Англии для многих недоступной: оговоры невиновных людей. У меня это вызвало ярость, без которой книга просто не была бы написана.
Проблема в том или ином виде возникает опять и опять. Вопрос языка достаточно тонкий и потребовал бы слишком долгого обсуждения. Скажу лишь, что в последние годы я стараюсь писать не так ярко, построже. Как бы там ни было, по-моему, к тому моменту, когда ты освоил некий стиль письма, можно считать, что он уже устарел. «Скотский уголок» [6] – первая книга, где я осознанно постарался соединить политическую и художественную задачи в единое целое. После этого я не писал романов семь лет, но вскоре, надеюсь, кое-что получится. Наверняка это будет провал, всякая книга обречена на провал, но по крайней мере я себе ясно представляю, что хочу написать.
Просмотрев последнюю пару страниц, я вижу, что дело выглядит так, будто мои мотивы как писателя направлены исключительно на общественное восприятие. Мне не хотелось бы оставить у вас такое впечатление. Все писатели тщеславны, эгоистичны и ленивы, а в основе всего лежит загадка. Написание книги – ужасная, изнурительная борьба вроде затяжной мучительной болезни. Не стоит за такое браться, если ты не одержим демоном, столь же неотвязным, сколь и непостижимым. Насколько можно судить, демон этот, проще говоря, инстинкт, заставляющий ребенка требовать к себе внимания. Но правда и то, что невозможно написать что-то стоящее, если ты постоянно не пытаешься спрятать подальше свою персону. Хорошая проза – это оконное стекло. Я не могу с уверенностью сказать, какой из моих мотивов сильнее, но знаю, какие из них достойны, чтобы за ними следовать. Оглядываясь на сделанное, я вижу, что, когда у меня не было политической задачи, я неизбежно писал нечто безжизненное, расплачиваясь витиеватыми пассажами, пустыми фразами и виньетками, – короче, подлогом.
Джордж Оруэлл
«Гангрел», № 4, лето, 1946
1984
Часть первая
Был апрельский день, ясный и холодный, и часы отбивали тринадцать. Уинстон Смит вжал подбородок в грудь, пытаясь укрыться от злого ветра, и проскользнул за стеклянные двери жилого комплекса «Победа», впустив за собой завиток зернистой пыли.
В вестибюле пахло вареной капустой и старыми половиками. На дальней стене висел цветной плакат, непомерно большой для помещения. Плакат изображал огромное лицо, шириной более метра: мужчина лет сорока пяти, с густыми черными усами, грубовато-привлекательный. Уинстон направился к лестнице. Про лифт нечего было и мечтать. Даже в лучшие времена он редко работал, а сейчас в дневное время электричество отключали. Действовал режим экономии в преддверии Недели Ненависти. До квартиры было семь лестничных пролетов, и Уинстон с варикозной язвой над правой лодыжкой в свои тридцать девять лет поднимался медленно, то и дело останавливаясь. На каждом этаже со стены напротив лифта на него пялился тот же плакат. Его специально так разместили, что, где ни стой, глаза усача все равно будут смотреть на тебя. Надпись внизу гласила: «БОЛЬШОЙ БРАТ СМОТРИТ ЗА ТОБОЙ».
В квартире сочный голос зачитывал цифры, как-то связанные с производством чугуна. Звук раздавался справа от входа – из вделанной в стену продолговатой металлической пластины, похожей на помутневшее зеркало. Уинстон повернул на ней ручку, и голос стал тише, хотя слова остались различимы. Звук телеэкрана (так называлось устройство) можно было убавить, но не убрать совсем. Уинстон подошел к окну: невысокая, щуплая фигурка, еще более тщедушная в синем комбинезоне, отличавшем членов Партии. Волосы у него были совсем светлыми, на лице играл природный румянец, а кожа загрубела от хозяйственного мыла, тупых бритвенных лезвий и зимних холодов, только недавно отступивших.
Внешний мир даже сквозь закрытое окно отдавал холодом. Внизу, на улице, маленькие смерчи кружили пыль и бумажный мусор. И хотя светило солнце, а небо отливало резкой синевой, все казалось каким-то бесцветным, кроме повсюду развешанных плакатов. Усач взирал с каждого приметного угла – и с фасада дома прямо напротив. «БОЛЬШОЙ БРАТ СМОТРИТ ЗА ТОБОЙ», – гласила надпись, а темные глаза смотрели в лицо Уинстону. Ниже, на уровне улицы, еще один плакат трепетал на ветру оторванным краем, открывая и закрывая единственное слово: «АНГСОЦ». В отдалении скользил между крышами вертолет: завис на миг, точно трупная муха, и взмыл прочь по кривой. Это полицейский патруль заглядывал людям в окна. Но патрули – ерунда. Не то что Мыслеполиция.
За спиной Уинстона голос с телеэкрана продолжал бубнить о чугуне и перевыполнении Девятой Трехлетки. Телеэкран одновременно передавал и принимал информацию. Он улавливал любой звук громче тихого шепота, который издавал Уинстон. Более того, пока тот находился в поле зрения металлической пластины, его могли не только слышать, но и видеть. Конечно, никогда нельзя было сказать с уверенностью, следят за тобой в данный момент или нет. Никто не знал, как часто или по какой системе Мыслеполиция подключается к его каналу. Разумнее было считать, что следят за всеми и всегда. Так или иначе, к твоему телеэкрану могли подключиться в любой момент. Приходилось так жить – и ты жил, свыкаясь на уровне инстинкта с ощущением, что каждый звук в твоей квартире слышат, а движение – видят, особенно при свете.
Уинстон стоял спиной к телеэкрану. Так было на-дежнее, хотя он хорошо знал, что даже спина выдает человека. В километре от дома над обшарпанными зданиями высилась белая громада Министерства правды, место его работы. «Вот он, Лондон, – подумал Уинстон с какой-то смутной неприязнью, – главный город Первой летной полосы, третьей по населенности провинции Океании». Он постарался припомнить, обратившись мыслями к детству, всегда ли Лондон был таким. Всегда ли так же тянулись вдаль вереницы трущоб девятнадцатого века: стены подперты бревнами, окна залатаны картоном, крыши – рифленым железом, а дикие заборы палисадников кренятся во все стороны? И прогалины от бомбежек, где в воздухе кружится известка, а по грудам обломков расползается кипрей; и более обширные пустыри, где бомбы расчистили место для отвратительных скоплений дощатых хибарок, похожих на курятники? Но его старания были тщетны, он не мог вспомнить из детства ничего кроме ярких обрывистых сцен, возникавших без всякого контекста и по большей части невразумительных.
Министерство правды – Миниправ на новоязе [7] – разительно отличалось от всего, что его окружало. Это исполинское пирамидальное сооружение, сиявшее белым бетоном, вздымалось терраса за террасой, на триста метров ввысь. Уинстону были видны из окна квартиры три лозунга Партии, выложенные на белом фасаде элегантным шрифтом:
ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА
Министерство правды насчитывало, по слухам, три тысячи комнат над поверхностью земли и столько же в «корневой системе». Над Лондоном возвышались еще три сооружения подобного вида и размера. Они так явно доминировали над окружающим ландшафтом, что с крыши жилкомплекса «Победа» было видно сразу все четыре. В них размещались министерства, составлявшие весь правительственный аппарат. Министерство правды занималось новостями, досугом, образованием и изящными искусствами. Министерство мира заведовало войной. Министерство любви поддерживало закон и порядок. А Министерство изобилия решало вопросы экономики. На новоязе они назывались Миниправ, Минимир, Минилюб и Минизоб.
Министерство любви внушало страх. Это было здание без окон. Уинстон обходил его за полкилометра и никогда не был внутри. Туда пускали только по официальному делу, а вход защищало хитросплетение заборов с колючей проволокой, стальных дверей и скрытых пулеметных гнезд. Даже улицы, граничившие с Министерством любви, патрулировала гориллоподобная охрана в черной форме, вооруженная складными резиновыми дубинками.
Уинстон решительно отвернулся от окна. Он придал лицу выражение тихого оптимизма, наиболее уместное перед телеэкраном, и прошел через комнату на крохотную кухню. Покинув министерство в обеденный перерыв, он пожертвовал походом в столовую, хотя знал, что дома нет еды, кроме ломтя бурого хлеба, который надо оставить на завтрак. Уинстон снял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой этикеткой: «ДЖИН ПОБЕДА». Из горлышка повеяло тошнотворным маслянистым духом, как от китайской рисовой водки. Он налил почти полную чашку, внутренне собрался и выпил залпом, точно лекарство.
Тут же лицо его покраснело, а из глаз потекли слезы. Как будто он глотнул азотной кислоты, а по затылку ему вмазали резиновой дубинкой. В следующий миг, однако, жжение в животе улеглось, и мир показался Уинстону более радостным. Он вытянул сигарету из мятой пачки с надписью «СИГАРЕТЫ ПОБЕДА» и нечаянно повернул ее вертикально, отчего табак высыпался на пол. Со следующей удалось справиться лучше. Вернувшись в гостиную, Уинстон сел за столик слева от телеэкрана. Из выдвижного ящика он достал перьевую ручку, пузырек чернил и толстую тетрадь большого формата с красным корешком и обложкой под мрамор.
Телеэкран в его квартире располагался почему-то в нестандартном месте – не на торцевой стене, откуда было бы видно всю комнату, а на длинной, напротив окна. Сбоку от экрана находилась неглубокая ниша, задуманная, вероятно, для книжных полок, – там и сидел Уинстон. Вжавшись в нишу, он становился недосягаем для телеэкрана, по крайней мере визуально. Его, разумеется, было слышно, но не видно, пока он не менял положения. Отчасти необычная география комнаты и побудила его когда-то к тому, чем он собирался заняться.
Но не в меньшей мере тому способствовала и сама тетрадь, которую он вытащил из ящика. Вид у нее был необычайно красивый. Такой гладкой кремовой бумаги, чуть пожелтевшей от времени, не выпускали уже лет сорок. Уинстон чувствовал тем не менее, что возраст этой тетради намного больше. Он приметил ее в витрине грязноватой лавки старьевщика где-то в районе трущоб (где именно, он уже не помнил) и немедленно загорелся всепоглощающим желанием заполучить ее. Членам Партии не полагалось заходить в обычные магазины (это называлось «отовариваться на свободном рынке»), но правило частенько нарушалось, поскольку некоторые вещи, такие как шнурки и бритвенные лезвия, невозможно было раздобыть иначе. Быстро скользнув взглядом по улице, Уинстон прошмыгнул внутрь лавки и купил тетрадь за два с половиной доллара. Тогда он еще и сам не знал, для чего она может понадобиться. Уинстон принес ее домой в портфеле, обуреваемый чувством вины. Тетрадь, даже чистая, компрометировала владельца.
А собирался он, собственно, вести дневник. Это не было запрещено законом (просто потому, что никаких законов больше не существовало), но если бы тетрадь обнаружили, то Уинстон мог поплатиться жизнью или получить как минимум двадцать пять лет лагерей. Он приладил к ручке перо и облизнул его для верности. Архаической перьевой ручкой мало кто пользовался даже для подписей, и он приобрел ее тайком и не без труда, просто по ощущению, что прекрасная кремовая бумага заслуживает настоящего пера, а не царапанья химическим карандашом. Вообще-то Уинстон не привык писать от руки. Не считая коротеньких записок, он обычно все надиктовывал в речепис, что в данном случае было, разумеется, невозможно. Он обмакнул перо в чернила и помедлил секунду. От волнения у него забурлило в животе. Оставить на бумаге след – это решительный шаг. Он вывел мелким неуклюжим почерком:
4 апреля 1984 года.
И выпрямился. Им овладело ощущение полной беспомощности. Для начала он даже не был уверен, что сейчас действительно 1984-й. Во всяком случае, что-то близкое к нему, поскольку Уинстон почти не сомневался, что ему тридцать девять, а родился он в 1944-м или 45-м; но теперь на любую дату можно было положиться лишь с погрешностью в пару лет.
Он вдруг задумался, для кого вообще собирался писать дневник? Для будущего, для тех, кто еще не родился. Его разум покружил секунду над сомнительной датой на странице, а затем наткнулся на слово из новояза «двоемыслие». Впервые он осознал, на что замахнулся. Как можно обращаться к будущему? Это по самой своей природе невозможно. Либо будущее станет походить на настоящее, и тогда никто не станет его слушать, либо оно будет другим, и невзгоды Уинстона покажутся ему чуждыми.
Какое-то время он сидел, тупо уставившись на бумагу. Телеэкран заиграл бравурную военную музыку. Что за ерунда: казалось, Уинстон не только лишился способности к самовыражению, но и вообще забыл, что намеревался сказать изначально. Несколько недель он готовился к этому моменту, и ему ни разу не пришло на ум, что потребуется нечто большее, нежели храбрость. Вести дневник – дело нехитрое. Нужно только перенести на бумагу неумолкаемый беспокойный монолог, звучащий в голове уже не первый год. Однако же сейчас иссяк и монолог. К тому же нестерпимо зазудела варикозная язва. Он не смел почесать ее, потому что от этого язва всегда воспалялась. Секунды проходили одна за другой. Он не осознавал ничего, кроме пустой страницы перед собой, чесотки над лодыжкой, гавканья военной музыки и легкого хмеля от джина.
Внезапно он принялся строчить, как в бреду, едва понимая, что именно пишет. Его мелкий, по-детски неровный почерк вихлял вверх-вниз по странице, потеряв сперва заглавные буквы, а затем и точки:
4 апреля 1984. Вчера смотрел кинокартины. Все про войну. Одна очень хорошая как бомбили корабль полный беженцев где-то в Средиземном. Публику весьма забавляли кадры с огромным толстяком уплывающим от вертолета, сперва ты видел как он плещется в воде точно рыбина, затем смотрел на него через прицелы вертолета, потом его изрешетили пули и море вокруг стало розовым и он погрузился так резко словно набрал воды через раны, публика кричит и хохочет когда он тонет. потом ты видел лодку полную детей и кружащий над ней вертолет. на носу лодки сидела женщина средних лет возможно еврейка с трехлетним мальчиком на руках. ребенок кричал от страха и прятал голову между ее грудей словно пытался зарыться внутрь а женщина обнимала его и успокаивала хотя сама посинела от страха, все время прикрывала его как могла словно думала защитить руками от пуль. затем вертолет сбросил на них 20 кг бомбу огромная вспышка и лодка разлетелась в щепки. потом был отличный кадр с детской рукой взлетающей выше выше выше прямо в воздух должно быть вертолет снимал ее фронтальной камерой и с партийных мест много аплодировали но женщина снизу из рядов пролов вдруг подняла хай и стала шуметь и кричать что не надо такое показывать не перед детьми им этого нельзя не перед детьми это пока полиция не забрала ее вывела ее не думаю что с ней что-то сделали никому нет дела что говорят пролы типично пролская реакция они никогда…
Уинстон перестал писать отчасти из-за спазма в руке. Он не знал, зачем выплеснул такой поток белиберды. Но интересный факт: пока он писал, у него в уме проявилось совершенно другое воспоминание, и так ясно оформилось, что хоть бери и записывай. Он теперь понял, что это происшествие и побудило его так неожиданно пойти домой и начать дневник именно сегодня.
Оно произошло утром в министерстве, если слово «произошло» вообще применимо к чему-то столь туманному.
Было почти одиннадцать ноль-ноль, и в Отделе документации, где работал Уинстон, вытаскивали стулья из кабинок и расставляли посередине холла напротив большого экрана, готовясь к Двухминутке Ненависти. Уинстон как раз занимал свое место в одном из средних рядов, когда неожиданно появились два человека – их лица были ему знакомы, но и только. Девушка постоянно встречалась ему в коридорах. Уинстон не знал ее имени, но был в курсе, что она работает в Художественном отделе. Ему случалось видеть ее с гаечным ключом и замасленными руками, так что предположительно девушка работала механиком по обслуживанию одной из романных машин. На вид лет двадцати семи, волосы густые, лицо в веснушках, держалась она заносчиво, а двигалась проворно и по-спортивному. Талию комбинезона перехватывал несколько раз узкий алый кушак, подчеркивая крутые бедра – знак молодежной лиги Антисекс. Уинстон эту девушку сразу невзлюбил. И он понимал почему. От нее так и веяло духом хоккейных полей, купаний в ледяной воде, турпоходов и общей незамутненностью сознания. Он в принципе недолюбливал женщин, особенно молодых и хорошеньких. Именно женщины – и прежде всего юные – стали самыми ревностными приверженцами Партии, они жили лозунгами и всегда готовы были шпионить и вынюхивать отступников. Но эта девушка вызывала ощущение особенной опасности. Один раз, разминувшись в коридоре, она искоса взглянула на него, как ножом полоснула, и его вдруг пробрал липкий ужас. Ему даже подумалось, что она может служить агентом Мыслеполиции. Хотя, следовало признать, это было маловероятно. И все же всякий раз при встрече он испытывал безотчетное волнение с примесью страха и враждебности.
Вторым из вошедших был О’Брайен, член Внутренней Партии, занимавший настолько высокую и удаленную должность, что Уинстон имел о ней самое смутное представление. Как только люди, расставлявшие стулья, заметили черный комбинезон члена Внутренней Партии, все сразу притихли. О’Брайен был мощным, дородным мужчиной с толстой шеей и грубым насмешливым лицом. Несмотря на грозную внешность, ему было присуще своеобразное обаяние. Он имел привычку поправлять на носу очки, и этот неожиданно обезоруживающий жест придавал ему, странно сказать, нечто неуловимо интеллигентное. Такая характерная манера могла вызвать ассоциацию (если кто-то еще помнил подобные образы) с дворянином восемнадцатого века, предлагающим свою табакерку. Уинстон видел О’Брайена, пожалуй, с десяток раз за столько же лет. Он испытывал к нему симпатию, и не только из-за волнующего контраста между учтивыми манерами и телосложением боксера. В большей степени это объяснялось тайным убеждением – даже не убеждением, а лишь надеждой, – что политическая правоверность О’Брайена не была безупречной. Что-то в его лице наводило на подобные мысли. Хотя возможно, что оно выражало не недостаток верности Партии, а просто интеллект. Так или иначе О’Брайен производил впечатление человека, с которым есть о чем поговорить, если бы каким-то образом удалось остаться с ним наедине и перехитрить телеэкран. Уинстон ни разу не пытался проверить свою догадку, да у него и не было такой возможности. Сейчас же О’Брайен взглянул на наручные часы, увидел, что уже почти одиннадцать, и, по всей видимости, решил остаться в Отделе документации до окончания Двухминутки Ненависти. Он сел в том же ряду, что и Уинстон, через пару сидений от него. Между ними расположилась маленькая рыжеватая женщина, которая трудилась в соседней с Уинстоном кабинке. Темноволосая девушка села прямо за ним.
Большой телеэкран на торцевой стене издал жуткий скрежещущий рев, словно чудовищная машина вдруг начала работать без смазки. От этого звука ломило зубы и волосы вставали на загривке. Ненависть началась.
На экране, как обычно, возникло лицо Эммануила Голдштейна, Врага Народа. В зрительских рядах зашикали. Рыжеватая женщина взвизгнула от страха и отвращения. Голдштейн был изменником и отступником, который когда-то давным-давно (насколько именно давно, никто толком не помнил) числился в предводителях Партии, чуть ли не наравне с самим Большим Братом, а потом ударился в контрреволюцию, был приговорен к смерти и таинственным образом сбежал, исчез. Программа Двухминутки Ненависти каждый день менялась, но на первый план всегда выходил Голдштейн. Он значился предателем номер один, первым осквернителем партийной чистоты. Все дальнейшие преступления против Партии, любые измены, вредительства, предательства, уклонения – все это было прямым следствием его учения. Он все еще был жив, скрываясь неведомо где и продолжая плести заговоры: возможно, где-то за морем, под защитой своих иностранных хозяев, а может быть – ходили и такие слухи, – он затаился на территории самой Океании.
Уинстону сдавило грудь. Всякий раз при виде Голдштейна его обуревали сложные и мучительные чувства. Это было сухое еврейское лицо в венчике пушистых белых волос и с козлиной бородкой – лицо умное и вместе с тем какое-то плюгавое, тронутое старческим маразмом, с очками на кончике длинного тонкого носа. В нем виделось что-то овечье, и сам голос изменника походил на блеянье. Голдштейн, как обычно, подвергал партийные доктрины ядовитым нападкам – столь вздорным и нелепым, что и ребенок мог их раскусить, однако достаточно убедительным для опасений, что кто-то менее здравомыслящий может на них повестись. Он поносил Большого Брата, обличал диктатуру Партии, требовал немедленно заключить мир с Евразией, призывал к свободе слова, свободе печати, свободе собраний, свободе мысли, он истерически вопил, что Революцию предали, – и все это стремительной скороговоркой со сложными составными словами, будто пародируя манеру партийных ораторов, включая даже слова новояза, да в таких количествах, что никакому партийцу было за ним не угнаться. В это время, отметая любые сомнения в реальной подоплеке слов Голдштейна, на заднем фоне бесконечно маршировали колонны евразийской армии: шеренга за шеренгой кряжистых мужчин с бесстрастными азиатскими лицами. Они приближались к поверхности экрана и исчезали, уступая место своим точным копиям. Блеющий голос Голдштейна накладывался на ритмичный топот солдатских сапог.
Не прошло и полминуты Ненависти, а половина зрителей уже не могла сдерживать яростных возгласов. Невыносимо было видеть это самодовольное овечье лицо и ужасающую мощь евразийской армии за ним, хотя и без того одна только мысль о самом Голдштейне вызывала непроизвольный страх и гнев. Он был куда более привычным объектом ненависти, чем Евразия или Остазия, поскольку, когда Океания воевала с одной из них, то обыкновенно заключала мир с другой. Как ни странно, хотя Голдштейна ненавидели и презирали все подряд и каждый день по тысяче раз за сутки – на трибунах, на телеэкранах, в газетах и книгах, – его теории опровергали, громили, высмеивали, разбирали по кусочкам, доказывая их полнейшую несостоятельность, несмотря на все это, его влияние, казалось, не ослабевало. Всегда находились новые простофили, только и ждавшие идеологического совращения. Не проходило и дня, чтобы Мыслеполиция не разоблачала шпионов и вредителей, действующих по его указке. Он командовал огромной теневой армией, подпольной сетью заговорщиков, поставивших себе целью свергнуть Режим. Обычно на них ссылались как на Братство. А еще передавали шепотом истории о жуткой книге, собрании всех ересей, которую написал и тайно распространял Голдштейн. Книга не имела названия. В редких разговорах о ней упоминали просто как о книге. Но о таких вещах можно было узнать только по неясным слухам. Никто из рядовых партийцев старался не упоминать ни Братство, ни книгу.
На второй минуте ненависть перешла в истерию. Люди вскакивали с мест и кричали во все горло, стараясь заглушить одуряющий блеющий голос с экрана. Рыжеватая соседка Уинстона раскраснелась и разевала рот, словно рыба на суше. Даже тяжелое лицо О’Брайена побагровело. Он сидел очень прямо, его мощная грудь вздымалась и содрогалась, словно принимая на себя прибойную волну. Темноволосая девушка за спиной Уинстона начала кричать: «Сволочь! Сволочь! Сволочь!» – внезапно схватила тяжелый словарь новояза и запустила в телеэкран. Словарь врезался Голдштейну в нос и отскочил; голос с экрана звучал все так же неумолимо. Уинстон вдруг осознал, что тоже вопит вместе со всеми и яростно лягает ножку стула. Двухминутка Ненависти была ужасна не тем, что ты обязан играть свою роль, напротив, ты просто не мог не поддаться общему настрою. Через полминуты уже не нужно было притворяться. Словно электрический разряд, толпу охватывали страх и гнев, исступленное желание убивать, истязать, крушить лица молотом, и люди против воли делались буйнопомешанными. Однако эта ярость оставалась отвлеченной, неперсонализированной эмоцией, которую можно было переводить с одного объекта на другой, как пламя паяльной лампы. Так ненависть Уинстона в какой-то миг оказывалась обращенной вовсе не на Голдштейна, а, наоборот, на Большого Брата, на Партию и Мыслеполицию; в такие моменты сердце его тянулось к одинокому очерненному отступнику на экране, признавая в нем единственного поборника правды и здравомыслия в мире лжи. Однако в следующий миг Уинстон был един с людьми вокруг себя, и все, что говорили о Голдштейне, казалось ему правдой. Тогда его тайная неприязнь к Большому Брату сменялась обожанием, и Большой Брат вздымался надо всеми, как скала, превращаясь в неуязвимого, бесстрашного защитника от азиатских орд, а Голдштейн, несмотря на всю свою изоляцию, беспомощность и даже сомнение в самом его существовании, казался каким-то зловещим чародеем, который мог одной лишь силой голоса сокрушить целую цивилизацию.
Иногда можно было даже обратить свою ненависть волевым усилием на конкретный объект. Внезапно, диким усилием, каким отрываешь голову от подушки во время кошмара, Уинстон сумел перевести ярость с Голдштейна на темноволосую девушку позади себя. У него перед глазами замелькали отчетливые прекрасные галлюцинации. Он забьет ее до смерти резиновой дубинкой. Привяжет голой к столбу и истыкает стрелами, как святого Себастьяна. Овладеет ею и в момент оргазма перережет глотку. С небывалой ясностью он осознал причины своей ненависти. Потому что она была молода и красива и отрицала секс, потому что он хотел переспать с ней и никогда не сможет этого сделать, ведь ее прелестную гибкую талию, так и просившуюся в объятья, обнимал только жуткий алый кушак, агрессивный символ непорочности.
Ненависть достигла апогея. Голос Голдштейна перешел в настоящее овечье блеянье, и на миг его лицо обернулось бараньей мордой, которая плавно перетекла в фигуру евразийского солдата – огромный и ужасный, он наступал на зрителей, грохоча автоматной очередью. Казалось, он сейчас соскочит с экрана, так что некоторые в первом ряду отпрянули подальше. Но тут же раздался всеобщий вздох облегчения, когда враждебная фигура уступила место лицу Большого Брата – черноволосому, черноусому, исполненному могущества и загадочного спокойствия, – да такому огромному, что оно едва умещалось на экране. Никто не мог расслышать, что говорил Большой Брат. Скорее всего, лишь несколько ободряющих слов, из тех что произносят в пылу сражения – сами по себе невнятные, они вселяли уверенность уже тем, что были произнесены. Затем лицо Большого Брата вновь поблекло, и на его месте жирным шрифтом возникли три лозунга Партии:
ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА
Лицо Большого Брата еще держалось на экране несколько секунд, словно бы его воздействие на человеческий глаз было слишком сильно, чтобы изгладиться сразу. Рыжеватая женщина навалилась на спинку переднего стула, лепеча дрожащим голосом что-то вроде: «Спаситель мой!» – и простерла руки к экрану. После чего спрятала лицо в ладони, вероятно, забормотав молитву.
И тут все собравшиеся принялись ритмично и неторопливо скандировать низкими голосами: «Бэ – Бэ!.. Бэ – Бэ!..» – снова и снова, очень медленно, с долгими интервалами между первым «Бэ» и вторым. В этом тяжелом, монотонном гуле слышалось что-то до странности дикарское, так что невольно представлялся топот босых ног и рокот туземных барабанов. Шум длился с полминуты. Люди нередко прибегали к этому рефрену от избытка чувств. Отчасти они восхваляли мудрость и величие Большого Брата, но в большей степени намеренно вводили себя в транс, одурманивая разум ритмичным повтором. Уинстон почувствовал, как внутри у него холодеет. Двухминутки Ненависти заставляли его поддаваться общему помешательству, но это дикарское скандирование «Бэ – Бэ!.. Бэ – Бэ!» всегда наполняло его ужасом. Разумеется, он повторял вместе со всеми – по-другому никак. Так велел инстинкт: скрывать свои чувства, управлять мимикой, делать все как все. Но на этот раз была пара секунд, когда он мог бы выдать себя выражением глаз. И вот тогда случилось нечто примечательное – если оно и вправду случилось.
В какой-то момент Уинстон поймал взгляд О’Брайена. Тот уже встал. Он снял очки и собирался снова водрузить их на нос своим характерным жестом. Но за долю секунды до этого их глаза встретились, и Уинстон понял – да, понял! – что О’Брайен думал так же, как и он сам. Ошибки быть не могло. Словно их сознания раскрылись и мысли передавались из глаз в глаза.
«Я с вами, – словно бы сказал ему О’Брайен. – Я понимаю ваши чувства. Я знаю все о вашем презрении, ненависти, отвращении. Но не волнуйтесь, я на вашей стороне»!
И тут же этот проблеск разума погас, а лицо О’Брайена стало таким же непроницаемым, как и у остальных.
Вот и все, Уинстон сразу начал сомневаться, произошло ли что-то вообще. Такие инциденты никогда ни к чему не вели. Они только поддерживали в нем убеждение или надежду, что были и другие враги Партии, не только он один. Возможно, что слухи о хитросплетенных подпольных заговорах имели реальную основу – не исключено, что Братство и вправду существовало! Нельзя было сказать с уверенностью, несмотря на бесконечные аресты, признания и казни, что Братство – не просто миф. Иногда Уинстон верил в него, иногда – нет. Свидетельств не было, только беглые взгляды, которые могли значить что угодно или вовсе ничего, обрывки чужих разговоров, неразборчивые надписи на стенах туалетов – а еще как-то раз он видел, как встретились два незнакомца, и один из них необычно шевельнул рукой, словно подав некий знак. Одни лишь догадки: вполне возможно, все это ему просто привиделось. Он вернулся в свою кабинку, не смея взглянуть на О’Брайена. Уинстон едва ли допускал возможность завязать с ним знакомство. Если бы он даже знал, как это устроить, опасность была слишком велика. Два человека обменялись двусмысленным взглядом, длившимся секунду, может, две – и дело с концом. Но даже это стало заметным событием для человека, вынужденного жить в одиночестве.
Уинстон встрепенулся и сел ровнее. Джин в желудке бунтовал и вызывал отрыжку.
Он снова всмотрелся в страницу. Оказалось, что, пока он беспомощно витал в воспоминаниях, рука продолжала выводить строчки как бы сама по себе. Только почерк уже был не прежний корявый и неуклюжий. Перо размашисто скользило по гладкой бумаге, выводя крупными печатными буквами:
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
Раз за разом одно и то же – и вот уже исписано полстраницы.
Уинстона захлестнула паника. Абсурдное ощущение, ведь дневник сам по себе был не менее опасен, чем эти конкретные слова. На миг им овладело желание вырвать исписанные страницы и забросить всю свою затею.
Однако он этого не сделал, поскольку понимал тщетность такого поступка. Не было разницы, написал он или нет «ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА». Не было разницы и в том, станет ли он дальше вести дневник или нет. Мыслеполиция все равно его поймает. Он и так уже совершил – даже если бы никогда не касался пером бумаги – абсолютное преступление, содержавшее в себе все остальные. Мыслефелония – так это называлось. Мыслефелонию невозможно скрывать вечно. Можно изворачиваться до поры до времени, даже годами, но рано или поздно за тобой придут.
Приходили всегда по ночам – в другое время людей не арестовывали. Тебя резко будили, трясли за плечо, светили фонарем в глаза, кровать обступали суровые лица. Почти никогда никого не судили, об арестах не сообщали. Люди просто исчезали – всегда среди ночи. Твое имя удаляли из реестров, любые записи о твоих действиях уничтожали, само твое существование отрицалось и вскоре забывалось. Тебя аннулировали, стирали с лица земли – одним словом, испаряли, как об этом говорили.
Им вдруг овладело что-то вроде истерики. Уинстон принялся спешно писать неряшливым почерком:
меня застрелят мне плевать меня застрелят сзади в шею мне плевать долой большого брата они всегда стреляют сзади в шею мне плевать долой большого брата…
Он откинулся на спинку стула, чуть стыдясь себя, и отложил ручку. В следующий миг он нервно вздрогнул. Стучали в дверь.
Уже! Уинстон сидел тихо, как мышка, в тщетной надежде, что кто бы там ни был, он сейчас уйдет. Но нет, стук повторился. Медлить в такой ситуации было хуже всего. Сердце Уинстона бухало, как барабан, но лицо в силу долгой привычки оставалось почти невозмутимым. Он встал и тяжело направился к двери.
Взявшись за дверную ручку, Уинстон обратил внимание на раскрытые страницы дневника на столе. «ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА» повторялось на них столько раз и такими крупными буквами, что можно было разглядеть надписи через всю комнату. Немыслимая глупость! Несмотря на панику, он понял, что не хочет пачкать кремовую бумагу, захлопывая тетрадь, прежде чем просохнут чернила.
Уинстон вздохнул и открыл дверь. Облегчение теплой волной прокатилось по всему телу. За дверью стояла потрепанного вида женщина, невзрачная, с жидкими всклокоченными волосами и морщинистым лицом.
– Ох, товарищ, – затянула она тоскливым голосом, – я услыхала, вы вроде дома. Вы бы не зашли к нам посмотреть раковину на кухне? Она засорилась и…
Это была миссис Парсонс, жена соседа по этажу. (Партия почему-то не одобряла слово «миссис» – полагалось ко всем обращаться «товарищ», – но некоторых женщин называть иначе язык не поворачивался.) Женщина лет тридцати, но на вид гораздо старше. Казалось, в ее морщинах на лице залегла пыль. Уинстон пошел за ней по коридору. Слесарная самодеятельность стала едва ли не ежедневной морокой. Старый жилкомплекс «Победа» возвели годах в тридцатых – и весь он уже разваливался. С потолка и стен постоянно сыпалась штукатурка, трубы лопались при каждом крепком морозе, крыша текла всякий раз, как выпадал снег, а отопление обычно работало на половинном давлении, если его не отключали совсем из соображений экономии. Если ты не мог починить чего-то сам, то приходилось ждать распоряжений неуловимых комитетов, которые даже с ремонтом оконной рамы могли тянуть по два года.
– Я ведь только потому, что Том не дома, – пробормотала миссис Парсонс.
Квартира Парсонсов была больше, чем у Уинстона, и убожество ее выражалось иначе. Все вещи имели потрепанный, побитый вид, как будто здесь только что побывал крупный злобный зверь. По всему полу валялись спортивные принадлежности – хоккейные клюшки, боксерские перчатки, лопнувший футбольный мяч, вывернутые наизнанку потные шорты, – а на столе громоздились грязная посуда и замызганные школьные тетради. На стенах алели знамена Молодежной лиги и лиги Разведчиков и висел полноразмерный плакат Большого Брата. Пахло здесь, как и во всем доме, вареной капустой, но привычный запах оттеняла острая вонь едкого пота, которую оставил после себя кто-то отсутствующий в данный момент. Такие подробности по неизвестной причине становились понятны с первого вдоха. В соседней комнате кто-то трещал клочком туалетной бумаги по зубьям расчески, неумело подыгрывая военной музыке, продолжавшей звучать с телеэкрана.
– Это дети, – сказала миссис Парсонс, бросив тревожный взгляд на дверь. – Они сегодня не гуляли. И, конечно…
У нее была привычка обрывать предложения на середине. Раковина на кухне почти до краев заполнилась грязной зеленоватой водой, смердевшей хуже капусты. Уинстон опустился на колени и осмотрел угловую муфту на сливной трубе. Он терпеть не мог работать руками, терпеть не мог нагибаться – и всегда от этого кашлял. Миссис Парсонс стояла рядом с беспомощным видом.
– Был бы дома Том, он бы вмиг прочистил, – сказала она. – Он любит такими делами заниматься. Мастер на все руки.
Парсонс, как и Уинстон, работал в Министерстве правды. Это был полный, но неугомонный малый, тупой до невозможности сгусток кретинского энтузиазма – один из тех беспрекословных преданных трудяг, на которых Партия опиралась надежнее, чем на Мыслеполицию. Только в тридцать пять он с неохотой оставил ряды Молодежной лиги, а до этого умудрился пробыть в Разведчиках на год дольше положенного. В министерстве он занимал какую-то незначительную должность, для которой не требовалось особого ума, зато стал ведущей фигурой в Спортивном комитете и в целом ряде других структур для организации турпоходов, стихийных демонстраций, кампаний по экономии и прочих добровольных начинаний. Попыхивая трубкой, он не без гордости сообщал товарищам, что вот уже четыре года, как он не пропустил ни одного вечера в Центре досуга. Его всегда сопровождал одуряющий запах пота, являясь невольным знаком усердной жизнедеятельности и еще долго витая в помещении даже после ухода Парсонса.
– У вас есть гаечный ключ? – спросил Уинстон, тронув гайку на муфте.
– Гаечный, – сказала миссис Парсонс, обмякая на глазах. – Я даже не знаю. Может, дети…
Раздался топот, очередная трель расчески – и в комнату вкатились дети. Миссис Парсонс принесла гаечный ключ. Уинстон спустил воду и с отвращением извлек из трубы клок волос. Он, как мог, отмыл пальцы под холодной водой и вернулся в другую комнату.
– Руки вверх! – рявкнул свирепый голос.
Из-за стола вынырнул симпатичный крепыш лет девяти, наставляя на него игрушечный автоматический пистолет, а его сестренка, младше года на два, направила на Уинстона деревяшку. Оба были одеты в форму Разведчиков: синие шорты, серые рубашки, красные галстуки. Уинстон с беспокойством поднял руки над головой – мальчик держался так злобно, что это не было похоже на игру.
– Ты предатель! – завопил он. – Мыслефелон! Ты евразийский шпион! Я тебя застрелю, испарю, я тебя отправлю в соляные шахты!
И они оба принялись скакать вокруг Уинстона, вереща «Предатель!» и «Мыслефелон!» – девочка повторяла каждое движение за братом. Это немного пугало, как возня тигрят, которые скоро вырастут в людоедов. В глазах мальчика виднелась какая-то свирепая расчетливость, почти неодолимое желание ударить Уинстона и понимание того, что очень скоро это будет ему по силам. Уинстон подумал, как ему повезло, что у мальчика не настоящий пистолет.
Взгляд миссис Парсонс нервозно перебегал между гостем и детьми. В гостиной было светлее, и он с интересом отметил, что в морщинах на ее лице действительно засела пыль.
– Они что-то расшумелись, – сказала она. – Не понравилось, что их не возьмут на повешение, вот почему. Мне с ними некогда, а Том к тому времени еще не вернется с работы.
– Почему нам нельзя посмотреть, как вешают? – возмущенно завопил мальчик.
– Хочу смотреть, как вешают! Хочу смотреть, как вешают! – заголосила девочка, продолжая скакать.
Уинстон вспомнил, что сегодня вечером в парке будут публично вешать евразийских военных преступников. Такое зрелищное мероприятие устраивали примерно раз в месяц. Дети вечно просились со взрослыми. Он вышел от миссис Парсонс и направился к себе, но не прошел по коридору и шести шагов, как что-то больно ужалило его сзади в шею. Словно воткнули обрывок раскаленной проволоки. Уинстон резко обернулся и увидел, как миссис Парсонс затаскивает в дверь сына, прячущего в карман рогатку.
– Голдштейн! – заорал мальчик, исчезая за дверью.
Больше всего Уинстона изумило выражение беспомощного страха на сером лице матери.
Вернувшись к себе, он быстро прошел мимо телеэкрана и снова сел за стол, потирая шею. Музыка уже не играла. Теперь отрывистый военный голос, кровожадно смакуя подробности, зачитывал описание вооружений новой Плавучей крепости, только что вставшей на якорь между Исландией и Фарерскими островами.
Уинстон подумал, что с такими детьми эта несчастная женщина живет в постоянном страхе. Еще год-другой, и они начнут следить за ней днем и ночью, норовя уличить хоть в чем-нибудь. Теперь почти все дети ужасны. Хуже всего, что с помощью таких организаций, как Разведчики, их методично превращают в необузданных маленьких дикарей, но у них не возникает желания бунтовать против партийной дисциплины. Напротив, они обожают Партию и все, что с ней связано. Песни, парады, знамена, походы, муштра с учебными винтовками, громкие лозунги, восхваление Большого Брата – все это им представляется захватывающей игрой. Их натравливают на чужаков, на врагов Режима, на иностранцев, предателей, вредителей, мыслефелонов. Для людей старше тридцати стало в порядке вещей бояться собственных детей. И не без причины, ведь почти каждую неделю «Таймс» публикует заметки, как очередной мелкий ябедник – «маленький герой», как их обычно называют, – грел дома уши и донес на родителей в Мыслеполицию, услышав подозрительные высказывания.
Боль в шее уже утихла. Уинстон взял ручку со смешанными чувствами, не зная, стоит ли занести в дневник что-то еще. Ему на ум вдруг снова пришел О’Брайен.
Несколько лет назад (сколько же именно – лет семь, пожалуй?) Уинстону приснилось, что он идет по комнате в кромешной тьме. И кто-то, сидевший чуть в стороне, говорит ему: «Мы встретимся там, где нет темноты». Это было сказано совсем тихо, почти между делом – замечание, а не приказ. Уинстон пошел дальше, не остановившись. Как ни странно, во сне он не придал значения этим словам. Только со временем, постепенно они стали обретать смысл. Он не мог теперь припомнить, увидел ли этот сон до или после знакомства с О’Брайеном, как не мог припомнить и когда он впервые решил, что слышал во сне именно его голос. Так или иначе голос он этот опознал. В темноте к нему обращался O’Брайен.
Уинстон никак не мог уяснить – даже после утреннего обмена взглядами, – друг или враг ему О’Брайен. Хотя это как будто было не так уж и важно. Между ними промелькнуло понимание, значившее больше, чем взаимное расположение или заговорщицкий дух.
«Мы встретимся там, где нет темноты» – так он сказал.
Уинстон не понимал, что это значит, – знал только, что слова из сна так или иначе сбудутся.
Голос с телеэкрана прервался. В душном воздухе комнаты раздался звук фанфар, чистый и прекрасный. Голос проговорил со скрежетом: «Внимание! Прошу внимания! Только что поступила сводка-молния с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали блестящую победу. Я уполномочен заявить, что настоящее событие вполне может приблизить завершение войны в обозримом будущем. Передаю сводку новостей…»
Уинстон подумал, что надо ждать плохих известий. И действительно: за кровавым описанием разгрома евразийской армии с колоссальными цифрами убитых и взятых в плен последовало объявление, что со следующей недели норма шоколадного рациона сокращается с тридцати граммов до двадцати.
Уинстон снова рыгнул. Джин почти выветрился, оставляя после себя чувство подавленности. Телеэкран разразился песней «Во славу твою, Океания» – то ли в честь победы, то ли чтобы отвлечь людей от сокращения шоколадного пайка. Полагалось встать по стойке «смирно», но Уинстон находился вне зоны видимости телеэкрана.
«Во славу твою, Океания» сменилась легкой музыкой. Уинстон подошел к окну, держась спиной к телеэкрану. День был все такой же холодный и ясный. Где-то вдалеке с глухим раскатистым грохотом взорвалась ракета. На Лондон их сбрасывали от двадцати до тридцати в неделю.
На улице ветер продолжал трепать оторванный угол плаката, то открывая, то скрывая слово «АНГСОЦ». Ангсоц. Священные устои Ангсоца.
Новояз, двоемыслие, пластичность прошлого. Уинстон почувствовал себя так, будто бредет по морскому дну через лес водорослей, затерявшись в монструозном мире, где и сам он – монстр. Он был один. Прошлое – мертво, будущее – невообразимо. Как он мог быть уверен, что на его стороне хоть одно человеческое существо из ныне живущих? И разве можно знать, что владычество Партии не будет вечным? Вместо ответа он прочитал три лозунга на белом фасаде Министерства правды:
ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА
Уинстон достал из кармана монетку в двадцать пять центов. На ней значились те же три лозунга, набранные аккуратным мелким шрифтом, а на оборотной стороне – лицо Большого Брата. Даже с монеты за тобой наблюдали эти глаза. Они были везде: на монетах, марках, книжных обложках, на знаменах и плакатах, на сигаретных пачках. Ты всегда чувствовал на себе взгляд и слышал вкрадчивый голос. Во сне и наяву, на работе и за едой, дома и на улице, в ванной и в постели – никуда от этого не деться. Не оставалось ничего своего, кроме нескольких кубических сантиметров внутри черепной коробки.
Солнце ушло, и мириады окон Министерства правды перестали отражать его свет, потемнев, как бойницы крепости. Сердце Уинстона сжалось при виде исполинской пирамиды. Она слишком прочна, ее не взять штурмом. И тысяча ракет не сможет сровнять ее с землей. Он снова задумался, ради кого пишет дневник. Ради будущего, ради прошлого – ради века, может, лишь воображаемого. Перед ним же маячила не смерть, но бесследное уничтожение. Дневник превратится в пепел, а сам он просто испарится. Его слова прочтет только Мыслеполиция, прежде чем стереть их с лица земли и из истории. Как можно обращаться к будущему, когда от тебя не останется никакого следа в этом мире, даже анонимных слов, нацарапанных на клочке бумаги?
Телеэкран пробил четырнадцать часов. До выхода десять минут. Он должен вернуться на работу к четырнадцати тридцати.
Бой часов, как ни странно, вернул ему присутствие духа. Уинстон был одиноким призраком, изрекавшим правду, которую никто никогда не услышит. Но пока он ее изрекает, связь времен таинственным образом продолжается. Ты несешь в себе человеческое начало не тогда, когда тебя слушают, а когда ты сохраняешь ясное сознание. Он вернулся к столу, обмакнул перо в чернила и написал:
Будущему или прошлому, времени, когда мысль свободна, когда люди отличаются друг от друга и не живут в одиночку, – времени, когда существует правда, и что сделано, то сделано:
Из века одинаковых, из века одиночек, из века Большого Брата, из века двоемыслия – приветствую тебя!
Он подумал, что уже мертв. Ему показалось, что только сейчас, когда он обрел способность формулировать мысли, он пересек черту. Последствия любого действия заключены в самом этом действии. Он написал:
Мыслефелония не влечет за собой смерть: мыслефелония ЕСТЬ смерть.
Теперь, когда он признал в себе мертвеца, стало важным оставаться в живых как можно дольше. Два пальца правой руки запачкались чернилами. Как раз такая деталь и может выдать. Какой-нибудь востроносый ревнитель в министерстве (скорее всего, женщина: хотя бы та маленькая, рыжеватая или темноволосая из Художественного отдела) мог задуматься, почему Уинстон писал в обеденный перерыв, почему писал старомодной ручкой, что он писал, – и обмолвиться об этом в нужном месте. Уинстон пошел в ванную и тщательно отмыл чернила зернистым бурым мылом, которое терло кожу, как наждачная бумага, и потому хорошо подходило для такой задачи.
Дневник он убрал в ящик. Пытаться как-то спрятать его было бессмысленно, но он мог хотя бы принять меры, чтобы заметить, если тетрадь обнаружат. Волос на краю страницы был бы слишком очевиден. Он подобрал кончиком пальца едва заметную белесую пылинку и поместил на угол обложки, где она будет покоиться, пока дневник кто-нибудь не возьмет в руки.
Уинстону снилась мать.
Она исчезла, насколько он знал, когда ему было лет десять-одиннадцать. Мать была высокой, величавой женщиной с роскошными светлыми волосами, довольно молчаливой, медленной в движениях. Отца он припоминал менее отчетливо – темноволосый худощавый человек, всегда в опрятной темной одежде (Уинстону особенно запомнились очень тонкие подошвы его туфель) и в очках. Должно быть, их обоих проглотила система во время одной из первых больших чисток пятидесятых.
Во сне мать сидела где-то в глубине гораздо ниже него, держа на руках его младшую сестренку. Сестренку он почти не помнил – она была крохотным хилым младенцем, тихим и с большими внимательными глазами. Обе они смотрели снизу на Уинстона. Они находились в какой-то подземной норе – вроде дна колодца или очень глубокой могилы, – и эта нора, и без того глубокая, продолжала расти вниз. Они словно сидели в салоне тонущего корабля и смотрели на него сквозь темнеющую воду. В салоне еще оставался воздух, и они еще могли видеть его, а он – их, но они продолжали погружаться все глубже и глубже в зеленую воду – и в следующий миг вода скрыла их навсегда. Он стоял на свету и на воздухе, а их затягивала смерть, и они были там, внизу, потому что он был здесь, наверху. Он это знал, и они это знали, и это знание он видел на их лицах. Но ни на лицах, ни в сердцах у них не было упрека – только осознание того, что они должны были умереть, чтобы он мог дальше жить, потому что таков неизбежный порядок вещей.
Он не мог вспомнить, что же с ними случилось, но понял во сне, что каким-то образом жизни его матери и сестры принесли в жертву ради него. Это был один из тех снов, когда за внешней причудливостью продолжается обычный мыслительный процесс и возникает понимание событий и идей, сохраняющее новизну и значимость после пробуждения. Уинстона вдруг осенило, что смерть его матери почти тридцать лет назад была трагической и горестной в значении, теперь уже немыслимом. Ему открылось, что трагедия – это достояние былых времен, когда существовала частная жизнь, любовь и дружба, а родные люди стояли друг за друга без лишних вопросов. Воспоминание о матери разрывало ему сердце потому, что она умерла с любовью к нему, а он был еще слишком юн и эгоистичен, чтобы ответить тем же, а еще она каким-то образом – каким именно, он не помнил, – принесла себя в жертву личной и несокрушимой идее верности. Он осознал, что сегодня такое уже невозможно. Сегодня есть страх, ненависть и боль, но нет ни уважения к чувствам, ни глубокого и сложного горя. Все это он словно бы увидел в больших глазах матери и сестры, смотревших на него сквозь зеленую воду снизу, с глубины в сотни саженей, и продолжавших погружаться.
Неожиданно он очутился на короткой упругой траве летним вечером, когда косые лучи солнца золотят землю. Простиравшаяся перед ним местность так часто ему снилась, что он не мог быть уверенным, видел он ее когда-то наяву или нет. Мысленно он называл ее Золотой страной. Это был старый, выщипанный кроликами луг, с протоптанной тропинкой и кочками кротовых нор. По дальнему краю луга неровной стеной тянулись вязы, легкий ветер едва шевелил их кроны, и густая листва колыхалась, словно женские волосы. А где-то неподалеку, вне зоны видимости, лениво журчал чистый ручей, и плотва плескалась в заводях под ивами.
Через луг шла девушка с темными волосами. Одним движением она сорвала с себя всю одежду и небрежно отбросила в сторону. Тело у нее было белым и атласным, но не пробудило в нем желания – он едва взглянул на него. Что захватило его в тот миг, так это сам жест, которым она отбросила одежду. Такая изящная беспечность словно перечеркнула целую цивилизацию и мировоззрение, как будто и Большого Брата, и Партию, и Мыслеполицию ниспровергли одним великолепным взмахом руки. Этот жест также был достоянием былого. Уинстон проснулся со словом «Шекспир» на губах.
Телеэкран издавал раздирающий уши свист, державшийся тридцать секунд на одной ноте. На часах 07.15 – время подъема для конторских служащих. Уинстон выдернул себя из постели – нагишом, поскольку член внешней партии получал всего три тысячи купонов на одежду в год, а пижамный костюм стоил шестьсот – и схватил со стула поношенную майку и шорты. До физзарядки оставалось три минуты. И тут его согнул жестокий приступ кашля, как почти всегда после пробуждения. Кашель норовил вывернуть легкие наизнанку, так что Уинстон повалился на спину и начал отчаянно ловить ртом воздух, пытаясь восстановить дыхание. Жилы у него вздулись от натуги, а варикозная язва зачесалась.
– Группа от тридцати до сорока! – пролаял пронзительный женский голос. – Группа от тридцати до сорока! Примите, пожалуйста, исходное положение. От тридцати до сорока!
Уинстон встал по стойке «смирно» перед телеэкраном, на котором уже возникла моложавая женщина: худощавая, но мускулистая, в тунике и спортивных туфлях.
– Сгибание рук и потягивание! – отчеканила она. – Считайте за мной. И раз, два, три, четыре! И раз, два, три, четыре! Ну-ка, товарищи, поживее! И раз, два, три, четыре! И раз, два, три, четыре!..
Жестокий приступ кашля едва не вытеснил из сознания Уинстона ощущения от сновидения, но ритмичные движения зарядки помогли их восстановить. Механически выбрасывая руки взад-вперед и удерживая на лице выражение сурового удовлетворения, какое полагалось на физзарядке, он старался прорваться к смутным воспоминаниям раннего детства. Неимоверно трудная задача. Время до конца пятидесятых терялось в тумане. Когда не можешь обратиться к внешним ориентирам, размываются даже события собственной жизни. Ты вспоминаешь крупные происшествия, которых, вполне возможно, и вовсе не было, вспоминаешь мелкую подробность какого-то отдельного случая, но не можешь восстановить общую атмосферу, а еще есть долгие периоды пустоты, о которых ты не помнишь ничего вовсе. Все тогда было другим. Даже названия стран и их очертания на карте. Первая летная полоса, к примеру, называлась тогда по-другому – Англия или Британия, а вот Лондон (Уинстон в этом почти не сомневался) всегда был Лондоном.
Уинстон не мог с уверенностью припомнить время, когда бы его страна не воевала. Кажется, на его детские годы пришелся длительный мирный период, поскольку одно из ранних воспоминаний было связано с авианалетом, очевидно, заставшим всех врасплох. Возможно, как раз тогда на Колчестер сбросили атомную бомбу. Сам налет стерся из памяти, но он помнил, как отец крепко держал его за руку, пока они спешно спускались все ниже и ниже в какое-то подземное убежище, кружа по винтовой лестнице, звеневшей под ногами. В итоге он так вымотался, что начал хныкать, и им пришлось остановиться отдохнуть. Мать тоже спускалась, но заметно отстала, двигаясь в своей медлительной манере, словно во сне. Она несла его сестренку, а может, то был просто сверток покрывал – он не помнил точно, родилась ли уже сестренка. Наконец они вошли в шумное, многолюдное помещение, и он понял, что это станция метро.
Люди сидели по всей площади каменного пола и теснились на металлических нарах. Уинстон с родителями устроились на полу, а рядом на нарах сидели старик со старухой. Седой как лунь старик был одет в приличный темный костюм и черную матерчатую кепку, сдвинутую на затылок; лицо у него отливало густо-красным, а в голубых глазах стояли слезы. От него несло джином. Казалось, джин сочится из всех его пор, точно пот, и слезы его – тоже чистый джин. Несмотря на легкий хмель, старик терзался от горя, глубокого и нестерпимого. Уинстон понял своим детским умом, что случилось что-то ужасное, что-то такое, чего нельзя ни простить, ни исправить. Ему даже показалось, что он знает, в чем дело. У старика убили кого-то, кого он любил, – может, маленькую внучку. Старик ежеминутно повторял:
– Не надо нам было им доверять. Говорил же я, мать, говорил? Вот что бывает, когда доверяешь им. Я это всегда говорил. Не надо было доверять этим скотам.
Но что это были за скоты, которым нельзя доверять, Уинстон вспомнить не мог.
Примерно с тех пор война практически не прекращалась, хотя, строго говоря, это была не одна и та же война. Несколько месяцев в его детстве шли беспорядочные бои на улицах Лондона, и кое-что из этого Уинстон отчетливо помнил. Но проследить историю тех лет и установить, кто с кем сражался в тот или иной период, было совершенно невозможно. Никакие письменные свидетельства, равно как и устные, не упоминали ни о какой иной расстановке сил, кроме сегодняшней. Сегодня, к примеру, в 1984 году (если сегодня 1984-й), Океания воевала с Евразией, будучи в союзе с Остазией. Ни в официальных, ни в частных заявлениях никто не признавал, что отношения этих трех сил когда-то могли быть другими. Но Уинстон хорошо помнил, что еще четыре года назад Океания воевала с Остазией, будучи в союзе с Евразией. Память его была источником субъективным, на который он мог полагаться, лишь постольку-поскольку его сознание не вполне подчинялось системе. Официально расстановка сил никогда не менялась. Океания ведет войну с Евразией, стало быть, Океания всегда вела войну с Евразией. Враг текущего момента всегда является абсолютным злом, из чего следует, что никакое соглашение с ним – ни в прошлом, ни в будущем – невозможно.
Страшнее всего, думал он в стотысячный раз, отводя плечи назад до ломоты (они вращали корпусом, держа руки на бедрах – это считалось полезным для мышц спины), страшнее всего, что все это может быть правдой. Если Партии под силу запустить руку в прошлое и заявить о том или ином событии, что его никогда не было, – разве это не страшнее любых пыток или смерти?
Партия утверждала, что Океания никогда не была в союзе с Евразией. Он же, Уинстон Смит, знал, что Океания была в союзе с Евразией как минимум четыре года назад. Но чем это знание подкреплялось? Только его личным сознанием, которое в любом случае скоро уничтожат. Если все примут за правду партийную ложь, если все официальные источники будут рассказывать одну и ту же сказку – тогда ложь войдет в историю и станет правдой.
«Кто управляет прошлым, – гласил лозунг Партии, – тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым».
Однако же прошлое, по своей природе подлежащее пересмотру, на практике никогда не пересматривалось. Сегодняшняя истина была верна всегда и на веки вечные. Проще простого. Для этого требовался лишь бесконечный ряд побед над собственной памятью. «Управление реальностью» – вот как это называется, а на новоязе – «двоемыслие».
– Вольно! – гавкнула инструкторша уже чуть более приветливо.
Уинстон опустил руки по швам и медленно сделал глубокий вдох. Его разум соскользнул в лабиринт мира двоемыслия. Знать и не знать, полностью сознавать правду и говорить тщательно продуманную ложь, параллельно придерживаться двух противоположных взглядов, понимая, что они исключают друг друга, использовать логику против логики, аннулировать мораль, взывая к морали, не верить в возможность демократии и верить, что Партия является гарантом демократии, забывать все, что надлежит забыть, а затем снова обращаться к этому, когда нужно, и снова ловко забывать. А самое главное, нужно применять этот же процесс к самому процессу – в этом вся тонкость: сознательно добиваться бессознательности, а затем опять-таки подавлять понимание проделанного самогипноза. Даже понимание слова «двоемыслие» требует двоемыслия.
Инструкторша снова велела встать смирно.
– А теперь посмотрим, кто у нас сумеет дотянуться до носков! – произнесла она с энтузиазмом. – Пожалуйста, товарищи, тянемся от бедра. Раз-два! Раз-два!..
Уинстон терпеть не мог это упражнение – оно прошивало ноги болью от пяток до ягодиц и часто заканчивалось очередным приступом кашля. Его размышления лишились условной приятности. Прошлое, рассудил он, не просто изменили, его, по сути, уничтожили. Разве можно установить точно хотя бы самый очевидный факт, когда его не подтверждает ничего, кроме твоей памяти? Он попытался вспомнить, в каком году впервые услышал что-либо о Большом Брате. Предположительно где-то в шестидесятые, но нельзя было сказать наверняка. Разумеется, в истории Партии Большой Брат фигурировал как вождь и поборник Революции с первых ее дней. Подвиги его постепенно отодвигались в прошлое, пока не достигли легендарного мира сороковых и тридцатых годов, когда капиталисты в странных шляпах-цилиндрах еще разъезжали по улицам Лондона в огромных блестящих автомобилях или в остекленных каретах. Невозможно установить, что из этих легенд было правдой, а что – выдумкой. Уинстон не мог даже вспомнить дату возникновения самой Партии. Он полагал, что не слышал слова «Ангсоц» до 1960-го, но возможно, что в своей староязычной форме – то есть «английский социализм» – оно было в ходу и раньше. Все растворялось в тумане. Хотя иногда можно было уличить и явную ложь. К примеру, согласно партийным учебникам истории, Партия изобрела самолет, но это было неправдой. Он помнил самолеты с самого раннего детства. Но доказать ничего было нельзя. Не было никаких свидетельств. Лишь один раз за всю свою жизнь он держал в руках неопровержимое свидетельство фальсификации исторического факта. И на этот счет…
– Смит! – прокричал злобный голос с телеэкрана. – У. Смит, номер 6079! Да, вы! Пожалуйста, нагибайтесь ниже! Вы же можете. Вы не стараетесь. Ниже, пожалуйста! Так-то лучше, товарищ. Теперь вольно, вся группа, и наблюдайте за мной.
Вдруг Уинстона прошиб горячий пот по всему телу. Лицо его, однако, осталось совершенно невозмутимым. Не показывать тревоги! Не показывать недовольства! Одно движение глаз может выдать тебя. Он стоял и смотрел, как инструкторша поднимает руки над головой, нагибается и – не сказать что грациозно, но с похвальной четкостью и сноровкой – запихивает кончики пальцев рук под пальцы ног.
– Так-то, товарищи! Вот что я хочу от вас увидеть. Посмотрите еще раз. Мне тридцать девять, и я родила четырех детей. Теперь смотрите. – Она снова нагнулась. – Видите, мои колени не сгибаются. Вы все так сможете, если захотите, – добавила она, распрямившись. – Каждый до сорока пяти прекрасно способен коснуться своих пальцев ног. Не всем нам повезло сражаться на передовой, но все мы можем хотя бы поддерживать себя в форме. Вспомните наших ребят на Малабарском фронте! И моряков на Плавучей крепости! Только подумайте, каково приходится им. Теперь попробуем еще раз. Так-то лучше, товарищ, так гораздо лучше, – добавила она ободряюще, когда Уинстон отчаянным выпадом сумел коснуться пальцев ног, не сгибая коленей, впервые за несколько лет.
Уинстон не сдержал глубокого безотчетного вздоха, несмотря на близость телеэкрана, и начал рабочий день: подтянул поближе речепис, сдул пыль с микрофона и надел очки. Затем развернул и скрепил вместе четыре бумажных рулончика, выскочивших из пневматической трубки справа от стола.
В стенах кабинки было три отверстия. Справа от речеписа находилась пневматическая трубка для письменных сообщений, слева – труба побольше для газет; а в боковой стене – только руку протяни – широкий овальный паз с проволочной заслонкой. Он служил для избавления от ненужных бумаг. Таких пазов в здании было тысячи, десятки тысяч – не только в каждой комнате, но и по несколько в каждом коридоре. Их почему-то прозвали провалами памяти. Когда надо было избавиться от документа или даже бумажки на полу, человек машинально поднимал заслонку ближайшего «провала памяти» и бросал туда ненужную бумагу, которую подхватывал поток теплого воздуха и уносил в огромные печи, скрытые где-то в недрах здания.
Уинстон развернул и изучил четыре бумаги. На каждой напечатано сообщение в одну-две строчки на телеграфном жаргоне, предназначавшемся в министерстве для внутренних нужд, – не совсем новояз, но по большей части из слов новояза. Он прочитал:
таймс 17.3.84 речь бб невер африка уточ
таймс 19.12.83 прогноз 4 кварт 3 гплан 83 опечат соглас текущ номер
таймс 14.2.84 минизоб цит невер шоколад уточ
таймс 3.12.83 отчет прикпостр бб дубльплюснехор ссыл нелицо перепис всецело покнач доподшив
С чувством предвкушения Уинстон отложил в сторону четвертое сообщение. Запутанная и ответственная работа, которую лучше оставить напоследок. Три других задания были рядовыми, хотя со вторым, вероятно, потребуется нудно копаться в цифрах.
Уинстон набрал на телеэкране «задние числа», запросил нужные номера «Таймс» – и через несколько минут они выскользнули из пневматической трубы. Телеграфные сообщения ссылались на статьи или новости, которые по той или иной причине требовалось изменить, или, выражаясь официальным языком, уточнить. Например, из «Таймс» от семнадцатого марта следовало, что Большой Брат в речи накануне предрек затишье на южноиндийском фронте и скорое наступление евразийских агрессоров в Северной Африке. На самом же деле евразийское высшее командование решило наступать в Южной Индии, оставив в покое Северную Африку. Поэтому нужно было так переписать абзац в речи Большого Брата, чтобы он как будто предсказал реальные события. Или, опять же, «Таймс» опубликовала от девятнадцатого декабря официальный прогноз выпуска потребительских товаров в третьем квартале 1983 года, то есть в шестом квартале Девятой Трехлетки. Сегодняшний номер приводил реальные показатели выпуска, из которых следовало, что прогнозы оказались совершенно неверны. Задачей Уинстона было уточнить исходные цифры и привести их к единству с последующими. Что же касалось третьего сообщения, то оно ссылалось на элементарную ошибку, которую легко исправить за пару минут. Не далее как в феврале Министерство изобилия пообещало («категорически утверждало», по официальному выражению), что сокращения рациона шоколада в течение 1984 года не будет. В действительности, как было известно Уинстону, рацион шоколада урежут с тридцати до двадцати граммов к концу текущей недели. Всего-то и дел – заменить исходное обещание предупреждением о вероятном сокращении пайка где-нибудь в апреле.
Как только Уинстон разделался со всеми сообщениями, он приколол речеписные исправления к соответствующим номерам «Таймс» и опустил их в пневматическую трубу. После чего одним движением, доведенным почти до полного автоматизма, скомкал черновики и исходные сообщения и бросил их в провал памяти, на корм огню.
Что происходило в невидимом лабиринте, к которому вели пневматические трубы, Уинстон в точности не знал, но мог представить в общих чертах. Как только соберут и сверят все поправки для того или иного номера «Таймс», эти номера перепечатают, а исходные – уничтожат, и исправленные экземпляры займут их место в подшивке. Процесс постоянного изменения применялся не только к газетам, но и к книгам, журналам, брошюрам, плакатам, листовкам, фильмам, звукозаписям, карикатурам, фотографиям – ко всему художественному и документальному, что могло иметь любую политическую или идеологическую значимость. Ежедневно и чуть ли не ежеминутно прошлое подгонялось к настоящему. Сейчас верность любого прогноза Партии можно было подтвердить документальным свидетельством, и не оставалось ни единой заметки, ни единого мнения, противоречащих нуждам текущего момента. Вся история превратилась в палимпсест [8], выскобленный дочиста и переписанный заново столько раз, сколько было нужно. Как только работа завершалась, не оставалось никаких доказательств какой-либо фальсификации. Крупнейшая секция Отдела документации (намного больше той, где работал Уинстон) состояла из людей, которые только тем и занимались, что искали, изымали и уничтожали все экземпляры книг, газет и прочей печатной продукции, подвергшейся исправлениям. Номер «Таймс» могли перепечатать десяток раз вследствие изменений политического курса или ошибочных пророчеств Большого Брата, а он по-прежнему оставался в подшивке под исходной датой, и не существовало ни единого противоречащего ему экземпляра. Книги также отзывали и переписывали раз за разом, в итоге печатая заново без какого-либо указания о внесенных правках. Даже в письменных указаниях, которые Уинстон получал и сразу после исполнения уничтожал, никогда не утверждалось, хотя бы косвенно, что следует совершить подлог – речь всегда шла об описках, ошибках, опечатках или неверных цитатах, которые необходимо исправить в интересах точности.
Но в действительности, рассуждал Уинстон, заменяя показатели Министерства изобилия, это даже не подлог. Это всего лишь нагромождение одной ахинеи на другую. Большая часть материалов, с которыми приходилось работать, не имела ни малейшего отношения к реальному миру, хотя даже откровенная ложь обычно с ним связана. Статистика в исходной версии оставалась такой же фантазией, как и в исправленной. Постоянно приходилось брать данные просто с потолка. Например, Министерство изобилия прогнозировало выпуск ста сорока пяти миллионов пар обуви в текущем квартале. Реальная цифра составила шестьдесят два миллиона. Уинстон переписывал первоначальный прогноз на пятьдесят семь миллионов, чтобы оправдать непременное заявление о перевыполнении плана. В любом случае шестьдесят два миллиона были не ближе к реальности, чем пятьдесят семь или сто сорок пять миллионов. Весьма вероятно, что никакой обуви не было вообще. А еще вероятнее, что никто ничего конкретного об этом не знал и знать не желал. Все знали только, что по бумагам ежеквартально выпускались астрономические объемы обуви, тогда как чуть ли не половина населения Океании ходила босиком. Так же обстояло дело с любыми учетными данными, большими и малыми. Все растворялось в мире теней. В итоге невозможно было установить даже год того или иного события.
Уинстон кинул взгляд через зал. В кабинке у противоположной стены усердно трудился Тиллотсон, аккуратный человечек с небритым подбородком: на коленях у него лежала сложенная газета, рот прижат к микрофону речеписа. Было заметно, что он пытается сохранить каждое слово в тайне между собой и телеэкраном. Он поднял голову, и его очки враждебно сверкнули в сторону Уинстона.
Уинстон едва знал Тиллотсона и не имел представления о его служебных обязанностях. Люди в Отделе документации не любили говорить о своей работе. В этом длинном зале без окон, с двумя рядами кабинок, неумолкаемым шелестом бумаг и гудением голосов над речеписами трудилось не меньше десятка людей, которых Уинстон не знал даже по имени, хотя ежедневно видел, как они снуют туда-сюда по коридорам или машут руками на Двухминутках Ненависти. Он знал, что в соседней кабинке маленькая женщина с рыжеватыми волосами дни напролет выискивает и удаляет из печатных изданий имена людей, которых испарили, а стало быть, признали несуществующими. Она определенно занималась своим делом, поскольку ее собственного мужа испарили пару лет назад. А еще через несколько кабинок сидело кроткое, нескладное, витающее в облаках создание по фамилии Эмплфорт, с очень волосатыми ушами и удивительным талантом жонглировать рифмами и размерами. Его работа состояла в переделке стихотворений (это называлось «создание канонических версий»), которые признали идеологически вредными, но по тем или иным причинам их нужно было оставить в антологиях. А ведь этот зал с полусотней служащих был лишь подсекцией – по существу, одной ячейкой – огромного и сложного Отдела документации. За ним, над ним, под ним располагались сонмы работников с самыми невообразимыми задачами. Имелись огромные типографии со своими редакторами, полиграфистами и прекрасно оборудованными студиями для подделки фотографий. Имелась секция телепередач со своими инженерами, продюсерами и актерскими труппами, специально подобранными за умение имитировать голоса. Имелись армии секретарей, которые только и делали, что составляли списки книг и периодических изданий, требующих ревизии. Имелись необъятные хранилища для переделанных документов и скрытые печи для уничтожения исходных версий. А где-то находились анонимные руководящие мозги, которые координировали всю эту деятельность и прокладывали политические курсы. В соответствии с ними одни события прошлого надлежало сохранить, другие – фальсифицировать, а третьи – вычеркнуть из истории.
Отдел документации, по большому счету, являлся всего лишь филиалом Министерства правды, главная задача которого состояла не в переделке прошлого, а в снабжении граждан Океании газетами, фильмами, учебниками, телепередачами, пьесами, романами – всеми мыслимыми видами информации, прикладной или развлекательной: от закона до лозунга, от лирического стихотворения до биологического трактата, от детского букваря до словаря новояза. А министерство должно было не только удовлетворять разнообразные нужды Партии, но и дублировать всю свою деятельность на более низком уровне для пролетариев. Существовал целый ряд специальных отделов, занимавшихся пролетарской литературой, музыкой, драмой и досугом в целом. Здесь выпускались газетенки, освещавшие только спорт, криминал и астрологию, бульварные романчики по пять центов, скабрезные фильмы и сентиментальные песенки, сочинявшиеся исключительно механическим способом – посредством особого барабана под названием «версификатор». Была даже целая подсекция по производству самой низкопробной порнографии (порносек на новоязе), которую рассылали в запечатанных пакетах – ни один член Партии, кроме непосредственных изготовителей, не имел права ее видеть.
Пока Уинстон работал, из пневматической трубки выскользнули еще три сообщения. Простые задания, и он успел разделаться с ними до начала Двухминутки Ненависти. После Ненависти он вернулся в кабинку, снял с полки словарь новояза, отодвинул в сторону речепис, протер очки и взялся за главное задание этого утра.
Ничто в жизни Уинстона не доставляло ему такой радости, как работа. Пусть она в основном состояла из серой рутины, но иногда попадались настолько сложные и запутанные поручения, что можно было погрузиться в них с головой, как в решение математической задачи – настолько тонкие подтасовки, что единственным руководством в них становилось только знание принципов Ангсоца и собственное понимание того, что же Партия желает от тебя услышать. Уинстон знал толк в таких делах. Случалось, ему даже доверяли уточнять передовицы «Таймс», написанные полностью на новоязе. Он развернул сообщение, которое отложил в самом начале работы, и перечитал его:
таймс 3.12.83 отчет прикпостр бб дубльплюснехор ссыл нелица перепис всецело покнач доподшив
На староязе (или обычном английском) это могло означать:
Приказ Большого Брата по стране, напечатанный в «Таймс» от 3 декабря 1983 года, изложен крайне неудовлетворительно и ссылается на несуществующих лиц. Полностью перепишите его и представьте свой вариант вышестоящему начальству перед отправкой в архив.
Уинстон прочитал неугодную статью. Кажется, приказ Большого Брата по стране по большей части хвалил организацию, известную как ПКПП. Она снабжала сигаретами и прочими предметами потребления матросов Плавучей крепости. Особо отметили некоего товарища Уизерса, выдающегося члена Внутренней Партии, – он удостоился отдельного упоминания и получил Орден второй степени за выдающиеся заслуги.
Три месяца спустя ПКПП внезапно расформировали без объяснения причин. Напрашивалось предположение, что Уизерс с сотрудниками впали в немилость, однако ни в печати, ни на телеэкране об этом ничего не говорили. Неудивительно, поскольку устраивать судебный процесс или хотя бы публично разоблачать политических преступников было не принято. Большие чистки на тысячи человек с открытыми процессами по предателям и мыслефелонам, которые смиренно каялись перед казнью, представляли собой особые постановки и проводились с интервалом в пару лет. Как правило, ставшие неугодными Партии люди исчезали бесследно. И никто не имел ни малейшего представления, что с ними случилось. Нельзя было даже считать их умершими. Помимо своих родителей, Уинстон лично знал около тридцати человек, которые в какой-то момент просто исчезли.
Уинстон мягко почесал нос скрепкой. В кабинке напротив товарищ Тиллотсон все так же скрытно нависал над речеписом. Поднял голову на миг – и вновь враждебно блеснули очки. Уинстон подумал, что товарищ Тиллотсон, вполне возможно, выполняет то же самое задание. Почему бы нет? Такую тонкую работу ни за что бы не доверили одному человеку; с другой стороны, если созывать для этого комиссию, пришлось бы открыто признать фальсификацию. Очень может быть, что сейчас с десяток человек составляют свои версии слов Большого Брата. А потом какой-нибудь начальственный ум во Внутренней Партии выберет из них одну, подредактирует и запустит сложный процесс проставления перекрестных ссылок, после чего избранная ложь будет окончательно отправлена в архив и сделается правдой.
Уинстон не знал, в чем провинился Уизерс. Возможно, дело было в коррупции или некомпетентности. Возможно, Большой Брат решил избавиться от подчиненного, ставшего не-в-меру-популярным. Возможно, Уизерса или кого-то из его окружения заподозрили в уклонизме. А возможно – и вероятнее всего, – это случилось из-за самих принципов работы государственной машины, которой чистки и испарения были просто необходимы. Единственный определенный намек содержался в словах «ссыл нелица». Они означали, что Уизерс уже мертв. Не всегда при арестах можно было сказать такое с уверенностью. Иногда людей выпускали и давали пожить на свободе год-другой перед казнью. Изредка даже случалось, что кто-то, кого ты давно считал мертвым, возникал вдруг, точно призрак, на каком-нибудь открытом процессе и давал показания против сотен человек, после чего исчезал уже навсегда. Однако Уизерс уже был нелицом. Его не существовало, причем – никогда. Уинстон решил, что недостаточно просто изменить направление мыслей Большого Брата. Лучше написать о чем-то совершенно не связанном с исходной темой.
Можно свести все к обычному разоблачению предателей и мыслефелонов, но это было бы слишком прозрачно; с другой стороны, если выдумать победу на фронте или триумфальное перевыполнение Девятой Трехлетки, то это повлечет за собой лишнюю мороку с переписыванием документов. Здесь требовалась чистая фантазия. И вдруг в памяти у Уинстона всплыл – можно сказать, готовым к употреблению – образ некоего товарища Огилви, недавно павшего в бою смертью храбрых. Бывали случаи, когда Большой Брат посвящал целый приказ по стране памяти какого-нибудь скромного рядового члена Партии, жизнь и смерть которого могли служить достойным примером. Что ж, на этот раз он почтит память товарища Огилви. Правда, никакого товарища Огилви никогда не существовало, но несколько печатных строк и пара липовых фотографий решат эту задачу.
Подумав секунду, Уинстон притянул к себе речепис и начал диктовать в привычной манере Большого Брата. Манера эта, одновременно военная и педантичная, легко имитировалась одним характерным приемом: нужно было задавать вопросы и тут же на них отвечать («Какой же урок извлечем мы из этого факта, товарищи? А урок – и вместе с тем один из базовых принципов Ангсоца – таков…» и т. д. и т. п.).
В возрасте трех лет товарищ Огилви отказался от всех игрушек, кроме барабана, автомата и вертолета. В шесть – на год раньше, в виде особого исключения – его приняли в Разведчики, а в девять он уже был командиром отряда. В одиннадцать, подслушав дядин разговор, он уловил в нем преступные тенденции и донес в Мыслеполицию. В семнадцать он стал районным руководителем молодежной лиги Антисекс. В девятнадцать изобрел ручную гранату, которую приняли на вооружение в Министерстве мира, и на первом же испытании она разнесла в клочья тридцать одного евразийского военнопленного. В двадцать три года товарищ Огилви погиб, выполняя свой долг. Пролетая над Индийским океаном с важными донесениями, он попал под атаку вражеских истребителей, привязал к себе пулемет, как грузило, и выпрыгнул из вертолета в глубокие воды со всеми секретными документами. О такой кончине, сказал Большой Брат, нельзя говорить без зависти. Затем Большой Брат добавил несколько замечаний о жизни товарища Огилви в целом, которая была отмечена чистотой и целеустремленностью. Он не пил, не курил и не знал иного досуга, кроме ежедневного часа в спортзале. Решив, что женитьба и забота о семье несовместимы с круглосуточным служением долгу, товарищ Огилви дал обет безбрачия. Он не вел никаких разговоров, кроме как о принципах Ангсоца, и не имел иной цели в жизни, кроме победы над евразийским врагом и разоблачения шпионов, вредителей, мыслефелонов и прочих предателей.
Уинстон подумал было наградить товарища Огилви орденом за выдающиеся заслуги, но потом решил, что это будет лишним и повлечет за собой ненужные перекрестные ссылки и исправления.
Он снова взглянул на соперника в кабинке напротив. Что-то подсказывало ему, что Тиллитсон трудился над тем же заданием. Неизвестно, чью работу в итоге примут, но Уинстон был уверен в своем варианте. Невообразимый еще час назад товарищ Огилви вошел в реальность. Уинстон вдруг поразился, что можно создавать умерших, но не живых. Товарищ Огилви никогда не существовал в настоящем времени, но теперь существует в прошлом, и как только факт подлога забудется, Огилви станет столь же несомненной и неопровержимой фигурой, как Карл Великий или Юлий Цезарь.
В столовой с низким потолком, глубоко под землей, очередь за обедом двигалась рывками. Было полно народу и очень шумно. От жаровни за стойкой валил мясной пар с кислым металлическим душком, но все перебивал запах джина «Победа». В дальнем конце зала обустроили маленький бар, больше похожий на дыру в стене, где разливали джин по десять центов за шкалик.
– Вот кого я искал, – произнес кто-то за спиной Уинстона.
Он обернулся. Это был его приятель Сайм из Исследовательского отдела. Пожалуй, «приятель» – не совсем верное слово. Сейчас нет никаких приятелей, только товарищи, но с определенными товарищами приятней делить компанию, чем с другими. Сайм был филологом, специалистом по новоязу. Он работал в составе огромной экспертной группы, корпевшей над одиннадцатым изданием словаря новояза. Сайм был совсем мелким, мельче Уинстона, с темными волосами и большими глазами навыкате, скорбно-насмешливыми, словно обыскивавшими лицо собеседника.
– Хотел спросить, не осталось у тебя лезвий? – осведомился он.
– Ни одного! – ответил Уинстон с какой-то виноватой поспешностью. – Сам везде искал. Их больше нет.
Все спрашивали про лезвия. Вообще-то у него лежали еще два нетронутых про запас. Последние месяцы с лезвиями была беда. В партийных магазинах постоянно пропадал то один, то другой товар первой необходимости: то пуговицы, то нитки, то шнурки; теперь вот – лезвия. Их можно было раздобыть только украдкой на «свободном» рынке, если повезет.
– Бреюсь одним уже полтора месяца, – соврал Уинстон.
Очередь продвинулась еще на шаг. Он остановился, вновь обернулся и взглянул на Сайма. Оба взяли засаленные металлические подносы из стопки с краю стойки.
– Ходил вчера смотреть, как вешают пленных? – спросил Сайм.
– Я работал, – равнодушно ответил Уинстон. – Увижу, наверное, в кино.
– Весьма неравноценная замена, – заявил Сайм.
Его насмешливый взгляд шарил по лицу Уинстона.
«Знаю я тебя, – словно говорил этот взгляд, – насквозь вижу. Я прекрасно знаю, почему ты не ходил смотреть, как вешают пленных».
Сайм, как интеллектуал, был язвительно правоверен. Он со злорадством говорил о вертолетных атаках на вражеские деревни, о процессах и признаниях мыслефелонов, о казнях в подвалах Министерства любви. В беседах приходилось все время уводить его от этих тем и по возможности переводить разговор на технические тонкости новояза, о которых он рассказывал интересно и со знанием дела. Уинстон слегка повернулся, уклоняясь от испытующего взгляда больших темных глаз.
– Хорошая была казнь, – мечтательно протянул Сайм. – Я считаю, зря им ноги связывают. Люблю смотреть, как они дрыгаются. А больше всего – в конце, как язык высовывается, голубой такой, почти ярко-синий. Вот что меня трогает.
– Дальше, пжалста! – прокричала пролка с половником, одетая в белый фартук.
Уинстон и Сайм задвинули подносы под решетку. Каждому шмякнули стандартные порции: жестяную миску с розовато-серым рагу, ломоть хлеба, кубик сыра, кружку черного кофе «Победа» и одну таблетку сахарина.
– Вон за тот столик, под телеэкраном, – сказал Сайм. – Пошли, возьмем джин по дороге.
Джин налили в фаянсовые кружки без ручек. Сайм и Уинстон пробрались через запруженный зал и разгрузили подносы на металлический столик, на углу которого кто-то пролил отвратную подливу от рагу. Жижа напоминала рвоту. Уинстон взял кружку джина, замер на миг, собираясь с духом, и залпом выпил маслянистую жидкость. Сморгнув выступившие слезы, он неожиданно ощутил голод. Уинстон принялся наворачивать рагу, в котором при всей его клеклости попадались розоватые пористые кубики, считавшиеся мясом. Оба приятеля ели молча, пока не подчистили миски. Слева за спиной Уинстона кто-то без умолку трещал, перекрывая общий гомон грубым и отрывистым гусиным гоготанием.
– Как продвигается словарь? – спросил Уинстон, перекрикивая шум.
– Медленно, – отозвался Сайм. – Сижу над прилагательными. Завораживает.
Заговорив о новоязе, Сайм сразу просиял. Он отодвинул миску, схватил в одну хрупкую руку ломоть хлеба, а в другую – сыр и перегнулся через стол, чтобы не приходилось кричать.
– Одиннадцатое издание станет академическим, – заговорил он. – Мы придаем языку завершенный вид – таким он и останется, когда все будут говорить только на новоязе. Когда закончим, то людям вроде тебя придется переучивать все заново. Ты думаешь, смею сказать, что мы в основном новые слова изобретаем. Ничего подобного! Мы уничтожаем слова – уйму слов, сотни слов – каждый день. Мы срезаем с языка все лишнее, до костей. В одиннадцатом издании ни единое слово не устареет до 2050 года.
Он с жадностью откусил хлеб, прожевал и дважды сглотнул, затем продолжил говорить со страстностью педанта. Его худое смуглое лицо оживилось, глаза лишились насмешливого выражения и выглядели почти мечтательно.
– Как прекрасно – уничтожать слова. Конечно, больше всего хлама скопилось в глаголах и прилагательных, но и среди существительных сотни лишних. И это не только синонимы; еще и антонимы. Сам подумай, какой смысл в слове, которое означает всего-навсего противоположность чего-то другого? Всякое слово само по себе может выражать свою противоположность. Возьмем, к примеру, «хорошо» – «хор» на новоязе. Если у тебя есть слово «хорошо», какой смысл в слове «плохо»? «Нехор» ничем не хуже, а даже лучше, поскольку являет собой полную противоположность, какой нет у слова «плохо». Опять же, если тебе нужно усилить значение «хор», какой смысл пользоваться целым рядом расплывчатых никчемных слов вроде «превосходно», «великолепно» и прочих им подобных? «Плюсхор» дает нужный смысл, а если нужно еще сильнее подчеркнуть, то «дубльплюсхор». Конечно, мы и так уже их используем, но в окончательной версии новояза других вариантов и не останется. В итоге весь спектр хорошего и плохого будут охватывать шесть слов, точнее, шесть форм одного слова. Разве ты не видишь, как это прекрасно, Уинстон? – сказал он и добавил после паузы: – Идея принадлежит, разумеется, Б-Б.
При упоминании о Большом Брате на лице Уинстона обозначилось вялое рвение. Однако Сайм тут же почувствовал недостаток энтузиазма.
– Нет у тебя настоящего понимания новояза, Уинстон, – почти грустно объявил он. – Даже когда ты пишешь, то все еще думаешь на староязе. Я почитываю кое-что из твоих сочинений для «Таймс». Они довольно хороши, но это переводы. Сердцем ты цепляешься за старояз со всей его расплывчатостью и никчемными смысловыми оттенками. Ты не можешь постичь красоты разрушения слов. Известно ли тебе, что новояз – единственный язык в мире, чей словарь сокращается с каждым годом?
Уинстону, разумеется, это было известно. Он улыбнулся, пытаясь показать сочувствие, но не решился раскрыть рот. Сайм откусил еще бурого хлеба, быстро прожевал и продолжил:
– Разве ты не видишь, что вся цель новояза – сузить горизонт мышления? В конце концов, мы сделаем мыслефелонию попросту невозможной, потому что для нее не будет слов. Для каждого важного понятия останется одно-единственное слово со строго определенным значением, а все добавочные оттенки выскоблят и забудут. В одиннадцатом издании мы уже недалеки от нашей цели. Но работа продолжится даже после нашей смерти. С каждым годом слов будет все меньше, горизонт сознания – чуть уже. И сейчас, разумеется, для мыслефелонии нет ни надобности, ни оправдания. Это лишь вопрос самодисциплины, управления реальностью. Но в конце и она не понадобится. Когда Революция достигнет завершения, язык станет идеален. Новояз есть Ангсоц, Ангсоц есть новояз, – добавил он с каким-то мистическим пылом. – Тебе не приходило на ум, Уинстон, что самое позднее к 2050-му не останется ни единого человека, который сможет понять наш сегодняшний разговор?
– Кроме… – начал Уинстон нерешительно и осекся.
Он чуть было не ляпнул «кроме пролов», но сдержался при мысли, что в таком замечании можно уловить некоторое вольнодумство. Однако Сайм угадал его мысль.
– Пролы не люди, – отмахнулся он. – К 2050-му, если не раньше, никто по-настоящему не будет владеть староязом. Вся литература прошлого будет уничтожена. Чосер, Шекспир, Мильтон, Байрон останутся только на новоязе, но не просто измененными, а значащими прямо противоположное. Изменится даже литература Партии. Даже лозунги. Откуда появится лозунг вроде «свобода – это рабство», когда упразднят само понятие свободы? Вся атмосфера мышления станет другой. Фактически, мышления в нашем сегодняшнем понимании уже не будет. Правоверность означает отсутствие мысли и самой необходимости в ней. Правоверность бессознательна.
Тут Уинстон проникся глубоким убеждением, что в скором времени Сайма испарят. Он слишком умный. Видит слишком ясно и говорит слишком прямо. Партия таких не любит. Однажды он исчезнет. У него на лице это написано.
Уинстон доел хлеб с сыром. Принявшись за кофе, он повернулся на стуле боком. За столиком слева продолжал разоряться хрипатый говорун. Он обращался к молодой женщине, сидевшей спиной к Уинстону, – скорее всего, своей секретарше, которая, похоже, безоговорочно с ним соглашалась. Время от времени Уинстон слышал ее моложавый и глуповатый голосок со словами вроде: «По-моему, вы совершенно правы, я так с вами согласна». Но говорун не умолкал ни на секунду, даже когда девушка пыталась ответить. Уинстон несколько раз видел его в министерстве и знал, что тот занимает какую-то важную должность в Художественном отделе. Это был мужчина лет тридцати, с мускулистой шеей и большим подвижным ртом. Он чуть откинул голову, и свет так падал на его очки, что Уинстону виделись два белых круга вместо глаз. Ощущения жути добавлял извергавшийся из него словесный поток, который было почти невозможно разделить на отдельные слова. Только раз Уинстон разобрал целую фразу – «полное, бесповоротное уничтожение голдштейнизма», – произнесенную такой скороговоркой, что она казалась слитной массой, как строка, набранная без пробелов. В остальном это звучало просто какофонией, га-га-гаканьем. Но даже без понимания отдельных слов не возникало ни малейшего сомнения в общей направленности его речи. Скорее всего, он поносил Голдштейна и требовал ужесточить меры против мыслефелонов и вредителей, негодовал по поводу зверств евразийской армии, восхвалял Большого Брата или героев Малабарского фронта – без разницы. Так или иначе ты мог быть уверен, что каждое его слово – образец правоверности, чистый Ангсоц. Глядя на это лицо без глаз, с быстро двигавшимся ртом, Уинстон испытал странноватое впечатление, что перед ним не живой человек, а какой-то механический болванчик. Произносимая тирада происходила не от мозга, но от глотки. Исторгавшаяся звуковая масса состояла из слов, но не была речью в подлинном ее смысле – лишь продуктом бессознательного, вроде гусиного гогота.
Сайм ненадолго замолчал, выводя что-то черенком ложки в луже подливы. Гоготание не ослабевало, уверенно перекрывая окружающий гомон.
– В новоязе есть слово, – сказал Сайм. – Не уверен, знаешь ли ты его: гусояз? Когда кто-то бубнит, как гусь. Одно из таких интересных слов, у которых два противоположных значения. В отношении оппонента это оскорбление, но если ты согласен со смыслом, то комплимент.
Уинстон снова подумал, что Сайма испарят, без вариантов. Печальная мысль, хотя он хорошо понимал, что Сайм его презирает и недолюбливает, а при малейшем поводе может запросто объявить мыслефелоном. С Саймом что-то было не в порядке. Ему чего-то не хватало: осмотрительности, скрытности или спасительной тупости. Нельзя было утверждать, что он неправоверен. Он верил в принципы Ангсоца, почитал Большого Брата, восторгался победами, ненавидел отступников не просто искренне, но с какой-то одержимостью, он располагал последними сведениями, недоступными рядовым партийцам. И все же от него всегда веяло духом неблагонадежности. Сайм говорил вещи, которые не стоило озвучивать, читал слишком много книг, то и дело посещал кафе «Под каштаном», приют художников и музыкантов. Не было запрета, хотя бы даже неписаного, на посещение «Под каштаном», и все же это место имело дурную славу. Одно время там собирались старые, лишившиеся доверия партийные вожди, пока их не зачистили окончательно. По слухам, сам Голдштейн заглядывал туда годы, десятилетия тому назад. Судьбу Сайма предугадать было несложно. Однако не приходилось сомневаться, что если бы ему хоть на пару секунд открылись тайные взгляды Уинстона, то он тут же бы сдал приятеля в Мыслеполицию. Как и любой на его месте, если уж на то пошло, но Сайм наверняка. Одного пыла и рвения было мало. Правоверность бессознательна.
Саймон поднял взгляд и произнес:
– Вон Парсонс идет.
Его интонация словно бы уточняла: «дурень чертов». К ним действительно пробирался Парсонс, сосед Уинстона по жилкомплексу «Победа» – невысокий русоволосый крепыш с лягушачьим лицом. В тридцать пять он уже отрастил брюшко и валик жира на загривке, но двигался по-мальчишески проворно. Всем своим видом он напоминал пацана-переростка, так что, даже будучи одетым в форменный комбинезон, он невольно представлялся в синих шортах, серой рубашке и красном галстуке Разведчиков. Воображение при этом всегда дорисовывало ямочки на коленях и закатанные рукава с пухлыми предплечьями. Парсонс и вправду при любой возможности надевал шорты – в турпоходах и на всех мероприятиях, где это было допустимо. Он поприветствовал их обоих веселым «Здрасьте, здрасьте!» и присел за столик, обдав Сайма и Уинстона ядреным потным духом. Все его розовое лицо покрывали бисеринки пота. Такая способность к потоотделению поражала. В Центре досуга всегда можно было понять по влажной ручке ракетки, когда он играл в настольный теннис. Сайм достал полоску бумаги с длинным столбиком слов и принялся изучать их, держа чернильный карандаш наготове.
– Вы только посмотрите, и в обед работает, – сказал Парсонс, тронув локтем Уинстона. – Азарт, а? Что там у тебя, старина? Небось не по моим мозгам? Смит, старик, я к тебе вот с каким делом. Ты забыл мне денежку сдать.
– На что собираем? – уточнил Уинстон, машинально потянувшись к карману.
Порядка четверти зарплаты приходилось отдавать на добровольные взносы, настолько многочисленные, что трудно было уследить за всеми.
– На Неделю Ненависти. Ну, знаешь… жилищный фонд. Я казначей по нашему корпусу. Не жалеем сил – забабахаем такое шоу, закачаешься. Чтоб мне провалиться, если старушка «Победа» не выставит больше всех флагов на улице. Ты мне обещал два доллара.
Уинстон нашел и протянул две мятые засаленные банкноты, которые Парсонс аккуратным почерком малограмотных отметил в блокнотике.
– Кстати, старина, – сказал он. – Я слышал, мой пострел засветил в тебя вчера из рогатки. Я ему устроил хорошую головомойку. Сказал, что вообще отберу рогатку, если еще такое случится.
– Думаю, что он слегка расстроился, когда его не взяли на казнь, – сказал Уинстон.
– А, ну это… что я хочу сказать – подает надежды, верно? Сорванцы оба несносные, к слову об азарте! У них на уме одни Разведчики; ну и война, само собой. Знаешь, что моя дочурка вытворила в прошлое воскресенье, когда ее отряд был в походе на Беркхамстед? Сманила еще двух девчонок, они выскользнули из отряда и до вечера следили за одним типом. Два часа пасли его по лесу, а как дошли до Амершема, сдали его патрульным.
– Зачем же это? – опешил Уинстон.
Но Парсонс продолжал с гордым видом:
– Дочурка смекнула, что он какой-то вражеский агент – может, сбросили на парашюте или еще как. Но вот в чем суть, старик. С чего, думаешь, она его заподозрила? Заметила на нем туфли чудные – сказала, никогда ни на ком таких не видела. Так что он наверняка был иностранец. Скажи, умно для семилетней пигалицы, а?
– И что с ним сделали? – спросил Уинстон.
– А, чего не знаю, того не знаю. Но я бы не особо удивился, если…
И Парсонс изобразил руками выстрел из ружья, прищелкнув языком.
– Хорошо, – отстраненно отметил Сайм, не поднимая глаз от своей бумажки.
– Конечно, мы не можем рисковать, – послушно согласился Уинстон.
– Что ни говори, мы же воюем, – подытожил Парсонс.
Будто в подтверждение сказанного из телеэкрана вырвался трубный звук и поплыл над их головами. Однако теперь дело касалось не военной победы, а сообщения из Министерства изобилия.
– Товарищи! – выспренно воскликнул моложавый голос. – Внимание, товарищи! У нас для вас прекрасная новость. Мы выиграли продовольственную битву! Подведены итоги выпуска всех классов потребительских товаров, и согласно их показаниям уровень жизни за истекший год возрос как минимум на двадцать процентов. По всей Океании этим утром проходят неудержимые стихийные демонстрации рабочих, которые маршируют по улицам от фабрик и учреждений и машут флагами, выражая благодарность Большому Брату за нашу новую, счастливую жизнь, дарованную нам его мудрым руководством. Вот некоторые итоговые цифры. Продовольственные товары…
Слова «наша новая счастливая жизнь» повторили несколько раз. В последнее время эта фраза стала любимой в Министерстве изобилия. Захваченный звуком трубы Парсонс сидел и слушал с открытым ртом, в возвышенном отупении. Он не мог уследить за цифрами, но понимал, что они должны внушать удовлетворение. Он вытащил большую перепачканную трубку, наполовину забитую обугленным табаком. Учитывая, что недельный рацион табака составлял всего сто граммов, набить трубку полностью удавалось редко. Уинстон закурил сигарету «Победа», стараясь держать ее горизонтально, чтобы не сыпался табак. У него осталось лишь четыре штуки, а новую пачку можно будет получить только завтра. Он прикрыл уши, чтобы отгородиться от постороннего шума, и сосредоточился на сообщении телеэкрана. Выходило, что демонстранты, кроме прочего, благодарили Большого Брата за увеличение нормы шоколада до двадцати граммов в неделю. А не ранее как вчера, думал Уинстон, объявили о сокращении рациона шоколада до двадцати граммов в неделю. Неужели люди в состоянии проглотить такое уже через сутки? Да, проглотили. Парсонс проглотил это легко и покорно, как жвачное животное. Существо без глаз за соседним столиком проглотило новость фанатично, страстно, с яростным желанием выследить, разоблачить и испарить любого, кто заикнется, что на прошлой неделе шоколад выдавали по тридцать граммов. Даже Сайм, пусть и более сложным путем, прибегнув к двоемыслию, тоже проглотил это. Неужели Уинстону одному не отшибло память?
Телеэкран продолжал сыпать баснословными цифрами. По сравнению с прошлым годом стало больше еды, больше одежды, больше домов, больше мебели, больше посуды, больше горючего, больше кораблей, больше вертолетов, больше книг и детей тоже больше – всего стало больше, кроме болезней, преступлений и безумия. С каждым годом, с каждой минутой все и вся стремительно взмывало к вершинам. Уинстон взял ложку и принялся, как и Сайм, водить по бледной луже подливы, размазанной по столешнице, вытягивая из нее длинную загогулину. Он с отвращением размышлял о материальной стороне жизни. Неужели так было всегда? Неужели пища всегда была такой на вкус? Он оглядел столовую. Забитое людьми помещение с низким потолком и замызганными от бесчисленных спин и боков стенами; расшатанные металлические столы и стулья, стоявшие так плотно, что все задевали друг друга локтями; погнутые ложки, продавленные подносы, потертые белые кружки; все заросло жиром, в каждой трещине грязь; смешанный кисловатый запах плохого джина, скверного кофе, рагу с металлическим привкусом и грязной одежды. Нутром и кожей ты всегда испытывал протест – ощущение, что тебя обманули, лишили чего-то, на что ты имеешь право. Пусть даже на памяти Уинстона жизнь почти всегда была такой. Сколько он помнил, всегда не хватало еды, все носили заштопанные носки и белье, мебель всегда была обшарпанной и расшатанной, комнаты – нетоплеными, поезда – переполненными, дома разваливались, хлеб был бурым, чай – редкостью, от кофе тошнило, сигарет вечно не хватало; денег – кончались слишком быстро, только синтетический джин никогда не иссякал. Даже учитывая, что с возрастом все переносится труднее, разве это не признак неестественного порядка вещей, если тебя мутит от всей этой неустроенности, грязи и вечного дефицита, нескончаемых зим, липких носков, неработающих лифтов, холодной воды, грубого мыла, рассыпающихся сигарет и пищи с непонятным жутким вкусом? Чем объяснить ощущение невыносимости быта, если не наследственной памятью о временах, когда все было иначе?
Он снова оглядел столовую. Люди кругом поражали уродством, и даже если их переодеть из синих партийных комбинезонов во что-то другое, уродство их едва ли уменьшится. В дальнем конце столовой в одиночку сидел за столиком смешной человечек, похожий на жука, он пил кофе и постреливал глазками по сторонам. Как легко верить, думал Уинстон, если не смотреть по сторонам, что существует и даже преобладает физический стандарт, установленный Партией: высокие сильные юноши и полногрудые девушки, белокурые, энергичные, загорелые, беззаботные. Насколько он видел на самом деле, большинство людей Первой летной полосы были темноволосыми, низкорослыми и неказистыми. Удивительно, как быстро в министерствах распространился этот жучиный типаж – невысокие, коренастые человечки, очень рано полнеющие, семенящие короткими ножками, с непроницаемыми заплывшими лицами и глазками-пуговками. Именно такая порода, похоже, пышнее всего расцвела под началом Партии.
Сводка Министерства изобилия завершилась очередным сигналом трубы, уступив место отрывистой музыке. Парсонс вынул трубку изо рта, подстегнутый до смутного энтузиазма водопадом цифр.
– Похоже, Министерство изобилия неплохо потрудилось в этом году, – сказал он, многозначительно покачивая головой. – Кстати, Смит, старина, у тебя, наверно, не найдется для меня лезвия?
– Ни единого, – ответил Уинстон. – Бреюсь одним уже полтора месяца.
– Ну что ж. За спрос денег не берут, старик.
– Извини, – сказал Уинстон.
Гогочущий голос за соседним столиком, притихший было во время сообщения Министерства изобилия, забубнил с прежней громкостью. Уинстон непонятно почему подумал о миссис Парсонс с ее всклокоченными волосами и пропыленными морщинами. Не пройдет и двух лет, как детки донесут на нее в Мыслеполицию. И миссис Парсонс испарят. Сайма испарят. Уинстона тоже испарят. И О’Брайена. А вот Парсонса никогда не испарят. Безглазое существо с гогочущим голосом никогда не испарят. И маленьких людишек-жуков, проворно снующих в лабиринтах министерских коридоров, никогда не испарят. И девушку с темными волосами из Художественного отдела – ее тоже никогда не испарят. Уинстону показалось, что он инстинктивно знает, кто погибнет, а кто останется в живых, но непонятно было, что нужно делать для выживания.
Из размышлений его выбил резкий толчок. Девушка за соседним столиком повернулась вполоборота и взглянула на него. Это была та самая, темноволосая. Она смотрела на него искоса, но удивительно пристально. Едва он перехватил ее взгляд, как она отвернулась.
Уинстон вспотел вдоль всей спины. Жуткий страх пронзил его. Страх почти сразу прошел, но осталась какая-то смутная тревога. Почему она следит за ним? Почему все время ходит по пятам? К сожалению, он не смог припомнить, сидела ли она уже за столиком, когда пришли они с Саймом, или появилась позднее. Но и вчера на Двухминутке Ненависти девушка села у него за спиной, хотя в этом не было необходимости. Вполне вероятно, она хотела проверить, кричит ли он достаточно громко.
Он снова задумался: вряд ли она состоит в Мыслеполиции, но в таком случае это шпионка-любительница, а это еще опаснее. Уинстон не знал, долго ли она на него смотрела. Наверное, минут пять, но он не был уверен, что все это время следил за выражением лица. Очень опасно забывать, что лицо может отражать твои мысли, когда ты среди людей или в зоне видимости телеэкрана. Даже мелочь может тебя выдать – нервный тик, тревожный взгляд, привычка бормотать про себя – что угодно, что укажет на возможность отклонения от нормы или какие-то тайные мысли. Во всяком случае, неправильное выражение лица (к примеру, скептический вид при объявлении победы) каралось как преступление. На новоязе было даже такое слово – лицефелония.
Девушка снова повернулась к нему спиной. Может, она все же не следит за ним; может, это просто совпадение, что она два дня подряд садится рядом? Сигарета погасла, он осторожно положил ее на край стола – докурит после работы, если удастся не просыпать табак. А может, очень может быть, что за соседним столиком сидит агент Мыслеполиции. Очень может быть, что через три дня Уинстон окажется в подвалах Министерства любви, но не пропадать же окурку. Сайм сложил свою бумажку и убрал в карман. Парсонс снова заговорил.
– Я рассказывал тебе, старина, – сказал он, не вынимая трубку изо рта, – как мои сорванцы подожгли юбку рыночной торговке, когда увидели, что она завернула сосиски в плакат с портретом Б-Б? Подкрались к ней сзади, запалили спичечный коробок и подожгли. Наверное, хорошенько поджарили. Вроде сопляки? Но какое рвение! Теперь их отлично натаскивают в отрядах Разведчиков, даже лучше, чем в мое время. Знаешь что им недавно выдали? Слуховые трубки, чтобы подслушивать сквозь замочную скважину! Дочурка на днях принесла домой свою трубку: опробовала в гостиной и утверждает, что слышно в два раза лучше, чем просто ухом. Конечно, это всего лишь игрушка, надо понимать. Но внушает правильный настрой.
В этот момент раздался пронзительный свист – пора возвращаться к работе. Все трое вскочили на ноги и вместе со всеми бросились к лифтам, а Уинстон просыпал табак из окурка.
Уинстон записал в дневнике:
Это случилось три года назад. Темным вечером, в узком переулке вблизи одного вокзала. Она стояла у подъезда, под фонарем, почти не дававшим света. Лицо у нее было молодое, сильно накрашенное. Это меня и привлекло: ее белизна, словно у маски, и ярко-красные губы. Партийные женщины никогда не красятся. Больше на улице никого не было, и ни одного телеэкрана. Она сказала: два доллара. Я…
Ему вдруг стало трудно продолжать. Он закрыл глаза и нажал на веки пальцами, словно желая выдавить навязчивое видение. Нестерпимо захотелось громко выругаться грязными словами. Или ударить головой о стену, отшвырнуть стол, запустить чернильницей в окно, чтобы хоть как-то – буйством, шумом, болью – заглушить мучительное воспоминание…
Худший враг, подумал он, это собственная нервная система. Внутреннее напряжение всегда норовит себя проявить. Он вспомнил одного прохожего, которого увидел на улице несколько недель назад; вполне заурядный товарищ, член Партии, с портфелем, лет тридцати пяти – сорока, довольно высокий и худой. Когда между ними было несколько метров, у мужчины свело судорогой левую половину лица. А когда они поравнялись, дрожь повторилась: обычная судорога, нервный тик, быстрый, как щелчок фотоаппарата, и, по всей видимости, привычный. Уинстон вспомнил, как подумал тогда: этот бедолага не жилец. Особенно страшно было при мысли, что лицо у него дергалось бессознательно. Впрочем, самое опасное – разговаривать во сне. От этого никто не застрахован, насколько знал Уинстон.
Он перевел дух и стал писать дальше:
Я вошел за ней в подъезд, мы пересекли прихожую и спустились в подвальную кухню. У стены стояла кровать, на столе едва мерцала керосинка. Женщина…
У него свело челюсти. Хотелось плюнуть. Вместе с этой женщиной он вспомнил Кэтрин, свою жену. Уинстон состоял в браке; во всяком случае, когда-то – но возможно, что и сейчас, поскольку он не получал известий о ее смерти. Он будто снова вдохнул теплый душный смрад подвальной кухни: пахло клопами, нестираной одеждой, паршивыми дешевыми духами – хотя духи и завлекали, потому что партийные женщины ни под каким видом духами не пользовались. Только пролы могли надушиться, и в его сознании запах духов был неразрывно связан с похотью.
До того раза он не был с женщиной года два, если не больше. Разумеется, иметь дело с проститутками не разрешалось, но это было одно из тех правил, которые периодически осмеливались нарушать. Опасно, но не смертельно. Если поймают с проституткой, дадут пять лет лагерей, не больше, при отсутствии других провинностей. А так все было довольно просто – лишь бы не поймали без штанов. Кварталы бедняков кишели женщинами, готовыми продать себя. Можно было купить женщину за бутылку джина, поскольку пролам пить его не полагалось. Партия негласно поощряла проституцию, дававшую выход инстинктам, которые не удавалось полностью подавить. Разврат сам по себе мало кого заботил, пока ему предавались украдкой, с опаской и только с женщинами угнетенного и презираемого класса. Непростительным преступлением считалась внебрачная связь между членами Партии. Во время больших чисток чаще всего признавались как раз в таких преступлениях, но с трудом верилось, что подобное действительно имело место.
Партия не просто стремилась не допустить, чтобы между мужчинами и женщинами возникала близость, с трудом поддающаяся контролю. Тайной, но подлинной целью Партии было искоренить всякое наслаждение от секса. Главным врагом стала не столько любовь, сколько чувственность – хотя бы даже в законном браке. Брак между членами Партии заключался лишь с одобрения специально назначенного комитета, и (пусть об этом никогда не говорилось вслух) одобрения не давали, если было похоже, что жених с невестой испытывают друг к другу влечение. Считалось, что единственная цель брака – производство детей для Партии. На сексуальный акт смотрели как на некую довольно постыдную и мимолетную процедуру вроде клизмы. Об этом опять же никогда не говорилось прямо, но такое отношение воспитывалось в каждом члене Партии с самого детства. Были даже организации вроде молодежной лиги Антисекс, которые проповедовали полное воздержание для обоих полов. Детей следовало получать путем искусственного оплодотворения (ископлод на новоязе) и воспитывать в государственных интернатах. Уинстон понимал, что подобные меры предлагались не вполне всерьез, но сами теории хорошо вписывались в партийную идеологию. Партия старалась уничтожить сексуальное влечение, а если искоренить его полностью не удавалось, то хотя бы извратить и опоганить. Уинстон не понимал, почему так происходило, но это казалось само собой разумеющимся. Впрочем, в отношении женщин усилия Партии не пропали впустую.
Он снова подумал о Кэтрин. Они расстались лет девять или десять… нет, почти одиннадцать лет назад. Странно, как редко он вспоминал ее. Он мог подолгу вообще не помнить, что когда-то был женат. Они прожили вместе чуть больше года. Партия не разрешала разводиться, но если детей не появлялось, то считалось, что супругам надо разойтись.
Кэтрин была высокой блондинкой, очень стройной, с величавыми движениями. Ее лицо, выразительное, с орлиным профилем, можно было считать благородным, но лишь до тех пор, пока не увидишь, что под точеными чертами скрывается поразительная пустота. Уже вскоре после женитьбы Уинстон понял – вероятно, просто потому что узнал Кэтрин ближе большинства людей, – что в жизни не встречал настолько тупого, пошлого и пустого человека. В голове у нее не было ничего, кроме лозунгов, и не существовало настолько кретинской идеи, чтобы она не заглотила ее с подачи Партии. Уинстон придумал ей прозвище – Фонограмма. И все равно он бы смог с ней ужиться, если бы не одно обстоятельство – секс.
Едва он до нее дотрагивался, как Кэтрин вздрагивала и деревенела. Обниматься с ней было все равно что с куклой на шарнирах. У него возникало странное ощущение, что, даже сжимая его в объятиях, она одновременно всеми силами его отталкивала. Такое впечатление создавали ее окостенелые мышцы. Она лежала с закрытыми глазами, не сопротивляясь и не откликаясь – подчиняясь. Поначалу это его обескураживало, потом стало приводить в смятение. Но и тогда он был бы готов жить с ней дальше, если бы они по обоюдному согласию отказались от сексуальной близости. Как ни странно, именно Кэтрин воспротивилась такому повороту. Они должны сделать ребенка, говорила она, если у них только получится. Поэтому спектакль повторялся регулярно, раз в неделю, если им что-нибудь не мешало. В назначенный день она даже напоминала ему об этом с утра, как о некой важной обязанности. У нее было два выражения для обозначения этого действия: «делать ребенка» и «выполнять наш долг перед Партией» (да, она именно так и говорила). Очень скоро он стал испытывать ужас в преддверии назначенного дня. К счастью, ребенка они так и не зачали, и Кэтрин в итоге согласилась прекратить дальнейшие попытки, а вскоре они расстались.
Уинстон беззвучно вздохнул. Он снова взял ручку и написал:
Женщина разлеглась на кровати и тут же, без какой-либо прелюдии, в бесконечно грубой, похабной манере задрала юбку. Я…
Он увидел себя там, в тусклом свете керосинки, и снова ощутил резкий запах клопов и дешевых духов. Уинстон вспомнил, как в душе его нарастало чувство полного бессилия и обиды, невольно смешиваясь с мыслями о Кэтрин, о ее белом теле, навеки окостеневшем под воздействием гипноза Партии. Почему это всегда должно быть так? Почему у него не может быть своей женщины, и его удел – эти грязные поспешные случки раз в несколько лет? Но настоящую любовь трудно даже вообразить. Все партийные женщины одинаковы. Верность Партии укоренилась в их сознании в виде целомудрия. Природные чувства вытравливали из них с ранних лет тщательно продуманной системой воспитания, играми и обливаниями холодной водой, всяким вздором, которым их пичкали в школе и в организациях вроде Разведчиков и молодежной лиги Антисекс, лекциями, парадами, песнями, лозунгами и военной музыкой. Разум говорил ему, что должны быть исключения, но сердце уже не верило. Все они были непоколебимы, как того и требовала Партия. Ему хотелось – даже больше, чем любви, – сокрушить эту стену целомудрия хотя бы раз в жизни. Полноценный сексуальный акт – это бунт. Вожделение – мыслефелония. Даже если бы ему удалось разбудить в Кэтрин женщину, это стало бы чем-то вроде совращения, хотя она была его женой.
Но надо было завершать историю, и он написал:
Я прибавил огня в лампе. Когда я увидел ее в ярком свете…
После темноты мерцающий огонек керосинки казался очень ярким. Наконец он как следует рассмотрел женщину. Он шагнул к ней и остановился, переполняемый желанием и ужасом. Он очень болезненно осознал, чем рискует, придя сюда. Вполне возможно, что патрульные арестуют его на выходе – может, уже караулят за дверью. Арестуют, даже если он не сделает того, зачем пришел!..
Надо дописать до конца. Надо сознаться во всем. При свете лампы он вдруг увидел, что женщина старая. Макияж лежал на ее лице таким толстым слоем, что казалось, сейчас треснет, точно маска из папье-маше. Волосы местами поседели, но страшнее всего был рот: когда она его приоткрыла, там не оказалось ничего, кроме гнилой черноты. Эта женщина была совсем беззуба.
Он писал сбивчиво, каракулями:
Когда я увидел ее при свете, она оказалась старухой – ей было лет пятьдесят, не меньше. Но это не остановило меня, и я сделал, что собирался.
Он снова надавил пальцами веки. Он дописал все до конца, но это не помогло. Ему не стало легче. Ему опять безумно захотелось ругаться во всю глотку грязными словами.
Если есть надежда, – написал Уинстон, – то она в пролах.
Если есть надежда, то она должна быть в пролах. Лишь в этих презренных массах, составляющих восемьдесят пять процентов населения Океании, может когда-нибудь возникнуть сила, способная уничтожить Партию. Партию нельзя разрушить изнутри. Ее враги – если такие имеются – не в состоянии объединиться, они не могут даже узнать друг о друге. Даже если легендарное Братство существует, что вполне возможно, то его члены никогда не смогут собраться больше чем по двое-трое. Ведь достаточно взгляда в глаза, непривычной интонации, а тем более шепота невзначай, чтобы вас обвинили в бунте. Одним лишь пролам, если бы только они осознали свою силу, не надо было таиться. Им нужно лишь подняться и стряхнуть с себя паразитов, как лошадь стряхивает мух. Стоит им захотеть – и они могли бы разбить Партию вдребезги хоть завтра утром. Должно же рано или поздно прийти им это в голову? Однако же!..
Он вспомнил, как шел по людной улице и вдруг откуда-то из переулка донесся гул сотен голосов, женских голосов. Это был грозный крик гнева и отчаяния – низкое громкое «О-о-о-о-о-!» гудело и нарастало, словно колокольный звон. Сердце у него подпрыгнуло. Началось, подумал он. Бунт! Пролы наконец сорвались с цепи! Он поспешил вперед и увидел толпу из двух-трех сотен женщин у прилавков уличного рынка с такой трагедией на лицах, словно это были обреченные пассажиры тонущего корабля. И тут же общее отчаяние разбилось на сотни отдельных перепалок. Оказалось, что за одним из прилавков продавали жестяные кастрюли. Жалкого вида, никудышные, но ведь и таких нигде не достать. И вдруг кастрюли кончились. Счастливчики протискивались сквозь толпу, прижимая к себе добычу, пока другие их пихали и шпыняли, а неудачники у прилавка галдели, обвиняя торговца в корыстном умысле, в барышничестве. Где-то закричали с новой силой. Две обрюзгшие бабы – одна с растрепанными волосами – вцепились в кастрюлю и тянули каждая к себе. В результате у кастрюли отлетела ручка. Уинстон смотрел на них с отвращением. И все же, пусть недолго, но какая силища звучала в этом реве, исторгаемом лишь парой сотен глоток! Почему они никогда не кричат так о чем-то действительно важном?
Он написал:
Пока у них не пробудится самосознание, они не восстанут, но самосознание пробудится у них не раньше, чем они восстанут.
Такая формулировка, отметил он про себя, была весьма в духе партийных учебников. Разумеется, Партия утверждает, что освободила пролов от рабства. До Революции их страшно угнетали капиталисты: морили голодом и секли плетьми, женщин заставляли работать в угольных шахтах (между прочим, женщины и теперь там работали), шестилетних детей продавали на фабрики. В то же время в полном соответствии с принципами двоемыслия Партия учит, что пролы от природы неполноценны и их следует держать в подчинении, как животных, руководствуясь простыми правилами. На самом деле о пролах было известно немного. Но большего и не требовалось. Лишь бы работали и размножались, остальное не имело значения. Их предоставили самим себе, точно домашний скот, бродивший по равнинам Аргентины, и они стали жить в естественной манере по примеру предков. Они рождались и вырастали в трущобах, начинали работать лет в двенадцать, у них был короткий период расцвета и полового влечения – женились в двадцать, к тридцати начинали стареть, а умирали по большей части лет в шестьдесят. Тяжелая физическая работа, заботы о доме и детях, перебранки с соседями, кино и футбол, пиво и, конечно, азартные игры – этим ограничивался круг их интересов. Среди них всегда крутились агенты Мыслеполиции, которые распространяли ложные слухи, выискивали и убирали тех немногих, кто мог представлять какую-то опасность. Пролам никогда не пытались навязать идеологию Партии – считалось нежелательным развивать их политическое мышление. От пролов требовался лишь примитивный патриотизм, к которому призывали, когда нужно было увеличить продолжительность рабочего дня или снизить нормы выдачи продуктов. И даже когда пролы проявляли недовольство, а они иногда его выражали, это ни к чему не приводило, поскольку у них не было общих идей, и возмущение их не шло дальше личных конфликтов. Большое зло, можно сказать, обходило их стороной – почти ни у кого из пролов не было телеэкранов. Даже гражданская полиция редко вмешивалась в их дела. В Лондоне процветала уголовщина – существовал целый подпольный мир воров, бандитов, проституток, торговцев наркотиками и всевозможных вымогателей; но все это творилось среди самих пролов и потому не имело значения. В вопросах морали им позволяли полагаться на понятия предков. Пуританские доктрины Партии на них не распространялись. Беспорядочные половые связи не влекли за собой наказания, разводы разрешались. Наверное, пролам разрешили бы и религию, если бы они испытывали в ней хоть малейшую потребность или интерес. Пролы были ниже подозрений. Партийный лозунг формулировал это так: «Пролы и животные свободны».
Уинстон нагнулся и осторожно почесал варикозную язву. Она опять зудела. Постоянно он упирался в невозможность узнать, какой на самом деле была жизнь до Революции. Он достал из ящика школьный учебник истории, который одолжил у миссис Парсонс, и принялся переписывать в дневник один из абзацев:
В прежние дни, до нашей славной Революции, Лондон мало походил на прекрасный мегаполис, который мы видим сегодня. То был темный, грязный, жалкий город, где почти никто не ел досыта, где сотни, тысячи бедняков ходили босиком и не имели даже крыши над головой. Детям не старше вас приходилось работать по двенадцать часов в сутки на жестоких хозяев, которые били их ремнем, если они работали слишком медленно, и кормили черствыми корками хлеба с водой. Среди этой страшной нищеты высилось несколько огромных прекрасных домов, где жили богатые люди, за которых все делали по тридцать человек прислуги. Такие богачи назывались капиталистами. Это были жирные уроды со злыми лицами, как на иллюстрации на следующей странице. Вы видите, что капиталист одет в длиннополое черное пальто, которое называлось «фрак», и в нелепую блестящую шляпу, похожую на печную трубу, – она называлась «цилиндр». Такой была форма капиталистов, и никому больше не разрешалось носить ее. Капиталистам принадлежало все на земле, а все остальные люди были рабами. Капиталистам принадлежала вся земля, все дома, все заводы и все деньги. Если кто-нибудь им не подчинялся, они могли бросить его в тюрьму или лишить работы и обречь на голодную смерть. Если простой человек заговаривал с капиталистом, он должен был кланяться и кивать, снимать кепку и говорить «сэр». Самый главный капиталист назывался королем, и…
Все остальное он уже знал. Будут упомянуты епископы с батистовыми рукавами, судьи в горностаевых мантиях, позорный столб, ценные бумаги, отупляющий однообразный труд, плетка-девятихвостка, приемы у лорда-мэра Лондона, а также ритуал целования туфли Папы Римского. Существовал еще обычай jus primae noctis (право первой ночи), но, возможно, об этом не станут писать в учебнике для детей. Это право позволяло капиталисту спать с любой женщиной, работающей на его заводе.
Как же узнать, что из всего этого неправда? Может, средний человек теперь действительно живет лучше, чем до Революции? Единственный контраргумент – это немой протест твоих костей, инстинктивное чувство, что условия твоей жизни невыносимы и что когда-то, наверное, все было иначе. Он подумал, что главная особенность современной жизни – не жестокость и неуверенность в завтрашнем дне, а пустота, серость и апатия. Реальная жизнь не только не имеет ничего общего с потоками лжи, льющимися с телеэкранов, но и с теми идеалами, которые провозглашает Партия. Огромная часть жизни даже у партийцев однообразна и не связана с политикой: надо корпеть на скучной работе, толкаться за место в подземке, штопать рваные носки, выпрашивать таблетку сахарина, беречь каждый окурок. Идеал, провозглашаемый Партией, рисует нечто колоссальное, грозное и лучезарное – этакий мир из стали и бетона, мир чудовищных машин и ужасающего оружия, страну воинов и фанатиков, марширующих стройными рядами, одинаково мыслящих, одинаково кричащих лозунги, неустанно работающих, сражающихся, торжествующих и искореняющих врагов – триста миллионов людей, и все на одно лицо. А реальность – это вымирающие грязные города, в которых по улицам бродят полуголодные люди в дырявых ботинках. Они живут в ветхих домах, которые построили в девятнадцатом веке, и за годы они насквозь провоняли капустой и неисправными уборными. Ему представился Лондон – огромный разрушенный город, целое море мусорных ящиков, и почему-то вспомнилась миссис Парсонс – морщинистая, всклокоченная, беспомощно стоящая у засоренной раковины.
Уинстон снова нагнулся и почесал лодыжку. Днем и ночью телеэкран забивает уши цифрами, доказывая, что сегодня люди лучше обеспечены едой и одеждой, лучше отдыхают, живут в лучших домах и значительно дольше, работают меньше, что они выше ростом, здоровее, сильнее, счастливее, умнее, образованнее, чем пятьдесят лет назад. Ничего тут нельзя ни доказать, ни опровергнуть. К примеру, Партия утверждает, что сегодня сорок процентов взрослых пролов умеет читать и писать, тогда как до Революции грамотных среди них было всего лишь пятнадцать процентов. Партия утверждает, что детская смертность составляет теперь лишь сто шестьдесят на тысячу, а до Революции – триста, и так далее. Это напоминало уравнение с двумя неизвестными. Очень может быть, что буквально каждое слово в учебниках истории – даже все то, что никто не ставит под сомнение – это чистый вымысел. Как знать, может, и не было никакого jus primae noctis, или такого существа, как капиталист, или такого головного убора, как цилиндр.
Все расплывалось в тумане. Прошлое было подчищено, о подчистках забыли, и ложь стала правдой. Только раз в жизни Уинстон располагал конкретным, неоспоримым свидетельством фальсификации прошлого, причем задним числом – в этом вся суть. Он держал его в руках не меньше полминуты. Это было около 1973 года – примерно тогда же он расстался с Кэтрин. Впрочем, фальсификация произошла на семь-восемь лет раньше.
Вся эта история началась в середине шестидесятых годов во время больших чисток, в которых разом сгинули все настоящие вожди Революции. К 1970 году никого из них, кроме Большого Брата, уже не осталось. Всех остальных успели разоблачить как предателей и контрреволюционеров. Голдштейн бежал и скрывался неведомо где, что же до остальных, то кто-то просто исчез, а большинство казнили после эффектных публичных процессов, на которых они признались в совершенных преступлениях. Дольше других оставались в живых Джонс, Аронсон и Рузерфорд. Их арестовали году в 1965-м. Как это часто бывало, они исчезли на год-полтора, и никто не знал, живы они или нет. Затем они возникли из небытия и, как полагалось, облили себя грязью. Они признались, что шпионили в пользу противника (противником в то время, как и сейчас, была Евразия), признались, что виновны в растратах государственных средств и в убийствах видных членов Партии, признались, что плели заговоры против Большого Брата, причем еще задолго до Революции, признались в актах саботажа, повлекших за собой смерть сотен тысяч людей. После всех этих признаний их простили, восстановили в Партии и назначили на, казалось бы, важные посты, которые на деле были лишь синекурой. Все трое выступили с пространными покаянными статьями в «Таймс», анализируя причины своего падения и обещая искупить вину.
Вскоре после их освобождения Уинстон случайно увидел всех троих в кафе «Под каштаном». Он наблюдал за ними украдкой, в каком-то зачарованном ужасе. Все они были гораздо старше его – реликты древнего мира, едва ли не последние крупные фигуры героического прошлого Партии. Над ними еще витал романтический дух подпольной борьбы и гражданской войны. Ему казалось (хотя уже в то время факты и даты начали расплываться в тумане), что он услышал их имена на много лет раньше, чем имя Большого Брата. И тем не менее они были теперь вне закона – врагами, неприкасаемыми, несомненно обреченными на смерть через год-другой. Еще никому, попавшему в руки Мыслеполиции, не удавалось избежать такого конца. Они были трупами, ожидавшими, пока их уложат в могилу.
Никто не садился за соседние столики. Неразумно было показываться в такой компании. Они сидели молча, перед ними стояли стаканы джина с гвоздикой – местного фирменного напитка. Наибольшее впечатление на Уинстона произвел Рузерфорд. Когда-то он был знаменитым карикатуристом, чьи безжалостные рисунки помогали Партии возбуждать общественное мнение до и во время Революции. Даже теперь его карикатуры иногда появлялись в «Таймс». Но это была не более чем имитация его прежней манеры, неубедительная и пресная. Он все время перепевал старые темы: трущобные дома, голодные дети, уличные драки, капиталисты в цилиндрах – даже на баррикадах они упорно держались за свои цилиндры – бесконечные и безнадежные попытки вернуться в прошлое. Рузерфорд выглядел страшно: копна немытых седых волос, обрюзгшее, изборожденное морщинами лицо, толстые негроидные губы. Должно быть, когда-то он обладал недюжинной силой; теперь же все его тело обвисло, согнулось, раздулось и разрушалось со всех сторон. Казалось, он рассыпался на глазах, точно крошащаяся скала.
Было пятнадцать часов. Тихое безлюдное время. Уинстон уже не мог припомнить, как он оказался в кафе в такой час. Посетителей было мало. Из телеэкранов звучала отрывистая музыка. Эти трое молча сидели в своем углу, почти не шевелясь. Официант приносил им одну за другой порции джина. На соседнем столике стояла шахматная доска с расставленными фигурами, но никто не играл. А потом что-то случилось с телеэкранами и продолжалось примерно полминуты. Мелодия, строй музыки изменились, и зазвучал… даже трудно описать словами. Такой причудливый, надтреснутый, визгливый и глумливый тон – Уинстон назвал его про себя бульварным. Голос запел:
- Под развесистым каштаном
- Продали средь бела дня:
- Я – тебя, а ты – меня.
- Под развесистым каштаном
- Мы лежим средь бела дня:
- Справа ты, а слева я [9].
Эти трое даже не шевельнулись. Но когда Уинстон снова взглянул на Рузерфорда, он увидел, что глаза его полны слез. И тогда он с внутренним содроганием заметил – хотя и не понял, отчего содрогается, – что носы у Аронсона и Рузерфорда перебиты.
Вскоре всех троих опять арестовали. Оказалось, что со дня освобождения они опять участвовали в заговорах. Во время второго процесса они еще раз признались во всех своих старых преступлениях, а также во множестве новых. Их казнили, и судьбу их запечатлели в истории Партии в назидание потомкам. А лет через пять, в 1973 году, Уинстон, разворачивая на рабочем столе пачку документов, выброшенных по пневматической трубке, наткнулся на обрывок газеты, который, видимо, сунули не туда и забыли. Развернув обрывок, он сразу понял, какое важное вещественное доказательство попало ему в руки. Он держал в руках полстраницы «Таймс» десятилетней давности. Это была верхняя половина страницы, с датой, и на ней располагалась фотография делегатов каких-то партийных торжеств в Нью-Йорке. В середине группы выделялись Джонс, Аронсон и Рузерфорд. Их сразу можно было узнать, к тому же под фотографией были проставлены имена.
А ведь на обоих процессах все трое признались, что в тот день они находились в Евразии. Их доставили с секретного аэродрома в Канаде куда-то в Сибирь, на рандеву с представителями Генерального штаба Евразии, где они выдали важнейшие военные сведения. Уинстон хорошо запомнил дату, так как она пришлась на день летнего солнцестояния; тем более что вся эта история получила широкую огласку во множестве изданий. Единственное объяснение такого совпадения состояло в том, что признания на процессах были ложью.
Конечно, само по себе это не было открытием. Уже тогда Уинстон не думал, что люди, исчезавшие в чистках, действительно совершали вменяемые им преступления. Но здесь имелось конкретное вещественное доказательство – осколок переписанного прошлого, вроде ископаемой кости, найденной не в подходящем пласте и рушащей геологическую теорию. Этого было достаточно, чтобы разбить Партию вдребезги, если бы, конечно, удалось донести это открытие до всеобщего сведения и разъяснить его значение.
Не мешкая, Уинстон взялся за дело. Едва увидев фотографию, он понял, что она собой представляет, и прикрыл ее листком бумаги. К счастью, когда он раскрыл газету, фотография оказалась перевернутой по отношению к телеэкрану.
Положив блокнот на колено, он отодвинулся со стулом как можно дальше от телеэкрана. Нетрудно было сохранить невозмутимое выражение лица; если очень постараться, можно управлять и дыханием, нельзя лишь регулировать стук сердца, хотя телеэкраны могли засечь и это. Он просидел так, вероятно, минут десять, умирая от страха, что какая-нибудь случайность – хотя бы внезапный сквозняк – выдаст его. В итоге, не открывая больше фотографию, он сунул ее вместе с ненужными бумагами в провал памяти. Не прошло, наверное, и минуты, как она сгорела дотла.
Все это случилось лет десять-одиннадцать назад. Сегодня он, возможно, оставил бы фотографию у себя. Но даже сейчас, когда и сама фотография, и запечатленное на ней событие остались только в его памяти, ему казалось, что уже факт ее прошлого существования что-то менял. Хотя, подумал он, разве на самом деле контроль Партии над прошлым слабеет, если вещественное доказательство, которого больше нет, когда-то существовало?
Нет, сегодня эта фотография уже ничего не доказывала, даже если бы ее удалось как-то воссоздать из пепла. Когда он сделал свое открытие, Океания уже не воевала с Евразией и три мертвеца должны были бы предавать свою родину агентам Остазии. Кроме того, с тех пор их уже обвинили совершенно в другом. Два, три новых доказательства вины – он не помнил, сколько именно. Наверняка их признания уже много раз переписывали, и теперь первоначальные даты не имели никакого значения. Прошлое не просто менялось, оно менялось непрерывно. Самым кошмарным было то, что он никак не мог понять: зачем совершался весь этот масштабный обман? Сиюминутные преимущества фальсификации были вполне очевидны, но конечная цель оставалась загадкой. Он снова взял ручку и написал:
Я понимаю, КАК это делают, но не понимаю – ЗАЧЕМ.
А может, думал он уже не в первый раз, я сошел с ума? Может, это сумасшествие – быть одному против всех? Некогда безумством считалась вера в то, что Земля вращается вокруг Солнца, сегодня – вера в то, что прошлое неизменно. Вероятно, Уинстон один верит в это, а раз так, то он сумасшедший. Но его не очень это волновало, он боялся другого – вдруг он все-таки ошибается?
Он взял учебник истории и взглянул на портрет Большого Брата на фронтисписе. На него взирали гипнотизирующие глаза. Казалось, какая-то страшная сила сминает тебя, проникает в черепную коробку, давит на мозг и так запугивает, что ты отказываешься от всех убеждений, не доверяешь собственным чувствам. В конце концов Партия объявит: дважды два – пять, и в это придется поверить. Рано или поздно так и будет – вся их политическая логика требовала такого поступка. Ведь партийная философия отрицает не только важность опыта, но и саму реальность внешнего мира. Здравый смысл – вот ересь из ересей. А самое ужасное не то, что тебя убьют за инакомыслие, а возможность их правоты! В конце концов, а откуда мы знаем, что дважды два – четыре? Откуда мы знаем, что существует сила тяжести? Откуда мы знаем, что прошлое неизменно? А если и прошлое, и внешний мир существуют лишь в нашем сознании и наш разум можно контролировать – что тогда?
Но нет! Он почувствовал внезапный и самовольный прилив мужества. Непонятно почему перед глазами всплыло лицо О’Брайена. Теперь он был абсолютно убежден, что О’Брайен с ним на одной стороне. Он вел дневник для О’Брайена, именно ему и адресовал. Это было бесконечное письмо, которое никто никогда не прочитает, но его адресовали конкретному человеку и придали этим определенную тональность.
Партия приказывает не верить своим глазам и ушам. Это ее главный, самый важный приказ. Сердце Уинстона упало, когда он подумал, какая гигантская силища противостоит ему, с какой легкостью любой партийный идеолог побьет его в споре, какие тонкие аргументы ему выдвинут, вещи, которых он даже не сможет понять, тем более опровергнуть. Однако правда была на его стороне! Прав был он, а не они. Простые, несмышленые, правдивые нуждаются в защите. Простые истины верны – вот за что надо держаться! Есть незыблемый мир, и законы его неизменны. Камень твердый, вода мокрая, предметы, которые ничто не удерживает, притягиваются к центру Земли. Проникшись чувством, что он обращается к О’Брайену и утверждает важную аксиому, Уинстон написал:
Свобода – это свобода утверждать, что дважды два – четыре. Если это дано, все остальное следует из этого.
Откуда-то издали повеяло жарящимся кофе – настоящим, а не кофе «Победа», – и запах его поплыл по улице. Уинстон невольно остановился. На пару секунд он вернулся в полузабытый мир детства. Затем хлопнула дверь, и запах сразу пропал, словно выключили музыку.
Уинстон прошел по улицам уже несколько километров, и варикозная язва начала зудеть. Второй раз за три недели он пропускал вечер в Центре досуга – это было опрометчиво, ведь все посещения, вне всяких сомнений, учитывались. Член Партии в принципе не имел своего личного времени и никогда не бывал один, кроме как в постели. Считалось, что если он не работает, не ест и не спит, то должен участвовать в каком-нибудь общественном досуге; а заниматься чем-либо, намекающим на склонность к одиночеству, даже гулять одному, всегда было рискованно. На новоязе для этого имелось слово саможит, означавшее индивидуализм и эксцентричность. Но этим вечером, выходя из министерства, Уинстон поддался чарам апреля. Никогда еще за этот год он не видел неба настолько нежно-голубого – и неожиданно мысль о долгом шумном вечере в Центре досуга, о скучных, утомительных играх и лекциях, о скрипучем панибратстве, смазанном джином, показалась ему невыносимой. Поддавшись порыву, он повернул в сторону от автобусной остановки и углубился в лабиринт лондонских улиц: сперва на юг, потом на восток и обратно на север – вскоре он затерялся в незнакомом районе и шагал куда глаза глядят.
«Если есть надежда, – записал он в дневнике, – то она в пролах».
Ему то и дело вспоминались эти слова, вроде некой мистической истины, очевидно абсурдной. Он оказался в каких-то неприметных бурых трущобах к северо-востоку от бывшего вокзала Сент-Панкрас. Уинстон шел по булыжной мостовой на улице, застроенной двухэтажными домишками с обшарпанными подъездами, которые выходили прямо на тротуар и странным образом напоминали крысиные норы. На дороге повсюду виднелись грязные лужи. Кругом кишмя кишели люди – шныряли по темным подъездам, мельтешили в узких переулках по обеим сторонам: девушки в самом соку с ярко накрашенными губами, юнцы, донимавшие их, тучные степенные матроны, сами бывшие девушками лет десять назад, согбенные старухи, косолапо шаркавшие по булыжникам, и босые оборвыши, игравшие в лужах и бросавшиеся врассыпную от сердитых окриков матерей. Примерно четверть окон на улице была выбита и заколочена. На Уинстона почти никто не обращал внимания, но кое-кто провожал опасливыми взглядами. У подъезда вели беседу две здоровые бабы, сложив на груди красно-кирпичные руки. Уинстон расслышал обрывок разговора.
– Да уж, грю ей, эт каешн хорошо, тока, слышь, была б ты на моем месте, ты бы сделала то же. Поучать-то легко, тока, грю ей, у тебя-то моих проблем нету.
– То-то и оно, – сказала ей другая. – В том-то и всешнее дело.
Грубые голоса резко смолкли. Бабы зыркали на Уинстона молча и враждебно, пока он не прошел мимо. Даже не столько враждебно, сколько настороженно, как смотрят на редкого зверя. Едва ли на такой улице часто видели синий комбинезон партийца. Бывать здесь без особой причины не стоило. Можно наткнуться на патруль, и тогда начнется: «Товарищ, можно ваши документы? Что вы здесь делаете? В какое время ушли с работы? Вы всегда так ходите домой?» и т. д., и т. п. Не то чтобы закон запрещал возвращаться домой разными маршрутами, но, если о таком узнают, Мыслеполиция возьмет тебя на заметку.
Вдруг вся улица всполошилась. Со всех сторон тревожно закричали. Люди, точно кролики, стали шмыгать по дверям. Из подъезда чуть впереди Уинстона выскочила молодая женщина, запихнула в фартук игравшую в луже девочку и метнулась с ней обратно. В тот же миг из переулка выбежал мужик в смятом гармошкой черном костюме и завопил Уинстону, тыча в небо:
– Пароход! Гля, начальник! Башку пригни! Давай, ложись!
«Пароходами» пролы почему-то называли бомбы с ракетным ускорителем. Уинстон распластался лицом вниз. Пролы редко ошибались в таких вещах. У них словно развился инстинкт, сообщавший им за несколько секунд, когда падала бомба, хотя считалось, что бомбы с ракетным ускорителем летят быстрее звука. Уинстон прикрыл голову руками. Раздался грохот, от которого задрожали булыжники; спину ему забросало градом мелкого мусора. Поднявшись на ноги, он увидел, что обсыпан осколками от ближайшего окна.
Он пошел дальше. Бомба взорвала несколько домов в двух сотнях метров впереди. В небе висели черные клубы дыма, а под ними облако известки, в котором уже собиралась толпа, обступая развалины. На тротуаре возвышалась груда штукатурки, и в середине ее что-то краснело. Подойдя ближе, Уинстон разглядел оторванную человеческую кисть. Не считая кровавого обрубка, кисть была совершенно белой, точно гипсовый слепок.
Он отпихнул ее в канаву, а затем повернул направо в переулок, чтобы обойти толпу. Через три-четыре минуты он вышел из квартала, пострадавшего от взрыва, – здесь кишела обычная уличная жизнь, словно ничего такого не случилось. Было почти двадцать часов, и питейные заведения пролов (так называемые «пабы») ломились от посетителей. Засаленные распашные дверцы то и дело открывались-закрывались, обдавая улицу запахом мочи, опилок и скисшего пива. В углу возле выступавшего фасада стояли нос к носу трое мужчин: тип посередине держал сложенную газету, а двое других заглядывали в нее по бокам. Еще не успев различить выражения лиц, Уинстон понял по их застывшим фигурам, что они чем-то полностью поглощены. Очевидно, читали какую-то важную новость. Он миновал их на несколько шагов, когда вдруг троица распалась, и двое мужчин начали яростно спорить. Казалось, они вот-вот подерутся.
– Да слышь, балда, чо те грят! Ни один номер с семеркой на конце не выигрывал уже четырнадцать с лихером месяцев!
– А вот и выигырвал!
– А вот и нет! У меня дома все, что были за два года, на бумажке начирканы. Я за ними, как охотничий пес, слежу. И грю, што ни один номер с семеркой…
– Выигырвала семерка! Ща те весь чертов номер назову. На конце четыре-нуль-семь. Это был февраль… вторая неделя.
– Отфевраль свою бабушку! У меня все записано черным по белому. И грю, ни один номер…
– Ай, да хорош уже! – сказал третий.
Они говорили о Лотерее. Пройдя тридцать метров, Уинстон оглянулся. Они все еще спорили, оживленно, запальчиво. Лотерея каждую неделю разыгрывала огромные призы и была единственным общественным событием, всерьез волновавшим пролов. Вероятно, для миллионов из них лотерея стала главным, если не единственным делом жизни, их усладой, забавой, утешением, их умственным возбудителем. В лотерейных делах даже малограмотные пролы проявляли чудеса сложных вычислений и запоминали немыслимые объемы информации. Существовал целый клан, который кормился единственно продажей схем, прогнозов и амулетов на удачу. Уинстон не имел отношения к проведению лотереи, находившейся в ведении Министерства изобилия, но он знал (вообще-то как и все партийцы), что большинство выигрышей – это блеф. В реальности выдавали на руки только мелкие суммы, а крупные призы доставались исключительно вымышленным личностям. При отсутствии надежного сообщения между различными частями Океании проворачивать такое не составляло труда.
Но если есть надежда, то на пролов. За эту идею нужно держаться. На словах фраза казалась разумной; но она требовала подвига веры, когда ты видел настоящих пролов во плоти. Уинстон шел по улице под уклон. У него возникло ощущение, что он уже здесь был и где-то неподалеку пролегает главный проспект. Впереди слышался шум и гам. Улица резко повернула и закончилась ступеньками, которые спускались в утопленную аллею, где несколько лоточников продавали чахлые овощи. И тогда Уинстон сообразил, где находится. Аллея выходила на главную улицу, а за следующим поворотом – от силы пять минут пешком – находилась та самая лавка старьевщика, где он приобрел тетрадь большого формата, ставшую его дневником. А в канцелярском магазинчике неподалеку он купил перьевую ручку и чернила.
Он чуть помедлил на верхней ступеньке. На другой стороне аллеи виднелся закопченный паб с такими пыльными окнами, что они казались покрытыми морозными узорами. Древний старик, сутулый, но шустрый, с белыми усами, торчавшими вперед, как у рака, подошел к пабу и скрылся внутри, толкнув распашную дверь. При виде него Уинстон подумал, что старик, которому должно быть не меньше восьмидесяти, застал Революцию уже в зрелых годах. Он был одним из тех немногих, кто являл собой последнее звено между сегодняшним днем и исчезнувшим миром капитализма. В самой Партии почти не осталось людей, чьи взгляды сложились до Революции. Едва ли не все старшее поколение сгинуло в больших чистках пятидесятых и шестидесятых, а немногих уцелевших давно запугали и заставили отказаться от всех своих убеждений. Если есть еще человек, способный рассказать правду об условиях жизни в начале века, то только среди пролов. Уинстон вдруг вспомнил абзац из учебника истории, который он переписал в дневник, и его захватила безумная идея. Он войдет в паб, завяжет знакомство со стариком и как следует расспросит его. Он попросит: «Расскажите о времени, когда вы были мальчишкой. Какая тогда была жизнь? Легче тогда было, чем сейчас, или труднее?»
Он поспешно спустился по ступенькам, словно обгоняя собственный страх, и в несколько шагов оказался перед пабом. Что и говорить, он спятил. Опять же никакого конкретного запрета на разговоры с пролами не существовало, как и запрета на посещение пабов, но такой поступок слишком необычен, чтобы пройти незамеченным. Если появится патруль, Уинстон сможет притвориться, что ему стало плохо, но они едва ли поверят ему. Он толкнул дверь, и в нос ему шибанул жуткий запах скисшего пива. Когда он вошел, голоса стали как минимум в два раза тише. Он спиной чуял, как все уставились на его синий комбинезон. Игра в дротики у дальней стены прервалась, должно быть, на полминуты. Нужный ему старик стоял у бара и препирался о чем-то с барменом – крупным дородным детиной с крючковатым носом и огромными ручищами. Стоявшие вокруг со стаканами в руках люди пялились на них.
– Я тя человечьим языком спросил или как? – сердился старик, воинственно расправив плечи. – Ты гришь, в твоем треклятом кабаке не найдется пинтовой кружки?
– Что еще за чертовщина – пинтовая кружка? – спросил бармен, упираясь о стойку кончиками пальцев и нависая над стариком.
– Ты поглянь на него! Еще барменом называется, а пинту не видал! Пинта же – это полкварты, а четыре кварты – вот тебе галлон. Может, тя еще азбуке учить?
– Никогда не слыхал, – отрезал бармен. – Наливаем литр и пол-литру – и все. Стаканы вона на полке перед носом.
– А мне давай пинту, – не унимался старик. – Авось нацедишь, не переломисся. В моей молодости не было никаких паршивых литров.
– В твоей молодости мы ваще все жили на деревьях, – сказал бармен, оглядывая остальных.
Все захохотали, и неловкость при появлении Уинстона, похоже, прошла. Лицо старика под белой щетиной порозовело. Он развернулся, что-то бормоча, и наткнулся на Уинстона. Уинстон мягко подхватил его под руку.
– Можно угостить вас? – спросил он.
– Вы жынтльмен, – сказал старик, снова расправив плечи и, кажется, не обращая внимания на синий комбинезон. – Пинту! – крикнул он бармену. – Пинту тычка.
Бармен сполоснул два толстых пол-литровых стакана в бочонке под стойкой и налил в них темного пива. Кроме пива в пабах ничего не подавали. Пролам джин не полагался, хотя добыть его было несложно. Игра в дротики снова пошла полным ходом, а группа за стойкой продолжила обсуждать лотерейные билеты. Про Уинстона ненадолго забыли. У окна стоял сосновый стол, за которым можно было побеседовать со стариком, не привлекая постороннего внимания. Уинстон понимал, как ужасно рискует, но здесь, во всяком случае, не было телеэкрана – это он отметил сразу, как только вошел.
– Он же ж мог бы нацедить мне пинту, – проворчал старик, усаживаясь перед стаканом. – Пол-литра мне маловато. Ни то ни се. А цельный литр – многовато. Ссать замучаешься. Не говоря о цене.
– Наверное, вы много повидали перемен со времен вашей молодости, – осторожно начал Уинстон.
Бледно-голубые глаза старика взглянули на мишень для дротиков, потом переместились на бар, а оттуда на дверь в туалет, словно рассчитывая отыскать перемены прямо здесь, в пабе.
– Пивас был лучше, – сказал наконец старик. – И дешевше! В моей молодости мягкий пивас – мы называли его «тычок» – был по четыре пенса за пинту. Это еще до войны, кнешно.
– А какой войны? – уточнил Уинстон.
– Да эти войны вечны, – расплывчато произнес старик и поднял стакан, снова распрямившись. – За ваше наилучшайшее здравие!
Острый кадык на его тощей шее заходил ходуном – и пива как не бывало. Уинстон сходил к барной стойке и принес еще два пол-литровых стакана. Старик, похоже, забыл о своем предубеждении против целого литра.
– Вы намного старше меня, – продолжил Уинстон. – Наверное, вы уже были взрослым, когда я родился. Вы можете вспомнить, какой была жизнь в прежние времена, до Революции. Мои ровесники на самом деле ничего не знают о том времени. Мы можем о нем только в книгах читать, а кто их знает, что там правда. Мне бы хотелось узнать, что вы думаете. Книги по истории говорят, что до Революции жизнь была совершенно другой. Народ ужасно угнетали, кругом несправедливость, нищета – хуже, чем можно представить. В самом Лондоне большинство людей жили впроголодь с рождения до смерти. Каждый второй ходил босиком. Работали по двенадцать часов, школу бросали в девять лет, спали по десять человек в комнате. И при этом всего несколько тысяч капиталистов, как их называли, обладали деньгами и властью. Они владели всем, чем только можно. Жили в огромных роскошных домах с тридцатью слугами, разъезжали в автомобилях и каретах с четверкой лошадей, пили шампанское, носили цилиндры…
Старик вдруг просиял.
– Цилиндры! – сказал он. – Занятно, шо ты вспомнил их. Только вчерась о них думал – сам не знаю, с чего. Просто в голову стукнуло: скока лет уже цилиндров не видал. Совсем из моды вышли. Последний раз я его надевал на невесткины похороны. А это было… точно даже не скажу, но лет уж писят прошло. Я-то, кнешно, брал напрокат, сам понимашь.
– Цилиндры – это не так уж важно, – терпеливо сказал Уинстон. – Суть в том, что капиталисты эти вместе с кучкой адвокатов, священников и прочих, кто от них кормился, являлись властелинами земли. Все было для их блага. Вы – рядовые люди, трудяги – были их рабами. Они что угодно могли с вами сделать. Могли переправить в Канаду, как скот. Могли, если захотят, спать с вашими дочерями. Могли приказать, чтобы вас выдрали какой-то кошкой-девятихвосткой. Вам приходилось снимать кепку, когда вы их встречали. Каждый капиталист ходил со сворой лакеев, которые…
Старик снова просветлел лицом.
– Лакеи! – протянул он. – Вот уж ентого словечка я сто лет не слышал. Лакеи! Прямо молодость вспомнил, чесслово. Помню, как-то… ой, при царе горохе… я, бывало, захаживал на прогулку в Гайд-парк по воскресеньям, послушать, как речи толкают. Кого там тока не было: Армия спасения, римокатолики, евреи, индусы. И был один такой… как звали, даже не скажу, но до того язык подвешен. Уж как он их чихвостил! «Лакеи! – грит. – Лакеи буржуазии! Приспешники правящего класса!» Паразиты – тож прибавлял. И гиены – точно, гиенами их называл. Это все, яссдело, про лейбористов, сам понимашь.
Уинстон почувствовал, что они говорят каждый о своем.
– Я на самом деле вот что хотел знать, – сказал он. – Вы чувствуете, что сейчас у вас больше свободы, чем в те времена? С вами обращаются более человеческим образом? В прежние времена богачи, люди у власти…
– Палата лордов, – припомнил старик.
– Палата лордов, если угодно. Я спрашиваю, могли эти люди относиться к вам свысока просто потому, что они были богатыми, а вы – бедным? Было такое, к примеру, что вы должны были говорить им «сэр» и снимать кепку при встрече?
Старик, похоже, глубоко задумался. Он отпил около четверти стакана, прежде чем ответил.
– Да, – сказал он. – Им нравилось, шобы при них кепки касались. Вроде как из уважения. Сам я этого не признавал, но нередко делал. Приходилось, можн скзать.
– А было принято – я говорю только о том, что прочитал в книжках по истории, – было ли принято у этих людей и их слуг сталкивать вас с тротуара в канаву?