Сто лет пути бесплатное чтение
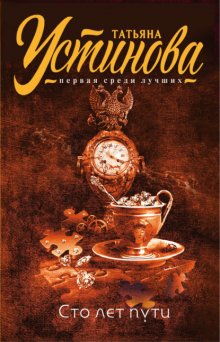
Татьяна Устинова
Сто лет пути
© Устинова Т., 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)
* * *
…И тут у него зазвонил телефон, как всегда, в самый неподходящий момент.
Совещание заканчивалось, сейчас начнут «подытоживать», он должен будет сказать что-то связное, неплохо, чтоб и умное тоже, но как только телефон грянул, все мысли до одной вылетели из головы профессора Шаховского.
Телефон был новейшей, последней модели, а потому чрезвычайно, необыкновенно сложен в употреблении. Телефон умел все – входить в Интернет и даже время от времени выходить из него, показывать курс акций на разных мировых биржах, прокладывать маршруты от Северного полюса к Джибути, светить фонарем, погружать владельца в Инстаграм, Твиттер и Фейсбук, давать прогноз погоды в Липецке и на западном склоне Фудзиямы на три недели вперед, фотографировать с приближением и удалением, снимать кино, монтировать видеоклипы, а его процессор превосходил по мощности все компьютеры НАСА в тот исторический день, когда Нил Армстронг высадился на Луну.
Шаховской телефон ненавидел и как выключить звук, не знал. Марш гремел.
– Господи помилуй, – пробормотал рядом председательствующий Ворошилов и уронил наконец очки, которые примеривался уронить с самого начала совещания, а историк, занудно читавший по бумажке занудный текст, посмотрел на Шаховского негодующе. Все собрание, обрадовавшись развлечению, задвигалось и зашумело.
– Прошу прощения, – пробормотал несчастный профессор и выскочил в коридор, изо всех сил прижимая ладонью мобильный, чтобы немного унять марш.
– Дмитрий Иванович, это полковник Никоненко из Следственного комитета. Мы с вами как-то по одному антикварному делу работали. Вы по исторической части, а я, так сказать, по современной линии шел. Помните?..
Шаховской, который в этот момент люто ненавидел телефон, ничего не понял.
– Я не могу сейчас разговаривать, я на совещании. Перезвоните мне…
– Стоп-стоп-стоп, – непочтительно перебил его полковник Никоненко из Следственного комитета, – это все я понимаю, но у меня свежий труп, а при нем какие-то бумаги, по всему видать, старинные. Я сейчас за вами машинку пришлю, а вы подъедете, да? Адресок диктуйте, я запишу.
Шаховской – должно быть, из-за сегодняшнего нескладного дня и ненависти к телефону – опять ничего не понял. И не хотел понимать.
– Я в Думе, у меня работа, – сказал он неприязненно. – Перезвоните мне, скажем, через…
– На Охотном Ряду? Мы тут рядышком, на Воздвиженке, время проводим. Выходите прямо сейчас, машинку не перепутаете, она синими буквами подписана.
– Что? – переспросил Шаховской, помедлив.
– Следственный комитет, говорю, на машинке написано! Не ошибетесь. Ну, добро.
И экран, похожий по размеру на экран телевизора «КВН-49», смотреть который полагалось через глицериновую лупу, погас.
«Никуда я не поеду, что за номера?! У меня свои дела, и их много! Мне еще «подытоживать», а потом статью править, и…»
Тут он вдруг вспомнил этого Никоненко и «антикварное дело» вспомнил! Тогда, сто лет назад, полковник размотал совершенно не поддающийся никакому разматыванию клубок из нескольких убийств. Убивали антикваров – без всякой связи, без логики, жестоко, – и Шаховского позвали как раз затем, чтобы он нашел логику. Понятно было, что убийства связаны с антиквариатом, но как?! Дмитрий Иванович долго эту логику искал – антиквары торговали предметами случайными и на первый взгляд никак между собой не связанными, – и нашел! А Никоненко додумал все остальное. И «громкое дело, находящееся на особом контроле в прокуратуре Российской Федерации, было раскрыто», как сообщили потом в новостях.
Воспоминание было… острым. Шаховской усмехнулся, стоя в одиночестве посреди пустого и широкого думского коридора. Он никогда не занимался никакими расследованиями, кроме исторических, а тогда вдруг почувствовал себя сыщиком, который осторожно и внимательно идет по пятам злодея, охотником, выслеживающим взбесившегося зверя, готового на все ради своих бешеных целей. А Никоненко, – как же его зовут, Владимир Петрович, что ли? – все прикидывался простаком и «деревенским детективом», а оказался умным, расчетливым, хладнокровным профессионалом.
Шаховской очень уважал профессионализм.
«Поеду, – вдруг решил профессор, приходя в хорошее настроение. – Заодно не придется ничего подытоживать, вы уж там без меня справляйтесь, уважаемые…»
Машина свернула с Воздвиженки, въехала в невысокие кованые воротца, озаряя мощеный двор всполохами мигалки, и остановилась у бокового крыльца, всего в три ступеньки.
– Вам туда, – сказал Шаховскому очень серьезный и очень молодой человек в форме и показал поверх руля, куда именно, – там встретят.
Дмитрий Иванович выбрался из машины и огляделся. Он, как и большинство москвичей, видел этот дом, особняк Арсения Морозова, только снаружи, внутри никогда не бывал и во двор не захаживал, воротца всегда были закрыты, и что там за ними – не разглядеть. В разное время здесь было разное: посольства Японии и еще, кажется, Индии, редакция какой-то британской газеты, это во время войны, потом еще его владельцем стал «Союз советских обществ дружбы и культурных связей с народами зарубежных стран», тогда особняк называли Дом дружбы народов, а во времена того самого Арсения именовали его москвичи «домом дурака»! Дурак, стало быть, Арсений, построивший когда-то особняк в самом что ни на есть странном и немосковском вкусе!
Ворота сами по себе закрылись – Шаховской оглянулся, когда створки тронулись и стали сходиться, – и дворик сразу оказался отрезанным от Москвы, многолюдья, автомобильного смрадного чудища, упиравшегося хвостом в Моховую, а головой во МКАД – ежевечерний исход из столицы был в разгаре. Стало почему-то тихо, на той стороне дворика обозначился огонек, горящий в одном из окошек, брусчатка, слабо освещенная фонарем, блестела, как лакированная.
Все это Дмитрию Ивановичу вдруг очень понравилось.
Он поднялся на крыльцо, – высокие двустворчатые двери казались закрытыми навсегда, – и чуть не упал, когда створка приоткрылась ему навстречу.
– Проходите.
Шаховской «прошел». Еще один очень молодой человек в форме аккуратно притворил за ним дверь и спросил паспорт. Дмитрий Иванович извлек паспорт и огляделся. Прихожая оказалась огромная и полутемная, электрического света не хватало на все дубовые панели, которыми были обшиты стены, свет тонул в них и ничего не освещал. Широкая мраморная лестница поднималась в просторный вестибюль или какой-то зал. Шаховской вытянул шею, чтобы рассмотреть зал получше, но не успел.
Высокий человек стремительно пересек помещение и оттуда, сверху, констатировал негромко:
– Дмитрий Иванович. Пропусти его, Слава.
Поднимаясь по ступеням, Шаховской все пытался припомнить, как зовут полковника Никоненко, но так и не вспомнил. Владимир Петрович, что ли?..
– Что-то вы долго. – Полковник сказал это таким тоном, как будто Шаховской обещался быть к нему на обед, но опоздал. – Или чего там? Стояк, как обычно? Давайте за мной.
В большом ампирном зале неожиданно оказалось очень светло и много народу. Шаховской на секунду зажмурился и остановился. Двое в перчатках обметали кисточками каминную полку, над которой висело большое зеркало с потемневшей амальгамой. Еще двое ползали по полу и что-то мерили линейками. Парень в джинсах и синем свитере бродил в отдалении, прицеливался, фотографировал со вспышкой и имел вид туриста, запечатлевающего детали интерьера, и это почему-то поразило профессора. Молодая женщина стояла на коленях возле лежащего на полу человека. Рядом с ней помещался распахнутый чемоданчик, из которого она время от времени что-то доставала, и вид у нее был самый что ни на есть обыкновенный.
– Ну, так, – Никоненко обошел женщину, почти перешагнул через нее как ни в чем не бывало. – Прибыла помощь в лице науки. Леш, где у нас?..
– Все на столе, товарищ полковник. Во-он, видите?
– Подходите поближе, товарищ профессор! На труп не смотрите лучше, если вам… неприятно.
Почему только в эту секунду профессор Шаховской сообразил, что лежащий на полу – уже не человек, а то, что было человеком, покуда не случилось что-то странное, непоправимое, и человека не стало. Осталось тело, из-под которого на светлый паркет натекла довольно большая лужа темной крови, и молодая женщина старалась не угодить коленками в эту лужу, это профессор тоже заметил.
Ему вдруг стало жарко так, что моментально взмокла спина, он потянул с шеи шарф, уронил и нагнулся поднять.
– Не смотрите вы туда, ей-богу!..
Начальственный, приказной, нетерпеливый тон, каким с Шаховским никто и никогда не разговаривал, немного отрезвил профессора, как будто холодной воды дали умыться.
– Вот сюда смотрите, здесь для вас привычней!
– Все в порядке, – проскрипел нервный профессор и пристроил на раззолоченный стул портфель и шарф.
– Может, присядете?..
– Спасибо, – уже твердо и несколько даже обозленно сказал «ученый человек», – со мной все в порядке. Не беспокойтесь.
Полковник пробормотал себе под нос, что он не особенно и беспокоится, и взял со стола две какие-то бумажки, желтые и тонкие от времени. Еще там стояла чашка с витой ручкой, расписанная голубыми узорами, и ничего более неуместного, чем эта чашка, нельзя было себе представить в помещении, где на полу лежит мертвое тело, вспыхивает фотокамера, бродят люди, переговариваются самыми обыкновенными голосами.
– Ну, так. Собственно, вот из-за этих штуковин мы вас и вызвали. Бумаги были обнаружены рядом с трупом, с правой стороны, а чашка здесь и стояла. Вы только голыми руками не хватайте. Варвара Дмитриевна! Подкинь перчатки, а?
Молодая женщина вытащила из своего чемоданчика пару медицинских и кинула резиновый комок в сторону полковника. Он ловко поймал, зачем-то подул на них и протянул Шаховскому.
Профессор взял перчатки так, как будто не знал, что с ними делать. Никоненко покосился и мотнул головой. По «прошлому делу» он помнил, что профессор оказался не так хлипок и ненадежен, как вроде бы полагается ученому. Он хорошо соображал, – это Никоненко особенно оценил! – нервическими припадками не страдал, на вопросы, помнится, отвечал понятно, без излишней «научности». Вот чего полковник особенно не любил, так это когда «образованные» говорят непонятное и смотрят жалостливо и малость свысока, как на дурачка деревенского!
Впрочем, он понимал, что для неподготовленного человека труп на полу в луже крови – зрелище, надо признать, удручающее. Да еще выдернули его из Думы!.. Там небось чинность, красота и благолепие, а трупов никаких не бывает.
Тут Никоненко решил, что нужно профессору помочь немного.
– А в Думе-то вы чем занимаетесь? Депутатствуете?
– Я?.. А, нет, ну что вы. Там помимо депутатской работы полно.
– Какой такой работы? – перепугался Никоненко, и Шаховской вдруг вспомнил его манеру играть в участкового уполномоченного Анискина из глухой сибирской деревни. Московский полковник время от времени начинал пугаться, напевно говорить, округлять глаза, цокать языком и подпирать рукой щеку – в соответствии с образом. Выходило очень достоверно и, видимо, помогало ему в его деле. – Какой же такой работы полно в Думе, если с утра до ночи по телевизору показывают, как люди в зале сидят и все поголовно сами с собой в крестики-нолики шпарят, а потом, стало быть, кнопочку жмут, за или против, а на табло циферки загораются, принято, мол, или, обратно, не принято!.. А потом по домам, чай кушать. Вот и вся работа!
– Ну, это на самом деле не совсем так, Владимир…
– Игорь Владимирович я! Запамятовали?
– Вернее, совсем не так. Работа любого парламента в принципе организована очень сложно, а в нашей стране еще сложнее, потому что со времен Первой Думы, то есть с девятьсот шестого года, так повелось, что всегда и во всем виновата именно Государственная дума! Она всем мешает, с ней очень неудобно, так или иначе приходится считаться, а не хочется считаться, да и опыта парламентаризма в России маловато, честно сказать…
Слава богу, заговорил, подумал Никоненко, и похвалил участкового уполномоченного Анискина, который всегда его выручал. Спасибо тебе, Федор Иванович, дорогой ты мой!
– А я готовлю разные материалы, например, для заседания комитета по культуре. Вот комитет должен решить, имеет смысл за государственные деньги открывать музей… не знаю, допустим, Муромцева, и я готовлю документы…
– Кто такой Муромцев?
– Председатель Первой Думы, очень интересный персонаж.
Шаховской сосредоточенно натягивал резиновые перчатки. С непривычки натянуть их было трудно.
– Муромцев – часть истории, и важная! Как и первый русский парламент. Но почему-то история отечества никого не интересует всерьез, особенно в этой части. Про дворцовые перевороты всем интересно, а про парламент никто ничего толком не знает. Когда был создан, для чего. Почему просуществовал так недолго. А не знать это – стыд и дикость. Да и опасно не знать…
– Ладно вам, профессор, что за пессимизм-то!
– «Кто в сорок лет не пессимист, – сказал Шаховской и пошевелил резиновыми пальцами, – а в пятьдесят не мизантроп, тот, может быть, и сердцем чист, но идиотом ляжет в гроб».
Никоненко крякнул:
– Это кто сочинил? Вы?
– Все тот же Сергей Андреевич Муромцев.
– Эк его разобрало, вашего Муромцева! Людей не любил?..
Тут профессор спросил неожиданно:
– А вы любите? Людей? Всех до одного?
И аккуратно вытащил у полковника из руки тонкий бумажный листок. Никоненко так, с ходу не придумал, что бы такого сказать по поводу любви к людям, вызывать Анискина по такому пустячному поводу не стал и уставился Шаховскому в лицо.
…Сразу было понятно, что желтые и тонкие листы – подлинный раритет, никаких сомнений. На первый взгляд, судя по манере написания, расположению текста на странице, бумагам лет сто, не меньше. На одном листе было письмо с обращением и подписью, на втором – какая-то записка, по всей видимости составленная наспех. Записку Шаховской отложил, а письмо поднес к глазам, зачем-то понюхал, перевернул и посмотрел с другой стороны.
– Ну? – нетерпеливо спросил полковник Никоненко. – Чего там написано? Я ни слова не разобрал.
Профессор начал быстро читать вслух:
– «Милостивый государь Дмитрий Федорович, спешу сообщить вам, что дело, так беспокоившее нас в последнее время, завершилось вполне благополучно. Заговор ликвидирован полностью, опасность, угрожавшая известной вам особе, миновала. Со слов Петра Аркадьевича, с которым я имел удовольствие беседовать сегодня днем на Аптекарском, столь благополучным исходом, в каковой я, признаться, не верил до последнего часа, мы все обязаны князю Шаховскому, доказавшему, что и в Думе есть люди благородные, проявляющие большую волю в достижении того, что есть нужно и полезно для государства. Петр Аркадьевич уверил меня, что государь, также обеспокоенный, завтра же узнает обо всем. С нетерпением жду личной встречи, чтобы поведать вам все подробности этого удивительного дела, совершенно во вкусе г-на Конан Дойла и его сенсационных рассказов, которыми нынче зачитываются обе столицы. Сейчас могу лишь заинтриговать вас известием, что чашка с бриллиантами, фигурировавшая в деле, исчезла бесследно. Примите мои уверения и проч.». Подпись и число, двадцать седьмое мая тысяча девятьсот шестого года.
Профессор перевел дух. Глаза у него блестели. Никоненко пожал плечами и покосился на письмо – он профессорских эмоций не разделял.
– Как вы не понимаете?.. Судя по подписи, это письмо Щегловитова, в девятьсот шестом году он как раз был министром юстиции! Петр Аркадьевич, который упоминается, это, скорее всего, Столыпин, министр внутренних дел, и на Аптекарском у него была дача, это известный факт.
– А Шаховской – это вы, что ли? – неприязненно уточнил Никоненко, который не любил, когда при нем умничали. Ну, не знает он никаких Щегловитовых, а про Столыпина слышал когда-то в школе, да и то краем уха, и что теперь?
– В Первой Думе на самом деле был такой депутат от кадетской партии – князь Шаховской, – ответил профессор почему-то с неохотой. – Да, а Дмитрий Федорович, которому адресовано письмо, скорее всего, Трепов, комендант Зимнего дворца, фигура, очень близкая к Николаю Второму, некоторым образом личный телохранитель, если можно так выразиться.
– Товарищ полковник, мы закончили вроде.
– Закончили, так и дуйте в Управление. Дуйте, дуйте!.. Чем быстрее обработаете, тем лучше.
Шаховской оглянулся на людей, никого не увидел, ничего не понял и опять уставился в письмо.
– Заговор, – пробормотал он, – какой тогда мог быть заговор?.. В мае?! В апреле, да, в апреле был убит адъютант Дубасова, московского генерал-губернатора. В июне те же эсеры убили адмирала Чухнина. А в мае?! Об этом никто не упоминает! Кто это – «известная вам особа»? Да еще такая, о которой беспокоится государь и министры! Нет никаких свидетельств… При чем тут Дума? Благородные люди, проявляющие волю в достижении того, что полезно и нужно для государства! И это Щегловитов писал?! Правительство ненавидело Думу, а депутаты ненавидели правительство!
Он залпом перечитал ровные строчки, написанные сто лет назад, и наткнулся на «чашку с бриллиантами, исчезнувшую бесследно».
– Во вкусе господина Конан Дойла и его сенсационных рассказов!.. Значит, нашлась чашка.
– Какая? А, чашка!
Молодая женщина подошла к ним, стягивая перчатки, и тоже заглянула в письмо.
– Надо же, – сказала она с удивлением, – и как это вы разобрали? Ничего же не поймешь.
– Это просто привычка. – Шаховской отложил письмо и взял записку. При этом видно было, что с письмом ему расставаться не хочется. – Я прочитал очень много рукописных текстов, написанных именно так. С «ятями», «фитами» и твердыми знаками в конце существительных.
– Всего сто лет, – и она засмеялась, – а такие перемены, что и не прочтешь!
– В восемнадцатом году Ленин декретом Совнаркома упростил правописание. С тех пор оно все упрощается и упрощается. На днях отменили букву «ё», и Ленин тут ни при чем. – Шаховской рассматривал записку. – Зайца тоже хотели упростить, но, по-моему, пока не решились.
– Как упростить? – не поняла молодая дама.
– На одну букву, – задумчиво сказал Шаховской, – чтоб он окончательно стал «заец» не только в Интернете и любовных эсэмэсках.
– Вам студентки такие пишут?
Тут он в первый раз взглянул на нее. Почему-то его поразило, как кому-то могло прийти в голову, что студентки пишут ему эсэмэски и называют «заец».
– Варвара, – моментально представилась она довольно насмешливо. – Я эксперт, так же как и вы, но… в другой области.
– Дмитрий Иванович, – по профессорской привычке сказал он, хотя вполне можно было обойтись и без отчества, к чему тут это отчество, если можно и без него, он ведь еще не так стар, то есть и не молод, конечно, с какой стороны смотреть. В девятьсот шестом году сорок лет считались самым что ни на есть зрелым возрастом, а нынче сорокалетние – все начинающие, молодые, и держат себя так, как раньше подростки, носят кудри, ходят на танцы или… куда там они еще ходят…
Тут Дмитрий Иванович вдруг сообразил, что смотрит Варваре в лицо пристально, не отрываясь, и она смотрит ему в лицо все с той же насмешкой, и Никоненко рядом сделал брови домиком и тоже уставился на него. Профессор мигом отвел глаза, она улыбнулась, а Никоненко фыркнул отчетливо.
– Простите, я задумался.
– Оно и видно, – ввернул Никоненко. – Во втором письме чего пишут?
– Это просто записка! «Все готово, будьте сегодня в одиннадцать часов вечера в известном вам доме на углу Малоохтинского. Если придете не один, сделка не состоится. Полагаюсь на ваше благоразумие». Подписи нет, только дата. Двадцать шестое мая того же года, то есть за день до того, как было написано письмо.
– Если придете один? Или не один? – уточнил Никоненко, как будто это могло иметь значение.
– Написано – не один. То есть кто-то кого-то должен был привести в дом на углу Малоохтинского проспекта. Между прочим, это известное место.
– Кому известное-то?
– Там была подпольная мастерская по изготовлению винтовочных патронов. Был такой Сергеев, кличка Саша Охтинский, а у него приятель, кажется, Сулимов. Они как-то ухитрились вынести с патронного завода детали станка для набивки патронов и регулярно воровали оттуда же гильзы, пули и порох. Знаменитая мастерская была! По сотне патронов в день изготавливали. Это… очень много.
– Тело забирать, товарищ полковник?
– Ну, можем здесь оставить! А раньше всегда забирали!
Шаховской поморщился. Эти люди и их разговоры мешали ему думать.
Ах, да. Здесь же… убийство. Его и позвали только потому, что тут убийство. Какой-то человек совсем недавно именно в этом месте лишил жизни другого человека – и на полу сейчас лежит то, что от того осталось. Это было… сегодня. Не в мае девятьсот шестого года. И сегодня не имеет никакого смысла рассказывать про мастерскую на Малоохтинском, которая набивала до сотни патронов в день. Те патроны уже давно расстреляли, и они наверняка тоже кого-то убили, но это было давно и сейчас уже неважно.
Разве насильственно отнятая жизнь перестает быть важной? Ее же нельзя отнимать, это… запрещено.
– Как его убили? – вдруг спросил Шаховской.
– Скверно, – отозвалась Варвара, тоже эксперт, но… в другой области. – Сначала ударили по голове, сильно, из-за спины. Он упал. Добивали ножом. Пять ранений. Два с жизнью не совместимы. На первый взгляд два, товарищ полковник.
– А вы говорите – государь обеспокоен! – сказал Никоненко и почесал за ухом. – Забеспокоишься тут.
В приемной за высокими распахнутыми дверями громко заговорили и засмеялись, и вошли санитары. В два счета они разложили носилки, равнодушно, как вещь, которая всем мешает и нужно поскорее от нее избавиться, перевернули тело и взгромоздили его на черную клеенку.
Шаховской посмотрел. Ему же неудобно так, подумал он. Вон как лежит неловко. Надо бы переложить. Он все забывал, что это уже не человек, а нечто другое, непонятное.
Смерти все равно, как именно лежит труп.
Санитары подняли носилки, живые посторонились перед мертвым, и тут в этом теле, которое так неловко приткнули на черные носилки, Шаховской вдруг узнал человека, которым оно было до сегодняшнего дня. До тех пор, пока их не разделили пять ножевых ранений, два из коих были не совместимы с жизнью – человека и его тело.
– Подождите, – сказал Шаховской. – Одну секунду.
1906 год, май.
Варвара Дмитриевна Звонкова приближалась к цели своего путешествия.
Целью был Таврический дворец, возведенный когда-то матушкой Екатериной для своего возлюбленного и вернейшего помощника в делах войны и державства князя Потемкина. Там, в полуциркульном зале, вот-вот должно было открыться очередное заседание Государственной думы.
В первый раз «народные представители» собрались в белой просторной прекрасной зале всего месяц назад, двадцать седьмого апреля, и с тех пор каждое заседание становилось событием, о котором писали газеты, толковали и перетолковывали в кулуарах, обсуждали по всей России!
Варвара Дмитриевна, полноправный член одной из самых многочисленных партий – кадетской, состояла «думским журналистом».
Ах, какой это был май!.. В России за всю ее многовековую историю никогда не было такого мая – яростного, воистину революционного! Да что и говорить! Самодержавие, конечно, не пало, предстоит борьба, это Варвара Дмитриевна прекрасно понимает, но все же русская революция добилась огромного успеха, царю пришлось отступить. Манифест семнадцатого октября дал народу, за который радели все члены кадетской партии и Варвара Дмитриевна тоже, политические права!
Варвара Дмитриевна бежала – насколько позволяли приличия, разумеется, – и улыбалась сама себе и предстоящему дню, очередному дню работы первого русского парламента.
Какие прекрасные, звучные слова – русский парламент! Кто бы мог подумать еще пять лет назад… нет, нет, даже год назад, что в России будет свой парламент! Неужели сдвигается неповоротливая туша государственного бюрократизма, абсолютная власть отступает? Как будто сверкающий меч революции надвое рассек ее, и всему народу явился свет!
Тут Варвара Дмитриевна подумала, что хорошо бы этот пассаж запомнить и записать, пригодится для статьи.
Решетка сада Таврического дворца была уже совсем близко, и Варвара Дмитриевна пошла потише, посолиднее. Английский бульдог, которого она вела на поводке, оглянулся с неудовольствием. Он в парламентаризме ничего не смыслил, зато искренне полюбил сад вокруг дворца, с его дорожками, лужайками и скамейками, которые он поливал с истинно английской невозмутимостью.
Бульдога Варваре Дмитриевне из туманного Альбиона доставил один британский журналист в качестве презента. Журналист ей нравился, он был настоящий англичанин – сдержан, с превосходными манерами, хорошо образован, толковал в основном о политике, но что-то подсказывало госпоже Звонковой, что бульдога он вез ей вовсе не как коллеге и товарищу по парламентской работе. Бульдога назвали Генри Кембелл-Баннерман. Немного сложно, конечно, зато получился полный тезка британского премьер-министра – и смешно, и с намеком. Что нам все на Запад оглядываться да горевать, что на Руси-матушке по сию пору лаптем щи хлебают? Вон у нас какие перемены – собственный парламент, где совершенно законно высказываются накопившиеся за столетия претензии к власти, и власть принуждена слушать и отвечать! Это вам не тихие разговоры на ухо, не пение запрещенных песен под сурдинку, не марксистский кружок!..
Кстати, Маркса бы надо почитать, вот что.
Варваре Дмитриевне про него толковали, выдающийся экономист, мол, целую теорию придумал, объясняющую весь мировой порядок. Она собиралась ознакомиться, да так и не собралась. Некогда, работы много. Был еще профессор Лист, печатавшийся, кажется, в Берлине, и его тоже читали и цитировали, и Варвара Дмитриевна знала, что мнение немецкого профессора Листа – последний аргумент во всяком споре о благе русского народа. Почему-то так выходило, что русские должны то и дело оглядываться на заморских ученых, приноравливать свою жизнь к их теориям, настолько непонятным, что у Варвары Дмитриевны от долгих рассуждений о Марксе и Листе начинал болеть висок.
Генри Кембелл-Баннерман потянул было в сторону, но хозяйка вернула его на тротуар. Вон уже дворец из-за деревьев выступил, сейчас прибудем.
Дорожки сада были запружены народом, дамы в нарядных платьях создавали ощущение праздничности. Вообще Варваре Дмитриевне казалось, что, несмотря на ежечасно разражавшиеся бури, на стычки с оппонентами, на противостояние с министрами, ощущение праздника не покидает Таврический дворец ни на минуту. Гармонический простор белых зал, переходов, заново отделанных покоев напоминал о пышной державности екатерининского века, а дух свободы и открытости, возможность на весь мир говорить о наступивших и грядущих переменах укрепляли веру в будущее, в Россию!
Это бы тоже хорошо записать, решила Варвара Дмитриевна, а Генри Кембелл-Баннерман весело потрусил к любимой скамье, которую он никогда не пропускал и всегда орошал в первую очередь.
Варвара Дмитриевна переждала момент орошения, независимо глядя в сторону. С ней здоровались, и она кивала в ответ, улыбалась приветливо, и всякому казалось, что милые ямочки на щеках госпожи Звонковой – последний, недостающий штрих к картине веселой деятельной озабоченности.
Кивая направо и налево, Варвара Дмитриевна прошла по галерее в кулуары, где собралось уже много народу – все ожидали заседания, как званого пира. Здесь до конца, до последнего слова обсуждалось то, что никак невозможно было договорить в зале заседаний, где присутствовали председатель, пресса, стенографисты с их отчетами! В кулуарах царила безбрежная, как море, свобода. Здесь депутаты встречались с народом, сюда приходили ходоки, вокруг которых собирались митинги. Тут все точно дрожало от нетерпения и нетерпимости, здесь неизменно звучал лозунг – требуйте, требуйте!.. Требуйте земли, воли, новых свобод. Здесь, в кулуарах, были свои герои, как Алябьев, депутат от «трудовой партии», носивший гвоздику в петлице. Он упивался похвалами журналистов и публики, говорил много и горячо.
Вот и сейчас, до заседания, Алябьев уже ораторствовал и собрал небольшую толпу. Варвара Дмитриевна хотела остановиться и тоже послушать, а потом вспомнила странную нелюбовь Генри Кембелл-Баннермана именно к этому социалисту, и передумала останавливаться.
Их с Генри путь лежал мимо залы заседаний в большую угловую комнату, где помещалась конституционно-демократическая партия и Варвара Дмитриевна обыкновенно работала.
Был Большой день – когда в министерской ложе появлялись министры со своими проектами законов, которые Дума должна была принять или отвергнуть. В такие дни заседания законодательного собрания обыкновенно превращались в «безудержный митинг», как писали газеты. Вся сила двух основных партий – кадетов и «трудовиков» – была направлена против правительства, и в Большие дни министрам приходилась несладко. Муромцев, думский председатель, обыкновенно устраивал после министерских речей небольшой перерыв, чтобы депутаты немного выпустили пар в кулуарах, но это не слишком помогало.
Министры виделись депутатам врагами народа, и они почитали своим долгом как можно скорее и как можно резче вывести этих «прислужников самодержавия на чистую воду», сказать им всю правду. Горение духа исключало всякую практическую догадку. Сотрудничество с правительством было непреложным условием законодательной работы любого народного представительства, меж тем «всякое соприкосновение с властью приводило депутатов в состояние сектантского негодования».
Варвара Дмитриевна вошла в комнату с большими французскими окнами, ответила на приветствия собравшихся товарищей по борьбе и парламентской работе, спросила чаю и вывела Кембелл-Баннермана на травку. Бульдог дал круг, огибая клумбу, попил из мраморной чаши, в которую налило вчерашним дождем, улыбнулся и улегся в тенек, а Варвара Дмитриевна приступила к своим обязанностям.
«Весь дворец кипит, дышит, двигается, полный надежд на новую, невиданную свободу и невиданную ранее русскую демократию, которая сию минуту нарождается здесь, в этих высоких белых залах, покоем расположенных в Таврическом дворце, окна которого выходят в прекрасный сад, насаженный еще при князе Потемкине, и этот весенний сад будто поддерживает своим буйным весенним цветением в наших чаяниях и надеждах».
Варвара Дмитриевна поставила точку и пристроила перо рядом с чернильницей понадежней, чтоб держалось. Дурацкое перо часто скатывалось и однажды оставило на белой, первый раз надетой блузке довольно большое пятно.
– Что вы там все пишете, Варвара Дмитриевна? Дневник ведете?
Это была шутка, и Варвара Дмитриевна улыбнулась.
– Вот уж нет. Боюсь, не успею всего. Такой день впереди! Сегодня министра финансов ждут с его идеей французского заема. Жарко будет.
Князь Дмитрий Иванович Шаховской, секретарь думского председателя и его главный помощник, улыбнулся в ответ:
– Ничего. Вы быстрая. Учитесь на ходу.
– Я и раньше писала в газеты!
– За что мы вас особенно ценим, Варвара Дмитриевна.
Ценили не только за это, но и за быстрый ум, жизнерадостность, готовность внимательно слушать, запоминать, четко передавать главное, не увлекаясь отсебятиной, которая так свойственна пишущим мужчинам!..
А еще Варвара Дмитриевна чудо какая хорошенькая. Это, конечно, не самое главное, но рядом с хорошенькими и в политике как-то веселее.
В большой угловой комнате, где помещалась фракция кадетов, окна стояли открытыми весь день, можно выйти прямо в сад к деревянной решетке, увитой шток-розой, возле которой в теньке полеживал сейчас полный тезка британского премьер-министра, и там, на свободе, продолжить заседание. Впрочем, заседанием и не назовешь то, что происходило в угловой комнате с открытыми в потемкинский сад французскими окнами! Некогда тут заседать да беседовать! Такие дела творятся! Нужно с лету, на ходу, в короткий перерыв между прениями и голосованиями составить язвительный, уничижительный ответ на министерскую речь, наметить ораторов, полных неизжитого гнева против неограниченного самодержавия. Перерыв, устраиваемый председателем Муромцевым, не охлаждал горячие головы, а еще больше распалял их!..
Из залы заседаний взбудораженные депутаты приносили с собой в кулуары «пульсацию прений». Здесь можно было не опасаться чужих ушей, не считаться с произведенным впечатлением, тут собирались «свои», понимающие, горящие общностью идей и настроений.
Вот и хорошенькая Варвара Дмитриевна горела. Князь Шаховской в свое время настоятельно рекомендовал товарищам по кадетской партии принять госпожу Звонкову в свои ряды, хотя заслуг у нее было маловато и политически она была не слишком подготовлена, впрочем идеи конституционных демократов разделяла всей душой. Но он настаивал и в конце концов убедил – партия только выиграет, если в мужском ареопаге будет женщина.
Начала Варвара Дмитриевна с того, что устроила бой с Милюковым по вопросам женского равноправия. Разумеется, в кадетской партии состояли люди все выдающиеся, просвещенные, передовые – юристы, правоведы, профессора – и вопрос о женском равноправии к тому времени был уже как будто разрешен. Однако Павел Николаевич почему-то упирался, указывая на то, что женское избирательное право, да и равноправие вообще, вызовет недовольство среди крестьян, не привыкших смотреть на женщину, как на равную. Он справедливо отмечал отсталость русских крестьянок, их малограмотность и неподготовленность к политической жизни.
Впрочем, многие подозревали Павла Николаевича в известном лукавстве. Он был большим любителем дамского общества и, возможно, побаивался, что политическая борьба несколько помрачит женское обаяние.
Варвара Дмитриевна до того памятного дня, когда состоялся ее бой с Милюковым, вовсе и не задумывалась над женским вопросом. Ни Бебеля, ни Брауна, самых яростных пропагандистов женских прав, не читывала. Но ей даже подумать было странно, что образованный человек, видный либерал мог отрицать ее с ним равность! Ведь до манифеста семнадцатого октября политических прав не имел никто, ни женщины, ни мужчины! Значит, и получить их должны все, все!
Дело происходило во время трехдневного съезда кадетской партии, в полукруглом амфитеатре Тенишевского училища, переполненном людьми. Съехались со всей России! Помнится, тогда кто-то и предложил название «партия народной свободы», но предложение отвергли, приняв трудную, из двух слов сложенную «этикетку» – конституционно-демократическая.
Программу «партии народной свободы» особенно и не обсуждали, она была давно обдумана и выработана, об этой программе по всей России толковали за самоваром, беседовали в гостях и на журфиксах. Неужели все правда, господи помилуй?.. После стольких лет темного, неограниченного самодержавия власть признала наконец, что народ «имеет право голоса»? Что «народное представительство» будет созвано и вот-вот проведут выборы в первый русский парламент? Поминались новгородское вече и боярская дума. Все чаще слышались слова «революция» и «оппозиция», производившие должное впечатление даже на смиренные умы. Профессора и правоведы разъясняли за чаем необходимость конституции самого последнего образца авантажным дамам, горевшим той же жаждой свободы, что и вся Россия.
Так вот, равноправие!..
Милюков равноправие отрицал за ненадобностью, и на помощь ему пришел кто-то из мусульманских кандидатов, кажется, из Казани, который объявил, что в случае внесения такого пункта в программу мусульманские голоса будут потеряны.
Варвара Дмитриевна, недавно только возвратившаяся из Парижа, вся кипела. Стремительно взлетела она на кафедру и заговорила горячо, громко. На нее посматривали с удивлением – многим она была незнакома, хотя ее статьи в «Освобождении» и «Вопросах жизни» считались занимательными, их читали. Но все же места в рядах она еще не заняла.
Варвара Дмитриевна начала с того, что сознание людей необходимо поднимать, а не тащить вниз. Русская женщина, уверяла собрание Звонкова, вполне доказала свою зрелость, участвуя в политическом движении. Борьбу вели вместе и женщины, и мужчины, вместе подвергались опасностям, гонениям, подчас вместе шли в тюрьму! Куда же это годится, если мужчины получат права, а женщины нет?
И все это было так мило, так горячо, так искренне, что жар пробежал по рядам, и даже Павел Николаевич умилился.
Избирательных прав наравне с мужчинами женщины так и не добились, но Варвара Дмитриевна свою лепту в борьбу внесла, и чопорный англичанин, кажется, оценил ее смелость.
Конечно, у них в Европе с женским вопросом дело плоховато поставлено. У нас в России гораздо лучше и разумней, что есть, то есть. Либералы от души признавали женское равноправие и с удовольствием наблюдали живейшее участие дам в политической жизни, ценили энергию, которую они развивали на ниве освобождения России. Другое дело, что Варваре Дмитриевне не приходило в голову, будто у нее должны быть равные права не только с мужчинами – либералами, профессорами и адвокатами, любовавшимися ее горячностью и ямочками на щеках, но и со Степаном-конюхом из ее волжского имения, которого она терпеть не могла за то, что, подвыпив, он всегда буянил и орал несусветное, а также с женой его Акулиной, неряшливой бабой, так плохо смотревшей за детьми, что приходилось то и дело возить к ним доктора из Нижнего.
Впрочем, это неважно. Тут что-то недодумано. А сомневаться в необходимости равноправия – стыдно просвещенным людям начала двадцатого века.
Возле овального стола ораторы, намеченные сегодня возражать министру финансов Коковцову, – в том, что ему придется возражать, не было никаких сомнений, и возражать колюче, задорно, не давая опомниться! – в последний раз проверяли доводы, согласовывали позиции, обсуждали слабые стороны противника. Варвара Дмитриевна на секунду присела к ним за стол, послушала немного, а потом вышла в сад к Генри Кембелл-Баннерману и не удержалась – расхохоталась.
Давешний оратор Алябьев с гвоздикой в петлице маялся в некотором отдалении, как видно, намеревался зайти в помещение, но опасался Генри, раскинувшегося под шток-розой.
– Алексей Федорович! – окликнула его госпожа Звонкова. – Вы к нам?
– Добрый день, Варвара Дмитриевна. Я не знал, что ваш верный страж… сегодня опять с вами.
– Генри без меня сильно скучает. Проходите, я его подержу.
– Благодарю, Варвара Дмитриевна.
Генри, радостно приветствовавший хозяйку верчением плотного обрубка хвоста, при приближении Алябьева скосил глаз и зарычал, негромко, но убедительно.
– Ах ты, господи!.. Идите, идите, не бойтесь.
– Да я и не боюсь, – пробормотал себе под нос Алексей Федорович, который боялся бульдога и терпеть его не мог.
Такая хорошенькая девушка, на что ей это чудище заморское?! Сопит, рычит, хрюкает неприлично при дамах, редкая гадость.
– Вы к Дмитрию Ивановичу?
Князь Шаховской, как секретарь председателя, вечно всем был нужен, все его разыскивали, о чем-то просили, что-то втолковывали, отводили в сторону, понижали голос и настаивали. Князь терпеть не мог интриговать и келейничать, и вообще в Думе его почитали несколько одержимым идеей демократии. Муромцев, к примеру, став председателем, от повседневной жизни отстранился совершенно, несколько даже занесся и все повторял, что «председатель Государственной думы второе после государя лицо в империи». Князь же, совершенно напротив, показал себя бесценным практическим работником.
Почему-то никому не приходило в голову, что вновь созданная Дума – не только трибуна для проявления ораторских способностей и всяческого обличения правительства, но… учреждение, которому прежде всего должно работать именно как учреждению. Князь Дмитрий Иванович взвалил на себя все: наладил думскую канцелярию, сношения с прессой, раздачу билетов для газетчиков и для публики. Кроме того, был налажен стенографический отдел. Состав стенографисток оказался подобран превосходно, отчеты раздавались иногда в тот же день, что особенно ценили журналисты.
Варвара Дмитриевна рядом с Шаховским чувствовала себя приятно и легко, и даже просто упомянуть его имя казалось ей весело.
– У меня короткое дело собственно к князю Шаховскому. – Алябьев продвигался мимо решетки к распахнутому французскому окну, за которым звучали громкие голоса, как видно, спор разгорался, а Генри Кембелл-Баннерман рычал все отчетливей. – За что же он меня невзлюбил, хотелось бы знать?
– За политические взгляды, Алексей Федорович! – объявила госпожа Звонкова и засмеялась. – Вы же социалист, а он социалистических идей не разделяет.
– Напрасно, Варвара Дмитриевна, напрасно. Вот увидите, именно идеи социал-демократов будут единодушно приняты и подхвачены русским народом! – И зачем только он пошел через сад, а не покоями! – Двадцатый век докажет… что социалисты вырвут Россию из многовековой… темноты… укажут совершенно иной, невиданный путь. Социализм перевернет и разрушит прежний строй, самодержавие падет под его ударами…
Генри Кембелл-Баннерман, полный тезка британского премьер-министра, вскочил на упористые, как будто вывернутые лапы, выдвинул и без того отвратительную нижнюю челюсть, гавкнул на весь сад и капнул слюной.
…Порвет брюки, с тоской подумал Алябьев. Как пить дать порвет. Репутации конец, и брюки жалко.
Следовало отступить красиво и с достоинством, но как это сделать на глазах у госпожи Звонковой, которая тонкими пальчиками держала бульдога за складчатый загривок и смотрела смеющимися глазами. Разве такие пальчики удержат эдакое… насекомое?..
Тут, слава богу, его окликнули из-за кустов:
– Алексей Федорович! Прошу прощения!
Алябьев оглянулся, Варвара Дмитриевна, присевшая было возле собаки, поднялась, а Генри потоптался, развернулся и зарычал уже в сторону кустов.
– Bad boy, – выговорила ему Варвара Дмитриевна с укоризной. – What’s the matter with you today?[1]
Считалось, что бульдог понимает исключительно по-английски.
– Алексей Федорович, – заговорили издалека, – вас во фракции ждут, просили сию минуту подойти! Вот-вот к заседанию позвонят.
Алябьев воспрял духом. Можно удалиться красиво и за брюки не опасаться!..
– Эдакая спешка каждый день! Ничего не поделаешь, придется явиться. Князю поклон, да мы еще увидимся…
И Алексей Федорович пропал из глаз.
– Stay here, Henry! Be nice dog[2].
Полный тезка британского премьера, только что изгнавший противника и отлично это сознающий, облизнулся плотоядно и ткнулся Варваре Дмитриевне в юбку.
– Негодник!
Пока отряхивала юбку – что за наказанье такое, опять слюни! – пока выговаривала Генри, по сторонам не смотрела, а когда подняла глаза, увидела перед собой, очень близко, молодого человека в заношенном студенческом сюртуке. Шапку он мял в руках.
– Разрешите отрекомендоваться, Варвара Дмитриевна. Борис Викторов, бывший студент, пятнадцатого класса чиновник[3], – госпожа Звонкова шутку про «пятнадцатый класс» оценила, улыбнулась миленько. – Состою при Алексее Федоровиче Алябьеве, помогаю по мере сил.
– Вы журналист?
– Н-нет, – запнулся, будто бы не сразу сообразив, Борис. – Больше по практической части.
Варвара Дмитриевна не стала уточнять. Вот уж неинтересно! Погрозила Генри Кембелл-Баннерману, еще раз велела быть «clever boy» – хорошим мальчиком, смежила ресницы – солнце светило уж больно ярко! – и направилась к французскому окну, за которым уже доспоривали, говорили потише. И впрямь вот-вот к заседанию позвонят!
– Горячий сегодня день, – вслед ей сказал помощник Алябьева. – Министра финансов ждут, а он из… непримиримых.
Варвара Дмитриевна кивнула и совсем вознамерилась уйти, но молодой человек не унимался.
– Госпожа Звонкова, – он придвинулся поближе, шапка у него в руках тряслась. Нервическая дрожь, что ли? – Нельзя ли мне на минутку видеть князя Шаховского?
Что это такое, помилуйте, всем сегодня с утра нужен князь, да Варвара Дмитриевна и понятия не имела, можно или нельзя! Князь перед заседаниями бывал особенно озабочен, многочисленные важные и мелкие дела требовали его внимания, да и Муромцев, председатель, ни минуты не мог без него обойтись.
– Зайдемте и узнаем, – предложила Варвара Дмитриевна довольно холодно.
– Нет, нет, мне никак нельзя!.. Вы не могли бы… вызвать его сюда?
Генри Кембелл-Баннерман при этих словах Бориса нашел нужным негромко зарычать, и госпожа Звонкова вдруг натуральным образом перепугалась.
Разумеется, в Таврическом дворце не было и не могло быть никакого отпетого народа. И полуциркульный зал заседаний, и кулуары, и сад наводнены приставами. Дюжие молодцы с серебряной цепью на шее жестко блюли порядок, особенно в дни, когда в правительственной ложе появлялись министры. Террористы вряд ли могли проникнуть в Думу, но по всей России они продолжают убивать. То и дело приходили известия из Твери, Самары и других городов – там убит губернатор, а здесь прокурор, а то и телеграфист, почтмейстер. Эсеры и эсдеки – социал-демократы, к которым как раз и принадлежал Алябьев, – продолжают убивать жестоко и безрассудно, и прогрессивная русская общественность решительно не знает, как следует относиться к этому явлению. И Варвара Дмитриевна не знала!.. Вроде бы убийства и жестокости творились на благо революции и дела освобождения, но… все же страшно очень! Князь Шаховской утверждает, что террор нужно непременно осудить публично, с думской трибуны, ибо парламент не сможет работать, пока не наступит в стране успокоение, но осудить – значило косвенно поддержать правительство, а следовательно, ненавистное самодержавие!..
… А вдруг этот человек с его шапкой… из этих? Вдруг он задумал страшное, сейчас прогремит взрыв, – Варвара Дмитриевна знала, что при последнем акте было убито двадцать семь и ранено больше ста человек, – и ничего этого больше не будет. Ни сада, ни Генри, ни решетки, увитой шток-розой, ни майского свежего утра. И ее, Варвары, не будет тоже. Только куча окровавленной плоти в комьях вывороченной земли, расколотая надвое мраморная чаша, запах пороха и гари.
– Нет, – пробормотала сильно побледневшая Варвара Дмитриевна и отступила. – Нет, нет!..
– Помилуйте, мне на одну минуту только!..
– Генри! За мной!
Бульдог вскочил и следом за хозяйкой забежал за французское окно. Варвара Дмитриевна моментально повернула витую ручку.
В комнате никого не было, кроме князя Шаховского. Он пробегал глазами какие-то бумаги, и когда ворвалась госпожа Звонкова, поднял голову.
– Что с вами, Варвара Дмитриевна? Вас что-то напугало?
– Там… человек. Он странный.
Князь одно мгновение изучал ее лицо, а потом подошел и стал рядом. Она смотрела в сад.
– Никого нет, Варвара Дмитриевна.
И в самом деле – никого не было на дорожках и возле решетки со шток-розой. Сад опустел перед заседанием совершенно.
Варвара Дмитриевна коротко вздохнула и незаметно вытерла влажную ладонь о юбку. Все это ей показалось странно и очень нехорошо.
– Убитого зовут Павел Ломейко, – выговорил Шаховской с усилием. Тело, которое только что унесли санитары, перестало быть просто телом и обрело вполне человеческие знакомые черты, и профессору трудно было это осознать. – Я хорошо его знал.
– Ломейко Павел Игоревич, – подтвердил полковник Никоненко, – по документам так и установлено. Значится директором музея. А вам-то он откуда известен?
– Какого музея?
– Это музей, – и Никоненко показал почему-то на камин с мраморной полкой. – А потерпевший, стало быть, его директор. Был.
– Позвольте, это здание никогда не было музеем!
…Вот ученый народ, это надо же, подумал полковник с веселым раздражением. Ты ему про труп, а он тебе про музей! Ну, вот какая ему разница, музей тут или, может, пивная?!
– С прошлого года здание отдали под музей, а Ломейко назначен директором. Откуда вы его знаете, а?
– Музей чего?!
– Я не знаю. Музей и музей. Вам потерпевший откуда известен, Дмитрий Иванович?
Шаховской зачем-то принялся опять натягивать резиновые перчатки, которые только что бросил.
– Павел Ломейко в прошлом году собирался защищать докторскую диссертацию. Я был назначен его оппонентом.
– И чего он? Провалился с треском?
– Защита не состоялась. Я прочел монографию, потом затребовал текст целиком, и… в общем, до защиты его не допустили.
– Да что такое случилось-то с этой защитой?! – Вот чего Никоненко терпеть не мог, так это когда при нем умничали и говорили загадками!
– Текст оказался скомпиллированным из докторской диссертации профессора Серебрякова почти двадцатилетней давности. Защищался Серебряков в Томском университете. Павел Игоревич, попросту говоря, все украл. Плагиат. Это нынче повсеместное явление.
– А вы, стало быть, вывели его на чистую воду?
– Я не понимаю, что вас так раздражает, – сказал Шаховской полковнику. – Я стараюсь помочь. Как могу. Так получилось, что Серебряков еще аспирантом читал у нас в университете спецкурс. Я его помнил отлично. Это правда случайность! Если бы Серебряков не читал, а меня не назначили оппонентом…
– Помер бы этот самый Ломейко доктором наук, – закончил за Шаховского полковник. – А вы тогда с ним сильно поссорились, профессор? С потерпевшим?
– Он приезжал объясняться, мы поговорили… довольно резко. Я, кажется, сказал ему, что воровать нехорошо, а он просил не устраивать скандала.
– А вы все равно устроили!
– Я довел до сведения аттестационной комиссии, что текст диссертации не имеет никакого отношения к соискателю и написан совершенно другим человеком много лет назад, – отчеканил Шаховской. – И привел доказательства. Больше мы с ним не виделись. Я понятия не имел, что он директорствует в музее! – Тут профессор подумал немного. – Видимо, у него были значительные связи, раз уж после всего этого его сюда назначили.
– Ну, связи мы все проверим. А вы его не убивали, профессор? Просто чтобы очистить науку от всей и всяческой скверны?
Шаховской посмотрел полковнику в лицо. Эксперт Варвара, возившаяся со своим чемоданчиком и делавшая вид, что ничего не видит и не слышит, перестала возиться и покосилась на профессора и полковника.
– Я не убивал, – сказал Шаховской. – Впрочем, это все тоже проверяется, правда? Я с самого утра был в университете, читал лекции, а потом в Думе, откуда вы меня и привезли.
Они еще посмотрели друг на друга и отвели глаза. Поединок кончился вничью. Варвара снова принялась тихо возиться.
– Чашка, – Дмитрий Иванович взял со стола фарфоровую штуку. – Значит, так. Мейсен, примерно середина девятнадцатого века. Видите, клеймо, скрещенные голубые мечи? В восемнадцатом вот здесь, внизу, еще рисовали звезду, а в двадцатом, до тысяча девятьсот тридцать пятого года, наоборот, вверху ставили точку. Здесь нет ни того, ни другого. Рисунок, традиционный для мейсенского фарфора, называется «синие луковицы», не знаю почему.
Никоненко слушал очень внимательно, ехидных вопросов не задавал.
– Мейсенские сервизы были в основном у аристократов, у августейших фамилий, разумеется. Все изделия расписываются исключительно вручную с тысяча семьсот девятнадцатого года и по сей день. Чашка в прекрасном состоянии. Такое впечатление, что она лежала в каком-то специальном хранилище.
– Я вам сейчас покажу это хранилище.
– А императору она могла принадлежать? – спросила подошедшая Варвара.
– Какому?
– Ну, не знаю. Николаю Второму, например?
Шаховской пожал плечами.
Неподдельный интерес к императорам, который в последнее время охватил всех без исключения, его раздражал. Кто только и каких только глупостей не писал и не рассказывал про этих самых императоров, стыдно читать и слушать. Почему-то принято считать, что интерес к ним означает интерес к истории отечества, но писали как раз больше про фарфор, наряды жен и дочек, мундиры и прочую ерунду. Вот, например, о том, что Петр Великий почти грамоте не разумел и до конца жизни не умел в слова гласные вставлять, так и писал одними согласными, и указы его собственноручные разобрать было невозможно даже по горячим следам, никто не упоминал, а это важно, важно!.. Гораздо важнее для понимания личности грозного реформатора, чем кафтаны, Анна Монс и фарфоровые чашки!..
– Эта чашка могла принадлежать кому угодно, – сказал Шаховской Варваре, которая, по всей видимости, тоже интересовалась императорами. – Николаю Второму в том числе. Или его отцу, Александру Третьему. А могла не принадлежать ни ему, ни его папе.
– Подойдите сюда, Дмитрий Иванович!.. Видите?
Обойдя лужу черной крови на полу, Шаховской подошел к полковнику.
– Смотрите! Тут, по всей видимости, раньше дымоход был, а потом его заложили.
Шаховской стал на цыпочки и посмотрел. С чугунной, наглухо замалеванной дверцы была сбита краска, царапины совсем свежие. За дверцей оказался небольшой тайничок.
– По всей видимости, и чашка, и бумаги вытащены именно отсюда.
– Значит, их положили в тайник, когда печи уже не топили и дымоходы были заложены. Ни бумага, ни фарфор не выдержали бы перепадов температуры. То есть намного позже девятьсот шестого года, которым датировано письмо! И… класть в тайник чашку странно.
– Пустую – странно, – согласился Никоненко неторопливо. – Но в ней могло что-то лежать и, скорее всего, лежало! Как раз то, что и забрал с собой злодей. Из-за чего весь сыр-бор. Может, бриллианты? Чашку с бриллиантами-то тиснули, как в послании этом говорится! То есть бриллианты тиснули, а чашку оставили!
– Я не подумал, – пробормотал Шаховской.
– Хорошо, а что здесь было раньше? Ну, в особняке? В девятьсот шестом году, к примеру?
– Здесь жил человек, это был его дом. Звали человека Арсений Морозов, он являлся племянником знаменитого Саввы. Кажется, двоюродным.
Никоненко засмеялся. Почему-то его развеселило, что в этом особняке на Воздвиженке жил какой-то человек и у него даже было имя!..
Варвара тоже засмеялась, Шаховской не понял из-за чего.
– Этот участок Арсению подарила мать, происходившая из рода купцов Хлудовых. Очень богатые фабриканты. А раньше на этом участке был цирк, весьма популярный, потому что место хорошее, бойкое, рядом с Арбатской площадью. А потом цирк в одночасье сгорел. Причины пожара так и не доискались. В Москве поговаривали, что сожгли, чтобы освободить место, которое матери Арсения очень приглянулось.
– Да ну? – Никоненко округлил глаза. – Вот ведь какое беззаконие в то время процветало! Пожары устраивали, чтоб, стало быть, землю захватить!.. Дикие времена!
– Арсений Морозов где-то в Антверпене познакомился с архитектором Мазыриным, который этот дом и построил. Он был довольно странным человеком. Например, всерьез утверждал, что в прошлой жизни был египтянином и сооружал пирамиды.
– Батюшки-светы, – закудахтал Никоненко-Анискин, – это ж надо такому быть, чтоб в православной стране отдельные личности верили в переселение душ! Это что ж такое получается, а?.. Никакого православия, а сплошная дикость нравов и брожение умов!
– Над Мазыриным все смеялись, а Морозову он нравился. Должно быть, как раз потому, что производил впечатление сумасшедшего. Когда дошло дело до строительства, Мазырин все же спросил у заказчика, в каком стиле строить, и стал перечислять все имеющиеся в архитектуре стили, на что Морозов ответил: «Строй во всяких, у меня на все денег хватит!»
– Вот какие миллионеры-то на Руси водились, – не унимался участковый уполномоченный, – понятия никакого, зато денег куры не клюют! Это надо ж такому быть – строй во всяких! За все плачу, мол!.. Все им дозволено было, миллионерам-то! Вот времена лихие!
– Игорь, – тихо сказала Варвара, – что ты разошелся?
– Я?! – поразился Никоненко. – Да я радуюсь от всей души, что такого безобразия сейчас не бывает, миллионеры у нас сплошь культурно образованные, богатство свое не показывают, употребляют в дело да на благо!.. А, Дмитрий Иванович?
Шаховской осторожно поставил чашку в тайник и прикрыл дверцу. Закрывалась она плохо, видно, долго была замурована.
Собственно, она оставалась замурованной до сегодняшнего дня. Когда дверца открылась, произошло убийство.
Как странно. Почти невозможно осознать.
– Этот дом строили всего два года. Скорость по тем временам, да и по нынешним, невероятная!.. Стили на самом деле разные, и мавританский, и модерн, и готика. Есть легенда, что именно про этот дом писал Толстой в «Воскресении». В том смысле, что «строится глупый, ненужный дворец глупому и ненужному человеку».
Он осторожно достал чашку и вернул ее на стол.
– Да, а мать Арсения, когда дом был построен, сказала сыну знаменитую фразу: «Что ты дурак, я одна знала, а ты хочешь всей Москве показать!» Тем не менее, Арсений Морозов прожил здесь девять лет, а в девятьсот восьмом году, во время какой-то чудовищной попойки, на спор прострелил себе ногу.
– Зачем?! – удивилась Варвара. – Он что? Вправду дурак был?!
– Спорили о том, что волевой человек может вытерпеть любую боль. Он вытерпел, к врачу не поехал, а через три дня помер от заражения крови. Ему было тридцать пять лет.
– По пьяной лавочке-то каких только дел не наделаешь, – встрял Никоненко, – особенно когда вокруг друзья-товарищи весело гуляют!
– Какое-то время дом пустовал, в восемнадцатом году сюда въехал Пролеткульт, труппа Первого рабочего театра, потом его передали Наркомату иностранных дел, здесь были посольства, потом общество дружбы народов, а в последнее время дом приемов правительства.
– А сейчас музей! – похвастался Никоненко.
– Этого я не знал.
…Хоть чего-то ты не знаешь, и то хорошо, приятно!..
– Присядем, товарищ профессор! – и Никоненко отодвинул стул. – Порешаем, чего нам от вас нужно!
Шаховской осторожно передвинул драгоценную чашку на середину стола, чтобы не задеть, не дай бог, а бумаги пристроил рядом со своим локтем, так чтобы все время их видеть, и вдруг спохватился:
– А здесь можно сидеть? Мы ничего не… нарушим?
– Не нарушим.
– Хотите чаю? – Это Варвара спросила.
– А у тебя есть, что ли?
– Не было б, я бы не предлагала!
– Валяй, наливай чаю!
Дмитрию Ивановичу донельзя странно и непонятно было, как это в комнате «с убийством» можно ни с того ни с сего пить чай, тем не менее предложенный алюминиевый стаканчик он взял. Пахло из стаканчика хорошо, лимоном и еще чем-то приятным, и он вдруг подумал, что очень хочет есть.
– Бутерброд? – спросила Варвара.
– А у тебя с чем?
– С колбасой, конечно.
– Давай, давай скорее!
Некоторое время все молча жевали. Чай и бутерброд с колбасой всегда делают жизнь чуть более легкой, а неразрешимые вопросы чуть более простыми.
– Мне нужно понять, что именно могло быть в этой чашке, – с набитым ртом заговорил Никоненко, – если из-за ее содержимого убили человека! Ну, судя по писульке этой – бриллианты были, только что-то не верится мне в такие клады. Чашку бросили, бумажки бросили – нам оставили вместе с трупом!.. Как бы узнать, что там хранилось, а? И можно ли это узнать в принципе? Больше нету бутерброда, Варвара Дмитриевна?
– Есть, есть!.. А вам, Дмитрий Иванович?
Шаховской взял и второй.
Что такое происходит в его жизни, а?! Почему он пьет чай в особняке Арсения Морозова на Воздвиженке, а время к ночи, на полу кровь и обведенный мелом силуэт человека?!
– Можно попробовать установить, о каком именно заговоре идет речь в письме. Поискать в архивах свидетельства. Данных маловато, конечно, но если там на самом деле упоминается Столыпнин, а писал на самом деле Щегловитов, могло что-то остаться… Я, правда, не могу пока представить, как это связать с убийством и вообще с сегодняшним днем…
– Это мы сами свяжем, – перебил Никоненко нетерпеливо. – Ясно ежу, что убийца знал про эту чашку и ее содержимое. И покойник или знал, или узнал… некстати.
– Подождите! – Шаховского вдруг осенило. – Но сейчас ведь не девятьсот шестой год!
– Это точно!
– Значит, есть какие-нибудь камеры, да? Ну, не может не быть! И если это музей, наверняка есть сторож, охрана!
– Все, все есть, дорогой вы мой Дмитрий Иванович! – засмеялся Никоненко. – И камеры, и сторож с охраной!.. Не стал бы я вас сюда тащить, да еще из самой Думы, – тут он округлил глаза уважительно, – если б камеры да сторожа могли мне содействие оказать!
– А они не могут… оказать?
– Потерпевший Ломейко Павел Игоревич был назначен директором этого самого музея не знаю чего всего месяца четыре назад. Первым делом потерпевший объявил здесь ремонт, который сейчас и осуществляется.
– Ремонт? – не поверил Шаховской и обвел взглядом ампирную залу, находящуюся в полном и безупречном порядке. – Здесь идет ремонт?
– По документикам – полным ходом. Средства из бюджета выделены, ведутся работы по улучшению, так сказать. В связи с ремонтом никакая пропускная система тут не действует, чтобы рабочие могли беспрепятственно заходить и покидать здание.
– Но здесь нет никакого ремонта!
– Да что вы говорите! – воскликнул Никоненко. – Не может такого быть, чтоб не было, раз по документам он есть! Положено быть!..
Он вытряхнул себе в рот остатки чая из алюминиевого стаканчика, посмотрел в него с сожалением, аккуратно поставил на стол, сложил руки на животе, наклонил голову набок и уставился на Шаховского.
– Эх, люблю я ученых людей! – порассматривав профессора таким макаром некоторое время, объявил Никоненко-Анискин. – Что птички божьи, чесслово!.. Чистые, наивные души. В науках всяких разбираются, а в практической жизни – вот ни-ни, нисколечко!
И замолчал, выжидая. Дмитрий Иванович смотрел в бумаги и ничего не говорил. Пришлось продолжать.
– На ремонт отпущена сумма, которая, как я понимаю, сейчас и осваивается в правильном направлении!.. Под открытие здесь провели бы уборку, полы натерли, люстры надраили – готово дело, как будто был ремонт!
– Как будто? – переспросил Дмитрий Иванович.
– Короче, в сухом остатке так: по вечерам в сторожке дежурят два охранника. Ну, чего там они дежурят, чай дуют и в телевизор пялятся. Мимо них муха не пролетит, понятное дело. Камеры по всему зданию не работают уже давненько, так эти два чудика утверждают. Распоряжение директора, чтобы, стало быть, тонкая аппаратура не повредилась известкой или цементной пылью. С их же слов в особняк время от времени на самом деле приходили какие-то рабочие и чего-то делали с трубами, то ли в подвале, то ли на чердаке. А может, и не с трубами и не на чердаке, а еще где. Они в сторожке сидят, ворота открывают-закрывают!.. Чудиков я, конечно, в оборот возьму, может, и они нашалили, но все прочие-разные варианты тоже придется отрабатывать, – Никоненко ладонями побарабанил по столу. – Так что камеры отключены, и никто ничего и никого не видел, вот в чем загвоздка, дорогой товарищ профессор! Придется нам старорежимными методами действовать, без всяких камер и прочих компьютерных технологий. Свидетелей искать, опрашивать, показания сверять, мотивы устанавливать! Вот по вашей исторической линии, может, чего узнаем.
– Понятно, – сказал Дмитрий Иванович. – Только это же все долго. А вам надо срочно.
– Это вы в самую точку попадаете, – согласился Никоненко со вздохом. – Как можно быстрее нам надо. Место уж больно центровое, мимо этого особняка всякий день кто-нибудь из большого начальства едет! А у нас тут труп нарисовался.
…Это его работа, сам себе напомнил Шаховской. Он говорит так не потому, что бездушен и хамоват, а потому что у него такая работа. Он должен найти убийцу и сделать это быстро и грамотно. Одно то, что полковник первым делом вызвал на место преступления историка, как только обнаружил какие-то столетней давности бумаги, говорит в его пользу. Он так понимает свою работу и старается делать ее хорошо.
– Понять бы, правда ли в чашке бриллианты были и как она с бумажками этими связана. Сможете?
– Не знаю, – признался Шаховской честно. – Попробую. У меня есть один аспирант, он как раз занимается Первой Думой. Вот тут в письме говорится про моего однофамильца из этой Думы, который помог раскрыть заговор.
– Шаховской, точно!..
– Я постараюсь выяснить. Борис уж всяко знает больше моего.
– Как, еще больше? – невесело удивился Никоненко. – Тут ведь такая штука может быть, что никак не связаны бумаги с чашкой, а чашка с бумагами, а бриллианты и вовсе выдумка глупая! Могли бумаги просто рядом лежать?.. Отчего ж им и не лежать.
Шаховской вдруг подумал: хорошо, если бы оказались связаны! Это ведь так интересно – преступление, случившееся сегодня, из-за чего-то или кого-то существовавшего в тысяча девятьсот шестом году!.. Интересно, увлекательно, странно – как будто из романа.
Дмитрий Иванович подобного рода романами никогда не увлекался и немедленно устыдился своих мыслей. Ведь человека убили по-настоящему, а не как в романе.
Выходили втроем – полковник замыкал шествие и приотстал, втолковывая что-то молодому человеку в форме, который спрашивал у Шаховского паспорт.
Дмитрий Иванович, оказавшись на улице, удивился, что ничего не изменилось – за закрытыми воротцами гудела и ревела Москва, автомобильное чудище, подтянувшее хвост поближе к окраинам, никуда не делось, томилось на прежнем месте, воняло выхлопными газами. Дождик шел такой мелкий, как будто из сита сыпало.
– Вас подвезти?
Профессор спохватился и оглянулся. Варвара поставила свой чемоданчик в машину, захлопнула заднюю дверь и открыла водительскую. Вид у нее был усталый, но улыбалась она чудесно. Он сразу заметил, как чудесно она улыбается.
– Да мне… близко.
– Просто поздно совсем.
Никоненко сбежал с крыльца:
– Куда везти-то вас, Дмитрий Иванович?
Шаховской развеселился – все хотят его везти, вот какие любезные люди!
– Я и пешком отлично…
Огонек горел на той стороне дворика – он горел еще когда Шаховской только приехал, и сейчас тоже, – и Дмитрий Иванович быстро пошел по мокрой брусчатке в ту сторону.
– Вы куда, профессор?!
– Сейчас, одну секунду!
В два счета он добежал до невысокого забора и посмотрел. За коваными блестящими от дождя пиками оказалась церковь, одно окошко светилось. Шаховской, взявшись за ограду перчатками, влез на кирпичное основание и посмотрел повнимательнее.
Раньше он никогда не замечал эту церковь!
Впрочем, со стороны Воздвиженки ее и не видно.
Под крыльцом с полукруглой жестяной крышей, у самых дверей прислонен скутер, во дворе никого, в дрожащих от ветра лужах отражается желтый свет.
– Дмитрий Иванович! Куда вас понесло?! Чего вы там высматриваете?!
Шаховской спрыгнул с забора и зачем-то отряхнул перчатки.
– Я никогда не знал, что там церковь.
– А там церковь?
Некоторое время они выясняли, с кем Дмитрий Иванович поедет, а он все отговаривался тем, что ему близко, и поехал с Варварой.
Когда отец Андрей вышел из церкви, старательно, на два оборота запер дверь, от души подергал, проверяя, закрылась ли, и взялся за свой скутер, во дворе соседнего особняка, где весь вечер был какой-то съезд специальных машин с мигалками, суета и возня, уже никого не осталось. Он вывел скутер за ограду, замкнул калитку на висячий замок, вздыхая, приладил на голову каску и, подобрав полы длинных одежд, оседлал скутер и повернул в зажигании ключик.
1906 год.
Отец Андрей оглянулся по сторонам, не видит ли кто – по всему проспекту людей не было, – взгромоздился в недавно купленную «эгоистку», изящную одноместную коляску, разобрал вожжи и покатил. Каурая лошадка, соскучившаяся ждать, весело потрусила по мостовой, копыта зацокали громко, он даже голову в плечи втянул!..
Мечтал отец Андрей об одном – побыстрее доехать до квартиры и знакомых не встретить, что было мудрено. Батюшка служил на углу, в храме Знамения иконы Божьей Матери, и всем тут был известен. Храм хоть и небольшой и довольно новый – всего сто лет, как построен, – но народу туда собиралось порядочно, все больше женщины, конечно, да старики, молодежи совсем мало приходит.
По всей России так, не только в столицах. Молодежь революцией очень увлекается, а церкви как будто и вовсе нет. Заходят иногда, как в музей искусства, стоят перед образами, будто перед картинами, и выходят равнодушные. Нету у них потребности в обряде, в церковности, в религиозном миросозерцании.
Третьего дня к обедне пришли три незнакомые барышни, очень веселые. Народу в воскресный день было много, церковь переполнена. Остановились они у правого клироса, не молились, а только перешептывались. На них оглядывались, барышни были хорошенькие, особенно одна, в бархатном берете, словно с картины художника-итальянца сошла. Она держала маленькую книжку, как будто молитвенник, из которого все трое читали, почти сталкиваясь лбами. После службы вместе со всеми подошли к кресту, книжечка упала, дьякон поднял и подал.
Весь день он потом промаялся – отец Андрей видел, что мается, но решил не спрашивать, сам расскажет. Так и вышло. Отводя глаза, будто из-за сильного стыда, дьякон уж перед тем, как церковь запереть, сказал отцу Андрею, что книжечка, которую он поднял, вовсе не молитвенник, а революционные стихи, издание «Народной воли».
Барышни в церкви вместо молитвы читали призывы к бунту и террору.
Отец Андрей постарался дьякона утешить, сказал, что время пройдет, мол, душа повзрослеет, Бог поможет, и уверуют барышни, поймут, кто тут, в земной жизни, им друг, а кто враг, но сам в свои слова не очень верил, оттого и вышли они неубедительные.
Каурая лошадка очень старалась бежать, но отцу Андрею казалось, что почти с места не двигается, а все из-за «эгоистки», будь она неладна! Купить модную коляску его уговорила матушка, которой страсть как хотелось «экипаж», вот теперь извольте – священник на такой легкомысленной свистульке катит. Отец Андрей «эгоистку» невзлюбил с первого взгляда и моментально всей душой полюбил пешие прогулки, теперь даже до Александро-Невской лавры, где у него были дела, старался пешочком добираться, зато матушка каталась с удовольствием, и согласие в семье не порушилось, а это самое главное.
Матушка происходила из знаменитых Чистопольских. Ее батюшка, тесть отца Андрея, служил в селе Высоком на Волхове, в богатом поместье князей Шаховских. Старый князь, во всем последователь реформ царя-освободителя Александра Второго, к вопросам веры относился своеобразно, однако внешнюю религиозную форму держал строго, обычаи соблюдал неукоснительно, молился вместе со своим народом и с приходским священником приятельствовал. Дом у тестя всегда был полная чаша, всего вволю, чего не хватало, помещик свое присылал, вот дочка и росла немного… балованная, да еще в окружении людей светских, просвещенных, идейных.
Идеи супруги иногда отца Андрея пугали, однако больше забавляли. Он был уверен, что в семейной жизни главное не идеи, которыми супруги питаются, а умение эти идеи приладить друг к другу, а если уж никак не прилаживаются, вовсе не обращать на них внимания, как будто нет их.
Также он был уверен, что в мелочах с матушкой лучше не спорить, предоставить ей устроить так, как она считает лучшим и разумным, – вот «эгоистку» купили! – тогда в главном у него будет свобода все сделать по-своему. В вопросах важных матушка полностью на него полагалась и поддерживала. Правда, иногда отца Андрея брало смутное сомнение – не оттого ли она полагается, что вовсе не считает эти самые вопросы главными, а мелочи, вроде коляски этой, как раз принимает за наиважнейшее.
В делах службы матушка была вернейшей ему помощницей: ее усилиями в церкви летом всегда стояли букеты, артистически подобранные, она же сшила кружевное покрывало на стол, где лежали крест, Евангелие и требники. Было еще множество других мелочей, сделанных ее руками и придававших церкви почти семейный вид – это у нее от родителей, которые не только волховскую церковь, где тесть служил, но и часовенку деревенскую обустраивали своими руками, с любовью и вниманием, и каждому входящему словно приотворялась дверь в какие-то другие покои, куда нет доступа неверующему или сомневающемуся – хорошо, славно, просторно для души и глазу приятно.
Отцу Андрею повезло – в Петербурге он занимал квартиру в небольшом особнячке даже с собственным садиком, в котором росли корявые низкорослые яблони и груша, дававшая мелкие жесткие плоды, совершенно несъедобные. Матушка поначалу принялась было варить из них варенье, но оно выходило похожим на кашу, твердые груши разваривались в сиропе, превращались в крупу, а вкуса никакого не имели. В этом году решили пустить весь урожай на наливку, а если уж и из наливки ничего не выйдет, по осени грушу выкорчевать и посадить другое, более благодарное дерево, но отец Андрей знал совершенно точно, что грушу корчевать ни за что не станет. Она была старая, с одной стороны как будто ободранная, и болячку отец Андрей долго лечил, мазал варом, заматывал тряпицами. Под грушу в мае месяце обычно выносили деревянный стол и самовар, и чаевничали только на улице, когда не было дождя. В холодном, чопорном Петербурге эти чаепития под грушей становились праздником, отрадой, возвращением к детству, к веселой и правильной деревенской жизни. Третьего дня отец Андрей полез на дерево спилить сухую ветку, надломленную зимним ураганом, и спрыгнул до того неловко, что подвернул ногу – целая история вышла, матушка разохалась и весь вечер ставила ему холодные компрессы, ухаживала, а с утра настояла ехать на «эгоистке», чтоб не перетрудиться.
Ну разве можно такую грушу ликвидировать?! Сколько вокруг нее событий происходит!
До квартиры отец Андрей добрался без всяких приключений, вроде бы даже никем не замеченный, матушке похвалил коляску – легкая и быстрая. Заодно сказал, что ушиб его решительно не беспокоит и завтра он уж точно пойдет пешком.
До вечера он занимался, чай с вареньем и сдобными булочками пили под грушей, потом матушка от сырости ушла в дом, а отец Андрей принялся молиться. Он особенно любил молиться под открытым небом, из его садика был даже виден клочок заката, а за ним угадывался голубой, быстро темнеющий простор, и в такие минуты совершенство и огромность Божьего мира умиляли отца Андрея почти до слез.
Молитва всегда утомляла его, как трудная работа, зато и какой покой воцарялся в душе, все становилось на свои места, все казалось правильным и справедливым.
На этот раз никакого покоя не получилось.
Отец Андрей только что дочитал «Отче наш», свою любимую молитву, еще дыхание не перевел для следующей, когда в кустах у него за спиной сильно затрещало, пристроившиеся спать воробьи брызнули в разные стороны, закачались ветки, что-то как будто стукнуло, и особое состояние гармонии с миром было нарушено. Отец Андрей обернулся, неловко приналег на ушибленную ногу, замахал руками и чуть не упал.
– Батюшка? Вы батюшка? – спросили из кустов сдавленным голосом.
Отец Андрей дохромал до стула и взялся за спинку.
– Кто тут?
– Вы один?
Вопрос был настолько странен, что отец Андрей огляделся по сторонам, как будто проверяя, один ли он, хотя точно знал, что в садике кроме него никого быть не должно.
Воробьи, перелетевшие в жасмин, возились и пищали, уже вовсю темнело. В кустах около каменного забора никого не было видно, но смотрели и спрашивали именно оттуда.
– Батюшка, вы один?..
Отец Андрей еще немного постоял, держась за спинку стула, а потом решительно пошел в сторону кустов.
– Что вам угодно, милостивый государь, и почему вы в такое время лазаете по чужим садам?
– Тише, тише! – сказали оттуда, и из веток выступил молодой человек, по виду студент. – Умоляю вас, не кричите.
Отец Андрей кричать и не собирался.
– Мне нужно с вами поговорить. Дело очень срочное, – сказал студент.
– Позвольте, какое же у вас может быть ко мне дело, если мы даже не знакомы!
– Я вас видел, – сообщил студент. – Вы на углу, в большой церкви служите.
– В храме Знамения иконы Божьей Матери, – поправил отец Андрей машинально. – Вы прихожанин?
На прихожанина студент похож не был. Такие все больше стихи из подозрительных сборников декламируют, а в храмы не заглядывают.
В сумерках лица было не разглядеть, голос напряженный, и сам студент весь как будто ходуном ходил, то ли от испуга, то ли от избытка нервической энергии.
А что, если… бомбист?..
Что, как пришел он вовсе не разговаривать, а убивать? По всей России то и дело убивали, служили заупокойные службы, писали об убийствах в газетах и продолжали убивать. Кажется, это называется революционным террором и в только что созванной государем Думе об этом много говорят, среди депутатов есть и священники…
«Матушку жалко, – подумал отец Андрей. – Совсем молодая, славная. Ее-то за что?»
– Батюшка, – молодой человек сделал шаг вперед, и отец Андрей на секунду прикрыл глаза, ожидая, что тот сейчас достанет из шапки бомбу и кинет ему под ноги. – Вразумите меня. Я не знаю… что делать.
Отец Андрей коротко вздохнул, чувствуя, как колотится сердце, оглянулся на дом – только б матушка не вышла позвать его! – и сказал, стараясь, чтоб звучало поспокойнее:
– Посидимте здесь?
– А здесь безопасно?
– Бог с вами, что за опасности?
Отец Андрей повернулся к студенту спиной, – это было трудно сделать, – дошагал до стола, уселся, нащупал на груди крест и сжал его для укрепления духа. Студент еще немного помедлил, вытянул шею, как будто высматривая что-то в сумерках, подошел и сел далеко, на другом конце стола.
– Как ваше имя?
– Борис. Впрочем, это не имеет никакого значения! Я… у меня важное дело.
– Именно ко мне? – уточнил отец Андрей.
О том, что в картузе у студента может быть бомба, он старался не думать, но думал только об этом.
– Я вас слышал в церкви, – заговорил студент. – Вы об убийствах говорили и о том, что церковь все грехи прощает…
– Господь прощает, – опять поправил отец Андрей. – И не об убийствах я говорил, а о том, что жизнь насильственно забирать у существа человеческого – великий грех и преступление.
– В это я не верю, – нетерпеливо сказал студент и выложил свою шапку на стол. По всему видно, нет там бомбы. Или есть?.. – Разве это преступление, если оно совершается во имя народа, во имя целей, которые в будущем дадут счастье тысячам и десяткам тысяч! И все, что стоит на пути к этой великой цели, должно быть сметено и уничтожено. Это же так понятно.
– Совсем не понятно, – признался отец Андрей. – Как же светлая цель, да еще счастье какое-то могут быть достигнуты через насильственную смерть и горе?
– Да, но на одной чаше весов горе одного семейства и близких убитого сатрапа, а на другой – счастье и свобода целого народа!
– Так ведь никак нельзя одно купить или обменять на другое, – отец Андрей тихонько погладил крест, самого главного своего защитника и помощника. – Как же это?.. Убивать одних для других? Где тут смысл? Где светлая цель?
– Вы не понимаете! Убиты будут десятки, может, сотни, а счастье получит весь народ.
– Да вы бы хоть спросили весь народ, какое счастье ему надобно, в чем оно для него заключается. Вы, насколько я могу судить, студент?
– Бывший, – отмахнулся гость со злобой. – Выгнали с курса. За революцию.
То, что молодой человек из «неблагонадежных», было очевидно, но покамест отец Андрей не мог взять в толк, зачем революционер вечером залез к нему в садик. Об идеях демократии потолковать, что ли?
– Стало быть, вы образованный человек, в устройстве мира понимаете. Должно быть, в гимназии исторический курс изучали. Разве же перемены к лучшему наступают от того, что чья-то воля берет на себя переустроить жизнь на свой лад? От этого бунт наступает, смута, а радости и света никаких. К свету и радости полагается идти маленькими шажочками, постепенно, осмысленно, да при этом стараться ничего вокруг не повредить, не задеть, не испортить. Господь мир создал таким прекрасным, за что ж его рушить и кромсать?
– Рушить и кромсать требуется тех, кто мешает разумному устройству! А Господь ваш устроил неправильно! Так не может быть, чтоб одним все, а другим совсем, совсем ничего! Только тупая работа от рождения до смерти, нищета и болезни.
Отец Андрей вздохнул. Он часто об этом думал.
– Вот и требуется постепенное движение, – сказал он тихо. – Зачем же еще больнее-то делать, если и так везде больно?
– Без боли ничего не выйдет. Гнилой зуб удалять тоже больно, однако ж приходится, потому что с ним жить невыносимо.
– Так ведь если с зубом вместе всю голову удалить, жить и вовсе невозможно станет, в ту же минуту конец придет, как удалишь-то ее. И никакие перемены не потребуются, ни к добру, ни к худу, и одна дорога – на погост.
Помолчали.
В саду становилось холодно, со стороны реки налетел сырой, резкий ветер, какой бывает только в мае и только на Балтике. Студент на том конце стола ссутулился и поник – черная тень. Отец Андрей молчал, не торопил. Понятно было, что появление его неспроста и предвещает какие-то важные, если не грозные события.
– И Дума! – вдруг воскликнул студент. – Все не так, все неправильно! Избирательный закон плох, труден, не разобраться. Гражданские свободы опять только пообещали и не дали. Один дворянский голос приравняли к сорока пяти рабочим!
– Дайте срок, все изменится. Это только начало. Государь решился на столь серьезный шаг…
– Да чтоб ему раньше решиться, государю-то! – перебил студент с силой. – Тянули, тянули и опять на полдороге бросили, не вытянули! Сколько раз в русской истории так было – решатся на реформы, а потом перепугаются и давай пятиться. Лучше б тогда и не сулили, и надежд не внушали. Пустая говорильня!
– Помилуйте, разве так? Еще несколько месяцев назад в России о парламенте только мечтали, да и то самые горячие головы, а нынче вокруг Думы вся общественная жизнь сконцентрировалась.
– Вы верите в возможность перемен без крови? – вдруг спросил студент и взялся обеими руками за столешницу так, что тяжеленный стол покачнулся. – Верите, что Дума чего-то добьется? Что пустословие перейдет в дело?
Отец Андрей не видел лица собеседника, а ему важно было увидеть. Он понимал, что это вопрос наиглавнейший – с кровью или без крови.
Насилие, насилие со всех сторон.
Боевые революционные группы убивают государственных людей вовсе без разбору, жгут помещиков, поднимают восстания. Власть без суда и следствия расстреливает бунтовщиков или тех, кто кажется ей бунтовщиками, правый «Союз русского народа» во главе с Дубровиным и Пуришкевичем призывает к диктатуре, требует, чтоб самодержавие «железным кулаком» сокрушило всех, кто верит в перемены и демократию. Подготовленным умам не разобраться, где уж простому священнику или студенту?!
…С кровью или без крови?
– Что вы молчите, батюшка?
– Я одно могу сказать, зато от самого сердца. Если насилие не остановить, не опомниться сию минуту, не начать слушать, что одна сторона другой толкует, вся Россия кровью истечет, и народ ее многострадальный еще худшее испытает, чем сейчас испытывает, Господи, спаси и помилуй.
– Не верю я в Господа, – выпалил студент, как будто даже с гордостью. – И в церковь Его не верю.
Отец Андрей вздохнул.
– И Господь, и церковь Его и не такие потрясения переживали. Однако же две тысячи без малого лет существуют. И еще не одну тысячу просуществуют, верим мы в них или не верим, неважно.
Опять помолчали. Вставала луна, в садике становилось светло. Студент вдруг решительно поднялся. Неужели уйдет, успел подумать отец Андрей. Но студент никуда не ушел. Он приблизился к батюшке и зашептал на ухо:
– Готовится убийство. Такое, чтоб царь надолго запомнил и чтоб вся страна содрогнулась. Уже скоро. На железной дороге. Бомбой может много людей побить. Что делать? Я сегодня хотел одному депутату довериться и не решился… Скажите, как быть, батюшка? Вы же с Богом на короткой ноге!..
– …И семнадцатого октября тысяча девятьсот пятого года был издан Высочайший Манифест «о даровании гражданских свобод и придании Государственной думе законодательных полномочий». После тяжелых и продолжительных раздумий император Николай Второй решил, что населению все-таки необходимы «незыблемые основы гражданской свободы».
Дмитрий Иванович обвел взглядом аудиторию и усмехнулся. Студенты слушали плохо – последняя пара, всем хотелось по домам, есть, спать, валяться, а лучше пить, гулять и развлекаться! Какие там «гражданские свободы», вы что, шутите, профессор?.. Сто лет прошло, даже с лишком, а что-то никаких «гражданских свобод» не видать. Вот сейчас тренькнет звонок, и за толстыми университетскими стенами, как за стенами тюрьмы, грянет настоящая свобода – личная, молодая, веселая, никакая не «гражданская»!
Каждый год одно и то же. Поступившие в университет девочки и мальчики, придирчиво и внимательно отобранные, получившие необходимое – почти невозможное! – количество баллов, прошедшие сложные собеседования, оказывались решительно не готовыми… ни к чему. Нет, некоторые из них всерьез собирались учиться и даже старались, и даже «дополнительные задания» делали, и даже «рекомендованную литературу» почитывали, но в этой точке – начало двадцатого века в России – происходило как будто короткое замыкание. Треск, искры сыплются, а потом полная, непроглядная темнота.
Мы этого не проходили. В школе мы учили не так. А разве все это было на самом деле?
Удивление, недоверие, потом вежливая скука – что-то вы, профессор, странное рассказываете. Быть такого не может. Поп Гапон – да. Казачьи сотни – да. Мануфактуры забастовали, кажется. И еще, кажется, в самом деле Думу открыли. Или нет, нет, избрали. Впрочем, быстро закрыли. То есть, нет, нет, разогнали. Ну и что?.. Что тут особенного-то?
Сколько раз он клялся себе, что первый курс брать ни за что не будет, и столько же раз ректор его уговаривал.
«Дмитрий Иванович, ну как же так?.. Вы же лучший специалист именно по этому периоду! Первая русская революция, шутка ли! Такое сложное время, судьба державы решалась, устои по швам трещали, все вразнос шло, как паровоз с горы катится! Если вы не объясните, кто им дальше станет объяснять? А после нашего факультета, сами понимаете, им прямая дорога на госслужбу да на преподавательскую работу, так хорошо б, чтобы знали историю державы-то!..»
– Страна наша в девятисотые годы была уже тяжело больна. Какова природа болезни и чем ее лечить, государственные мужи спорили долго и бестолково. А между тем начались конвульсии!.. За год, с октября тысяча девятьсот пятого года по осень шестого, революционерами было убито и ранено более трех с половиной тысяч государственных служащих, а за десять лет – больше двадцати тысяч! Они вовсе не были высокопоставленными чиновниками, от них мало что зависело или не зависело совсем ничего. Городовые, телеграфисты, чиновники.
– Как три с половиной тысячи убитых за год? – вдруг спросил лохматый с заднего ряда. В голосе его звучало безмерное удивление. – Это ж очень много народу!
Шаховской кивнул лохматому. Правильно ты удивляешься, мальчик. Да уж, «очень много народу»! Всего сто лет прошло, а об этом все забыли. И в школе не рассказывают. И в книжках не пишут.
– Так это… терроризм какой-то сплошной!
– Террор – вовсе не новейшее изобретение, вот это вы точно должны знать.
– Нет, ну еще Ленин вроде объявлял террор, «красный», а еще был «белый», но это все потом случилось!
– Боевые технические группы появились задолго до Ленина и «красного» террора! Поначалу в них состояли, разумеется, идейные революционеры всех сословий. Много студентов, а как же иначе? Учащаяся молодежь, – тут Шаховской слегка улыбнулся «учащейся молодежи», – всегда активна и заинтересованна. Студенты тогда были грозной силой. И, между прочим, оставались таковой довольно долго. Университеты всегда представляли опасность для власти – вольнодумство, запрещенные книги, сходки, песни, разговоры! И самая главная идея – свобода! Всем хотелось свободы.
Звонок тренькнул. Все остались сидеть. Как только заговорили «про понятное», увлекательное и опасное – свободу, студентов, убийства, – сразу стало интересно и спать расхотелось. Продолжайте, профессор!..
– Продолжим на следующей лекции.
Студенты завозились и стали подниматься – с некоторым разочарованием. Дмитрий Шаховской преподавал не первый год и умел самое интересное оставлять «на потом», до завтра, до следующей лекции, до новой книжки, которую непременно нужно прочесть к понедельнику. Он как будто мастерил из событий, малоизвестных исторических фактов, странных сопоставлений крючки и ловил на них ребячий интерес. Некоторые быстро срывались и уходили, но и оставались многие, и вот с этими, оставшимися, имело смысл возиться.
– Дмитрий Иванович, вот вы говорите – боевые группы, а они чьи были?
– В каком смысле? – Он засовывал в портфель ноутбук. Еще две тетрадки, часы, которые он всегда снимал и клал перед собой на стол, чтоб были перед глазами, телефон и всякая ерунда. Хорошо бы ничего не забыть. Разноцветная толпишка студентов тянулась к выходу, возле его стола топталось несколько ребят, те самые, что теперь уж точно не сорвутся.
– Ну, кто их создавал? Это же все давно известно – бандформирования всегда кто-то финансирует, руководство есть, оружие кто-то поставляет. Из других стран.
– В девятисотые годы это было немного не так. – Шаховской оглядел стол. – Вы сейчас излагаете современную модель. Да и бандформирования – термин совершенно не подходящий.
– Нет, ну, руководил-то террористами кто? Ленин?..
– Ленин вечером семнадцатого октября, как раз когда был издан Манифест о создании Думы и даровании свобод, писал в Женеве, что это «один из великих дней русской революции». Еще он писал, что «неприятель не принял серьезного сражения, отступил, потому что в случае победы народа царская власть была бы сметена начисто».
– То есть не Ленин, да? А тогда кто?
– Ленин руководил Февральской революцией, а после нее Октябрьской, – объявила томная девушка, которой не давали покоя кудри, она то и дело их поправляла и перекидывала из стороны в сторону. Звали ее, кажется, Лолита. – Но это в семнадцатом году. А в девятьсот пятом году как таковой революционный процесс только зарождался и не был ярко выраженным. А Дума была продажной, и в нее никто не хотел идти, и все бойкотировали выборы.
Шаховской знал, что смеяться никак нельзя, но все же засмеялся осторожненько. Лолита – так ее зовут или не так? – сделала движение головой, и кудри заняли новое положение, и расширила глаза.
– Выборы в Первую Думу на самом деле проигнорировали только леворадикальные партии. Они действительно выносили в заголовки своих прокламаций фразу «Участники Думы – предатели народа». Они считали, что жечь усадьбы и устраивать вооруженные восстания гораздо действенней и интересней, чем пытаться договориться с властью.
– Дмитрий Иванович, а террористам кто деньги давал?!
– Дмитрий Иванович, а партии откуда взялись?.. Радикальные и всякие?
– А почему император так долго думал, а?.. Ну, вы сказали! Во всей Европе парламенты были давным-давно, и что такого? Подумаешь, Дума!.. Кому она мешала?
Шаховской застегнул, наконец, часы и поднял руку, как на римском форуме.
– Господа и… дамы! Мы обо всем еще поговорим. На самом деле, это страшно интересное время – начало двадцатого века. И почему-то так получилось, что именно об этом времени мало рассказывают в школах и… институтах.
– Про террористов я ничего не понял, – подумав, сообщил лохматый. – И про Ленина тоже.
– Ленин устроил Октябрьскую революцию и всякие безобразия, – объяснила ему Лолита и опять поправила кудри. – Он был немецкий шпион.
– Это не доказано!..
– А я читала, что доказано!
– Дмитрий Иванович, вы освободились?
Профессор оглянулся на двери, и студенты оглянулись тоже, довольно сердито. Борис Викторов, бывший студент, аспирант, нынче готовивший на кафедре Шаховского докторскую диссертацию, нисколько не дрогнул, вошел и объявил, что у него к профессору срочное дело, что означало – пора расходиться. Студенты вразнобой попрощались и поволокли к выходу расхристанные рюкзаки, загребая ногами в пудовых разношенных ботинках.
Студенту, как и священнику, вдруг подумал Шаховской, что сейчас, что сто лет назад, просто необходимы крепкие и удобные башмаки. Студент все время на ногах и все время бегает – на занятия, в библиотеку, на уроки, по книжным магазинам за редкой монографией. Девушки на шпильках… как бы это выразиться… не до конца студентки! Девушки на шпильках учатся уж точно не для того, чтобы узнать нечто новое о русской революции девятьсот пятого года и Первой Думе!.. Ради чего-то другого они учатся.
«Или я стар стал? Брюзглив? Нынче студент уже не тот, и вообще колбаса подорожала?»
– Правильно я понял? Нужно было спасать вас от жаждущих знаний? – спросил Борис.
– Спасать не надо, а вот опаздываю я, это точно, Боря.
– Опять в Думе консультируете? – Это было сказано с некоторой насмешкой, как будто профессор Шаховской консультировал в салоне красоты «Престиж» или в Сандуновских банях.
Дмитрий Иванович знал, что Боря Викторов, повзрослевший у него на глазах, превратившийся из недокормленного, вечно сглатывающего слюну, как будто у него сохнет во рту, мальчонки во вполне уверенного в себе и в жизни молодого мужчину, тоже мечтал о чем-то таком… возвышенном. Консультировать. Составлять исторические справки. Разрабатывать новые концепции и толкования. И чтоб на титульном листе в списке «редакционной коллегии» – Борис Викторов, доктор исторических наук, профессор. Еще хорошо бы золотыми буквами – депутат Государственной думы или что-то в этом роде. Красиво!
Дмитрий Иванович знал об этом, извинял, хоть и посмеивался немного. Сам он «к красоте» никогда не стремился и внимания на нее не обращал. Или думал, что не обращает. У него-то как раз все было – и степени, и фамилия в списке «редакционной коллегии», и «научные труды», на которые ссылались в других научных трудах, и книги в синих «государственных» переплетах. Почему-то до сих пор значительные труды по истории издаются в синих или малиновых переплетах!
– А ты что приехал, Боря?
– А я на самом деле к вам, Дмитрий Иванович.
– На самом деле или ко мне? Если ко мне, то я опаздываю.
– Да я хотел только монографию показать.
Теперь Шаховской пытался вспомнить, где оставил пальто, то ли на кафедре, то ли в гардеробе. В гардеробе раздевались в основном студенты, но Дмитрий Иванович любил университетских гардеробщиц, можно сказать, обожал. Две старухи с морщинистыми длинными лицами и накрахмаленными спинами принимали студенческую хлипкую одежонку руками в черных шелковых перчатках и величественно исчезали в плохо освещенной гардеробной. Потом выныривали из глубин с латунным номерком в шелковых пальцах. Они служили в этом, самом старом здании университета, сколько себя помнил Шаховской, и их шелковые перчатки, и прямые спины, и длинные морщинистые лица никогда не менялись. Для него, как и для многих поколений студентов, университет начался именно с этих старух.
Тут профессор вдруг подумал, что двадцать пять лет назад, когда он только поступил, две его старухи, должно быть, были совсем молодыми женщинами, и это показалось ему странным и невозможным.
В широких и высоких коридорах было пусто, шла какая-то там по счету пара, звуков никаких не доносилось – в самом старом из всех университетских зданий школярский шум оставался за толстыми стенами и высокими двойными дверями аудиторий.
…Пожалуй, раздевался он у старух, а не на кафедре. Нет, точно у старух.
Борис Викторов поспешал за ним. Боря всегда был вежлив, но настойчив.
Настойчив, но вежлив.
– Боря, если дело срочное, я никак не успею сегодня.
– Там всего тридцать восемь страниц, Дмитрий Иванович. Это даже не монография, а, скорее, статья. Мне ее в печать сдавать. Посмотрите, сделайте одолжение. Только, если можно, поскорее.
– Боря, – Шаховской натянул пальто, которое подали ему черные шелковые руки, и похлопал себя по карманам, проверяя ключи от машины, – ты меня не слышишь? Я сегодня в Думе допоздна.
– Дмитрий Иванович, я бы раньше показал, но очень долго провозился. И потом… вы же соавтор.
– Я?! – Он даже приостановился. – Боря, я все понимаю, но такие вещи, как правило, согласовываются. Разве нет?
Боря посмотрел в угол, потом на стену, где была довольно криво приклеена стенгазета под названием «Our trip to Japan» с фотографиями и подписями под ними, сделанными фломастерами. В университете считалось, что студенты непременно и обязательно должны делать что-то карандашами, красками, фломастерами, то есть простыми, понятными способами, а главное, предметами, которые можно осязать. Нет ничего понятнее карандаша!.. Когда человек криво рисует на куске ватмана «trip to Japan», бумаге передаются впечатления и эмоции, и они живые. Компьютерная презентация – это красиво, конечно, но она мертва и обезличена, как наштампованные на конвейере искусственные цветы.
– Дмитрий Иванович, вы же никогда не отказываете, а мне очень нужны публикации на… хорошем уровне. Без вашего имени они не берут, а это «Вестник исторического общества». Уровень как раз подходящий.
Очень, очень настойчив!.. Но вежлив, что и говорить.
Шаховской тоже посмотрел на стенгазету. Препираться ему было некогда и неохота, и это означало, что монографию, – или, скорее, статью! – он сейчас возьмет, будет всю ночь читать и править, ибо нужна она как пить дать завтра утром. Боря Викторов потому и явился без предупреждения, да еще в «присутственный день», когда профессор консультирует в «государственном учреждении», и все об этом знают. Все рассчитано правильно, и от этого особенно неприятно.
С другой стороны, Шаховской сочувствовал Боре, который изо всех сил мечтал «прорваться», но при этом из пенсионного фонда не воровал, левые кредиты не выдавал и наркотиками не приторговывал. Уже хорошо.
– Ладно, я посмотрю.
Боря моментально, одним движением вынул из портфеля диск в обложечке и пачку отпечатанных листов, скрепленных черным канцелярским зажимом – знал, конечно, что профессор не откажет, и приготовился.
– Я на всякий случай распечатал. Чтобы вам не возиться, и вот здесь… сначала биография, я ее хотел отдельно дать, а потом решил, что в контексте…
– Я разберусь! – Теперь, когда Шаховской взял статью, пробивной Боря Викторов его раздражал и хотелось поскорее от него отвязаться.
– Я с ней сегодня весь день провозился, с самого утра. Правил, сверял, но без вас, сами понимаете…
– Понимаю. – Так и не определив, где ключи от машины, Шаховской поклонился в сторону деревянного широкого прилавка, за которым маячили две тени в шелковых перчатках. – Благодарю вас, всего доброго.
– Будьте здоровы, Дмитрий Иванович, – ответствовал кто-то из старух, – до завтра.
Боря еще что-то говорил на ходу, но Шаховской махнул на него рукой, и он отстал. Тяжеленные неухоженные двери под потолок с латунными палками-перекладинами, за которые брались бесчисленные поколения студентов и профессоров, тамбур с вытоптанными мраморными плитами на полу и высокое крыльцо с балюстрадой – ступеньки двумя полукружьями, налево и направо. Иногда Шаховской сбегал по левому полукружью, а иногда по правому, так развлекался.
Не поедет он на машине – себе дороже и удовольствия никакого. Моховая и дальше Охотный ряд по вечернему времени стояли намертво, как будто машины приклеены друг к другу и к асфальту невиданным фантастическим клеем, ни конца, ни начала. Огни, размытые мелким дождем, поднимались дальше, выше, к Лубянке, которую за поворотом не было видно – Апокалипсис, конец света, неподвижность, время замкнуло в чадящее мертвое автомобильное кольцо.
Не поедет он на машине!..
Здесь до Думы рукой подать и идти приятно – сначала вдоль университетских решеток, потом мимо старинного, очень буржуазного и очень самодовольного отеля, возле которого всегда похаживал швейцар в ливрее, потом подземный переход через Тверскую, и он на месте.
Швейцар слегка приподнял цилиндр, когда Шаховской, сторонясь толпы, забежал под отельный козырек. Дмитрий Иванович кивнул в ответ. В отель он никогда не заходил, но со швейцаром они встречались каждый день и были друг другу приятели – ты на работе, и я на работе, ты мимо бежишь, а я прохаживаюсь, я не знаю, кто ты такой, и ты меня не знаешь, но мы свои, здешние, постоянные, различимые в сотнях и тысячах незнакомых лиц, крохотная радость узнавания, кивок, завтра опять встретимся, не унывай, дружище!..
– Ба, Дмитрий Иванович! – проговорил знакомый насмешливый голос, когда в бюро пропусков закончилась привычная возня с паспортом, списками, сличением физиономии в паспорте с собственной профессорской физиономией, извлечением из карманов ключей и телефона, с торжественным проезжанием профессорского портфеля через просвечивающий аппарат, с водворением ключей и телефона на место, ловлей портфеля, который все норовил свалиться с черной ленты. – Опаздываете?.. Ну, раз опаздываете, значит, все хорошо. Вот если бы вы хоть раз не опоздали, я бы подумал, что небо упало на землю и Измаил, наконец, сдался.
Обладателя насмешливого голоса звали Петр Валерианович Ворошилов, именно его Шаховской бросил в разгар дискуссии, когда позвонил полковник Никоненко. Числился Ворошилов советником думского председателя, без него не обходилось ни одно важное совещание или заседание. Он был блестяще образован, обладал превосходной памятью, умел направить это самое совещание в нужное русло – даже если его участники наотрез отказывались направляться в какое бы то ни было русло и каждый говорил про свое, подчас не просто далекое от темы, а как бы вовсе с ней не связанное.
Если объявлялось, к примеру, что совещание будет посвящено столетию Первой мировой войны, собравшиеся начинали выступления с того, что Первая мировая война, конечно, важная штука, но сейчас необходимо решить, как быть с Костромским краеведческим музеем или вот, например, в Калининграде закатали в асфальт все трамвайные пути, а трамвай там основной вид транспорта был, и что теперь делать?
Шаховской, когда его в первый раз пригласили в Думу «для консультаций», попав на такое совещание, некоторое время думал, что он чего-то не понял и остальные приглашенные тоже не поняли, и был страшно удивлен, когда Ворошилов, дав собравшимся какое-то время поговорить «вообще», потом все же заставил их высказываться по теме, и, помнится, из этих высказываний даже что-то складное вышло.
– А что вы думаете? – спросил его тогда Ворошилов, пряча в чехольчик узенькие очочки, во время совещания смешно съезжавшие на самый кончик ворошиловского носа. – У нас тут работать непросто, дорогой профессор. Малюсенькое дельце, кажется, а на самом деле!.. Начинаешь разбираться, а там! Сплошные подводные камни, омуты и мели. И так нехорошо, и эдак плохо, и разэдак ничего не выйдет. И у всех свои интересы. У кого разумные, у кого безумные.
Сейчас Ворошилов велел профессору идти за ним, он знает «короткий путь» и моментально доставит того к месту совещания. Это было прекрасное предложение – Шаховской в думских коридорах вечно путался, терялся, уезжал на лифте не туда, выходил не там, знать не знал, где «центральные лифты», а где еще какие-то, страшно удивлялся, оказавшись в буфете на первом этаже, и не мог сообразить, как оттуда выбраться.
– Это еще с царских времен так положено, с Таврического дворца! – говаривал насмешливый Ворошилов. – Чтоб в Думе все путались и никто ничего не понимал. Кабы все понимали, так и жизнь другая была бы!
Оказалось, что совещание еще и не начиналось, ибо вести его должен был как раз Петр Валерианович, и все его экзерсисы в адрес опоздавшего профессора вызваны тем, что сам он опаздывал тоже!
Речь на заседании должна была идти о большом историческом исследовании, которое Дума заказывала Академии наук и которое называлось, кажется, «История парламентаризма» или еще как-то более красиво и сложно. Шаховской участия в исследовании не принимал и, может, из-за слова «консультант», а может, как раз из-за неучастия чувствовал себя вполне «по-консультантски» – слушал скептически, морщил нос, записывал в блокноте явные ошибки, которые допускали молодые и самоуверенные историки, знавшие все на свете на манер первокурсницы Лолиты с ее кудрями. Ошибок выходило много.
– Знаете, как Николай Второй речь произносил перед депутацией от народа по поводу своего бракосочетания?.. – на ухо спросил Ворошилов. Очки на самом кончике носа сидели насмешливо. – А супруга его Александра Федоровна тогда по-русски совсем не понимала. Вот она возьми и спроси кого-то, что, мол, царь и мой молодой супруг объясняет своему народу? А ей отвечают: он им объясняет, что они дураки. Вы в этом духе записочку составляете? Все дураки?..
Шаховской развеселился:
– Да может, и не все, но ошибок много! Что делать?
– Исправлять. На то мы тут с вами и посажены, – и Петр Валерианович подвигал бровями, отчего очки сползли еще ниже, вот-вот упадут. – Я вам слово в самом конце предоставлю, подытожите.
Шаховской, которому нравилась нынче его роль «консультанта» и некоторая отстраненность от происходящего – приятно время от времени ничего не делать, ни о чем пристально не думать, а критиковать себе, особенно на бумаге, без последствий и необходимости доказывать и обосновывать, ссылаться на первоисточники и даты, – подытоживать ничего не хотел.
Он устал, а впереди еще полдня и вечером Борина монография – или нет, статья! – и неизвестно, сколько он с ней провозится, может, до самого утра. и навязанное соавторство, о котором он помнил, Шаховского раздражало. Если он сейчас возьмется «подытоживать» на свой лад, дело кончится тем, что после совещания все участники, которых он уличит в ошибках и невежестве, станут подходить к нему по очереди, брать за пуговицу и втолковывать, что профессор сам ошибается, на самом деле было совсем не так, и вот же новейшие исследования, и вообще следует к историческим процессам подходить с политической точки зрения, а если не подходить…
– Петр Валерианович, – начал Шаховской шепотом, – может, сегодня я не буду…
– Придется, Дмитрий Иванович!.. Вы в прошлый раз уже проманкировали! Кстати, куда вы тогда исчезли прямо под конец?
– Я вам потом расскажу.
Ворошилов покосился на него насмешливо – в смысле что за таинственность? – быстро закруглил оратора и предоставил слово Шаховскому. Тот вздохнул, заговорил и говорил довольно долго, дольше, чем обычно. Остановился только когда понял, что Ворошилов вот-вот и его «закруглит» и давно пора заканчивать.
Возле подъезда Думы, где почему-то все время сильно дуло, – от ветра пришлось поднять воротник пальто и повернуться спиной – Шаховской некоторое время постоял, соображая, а потом решительно пошел в толпе вниз, к Моховой.
Его приятель-швейцар возле подъезда гостиницы приподнял цилиндр ему навстречу, и Дмитрий Иванович кивнул с удовольствием, он был рад его видеть.
В два счета он добежал до Воздвиженки, пошел к бульварам вдоль монументальных зданий, где когда-то располагались универмаг с внушительным названием «Военторг», – Шаховской отлично помнил этот магазин, – а дальше приемная «всероссийского старосты дедушки Калинина», которую он, разумеется, не помнил, но его собственная бабушка, ходившая в эту приемную «хлопотать», рассказывала и показывала ему, маленькому, куда именно ходила.
В церковном дворике, обнесенном невысоким железным забором, не было ни души, однако желтый скутер оказался на месте, под козырьком крыльца. Шаховской немного порассматривал скутер. На нем ездили, по всей видимости, много, он был старенький, грязноватый, к багажнику прикручен пакет, в пакете – Дмитрий Иванович потрогал – книжка. Он усмехнулся, потянул высокую дверь и зашел.
Женщина в платочке на него оглянулась, и человек, читавший за прилавком, поднял голову. Больше в церкви никого не было. Однако свечи перед образами горели, довольно много, и лампады красного стекла были зажжены.
Дмитрий Иванович попросил у человека свечку за двенадцать рублей, поискал глазами Серафима Саровского, подошел и постоял возле иконы немного.
Поблагодарил за сбывшееся и возможное. Попросил о потаенном и несбыточном. Наспех рассказал, как живет. Ему казалось, что Серафим улыбается доброй и немного насмешливой улыбкой из-за желтого теплого пламени. Дмитрий Иванович, доктор наук и профессор, знал совершенно точно, что Серафим видит и слышит его.
Мимо прошел высокий человек в церковном облачении. Под мышкой у него была каска, на плече на длинном ремне болталась туго набитая сумка. Он остановился возле прилавка, заговорил негромко.
Дмитрий Иванович попрощался с Серафимом, тот как будто его отпустил, сказал: «Беги, беги, я все понимаю» – и следом за высоким выскочил на улицу. Тот пристраивал сумку на багажник скутера и поднял глаза, когда открылась дверь.
– Вы ко мне?
– Меня зовут Дмитрий Иванович Шаховской. У вас есть пять минут?
– А я отец Андрей, – представился высокий и поглядел немного насмешливо, но с любопытством. – Если разговор обстоятельный, к примеру, о спасении души, пяти минут маловато будет.
– О спасении тоже неплохо бы поговорить, но у меня… другой вопрос.
– Здесь спросить хотите или внутрь зайдем?
– Лучше здесь.
– Тогда присядем!
Отец Андрей прикрутил на багажник свою сумку, подергал, проверяя, не свалится ли, прошагал к лавочке и уселся. Под черными одеждами у него были джинсы и высокие шнурованные ботинки. Должно быть, священнику, как и студенту, просто необходимы удобные и крепкие башмаки!.. Все время на ногах, да и концы, по всей видимости, немалые.
– Вы к нам раньше никогда не заглядывали.
– Нет, – согласился Шаховской, пристраиваясь рядом. – Я даже и не знал, что здесь церковь есть.
– Храм Знамения иконы Божьей Матери.
– И про церковь не знал, и про музей не знал, – Дмитрий Иванович кивнул за решетку. – Оказывается, в особняке Морозова теперь музей.
– Так говорят, – согласился отец Андрей. – Мне там всего один раз побывать довелось. Раньше было все закрыто наглухо, не попасть, а сейчас вроде бы ремонт.
– Вроде бы или ремонт?
– Так ведь отсюда не видно, да я и особенно не присматривался. Знаю, что человека в особняке убили недавно, люди говорят. Вы поэтому ко мне пришли? Из-за убийства?
Шаховской кивнул. Отец Андрей растопыренной пятерней старательно отряхнул со складок одеяния какие-то крошки, похожие на восковые, поковырял ногтем.
– Вы не похожи на… компетентные органы.
– Да я и не органы. Я профессор истории. Просто так получилось, что принимаю участие в следствии. Вы никого оттуда не знаете?
– Из особняка никто ко мне никогда не заглядывал. – Отец Андрей отпустил полу, как следует расправил ее на коленке и вздохнул. – К нам только свои ходят, кто знает, что тут храм, или живет поблизости. Но таких мало, кто нынче в центре живет? Осколки прошлого, так сказать. А новоприбывшим в нашем храме неинтересно и малоспасительно. Новоприбывшие очень красоту и помпезность любят, чтоб на виду постоять, людей посмотреть, себя показать. А у нас… где же?
– И директора музея вы тоже никогда не видели?
– Которого убили? Ну как не видеть, видел. Только он сам ко мне не приходил. Вызвал на ковер, если так можно выразиться.
– Что значит – вызвал? – не понял Шаховской.
– Прислал за мной человека в форме. Охранника, наверное. Я и пошел, – тут отец Андрей счел нужным объяснить, – я всегда стараюсь приходить, если меня зовут. Вдруг на самом деле нужно?..
– В тот раз было не нужно?
– Не нужно, – отрезал отец Андрей. – Позвал он меня, чтоб предложить совместный бизнес, вы не поверите. Особняк в полном его распоряжении, все там красиво, богато и ампирно, храм рядышком, только двор перейти. Вот он и решил, что грех не воспользоваться таким соседством.
– И как же… воспользоваться?
– Вот и я тоже никак не мог сообразить. Так он мне растолковал. Свадебный бизнес мы с ним должны были закрутить. Я венчаю, он банкеты организовывает. Ну, подпольные, разумеется, для очень богатых. Все рядом, удобно, лишних глаз никаких!.. Поточным, так сказать, методом. Или вахтовым, что ли.
Дмитрий Иванович Шаховской ничего подобного не ожидал.
В тот момент, когда он увидел письма и чашку мейсенского фарфора, история с убийством показалась ему романтической и ненастоящей – «в духе рассказов г-на Конан Дойла»! И детали, и подробности этого дела не могли быть обыкновенными.
Заговор, Первая Дума, дом на Малоохтинском – все это никак не могло быть связано с организацией банкетов.
– Деньги за банкеты он собирался брать немалые, все же настоящий дворец, музей, а не ресторанчик какой-то. Ну, и мне предлагал по особым расценкам действовать. В ближайшем будущем предполагалось обогатиться.
– А вы что же?
Отец Андрей пожал плечами.
– Я сказал, что помолюсь о спасении его души. И помолился.
Дмитрий Иванович взглянул, не смеется ли, но отец Андрей смотрел совершенно серьезно.
– И больше он к вам не обращался?
– Видите ли, венчать по особым расценкам, да еще без всяких бумаг, для того необходимых, да еще в любое время дня и ночи я отказался довольно резко. Может быть, даже излишне резко. Поэтому больше ко мне никто оттуда не обращался и не приходил. Он тогда в кабинете покричал немного, что на мое место полно охотников, а у него связи такие, что переведут меня служить из центра Москвы на окраину Сургута в два счета.
– Вот как.
– А я сказал, что Сургут прекрасный город, на все воля Божья, переведут, значит, и хорошо.
Шаховской опять посмотрел с подозрением и опять ничего не заметил.
– Потом мне жаль его стало, – отец Андрей снова принялся отковыривать от одежды капельки воска. – Такой молодой, а мозги все вывихнутые! А как скандалы начались, я старался их унять, но не всегда получалось.
– Какие скандалы?
– Прихожанка у меня есть, как раз такой… осколок прошлого. Она здесь недалеко на бульваре живет. Почти каждый день в храм приходит. Не в себе немного, хотя не такая уж старая. Любит истории рассказывать, и все про бриллианты. Я раз восемь послушал, а потом прятаться стал, хоть и нехорошо это, некрасиво, – отец Андрей махнул рукой. – Пока особняк закрыт был, она ничего, не скандалила. Придет, расскажет про бриллианты мне или вон дьякону, службу постоит и уходит себе. А когда и ворота, и калитку открыли, стала в особняк ходить. Один раз вроде бы даже к директору этому ворвалась в кабинет, там же охраны никакой особенно нету, шумела, кричала, ну, вывели ее. Хотя это странно, она, в принципе, спокойная, мухи не обидит. Потом просто во двор приходила и тоже все кричала. Так я с нашей стороны калитку стал на замок запирать, чтоб она туда попасть не могла. Она с Воздвиженки все равно заходила. Дьякон ее уговаривал, уводил, чтоб в отделение не забрали. А то они однажды наряд вызвали, ума хватило.
Шаховской помолчал, прикидывая, может ли прихожанка отца Андрея, «осколок прошлого» и «немного не в себе», иметь отношение к убийству, бумагам девятьсот шестого года, заговорам и Первой Думе, решил, что никак не может, но на всякий случай уточнил:
– Вы так и не поняли, из-за чего она скандалила? И при чем тут особняк, почему она туда ходила?
– Да все из-за бриллиантов, – сказал отец Андрей с досадой. – Требовала, чтоб директор их вернул. Она якобы единственная законная их владелица. Или нет, нет, наследница.
– Директор должен был вернуть ей бриллианты?
– Ну да. А они якобы в особняке спрятаны. Может, семейное предание какое-то было, а может, она в кино видела: в стене тайник, а в нем голубая чашка, полная бриллиантов!..
Шаховской поправил на лавочке портфель, который и без того стоял вполне надежно, и уточнил:
– Голубая чашка с бриллиантами?..
1906 год.
Князя Шаховского вызвали к телефоническому аппарату, когда он пил чай в гостях у госпожи Звонковой. Отец Варвары Дмитриевны служил по департаменту юстиции, и такой аппарат появился в его квартире одним из первых в городе.
Разговоры за столом велись, как и во всех интеллигентных семьях в это время, о русской революции. Говорили о том, что все газеты третьего дня вышли с заголовками «Да здравствует русская весна!» и цензуре опять наставили рога.
Отец Варвары Дмитриевны, крепкий старик, принявший в шестидесятых реформы царя-освободителя и отмену крепостничества от всего сердца, тем не менее не видел в них отречения от своих корней, имущественных и в особенности духовных, и либеральных убеждений князя и восторженных – своей дочери – не разделял и посмеивался над ними.
Дмитрий Иванович убеждал собеседников в необходимости самых решительных перемен, Варвара Дмитриевна во всем его поддерживала, глаза так и сверкали, и от улыбки, не сходившей с ее лица, очаровательные ямочки появлялись то и дело. Генри Кембелл-Баннерман лежал на боку у нее под стулом, и когда о нем забывали, хрюкал и поддавал снизу ее руку, привлекая внимание. Варвара Дмитриевна в эту минуту должна была погладить его по лобастой башке, давая понять, что он тут самый главный и об этом все собравшиеся знают.
– Политика, – говорил меж тем князь, – отражается на жизни каждого человека, от царя до последнего нищего, только огромное большинство этого не сознает. Не только члены Думы должны участвовать в деле государственного переустройства, но все граждане нашего многострадального отечества.
– После освобождения крестьян стоило бы не так мрачно говорить о народной жизни, – заметил господин Звонков.
– Стоны народа требуют от нас отклика и сочувствия! – пылко воскликнула Варвара Дмитриевна. – Как у Некрасова! «Кому на Руси жить хорошо»? А ответ – никому. Почему наша родина так обездолена? Вот ты знаешь ответ на этот вопрос? – пристала она к отцу.
Он улыбнулся с нежностью:
– Я одно знаю: Россию нужно беречь и любить. Но вас нынче этому не учат. И в гимназиях ваших об этом не говорят.
– Да, но отречься от вековых проблем народа…
– Для чего ж отрекаться? Каждый на своем месте должен взяться за дело и потихоньку-полегоньку с Божьей помощью приналечь и вытянуть!
– Ну, папа же! Как же вытянуть, когда одни утопают в роскоши, а другие куска хлеба не имеют, чтобы накормить голодных детей. Только революция способна все изменить!
– Что же может изменить жгучее, неудержимое, мятежное беспокойство?
– Из беспокойства только и получаются сдвиги, – вступил Шаховской. – Вон какой пласт вековой двинулся. Дума созвана, народное представительство.
– Из Думы этой только и слышно «Долой самодержавие!», а государь принужден это слушать. И манифест о свободах не остановил, а только разжег революционное движение. Эмоции вас захлестывают, молодые люди, эмоции!
– Мы все бредем по темному лабиринту, из которого необходимо найти выход. Выход мне видится только в Конституции и в работе парламента.
– Дмитрий Иванович, голубчик, да что там за работа у парламента вашего? Как откроешь газету с речами депутатов, сплошь «долой!» да «вон!».
– Требуется время, чтобы это улеглось. Высказаться нужно, ведь много десятилетий молчали.
– Так ведь Дума не для того созвана, чтобы бунтовать наперегонки со студентами!
– То-то и оно. Если Россия станет свободной страной, то только благодаря Думе и честным людям, которые научатся в ней работать, я в это всей душой верю, – разгорячился князь.
– Когда ж учиться? – искренне удивился Звонков. – Теперь некогда! Дума действует, и надобно за ум браться и не мешать государю и министрам, а всячески помогать им.
– Папа! Ну, как можно?! Министры – такие ретрограды, стыдно слушать.
– Однако ж побольше вашего в деле государственного управления понимают.
Генри Кембелл-Баннерман решил, что самое время вступить в дискуссию, хрюкнул и поддал ногу Варвары Дмитриевны.
– Henry, stop it! Be a good boy![4] – но тем не менее она наклонилась и «хорошего мальчика» погладила.
Шаховской возразил:
– Мы не имеем и зачатков конституционного министерства! Только такое смогло бы вывести страну из положения, в котором она находится. А Государственной думе то и дело говорят, что разрешение вопросов на предложенных ею основаниях никак не допустимо. Вот и выходит, что правительство не исполняет требований народного представительства, а только критикует их и отрицает.
Едва господин Звонков собрался ответить – со своих позиций дворянина и старого барина, – как горничная позвала Шаховского в кабинет к телефону.
Вернувшийся в столовую князь был несколько растерян, что не ускользнуло от внимания Варвары Дмитриевны, и сообщил, что должен уехать по делу.
Варвара Дмитриевна посмотрела независимо – ей не хотелось отпускать князя и одновременно не хотелось дать ему понять, что она заинтересована в его обществе и без него ей будет грустно.
Нет-нет, они просто добрые товарищи по работе и политической борьбе, что ж тут такого?..
– Варвара Дмитриевна, – тихо заговорил князь, когда она с Генри вышла его проводить в переднюю. – Прошу вас извинить меня, но дело правда срочное и не слишком понятное. Телефонировал знакомый батюшка и просил незамедлительно встретиться с ним. Будто бы обстоятельства чрезвычайной важности и секретности.
– Господи, какие секретные обстоятельства могут быть у батюшки?
– Если вы разрешите, я бы завтра утром заехал за вами и все рассказал. Перед заседанием.
Ответ прозвучал величественно:
– Разрешаю.
Когда дверь закрылась и щелкнул английский замок, Варвара Дмитриевна провальсировала по передней, взявши недоумевающего бульдога за передние лапы. Вальсировать он не умел решительно, настроения хозяйки не разделял и, когда был отпущен, сразу потрусил в сторону кухни, где – вот это он знал точно, – кухарка Ольга варила мясо для пирогов. Когда предполагались пироги, мяса всегда получалось много, и Генри мог рассчитывать на свою порцию обрезков.
– А все-таки, папа, жаль, что ты не веришь в возможности Государственной думы, – говорила в столовой Варвара Дмитриевна отцу, который принялся за трехчасовую газету. – Если бы ты хоть разочек побывал на заседании…
– Нет уж, уволь, уволь!..
– …ты бы понял, с какой надеждой мы все каждый день принимаемся за работу! Я не только о журналистах говорю, конечно же! Но и о депутатах, и обо всех остальных. Это же совершенно новое для всех дело, и какое важное. Да, есть среди ораторов и пустозвоны и просто хулители, но ведь большинство дело говорит.
– Помнится, Цицерон еще утверждал, что в политике заключено глубокое сладострастие. Вот этого самого сладострастия и следует опасаться. Чтобы красивые и умные речи не заслонили главного и наиважнейшего – умения выполнять поденную работу, за которую никто и спасибо-то никогда не скажет, во благо людей, которые никогда об этой работе не узнают! На трибунах красоваться гораздо легче, чем посвятить себя такому труду.
– Как раз Дмитрий Иванович и посвящает.
Варваре Дмитриевне приятно было просто произнести – Дмитрий Иванович.
– И у него получается, папа.
– Вот кабы все в Думе сделались такие, как твой Шаховской!
Варвара Дмитриевна хотела тут же ответить – не мой, но промолчала, отошла к окошку и стала задумчиво обрывать лепестки с цветка.
…Что за батюшка? Что за тайны?..
Священник отец Андрей, которого Шаховской смутно помнил по родительской усадьбе на Волхове, жил в самом конце Каменноостровского проспекта, в доме с садиком – большая редкость в Петербурге. Малознакомый батюшка, представившись, долго и непонятно объяснял Дмитрию Ивановичу, для чего должен его повидать, и изъявлял готовность немедленно приехать в любое место, какое тот укажет, но князь решил, что заедет сам. Так всем удобнее.
Соскочив с коляски, Шаховской толкнул калитку, которая легко отворилась, и оказался среди деревьев, цветов и клубничных гряд. Князь, истинный горожанин и петербуржец, тем не менее больше всего на свете любил жизнь деревенскую, летнюю, вольготную, памятную с детства, когда в деревню уезжали в мае, а возвращались лишь поздней осенью. Садик вдруг напомнил ему о той жизни. Все здесь было живо и весело, и вот где вовсю чувствовалась «русская весна»! В кустах, насаженных вдоль ограды так, что проспекта было не видно, и казалось, его и вовсе нет, возились и чирикали какие-то птахи, пахло цветами, травой и еще как будто печкой, совсем по-деревенски.
– Дмитрий Иванович, – окликнули его из-за яблони. – Добрый день. Это я вам телефонировал.
Шаховской повернулся. Батюшка оказался совсем не старым человеком, пожалуй, его ровесником, высоким и широкоплечим. Прихрамывая, он вышел из-за корявого ствола и подошел к князю. Улыбался очень хорошо.
– Никогда не решился бы побеспокоить вас в иных обстоятельствах, но дело, на мой взгляд, спешное и… секретное. Думаю, говорить нам лучше здесь, хотя и в доме никого нет.
И жестом пригласил князя за стол, на который старая груша роняла бледно-розовые нежные лепестки. Шаховской смотрел на него внимательно, с некоторым недоверием.
…Секретное дело в саду под грушей? Да еще с предупреждением, что в доме пусто? О чем может быть речь?..
Отец Андрей уселся напротив и выложил на стол загорелые большие руки, совсем не поповские, как будто батюшка только и делал, что трудился в саду или в поле.
– Прикажете чаю?
– Спасибо, не стоит. Я только из-за стола. – Шаховскому казалось, что начать разговор отцу Андрею трудно, и он не ошибался.
Батюшка помолчал, собираясь с мыслями, и молодое лицо его приняло решительное, даже немного суровое выражение.
– Дело вот в чем, Дмитрий Иванович. В ближайшее время должны убить министра финансов Коковцова.
Шаховской пришел в такое изумление, что даже скрыть этого не сумел.
«Эк брякнул, – сам себя осудил отец Андрей, – надо было все же подготовиться как-то. Издалека зайти». Но где там!.. Он собирался с силами со вчерашнего вечера, ночь не спал, ворочался к неудовольствию, а потом и беспокойству матушки, а под утро и вовсе встал и ушел в кабинет. Молился, просил у Господа совета и помощи. И до самого приезда князя все не находил себе места, даже проверенные средства – работа в саду и молитва – не помогали.
Отцу Андрею казалось, что до тех пор, пока он никому об этом не рассказал, за судьбу России в ответе он один, только от него зависит ее дальнейшее положение, и вдруг остро посочувствовал и государю, и думским депутатам, которые, должно быть, ощущали нечто подобное каждый день, с этим ложились и вставали.
Сейчас самое главное – все сказать до конца, когда уж главное выговорилось!
– Дело будто бы должно быть обставлено так, что покушение организовано депутатами Думы от социалистов и имеет целью переполнить чашу терпения государя. После террористического акта государь Думу непременно разгонит и революционная борьба обострится с удесятеренной силой, – тут отец Андрей вздохнул.
Его очень тянуло перекреститься, но он не стал в присутствии князя, подцепил со стола лепесток, подул на него, тот вспорхнул, как живой.
– Министр финансов должен в ближайшее время по августейшему поручению отправиться во Францию договариваться о займе, столь необходимом для России в настоящее время. Министр будет убит, поручение сорвано, о предоставлении займа после такого акта и речи быть не может, и мы окажемся на краю финансовой пропасти, как после русско-японской войны. А это на руку господам революционерам-заговорщикам.
– Да, но… как? – вымолвил Шаховской, глядя на него во все глаза. – Как вы узнали?! И про августейшее поручение, и про заговорщиков?!
– Вчера услышал в первый раз, – признался отец Андрей. – Вот на вашем месте сидел да слушал. Человек, который меня посвятил в тайну, намеревался первым делом к вам обратиться, но сделать это в Думе оказалось чрезвычайно затруднительно, и он решил действовать через меня. Будто бы видел в храме, послушал проповедь и вот… отважился довериться.
– В каком храме? – зачем-то спросил Шаховской.
– Знамения иконы Божьей матери, тут недалеко. Я там служу. К нам в храм молодежи мало приходит, если только по случайности. Молодость ищет руководителей, – отец Андрей улыбнулся. – В гимназиях и университетах же привыкли искать только подготовки к будущей профессии, а этого недостаточно. Все молодые смутно мечтают, что учителя откроют им самое главное – смысл жизни, а открывают им только калейдоскоп теорий и обобщений, врассыпную, не связывая их в определенное миросозерцание. Для Сына Божьего в сегодняшней философии и места-то нет. Вот молодость и принуждена искать и находить себе других руководителей, а те-то знают, как им представить картину мира!.. Для них «Капитал» господина Маркса и есть объяснение всех первопричин. Они его штудируют неустанно.
– Вы и про Маркса осведомлены, батюшка?!
– Я не в пустыне живу, – сказал отец Андрей с досадой. – О многом наслышан. Уверяю вас, духовное лицо не есть непременно косное, патриархальных взглядов. Только я не у господина Маркса ищу ответов на вопросы, как нынешние прогрессисты, а в Евангелии или у Отцов церкви.
Князю про Отцов церкви слушать не хотелось, с делами земными бы разобраться, куда как более важными и срочными, не терпящими отлагательства, и, кажется, батюшка это понял.
– Спохватимся, поздно будет, – сказал он задумчиво, более себе, чем Шаховскому, – вот о чем бы следовало задуматься, особенно господам из Думы. Мираж революционной романтики, да еще подкрепленный господином Марксом и его умозаключениями, не одну сотню на свою сторону привлек, а сколько еще привлечет и с какими последствиями – неизвестно.
– А господин, который к вам приходил? – спросил князь, возвращая батюшку к вопросам практическим. – Вы его знаете?
– Он мне назвался. Раньше я его не видел. С его собственных слов, бывший студент, служит помощником у одного из депутатов от социалистов.
– У которого же? – быстро спросил Шаховской, знавший всех депутатов до единого.
– Прошу меня простить, князь, но я связан словом. Обещал молчать и только способствовать вашему с ним свиданию. Он утверждает, что убийство министра предполагается на железной дороге при посадке в поезд или на одной из станций. Чем более людей погибнет, тем лучше для боевой группы, ибо задача ее как раз поднять шум, взорвать видимость гражданского мира, который может вот-вот наступить, если Дума продолжит работу.
Шаховской подумал, что история, которую рассказывает ему батюшка в весеннем садике под грушей, при всей ее невероятности очень похожа на правду.
Радикальные социалисты и социал-демократы выборы в Думу открыто бойкотировали, однако некоторые одиночки из них баллотировались и были выбраны не как члены политических партий. Если допустить, а это очень вероятно, что некоторые из них продолжают тесное общение со своими товарищами-террористами и при этом отлично осведомлены о том, что происходит в Думе каждый день и час, чего опасаются депутаты, а чего министры, вполне возможно разработать план такой акции, после которой жизнь в России будет взорвана – в прямом и переносном смысле – и возврата к прежнему не состоится.
Если сегодня, сию минуту еще есть смысл договариваться, искать и находить компромиссы, то после убийства одного из наиболее уважаемых даже Думою министров время разговоров закончится навсегда, а оно только-только наступило после десятилетий и столетий, когда власть не слышала и не желала слышать свой народ!
Какие-то страшные картины вдруг привиделись князю в весеннем цветущем саду. Марширующие полки, серые шинели, миллионы серых шинелей, взрывы, залпы, зарево вполнеба, брошенные поля, опустевшие дома, разорение и хаос. И еще тюрьмы, решетки, разинутые в предсмертном крике рты, мученические глаза, груды тел на обочинах и – отдельно – детский трупик в белой рубашечке. Арестантские вагоны, решетки, босые ноги на грязном размолотом снегу, крики конвоиров и всюду кровь, и небо черно и глухо, зови на помощь – не дозовешься, и некого звать, никого не осталось. Как будто все это уже предопределено и вот-вот настанет, и ничего уже нельзя изменить, и тьма вот-вот накроет Россию, задернется черный занавес, а за ним – страшное, ревущее голосами, полыхающее, кровоточащее…
Шаховской с силой помотал головой из стороны в сторону – не хочу, не могу! – и отец Андрей посмотрел с удивлением: что, мол, такое?
– А этот ваш бывший студент может быть провокатором?
– Всякое возможно, и это тоже, – быстро согласился отец Андрей. Он думал об этом много, но ничего толком не надумал. – Человек нервный, душевной организации тонкой, ближе к истерической. Но я, Дмитрий Иванович, стараюсь людям верить. Ежели в Бога не верить, да еще и людям не верить, как тогда на белом свете жить?
Помолчали.
Шаховской думал, что, если дело обстоит так, как описал батюшка, придется обращаться к Столыпину, политическая полиция находится в ведении министра внутренних дел, и обращаться как можно скорее и строго секретно. О том, чтобы переговорить в Думе, дождавшись выступления Петра Аркадьевича перед депутатами, нечего и думать. Однако ж прежде чем затевать кампанию по подготовке встречи с министром, следует все хорошенько проверить.
Отец Андрей думал: слава тебе, Господи, князь узнал, и он, отец Андрей, больше не должен тяготиться в одиночестве, но – странная штука – ответственность, от которой, чего греха таить, так мечталось избавиться, никуда не улетучилась, так и лежала на плечах, как мешок с солью у грузчика-пермяка, и давила, давила. Батюшка даже шеей повел неловко.
– Уговорились мы с ним так: я обещался вас разыскать, изложить предмет и взять слово, что вы не станете обращаться в полицию.
– Помилуйте, как же не обращаться?
– Если вы согласитесь с ним повстречаться и дадите слово его не выдавать, он расскажет, где, как и на какую приманку можно террористов поймать. Сам он при этом должен оставаться в стороне. Сдается мне, товарищей своих он больше, чем полиции, опасается.
– Кто же будет ловить господ террористов, если не полиция? Мы с вами вдвоем не управимся.
– Да этого и не требуется. Только дело должно быть обставлено так, чтоб об участии в нем моего подопечного никто не узнал, ни свои, ни чужие.
Князь подумал немного. Собственно, выбора-то у него никакого и нет. Придется соглашаться.
Один вопрос не давал ему покоя, и очень хотелось его задать, хотя князь и понимал прекрасно, что вряд ли батюшка знает на него ответ.
– А почему он решился предупредить о заговоре, если сам в боевой группе состоит? Ведь это означает арест, а может, и смерть его товарищей?..
– Сомнения, – сказал отец Андрей со вздохом. – Тяжкие и трудные раздумья, как я понимаю. Убеждения убеждениями, а как жить-то, если знаешь, что в ближайшее время человека убьют, а он ни о чем не подозревает. А с ним еще, не дай бог, десяток или несколько десятков погибнуть могут. Господин Маркс, должно быть, не разъясняет, как в таких случаях следует действовать, как грех эдакий на душу взять. Одно дело теории и разговоры всякие про революцию, а другое – бомбу кинуть, жизни лишить. Вот он и мучается, и думает, и ищет путь, как избежать смертного ужаса. И страшно ему, и жутко, а опоры-то нету никакой. Тут, изволите видеть, стихи, «Народной волей» изданные, опорой служить не могут, хоть с утра до ночи их декламируй.
Расстались на том, что батюшка даст знать, когда и где потенциальный террорист и бомбометатель назначит встречу, и Шаховской уехал, сильно обеспокоенный.
Дмитрий Иванович сильно опаздывал, из-за этого нервничал и сердился. Никогда ему не хотелось, чтобы лекция поскорее закончилась, а сегодня было просто невмоготу, он едва дождался, когда тренькнет звонок.
Но и после звонка сразу уйти не удалось. Те самые студенты, пойманные на профессорские крючки, обступили его, заговорили разом, и все – про первую русскую революцию. Ему бы радоваться, а он раздражался, смотрел на часы и в конце концов всех вытурил. Лохматый Степан, самый въедливый и дотошный, кажется, даже обиделся.
– Вы же обещали поговорить, Дмитрий Иванович!..
– В следующий раз и поговорим.
– Да когда? Вы обещали сегодня! Я с той лекции столько всего прочитал!.. Вот, например, про эсеров в этой самой Первой Думе, – и он потащил из рюкзака растрепанные листы, вознамерившись выложить их перед профессором. – Я вот тут выписал даже…
– Я опаздываю! – взмолился Шаховской. – Приходите в субботу, поговорим.
– В субботу у нас семинары!
В общем, пришлось бежать. В гардеробе он едва дождался, пока старухи в черных шелковых перчатках выдадут ему пальто, и одевался на ходу, отпихивая портфель, болтавшийся на длинном ремне. Портфель тоже был как-то причастен к тому, что он опаздывает.
В Думу за Шаховским увязался Боря Викторов, изнывающий от благодарности за поправленную статью и за полученное «новое задание». Профессору показалось, что Боря воспринял его просьбу поискать в архивах нечто, что указывало бы на неизвестный заговор, имевший место в девятьсот шестом году, как несомненное признание его, Бориной, учености.
А текст, между прочим, так себе. Очень много личных оценок, что, может, и годится для статьи, но уж точно никак не подходит для научной работы!
Почему-то у Шаховского было превосходное настроение.
– Ба, Дмитрий Иванович! Опаздываете? – первым делом поинтересовался Петр Валерианович Ворошилов, встреченный им на центральной лестнице, где почему-то всегда толклись журналисты с камерами, неизвестно за что полюбившие именно этот план – с видом на люстру и ковровую дорожку. Сколько Шаховской видел репортажей из Думы, столько наблюдал ковер с люстрой!.. – Вот если бы вы вовремя пришли, я бы решил, что вас не пустили на раскопки в монгольские степи. Удельным периодом не интересуетесь?..
– Петр Валерианович, познакомьтесь, мой… аспирант Борис Викторов. А это…
Тут Ворошилов его перебил, представился сам таким образом:
– Бюрократ и бумагомаратель Ворошилов. Никчемный человек.
Боря Викторов вытаращил глаза немного больше, чем следует, на что никто не обратил внимания.
– А все же куда это вы в тот раз пропали, профессор? Я так ничего и не понял!
– Вы не поняли, – сказал Шаховской с удовольствием, – потому что я вам ничего не рассказывал!
– А что? Государственная тайна?
Никакой тайны не было, полковник Никоненко – он же участковый уполномоченный Анискин, – никаких специальных предупреждений, вроде «никому ни слова», не делал и помалкивать не просил, поэтому Шаховской сказал, что его вызвали на место преступления. Преступление ужасное – труп.
Ворошилов так удивился, что даже приостановился, и Боря Викторов почти налетел на него.
– Так вы не только по исторической части, но еще и по уголовной, Дмитрий Иванович!?
– Там какая-то странная связка. На первый взгляд совершенно дикая. Возле трупа нашли письмо и записку. Нужно экспертизу проводить, но мне показалось, что письмо подписано Щегловитовым, который в девятьсот шестом году был министром юстиции. В письме еще и Столыпин упоминается!..
– А… как эти почтенные люди из прошлого могут быть связаны с трупом? Совершенно современным, я бы даже сказал, свежим?
– Понятия не имею, – признался Шаховской. – Никакого. Вот хочу поручить Боре поискать что-нибудь в архивах. Сегодня будет директор Государственного архива, да? Я бы их познакомил. Речь идет о каком-то заговоре, но никаких документов о заговоре в мае девятьсот шестого я не встречал.
– Первая Дума тогда еще работала, да?
Шаховской кивнул.
– Ее разогнали в июле. В мае все было в разгаре.
– Интересно, – признался Ворошилов и покрутил головой. – Жаль, что я аппаратчик и никчемный человек, я бы вам помог.
– Будет вам. Что это вас сегодня на самоуничижение потянуло?
– А меня все время тянет! – Ворошилов открыл дверь, за которой толпился народ, много, как показалось Шаховскому после просторной пустоты коридора. – Недовольство собой есть признак здорового отношения к жизни.
– Да что вы говорите? – под нос себе пробормотал Дмитрий Иванович. – Не может быть.
– Вы проходите, проходите, – пригласил Борю Ворошилов. – Молодым людям полезно познакомиться с парламентским закулисьем, так сказать.
Боря засуетился, заулыбался, стал кланяться, и Шаховского удивило его… подобострастие. Ничего особенного не происходит, обычное совещание в государственном учреждении. Впрочем, карьерные устремления Бори Викторова хорошо известны, и по всей видимости, ему казалось, что он приближается к вершинам власти семимильными шагами и уж почти достиг их – вот же и в Думу попал, на самое что ни на есть настоящее совещание, а там недалеко и до толстых книг в синих «государственных» переплетах, и списка редколлегии, где сияющими буквами набрано «Викторов Борис, доктор исторических наук, профессор».
– А почему так много людей?
– Потому что это… производство, Боря.
Будущий доктор и профессор честно ничего не понял.
– В каком смысле, Дмитрий Иванович?
– Да в прямом. Ты же не маленький! Чтобы парламент принял любое решение, самое незначительное, его нужно для начала осознать, потом сформулировать, потом отдать юристам, чтобы оно в принципе соответствовало нормам, потом показать другим экспертам, чтобы внести изменения в эти нормы, если необходимо, потом скомпилировать мнения, которых может быть миллион. Ты считаешь, что школьная форма нужна, а я считаю, что вредна, а вон та дама, может, полагает, что вместе с формой для школьников надо еще ввести форму для учителей!.. Каждый из нас с пеной у рта доказывает, что прав. Получается, что одно мнение исключает другое, и все они правильные.
– Я об этом никогда не задумывался, – признался Боря Викторов, будущий законодатель.
– Приходится договариваться на берегу, – продолжал Дмитрий Иванович, у которого было превосходное настроение. – Пока дело не дошло до законов! Как раз на этом и погорели депутаты Первой Думы – они и не собирались договариваться с правительством, а правительству даже странно было подумать, что оно должно отчитываться перед какими-то там депутатами!.. Никогда не отчитывалось, а тут вдруг должно! Ты же историк, Боря.
Совещание началось, все притихли, говорить стало неудобно, но Шаховской договорил, точнее дошептал:
– Это же парламент, а не подпольная организация и не заговорщики! Любое действие, по идее, необходимо соотносить с законом, а в законах сам черт голову сломит, и не все жаждут соотноситься. И все это как-то нужно приводить к общему знаменателю.
Совещание пошло своим чередом, Шаховской слушал внимательно – к столетию Первой мировой войны предполагалось опубликовать уже имеющиеся исследования, открыть экспозиции в музеях, книжку для школьников издать. Дмитрия Ивановича поражало до глубины души, что одна из самых страшных и великих войн в истории человечества оказалась так быстро и почти безнадежно забыта. Война, повернувшая в другую сторону не только развитие Европы, но и всего мира, война, предопределившая следующую, еще более страшную! О ней мало писали, говорили и того меньше, почти не вспоминали, а с тех пор прошло всего сто лет, ничтожный срок.
Впрочем, лучше бы совсем не говорили и не писали. Очень много ошибок, дилетантства и вранья.
Ворошилов нагнулся к нему, и Шаховской понял, что сейчас будет смешное:
– Недавно попалось на глаза. Меры охраны, подлежащие принятию в селениях по пути Высочайшего следования от Арзамаса в Саровскую пустынь. Пункт седьмой: с раннего утра дня Высочайшего проезда в попутных селениях все собаки должны быть на привязи!
Дмитрий Иванович засмеялся, а Ворошилов подхватил свалившиеся с кончика носа очки.
– А? Хороша мера?
Когда все закончилось, Шаховской сдал Борю директору архива – тот выразил полную готовность всячески помогать.
– Но вы же понимаете, как всегда, сведения нужны срочно.
– Архивное дело суеты не терпит, вы тоже это понимаете, Дмитрий Иванович. Но все, что можем, сделаем.
Вообще Шаховской любил архивистов именно за то, что они всегда были готовы помогать и любили прошлое, собранное в их архивах, так, как будто это никакое не прошлое, а живая, настоящая, сегодняшняя жизнь. Дмитрию Ивановичу казалось, что любого, кто к ним обращался, работники архивов уже заранее уважали за интерес к этому прошлому, которое только казалось мертвым и ненужным, а на самом деле было необходимым, важным – готовый учебник, надо лишь внимательно читать, запоминать, вникать, чтобы не повторять ошибок. Нельзя научиться читать, промахнув мимо азбуки, нельзя научиться жить сегодня, не выучив того, что было вчера. Эта простая и очевидная формула была для архивистов не просто формулой, в ней заключался подход к жизни, и он казался Дмитрию Ивановичу единственно правильным.
– Хотите, я могу ребят из аналитического управления попросить, – предложил Ворошилов, пряча свои необыкновенные очки, – они тоже чего-нибудь поищут. Музейщиков еще! Не может такого быть, чтобы следов заговора не осталось! Ну, если он существовал, конечно, и эти ваши документы подлинные.
Дмитрий Иванович был совершенно уверен и что заговор был, и что документы подлинные. Причастность к тайне, возможность разгадать загадку – не только сегодняшнюю, но и столетней давности, – будоражили его, и ему нравилось невесть откуда взявшееся состояние азарта, и приходилось напоминать себе, что это не «история во вкусе рассказов г-на Конан Дойла».
И еще ему не хотелось… делиться. Ни с Борей Викторовым, ни с Ворошиловым!.. Если бы время не торопило, он все разузнал бы сам – так гораздо интереснее. Что-то очень личное заключалось для него во всей этой истории, может, из-за того Шаховского, может, из-за Варвары с ее дивной улыбкой, а может, из-за Думы, к которой он привык относиться как к месту работы, а в той, первой, было нечто таинственное, но тоже связанное с ним – через сто лет.
И от «ребят из аналитического управления» он отказался.
– Ну-ну, – то ли одобрил, то ли осудил Ворошилов. – Бог в помощь, конечно, но если что – обращайтесь! Всем сердцем с вами!
Возле думского подъезда, где всегда гулял ветер, Шаховской постоял немного, раздумывая.
Ехать на машине не было никакого смысла – пробка стояла мертвая, – и он побежал пешком мимо третьего подъезда Думы, мимо Большого театра к Петровке.
Еще утром он позвонил Игорю Никоненко, но тот не стал ничего слушать.
– Приезжайте часа в четыре, – буркнул полковник. – Пропуск я закажу. На третий этаж, семнадцатый кабинет. По телефону такие вещи не обсуждаются.
Дмитрий Иванович не очень понял, какие именно вещи не обсуждаются по телефону, потому что ничего секретного говорить не собирался. Он твердо решил не опаздывать и точно знал, что опоздает. Он всегда и везде опаздывал.
На Петровке профессор еще и заблудился. Он знал, как и все на свете, легендарный адрес – Петровка, 38 – и был уверен, что никаких других не существует, и очень удивился, когда Никоненко стал диктовать какие-то номера с дробями и корпусами.
– А это что такое? – на всякий случай спросил он.
– А это где мы как раз сидим, – удивился его непонятливости полковник. – Я же вам сообщаю!
До неприметного серого дома, перед неухоженным подъездом которого дождем налило большую лужу, Дмитрий Иванович добрался, когда опоздание стало совсем неприличным. Ему было жарко, и он злился.
У подъезда они нос к носу столкнулись с Никоненко.
– Здрасти, Дмитрий Иванович. – Полковник обвел глазами лужу в поисках брода. – Государственные дела замучили? В Думе заседали?
– Я не заседаю в Думе, – сказал Шаховской ненатуральным от злости голосом. – Я там время от времени работаю.
Никоненко прыгнул, грязная вода плеснула в разные стороны.
– Как дождь пройдет, так стихийное бедствие. Вот в прошлом году меня супруга в Карловы Вары таскала, печень лечить от последствий возлияний. Так я вам скажу, там дождь есть, а стихийного бедствия после дождя нету!.. Вот почему у них всю жизнь красота и порядок, а у нас грязь и лужи? Вот как это так вышло?
– Вам в хронологическом порядке изложить? – осведомился Шаховской. – И откуда начать? С Петра или еще раньше – со Смутного времени?
Никоненко отряхнул штанину, а ладонь вытер о стену дома. На кирпичах остался мокрый и грязный след.
– Садитесь, поедем, – распорядился он и кивнул на машину, которая подмигнула желтыми огоньками. – По дороге поговорим.
Шаховской потянул дверь.
– Не, не, вперед, вперед залезайте! Сзади грязно, я там… того… собаку вожу.
В джипе на самом деле было не слишком чисто, но он казался обжитым, даже как будто уютным. На заднем сиденье валялись плед, пустая бутылка из-под воды и какие-то журналы, на щитке темные очки, дужками зацепленные за решетку отопителя, а в подстаканник был засунут зеленый плюшевый крокодил, довольно потрепанный, но жизнерадостный.
– Супруга моя шалит, – объяснил полковник, заметив, что Шаховской косится на крокодила. – Говорит, что это есть мой скульптурный портрет. С виду вроде ничего, а суть-то все равно крокодилья!..
Дмитрий Иванович развеселился, злость как рукой сняло.
– А куда мы едем?
– На самом деле тут недалече. Сейчас налево, потом на Сретенку, и, считай, приехали. Все по нашему с вами делу.
– Это что означает?
– Это означает, что с подругой потерпевшего мне надо потолковать по душам. Вызывать ее не хочу, да и не придет она, а потолковать надо. А у вас чего? Что за спешка-нетерпение?
– Можно мне с вами? – неожиданно для себя спросил Шаховской. – Нет, вы не подумайте, что из пустого любопытства…
– А разве не любопытно?
– Любопытно, – признался Дмитрий Иванович. – И чем дальше, тем больше.
– То-то и оно. Такие дела, как это, на которое мы с вами налетели, раз в десять лет случаются, а то и реже. Тайники, особняки, письма столетней давности – это в романах только бывает, а в уголовных делах большая редкость.
– Тогда с антикварами тоже было интересно.
– Переходи к нам работать! – вдруг на «ты» предложил Никоненко. – Будет тебе рутина каждый божий день, двадцать четыре часа в сутки и еще три сверхурочно! Муж жену по пьяной лавочке зарезал, соседи друг друга из дробовика постреляли, тоже, ясный перец, не на трезвяк, а там наркоманы бабусю за пенсию задушили, на дозу им не хватало. Ты что думаешь, мы только красивые преступления раскрываем?
– Я не знаю, что означает «красивое преступление». Убийство всегда убийство, и оно отвратительно.
– А я только по ним работаю. Тяжкие и особо тяжкие. И ничего в моей работе нету хорошего, Дмитрий Иванович.
– Зачем тогда ты работаешь?
– Тебе в хронологическом порядке изложить? – осведомился Никоненко. – И откуда начать? Со школы милиции или еще с чего?
Он посигналил зазевавшейся барышне в красной машинке, которая вырулила ему под колеса. Барышня возмущенно выговорила что-то неслышное и покрутила пальцем у виска.
– Ну, ну, – сказал ей Никоненко. – За руль держись лучше. Так чего у тебя? – обратился он к профессору.
– Я поговорил со священником из храма, который сразу за особняком, – Шаховской взглянул на жизнерадостного крокодила. – Он рассказал, что одна из его прихожанок-старушек несколько раз пыталась попасть в особняк и требовала, чтобы директор отдал ей бриллианты.
– Чего директор отдал?!
– Бриллианты, – повторил Дмитрий Иванович. – Они якобы спрятаны в тайнике, в голубой чашке.
– Во дела! – вдруг громко и удивленно произнес Никоненко.
– Старушка не в себе, так священник говорит.
– Да пусть у нее три раза Альцгеймер с Паркинсоном, про чашку-то она откуда знает!? Чашка-то у нас в вещдоках лежит, как есть голубая и самая настоящая! А у меня ни Паркинсона, ни Альцгеймера нету, и видения редко посещают.
– Я думаю, найти ее легко, в храме знают, где она живет. – Шаховской улыбнулся, вспомнив. – Ее дьякон несколько раз унимал, когда она скандалила, и домой провожал. Мне показалось, что они хорошие ребята. И священник, и дьякон.
– Ты даешь, Дмитрий Иванович, – то ли похвалил, то ли укорил Никоненко. – Вырвался на оперативный простор!
Джип остановился возле чистенького, только что отремонтированного дома, весело смотревшего вымытыми окнами в крохотный московский скверик. Как только он остановился, сзади припадочно загудели на разные голоса.
– Да, да, – пробормотал полковник, обернулся и стал сдавать назад. – Это я все понимаю, только где стоять-то?! Стоять негде! Нужно было на служебной ехать, и чтоб шофер круги наматывал, пока мы разговаривать будем, только не люблю я служебную эту…
Дмитрий Иванович тоже зачем-то обернулся и стал смотреть, хотя помочь ничем не мог.
– Сюда не поместимся.
– Да вижу я, вижу.
Сдавали они довольно долго. Дмитрий Иванович как будто тоже крутил руль, хотя и не крутил.
– Может, на Петровку вернемся и оттуда пешком?
– Ну тебя к лешему!..
В конце концов нашли какой-то шлагбаум, въезд за который был строжайше запрещен, а из будочки выскочил сердитый человек в форме, преисполненный служебного рвения, гнать джип с дороги.
– Тебя-то нам и надо, – под нос себе пробормотал полковник, опустил стекло и сунул охраннику под нос удостоверение. Тот уставился, зашевелил губами и, наконец, вытаращил глаза.
– Открывай давай, что за литературные чтения!?
Приткнувшись на свободном пятачке, полковник выпрыгнул из машины, велел человеку в форме быть бдительным и служить, и вдвоем с Шаховским они пошли к чистенькому дому – довольно далеко.
– Значит, так, Дмитрий Иванович, говорю я, ты помалкиваешь, наблюдаешь картины жизни, а потом докладываешь мне о наблюдениях, понял?..
Профессор Шаховской уже, пожалуй, привык к манере полковника Никоненко распоряжаться и давать указания, как будто он, Дмитрий Иванович, был у него в подчинении.
– Дом-то, дом, – Никоненко задрал голову и посмотрел на мраморную маску на фронтоне, решетки и мозаики. – Не простой, а золотой.
– Модерн, начало двадцатого века, – поддержал Дмитрий Иванович. – Вон, видишь, по углам еще собаки!..
– Где, где?
Профессор показал – где.
– А почему они задницами к нам сидят? Чего не лицом-то?
– Наверное, архитектор так придумал. Тогда любили всякие такие штуки, странные маски, скульптуры, детали. Чтобы нужно было разглядывать.
Домофон прозвенел с переливами, подождал, потом еще прозвенел. Дмитрий Иванович рассматривал спины и хвосты сидящих по углам собак.
…Кто может позволить себе жить в таком доме в самом центре старой Москвы? Как выглядят люди, которые приходят сюда… к себе домой, привычно не замечая решеток и мозаик? О чем они думают, чего боятся, кого жалеют? Это же должны быть какие-то необыкновенные люди, раз они здесь живут!
Домофон наконец-то спросил, кто там, и Никоненко сердито отрапортовал, кто и зачем.
Как видно, и на него дом произвел впечатление.
В роскошном мраморно-мозаичном подъезде, где было тихо и шаги гулко отдавались от стен, полковник, кажется, обозлился еще больше. Дмитрий Иванович наблюдал с интересом, а потом решился проверить наблюдение.
– Ахматова однажды страшно возмутилась, когда при ней сказали, что в петербургских подъездах было сыро и воняло кошками. Она сказала, что тогда в подъездах пахло только кофе и дамскими духами.
– А у всех разные подъезды были, ты не поверишь, Дмитрий Иванович! У прекрасных дамочек, вроде этой твоей, обязательно должно духами пахнуть, от кошачьей мочи они в обморок хлопаются!..
Кабина лифта залилась неярким желтым светом, когда Шаховской потянул на себя затейливую чугунную решетку. Декорации приключения ему очень нравились, было любопытно и весело еще и потому, что полковник злился.
На третьем этаже оказалось всего две квартиры, дверь в одну из них распахнута настежь.
– Проходите, пожалуйста, – пригласила высокая пожилая женщина в переднике и наколке, стоявшая на изготовку. – Вас ждут. Нет-нет, обувь снимать не нужно.
Никоненко с тоской посмотрел на мраморный пол, в котором отражалась люстра и его собственные ботинки с пятнами засохшей грязи. Участковый уполномоченный Анискин из глухой сибирской деревни, где ты есть-то? Давай, давай, выступай на подмогу!..
– Да я вам тут свинарник форменный устрою, – выпалил Анискин и округлил глаза. – На улице-то не май месяц!
И мигом разулся. Шаховской его маневр оценил, а женщина не дрогнула.
– Сюда, пожалуйста.
В большой квадратной комнате, выходившей окнами на скверик, было тепло, светло и просторно. Мебели не слишком много, и располагалась она вольготно, уютно, как-то так, что сразу хотелось именно «расположиться» удобно, заговорить о приятном, подумать о хорошем. Девушка ходила в отдалении у самых окон, разговаривала по телефону и улыбнулась, когда полковник и профессор возникли в дверях. Улыбнулась и помахала рукой – мол, проходите, проходите, не стесняйтесь!
– Чаю или кофе?
– Чаю, – немедленно согласился Анискин. – С вареньем. Есть варенье?..
И опять ничего не получилось!.. Ни изумления, ни возмущения, ни уничижительных взглядов. Женщина просто кивнула и вышла, тихо прикрыв за собой двери.
– Ну, все, все, – сказала девушка в телефон. – Потом поговорим, ладно?.. Нет, все в порядке, просто ко мне приехали.
Шаховскому показалось, что в телефоне у нее никого нет, и не разговаривает она ни с кем, просто так придумано, чтобы встреча с «правоохранительными органами» началась с… ожидания. Она разговаривает. Они ждут. Есть минута, чтобы оценить друг друга.
Ничего оценить Шаховской не смог. Девушке могло быть двадцать пять лет, а могло пятьдесят. Она идеально соответствовала интерьеру в итальянском вкусе, но она могла соответствовать любому богатому интерьер�
…И тут у него зазвонил телефон, как всегда, в самый неподходящий момент. Совещание заканчивалось, сейчас начнут «подытоживать», он должен будет сказать что-то связное, неплохо, чтоб и умное тоже, но как только телефон грянул, все мысли до одной вылетели из головы профессора Шаховского. Телефон был новейшей, последней модели, а потому чрезвычайно, необыкновенно сложен в употреблении. Телефон умел все – входить в Интернет и даже время от времени выходить из него, показывать курс акций на разных мировых биржах, прокладывать маршруты от Северного полюса к Джибути, светить фонарем, погружать владельца в Инстаграм, Твиттер и Фейсбук, давать прогноз погоды в Липецке и на западном склоне Фудзиямы на три недели вперед, фотографировать с приближением и удалением, снимать кино, монтировать видеоклипы, а его процессор превосходил по мощности все компьютеры НАСА в тот исторический день, когда Нил Армстронг высадился на Луну. Шаховской телефон ненавидел и как выключить звук, не знал. Марш гремел. – Господи помилуй, – пробормотал рядом председательствующий Ворошилов и уронил наконец очки, которые примеривался уронить с самого начала совещания, а историк, занудно читавший по бумажке занудный текст, посмотрел на Шаховского негодующе. Все собрание, обрадовавшись развлечению, задвигалось и зашумело. – Прошу прощения, – пробормотал несчастный профессор и выскочил в коридор, изо всех сил прижимая ладонью мобильный, чтобы немного унять марш. – Дмитрий Иванович, это полковник Никоненко из Следственного комитета. Мы с вами как-то по одному антикварному делу работали. Вы по исторической части, а я, так сказать, по современной линии шел. Помните?.. Шаховской, который в этот момент люто ненавидел телефон, ничего не понял. – Я не могу сейчас разговаривать, я на совещании. Перезвоните мне… – Стоп-стоп-стоп, – непочтительно перебил его полковник Никоненко из Следственного комитета, – это все я понимаю, но у меня свежий труп, а при нем какие-то бумаги, по всему видать, старинные. Я сейчас за вами машинку пришлю, а вы подъедете, да? Адресок диктуйте, я запишу. Шаховской – должно быть, из-за сегодняшнего нескладного дня и ненависти к телефону – опять ничего не понял. И не хотел понимать. – Я в Думе, у меня работа, – сказал он неприязненно. – Перезвоните мне, скажем, через… – На Охотном Ряду? Мы тут рядышком, на Воздвиженке, время проводим. Выходите прямо сейчас, машинку не перепутаете, она синими буквами подписана. – Что? – переспросил Шаховской, помедлив. – Следственный комитет, говорю, на машинке написано! Не ошибетесь. Ну, добро. И экран, похожий по размеру на экран телевизора «КВН-49», смотреть который полагалось через глицериновую лупу, погас. «Никуда я не поеду, что за номера?! У меня свои дела, и их много! Мне еще «подытоживать», а потом статью править, и…» Тут он вдруг вспомнил этого Никоненко и «антикварное дело» вспомнил! Тогда, сто лет назад, полковник размотал совершенно не поддающийся никакому разматыванию клубок из нескольких убийств. Убивали антикваров – без всякой связи, без логики, жестоко, – и Шаховского позвали как раз затем, чтобы он нашел логику. Понятно было, что убийства связаны с антиквариатом, но как?! Дмитрий Иванович долго эту логику искал – антиквары торговали предметами случайными и на первый взгляд никак между собой не связанными, – и нашел! А Никоненко додумал все остальное. И «громкое дело, находящееся на особом контроле в прокуратуре Российской Федерации, было раскрыто», как сообщили потом в новостях. Воспоминание было… острым. Шаховской усмехнулся, стоя в одиночестве посреди пустого и широкого думского коридора. Он никогда не занимался никакими расследованиями, кроме исторических, а тогда вдруг почувствовал себя сыщиком, который осторожно и внимательно идет по пятам злодея, охотником, выслеживающим взбесившегося зверя, готового на все ради своих бешеных целей. А Никоненко, – как же его зовут, Владимир Петрович, что ли? – все прикидывался простаком и «деревенским детективом», а оказался умным, расчетливым, хладнокровным профессионалом. Шаховской очень уважал профессионализм. «Поеду, – вдруг решил профессор, приходя в хорошее настроение. – Заодно не придется ничего подытоживать, вы уж там без меня справляйтесь, уважаемые…» Машина свернула с Воздвиженки, въехала в невысокие кованые воротца, озаряя мощеный двор всполохами мигалки, и остановилась у бокового крыльца, всего в три ступеньки. – Вам туда, – сказал Шаховскому очень серьезный и очень молодой человек в форме и показал поверх руля, куда именно, – там встретят. Дмитрий Иванович выбрался из машины и огляделся. Он, как и большинство москвичей, видел этот дом, особняк Арсения Морозова, только снаружи, внутри никогда не бывал и во двор не захаживал, воротца всегда были закрыты, и что там за ними – не разглядеть. В разное время здесь было разное: посольства Японии и еще, кажется, Индии, редакция какой-то британской газеты, это во время войны, потом еще его владельцем стал «Союз советских обществ дружбы и культурных связей с народами зарубежных стран», тогда особняк называли Дом дружбы народов, а во времена того самого Арсения именовали его москвичи «домом дурака»! Дурак, стало быть, Арсений, построивший когда-то особняк в самом что ни на есть странном и немосковском вкусе! Ворота сами по себе закрылись – Шаховской оглянулся, когда створки тронулись и стали сходиться, – и дворик сразу оказался отрезанным от Москвы, многолюдья, автомобильного смрадного чудища, упиравшегося хвостом в Моховую, а головой во МКАД – ежевечерний исход из столицы был в разгаре. Стало почему-то тихо, на той стороне дворика обозначился огонек, горящий в одном из окошек, брусчатка, слабо освещенная фонарем, блестела, как лакированная. Все это Дмитрию Ивановичу вдруг очень понравилось. Он поднялся на крыльцо, – высокие двустворчатые двери казались закрытыми навсегда, – и чуть не упал, когда створка приоткрылась ему навстречу. – Проходите. Шаховской «прошел». Еще один очень молодой человек в форме аккуратно притворил за ним дверь и спросил паспорт. Дмитрий Иванович извлек паспорт и огляделся. Прихожая оказалась огромная и полутемная, электрического света не хватало на все дубовые панели, которыми были обшиты стены, свет тонул в них и ничего не освещал. Широкая мраморная лестница поднималась в просторный вестибюль или какой-то зал. Шаховской вытянул шею, чтобы рассмотреть зал получше, но не успел. Высокий человек стремительно пересек помещение и оттуда, сверху, констатировал негромко: – Дмитрий Иванович. Пропусти его, Слава. Поднимаясь по ступеням, Шаховской все пытался припомнить, как зовут полковника Никоненко, но так и не вспомнил. Владимир Петрович, что ли?.. – Что-то вы долго. – Полковник сказал это таким тоном, как будто Шаховской обещался быть к нему на обед, но опоздал. – Или чего там? Стояк, как обычно? Давайте за мной. В большом ампирном зале неожиданно оказалось очень светло и много народу. Шаховской на секунду зажмурился и остановился. Двое в перчатках обметали кисточками каминную полку, над которой висело большое зеркало с потемневшей амальгамой. Еще двое ползали по полу и что-то мерили линейками. Парень в джинсах и синем свитере бродил в отдалении, прицеливался, фотографировал со вспышкой и имел вид туриста, запечатлевающего детали интерьера, и это почему-то поразило профессора. Молодая женщина стояла на коленях возле лежащего на полу человека. Рядом с ней помещался распахнутый чемоданчик, из которого она время от времени что-то доставала, и вид у нее был самый что ни на есть обыкновенный. – Ну, так, – Никоненко обошел женщину, почти перешагнул через нее как ни в чем не бывало. – Прибыла помощь в лице науки. Леш, где у нас?.. – Все на столе, товарищ полковник. Во-он, видите? – Подходите поближе, товарищ профессор! На труп не смотрите лучше, если вам… неприятно. Почему только в эту секунду профессор Шаховской сообразил, что лежащий на полу – уже не человек, а то, что было человеком, покуда не случилось что-то странное, непоправимое, и человека не стало. Осталось тело, из-под которого на светлый паркет натекла довольно большая лужа темной крови, и молодая женщина старалась не угодить коленками в эту лужу, это профессор тоже заметил. Ему вдруг стало жарко так, что моментально взмокла спина, он потянул с шеи шарф, уронил и нагнулся поднять. – Не смотрите вы туда, ей-богу!.. Начальственный, приказной, нетерпеливый тон, каким с Шаховским никто и никогда не разговаривал, немного отрезвил профессора, как будто холодной воды дали умыться. – Вот сюда смотрите, здесь для вас привычней! – Все в порядке, – проскрипел нервный профессор и пристроил на раззолоченный стул портфель и шарф. – Может, присядете?.. – Спасибо, – уже твердо и несколько даже обозленно сказал «ученый человек», – со мной все в порядке. Не беспокойтесь. Полковник пробормотал себе под нос, что он не особенно и беспокоится, и взял со стола две какие-то бумажки, желтые и тонкие от времени. Еще там стояла чашка с витой ручкой, расписанная голубыми узорами, и ничего более неуместного, чем эта чашка, нельзя было себе представить в помещении, где на полу лежит мертвое тело, вспыхивает фотокамера, бродят люди, переговариваются самыми обыкновенными голосами. – Ну, так. Собственно, вот из-за этих штуковин мы вас и вызвали. Бумаги были обнаружены рядом с трупом, с правой стороны, а чашка здесь и стояла. Вы только голыми руками не хватайте. Варвара Дмитриевна! Подкинь перчатки, а? Молодая женщина вытащила из своего чемоданчика пару медицинских и кинула резиновый комок в сторону полковника. Он ловко поймал, зачем-то подул на них и протянул Шаховскому. Профессор взял перчатки так, как будто не знал, что с ними делать. Никоненко покосился и мотнул головой. По «прошлому делу» он помнил, что профессор оказался не так хлипок и ненадежен, как вроде бы полагается ученому. Он хорошо соображал, – это Никоненко особенно оценил! – нервическими припадками не страдал, на вопросы, помнится, отвечал понятно, без излишней «научности». Вот чего полковник особенно не любил, так это когда «образованные» говорят непонятное и смотрят жалостливо и малость свысока, как на дурачка деревенского! Впрочем, он понимал, что для неподготовленного человека труп на полу в луже крови – зрелище, надо признать, удручающее. Да еще выдернули его из Думы!.. Там небось чинность, красота и благолепие, а трупов никаких не бывает. Тут Никоненко решил, что нужно профессору помочь немного. – А в Думе-то вы чем занимаетесь? Депутатствуете? – Я?.. А, нет, ну что вы. Там помимо депутатской работы полно. – Какой такой работы? – перепугался Никоненко, и Шаховской вдруг вспомнил его манеру играть в участкового уполномоченного Анискина из глухой сибирской деревни. Московский полковник время от времени начинал пугаться, напевно говорить, округлять глаза, цокать языком и подпирать рукой щеку – в соответствии с образом. Выходило очень достоверно и, видимо, помогало ему в его деле. – Какой же такой работы полно в Думе, если с утра до ночи по телевизору показывают, как люди в зале сидят и все поголовно сами с собой в крестики-нолики шпарят, а потом, стало быть, кнопочку жмут, за или против, а на табло циферки загораются, принято, мол, или, обратно, не принято!.. А потом по домам, чай кушать. Вот и вся работа! – Ну, это на самом деле не совсем так, Владимир… – Игорь Владимирович я! Запамятовали? – Вернее, совсем не так. Работа любого парламента в принципе организована очень сложно, а в нашей стране еще сложнее, потому что со времен Первой Думы, то есть с девятьсот шестого года, так повелось, что всегда и во всем виновата именно Государственная дума! Она всем мешает, с ней очень неудобно, так или иначе приходится считаться, а не хочется считаться, да и опыта парламентаризма в России маловато, честно сказать… Слава богу, заговорил, подумал Никоненко, и похвалил участкового уполномоченного Анискина, который всегда его выручал. Спасибо тебе, Федор Иванович, дорогой ты мой! – А я готовлю разные материалы, например, для заседания комитета по культуре. Вот комитет должен решить, имеет смысл за государственные деньги открывать музей… не знаю, допустим, Муромцева, и я готовлю документы… – Кто такой Муромцев? – Председатель Первой Думы, очень интересный персонаж. Шаховской сосредоточенно натягивал резиновые перчатки. С непривычки натянуть их было трудно. – Муромцев – часть истории, и важная! Как и первый русский парламент. Но почему-то история отечества никого не интересует всерьез, особенно в этой части. Про дворцовые перевороты всем интересно, а про парламент никто ничего толком не знает. Когда был создан, для чего. Почему просуществовал так недолго. А не знать это – стыд и дикость. Да и опасно не знать… – Ладно вам, профессор, что за пессимизм-то! – «Кто в сорок лет не пессимист, – сказал Шаховской и пошевелил резиновыми пальцами, – а в пятьдесят не мизантроп, тот, может быть, и сердцем чист, но идиотом ляжет в гроб». Никоненко крякнул: – Это кто сочинил? Вы? – Все тот же Сергей Андреевич Муромцев. – Эк его разобрало, вашего Муромцева! Людей не любил?.. Тут профессор спросил неожиданно: – А вы любите? Людей? Всех до одного? И аккуратно вытащил у полковника из руки тонкий бумажный листок. Никоненко так, с ходу не придумал, что бы такого сказать по поводу любви к людям, вызывать Анискина по такому пустячному поводу не стал и уставился Шаховскому в лицо. …Сразу было понятно, что желтые и тонкие листы – подлинный раритет, никаких сомнений. На первый взгляд, судя по манере написания, расположению текста на странице, бумагам лет сто, не меньше. На одном листе было письмо с обращением и подписью, на втором – какая-то записка, по всей видимости составленная наспех. Записку Шаховской отложил, а письмо поднес к глазам, зачем-то понюхал, перевернул и посмотрел с другой стороны. – Ну? – нетерпеливо спросил полковник Никоненко. – Чего там написано? Я ни слова не разобрал. Профессор начал быстро читать вслух: – «Милостивый государь Дмитрий Федорович, спешу сообщить вам, что дело, так беспокоившее нас в последнее время, завершилось вполне благополучно. Заговор ликвидирован полностью, опасность, угрожавшая известной вам особе, миновала. Со слов Петра Аркадьевича, с которым я имел удовольствие беседовать сегодня днем на Аптекарском, столь благополучным исходом, в каковой я, признаться, не верил до последнего часа, мы все обязаны князю Шаховскому, доказавшему, что и в Думе есть люди благородные, проявляющие большую волю в достижении того, что есть нужно и полезно для государства. Петр Аркадьевич уверил меня, что государь, также обеспокоенный, завтра же узнает обо всем. С нетерпением жду личной встречи, чтобы поведать вам все подробности этого удивительного дела, совершенно во вкусе г-на Конан Дойла и его сенсационных рассказов, которыми нынче зачитываются обе столицы. Сейчас могу лишь заинтриговать вас известием, что чашка с бриллиантами, фигурировавшая в деле, исчезла бесследно. Примите мои уверения и проч.». Подпись и число, двадцать седьмое мая тысяча девятьсот шестого года. Профессор перевел дух. Глаза у него блестели. Никоненко пожал плечами и покосился на письмо – он профессорских эмоций не разделял. – Как вы не понимаете?.. Судя по подписи, это письмо Щегловитова, в девятьсот шестом году он как раз был министром юстиции! Петр Аркадьевич, который упоминается, это, скорее всего, Столыпин, министр внутренних дел, и на Аптекарском у него была дача, это известный факт. – А Шаховской – это вы, что ли? – неприязненно уточнил Никоненко, который не любил, когда при нем умничали. Ну, не знает он никаких Щегловитовых, а про Столыпина слышал когда-то в школе, да и то краем уха, и что теперь? – В Первой Думе на самом деле был такой депутат от кадетской партии – князь Шаховской, – ответил профессор почему-то с неохотой. – Да, а Дмитрий Федорович, которому адресовано письмо, скорее всего, Трепов, комендант Зимнего дворца, фигура, очень близкая к Николаю Второму, некоторым образом личный телохранитель, если можно так выразиться. – Товарищ полковник, мы закончили вроде. – Закончили, так и дуйте в Управление. Дуйте, дуйте!.. Чем быстрее обработаете, тем лучше. Шаховской оглянулся на людей, никого не увидел, ничего не понял и опять уставился в письмо. – Заговор, – пробормотал он, – какой тогда мог быть заговор?.. В мае?! В апреле, да, в апреле был убит адъютант Дубасова, московского генерал-губернатора. В июне те же эсеры убили адмирала Чухнина. А в мае?! Об этом никто не упоминает! Кто это – «известная вам особа»? Да еще такая, о которой беспокоится государь и министры! Нет никаких свидетельств… При чем тут Дума? Благородные люди, проявляющие волю в достижении того, что полезно и нужно для государства! И это Щегловитов писал?! Правительство ненавидело Думу, а депутаты ненавидели правительство! Он залпом перечитал ровные строчки, написанные сто лет назад, и наткнулся на «чашку с бриллиантами, исчезнувшую бесследно». – Во вкусе господина Конан Дойла и его сенсационных рассказов!.. Значит, нашлась чашка. – Какая? А, чашка! Молодая женщина подошла к ним, стягивая перчатки, и тоже заглянула в письмо. – Надо же, – сказала она с удивлением, – и как это вы разобрали? Ничего же не поймешь. – Это просто привычка. – Шаховской отложил письмо и взял записку. При этом видно было, что с письмом ему расставаться не хочется. – Я прочитал очень много рукописных текстов, написанных именно так. С «ятями», «фитами» и твердыми знаками в конце существительных. – Всего сто лет, – и она засмеялась, – а такие перемены, что и не прочтешь! – В восемнадцатом году Ленин декретом Совнаркома упростил правописание. С тех пор оно все упрощается и упрощается. На днях отменили букву «ё», и Ленин тут ни при чем. – Шаховской рассматривал записку. – Зайца тоже хотели упростить, но, по-моему, пока не решились. – Как упростить? – не поняла молодая дама. – На одну букву, – задумчиво сказал Шаховской, – чтоб он окончательно стал «заец» не только в Интернете и любовных эсэмэсках. – Вам студентки такие пишут? Тут он в первый раз взглянул на нее. Почему-то его поразило, как кому-то могло прийти в голову, что студентки пишут ему эсэмэски и называют «заец». – Варвара, – моментально представилась она довольно насмешливо. – Я эксперт, так же как и вы, но… в другой области. – Дмитрий Иванович, – по профессорской привычке сказал он, хотя вполне можно было обойтись и без отчества, к чему тут это отчество, если можно и без него, он ведь еще не так стар, то есть и не молод, конечно, с какой стороны смотреть. В девятьсот шестом году сорок лет считались самым что ни на есть зрелым возрастом, а нынче сорокалетние – все начинающие, молодые, и держат себя так, как раньше подростки, носят кудри, ходят на танцы или… куда там они еще ходят… Тут Дмитрий Иванович вдруг сообразил, что смотрит Варваре в лицо пристально, не отрываясь, и она смотрит ему в лицо все с той же насмешкой, и Никоненко рядом сделал брови домиком и тоже уставился на него. Профессор мигом отвел глаза, она улыбнулась, а Никоненко фыркнул отчетливо. – Простите, я задумался. – Оно и видно, – ввернул Никоненко. – Во втором письме чего пишут? – Это просто записка! «Все готово, будьте сегодня в одиннадцать часов вечера в известном вам доме на углу Малоохтинского. Если придете не один, сделка не состоится. Полагаюсь на ваше благоразумие». Подписи нет, только дата. Двадцать шестое мая того же года, то есть за день до того, как было написано письмо. – Если придете один? Или не один? – уточнил Никоненко, как будто это могло иметь значение. – Написано – не один. То есть кто-то кого-то должен был привести в дом на углу Малоохтинского проспекта. Между прочим, это известное место. – Кому известное-то? – Там была подпольная мастерская по изготовлению винтовочных патронов. Был такой Сергеев, кличка Саша Охтинский, а у него приятель, кажется, Сулимов. Они как-то ухитрились вынести с патронного завода детали станка для набивки патронов и регулярно воровали оттуда же гильзы, пули и порох. Знаменитая мастерская была! По сотне патронов в день изготавливали. Это… очень много. – Тело забирать, товарищ полковник? – Ну, можем здесь оставить! А раньше всегда забирали! Шаховской поморщился. Эти люди и их разговоры мешали ему думать. Ах, да. Здесь же… убийство. Его и позвали только потому, что тут убийство. Какой-то человек совсем недавно именно в этом месте лишил жизни другого человека – и на полу сейчас лежит то, что от того осталось. Это было… сегодня. Не в мае девятьсот шестого года. И сегодня не имеет никакого смысла рассказывать про мастерскую на Малоохтинском, которая набивала до сотни патронов в день. Те патроны уже давно расстреляли, и они наверняка тоже кого-то убили, но это было давно и сейчас уже неважно. Разве насильственно отнятая жизнь перестает быть важной? Ее же нельзя отнимать, это… запрещено. – Как его убили? – вдруг спросил Шаховской. – Скверно, – отозвалась Варвара, тоже эксперт, но… в другой области. – Сначала ударили по голове, сильно, из-за спины. Он упал. Добивали ножом. Пять ранений. Два с жизнью не совместимы. На первый взгляд два, товарищ полковник. – А вы говорите – государь обеспокоен! – сказал Никоненко и почесал за ухом. – Забеспокоишься тут. В приемной за высокими распахнутыми дверями громко заговорили и засмеялись, и вошли санитары. В два счета они разложили носилки, равнодушно, как вещь, которая всем мешает и нужно поскорее от нее избавиться, перевернули тело и взгромоздили его на черную клеенку. Шаховской посмотрел. Ему же неудобно так, подумал он. Вон как лежит неловко. Надо бы переложить. Он все забывал, что это уже не человек, а нечто другое, непонятное. Смерти все равно, как именно лежит труп. Санитары подняли носилки, живые посторонились перед мертвым, и тут в этом теле, которое так неловко приткнули на черные носилки, Шаховской вдруг узнал человека, которым оно было до сегодняшнего дня. До тех пор, пока их не разделили пять ножевых ранений, два из коих были не совместимы с жизнью – человека и его тело. – Подождите, – сказал Шаховской. – Одну секунду. 1906 год, май. Варвара Дмитриевна Звонкова приближалась к цели своего путешествия. Целью был Таврический дворец, возведенный когда-то матушкой Екатериной для своего возлюбленного и вернейшего помощника в делах войны и державства князя Потемкина. Там, в полуциркульном зале, вот-вот должно было открыться очередное заседание Государственной думы. В первый раз «народные представители» собрались в белой просторной прекрасной зале всего месяц назад, двадцать седьмого апреля, и с тех пор каждое заседание становилось событием, о котором писали газеты, толковали и перетолковывали в кулуарах, обсуждали по всей России! Варвара Дмитриевна, полноправный член одной из самых многочисленных партий – кадетской, состояла «думским журналистом». Ах, какой это был май!.. В России за всю ее многовековую историю никогда не было такого мая – яростного, воистину революционного! Да что и говорить! Самодержавие, конечно, не пало, предстоит борьба, это Варвара Дмитриевна прекрасно понимает, но все же русская революция добилась огромного успеха, царю пришлось отступить. Манифест семнадцатого октября дал народу, за который радели все члены кадетской партии и Варвара Дмитриевна тоже, политические права! Варвара Дмитриевна бежала – насколько позволяли приличия, разумеется, – и улыбалась сама себе и предстоящему дню, очередному дню работы первого русского парламента. Какие прекрасные, звучные слова – русский парламент! Кто бы мог подумать еще пять лет назад… нет, нет, даже год назад, что в России будет свой парламент! Неужели сдвигается неповоротливая туша государственного бюрократизма, абсолютная власть отступает? Как будто сверкающий меч революции надвое рассек ее, и всему народу явился свет! Тут Варвара Дмитриевна подумала, что хорошо бы этот пассаж запомнить и записать, пригодится для статьи. Решетка сада Таврического дворца была уже совсем близко, и Варвара Дмитриевна пошла потише, посолиднее. Английский бульдог, которого она вела на поводке, оглянулся с неудовольствием. Он в парламентаризме ничего не смыслил, зато искренне полюбил сад вокруг дворца, с его дорожками, лужайками и скамейками, которые он поливал с истинно английской невозмутимостью. Бульдога Варваре Дмитриевне из туманного Альбиона доставил один британский журналист в качестве презента. Журналист ей нравился, он был настоящий англичанин – сдержан, с превосходными манерами, хорошо образован, толковал в основном о политике, но что-то подсказывало госпоже Звонковой, что бульдога он вез ей вовсе не как коллеге и товарищу по парламентской работе. Бульдога назвали Генри Кембелл-Баннерман. Немного сложно, конечно, зато получился полный тезка британского премьер-министра – и смешно, и с намеком. Что нам все на Запад оглядываться да горевать, что на Руси-матушке по сию пору лаптем щи хлебают? Вон у нас какие перемены – собственный парламент, где совершенно законно высказываются накопившиеся за столетия претензии к власти, и власть принуждена слушать и отвечать! Это вам не тихие разговоры на ухо, не пение запрещенных песен под сурдинку, не марксистский кружок!.. Кстати, Маркса бы надо почитать, вот что. Варваре Дмитриевне про него толковали, выдающийся экономист, мол, целую теорию придумал, объясняющую весь мировой порядок. Она собиралась ознакомиться, да так и не собралась. Некогда, работы много. Был еще профессор Лист, печатавшийся, кажется, в Берлине, и его тоже читали и цитировали, и Варвара Дмитриевна знала, что мнение немецкого профессора Листа – последний аргумент во всяком споре о благе русского народа. Почему-то так выходило, что русские должны то и дело оглядываться на заморских ученых, приноравливать свою жизнь к их теориям, настолько непонятным, что у Варвары Дмитриевны от долгих рассуждений о Марксе и Листе начинал болеть висок. Генри Кембелл-Баннерман потянул было в сторону, но хозяйка вернула его на тротуар. Вон уже дворец из-за деревьев выступил, сейчас прибудем. Дорожки сада были запружены народом, дамы в нарядных платьях создавали ощущение праздничности. Вообще Варваре Дмитриевне казалось, что, несмотря на ежечасно разражавшиеся бури, на стычки с оппонентами, на противостояние с министрами, ощущение праздника не покидает Таврический дворец ни на минуту. Гармонический простор белых зал, переходов, заново отделанных покоев напоминал о пышной державности екатерининского века, а дух свободы и открытости, возможность на весь мир говорить о наступивших и грядущих переменах укрепляли веру в будущее, в Россию! Это бы тоже хорошо записать, решила Варвара Дмитриевна, а Генри Кембелл-Баннерман весело потрусил к любимой скамье, которую он никогда не пропускал и всегда орошал в первую очередь. Варвара Дмитриевна переждала момент орошения, независимо глядя в сторону. С ней здоровались, и она кивала в ответ, улыбалась приветливо, и всякому казалось, что милые ямочки на щеках госпожи Звонковой – последний, недостающий штрих к картине веселой деятельной озабоченности. Кивая направо и налево, Варвара Дмитриевна прошла по галерее в кулуары, где собралось уже много народу – все ожидали заседания, как званого пира. Здесь до конца, до последнего слова обсуждалось то, что никак невозможно было договорить в зале заседаний, где присутствовали председатель, пресса, стенографисты с их отчетами! В кулуарах царила безбрежная, как море, свобода. Здесь депутаты встречались с народом, сюда приходили ходоки, вокруг которых собирались митинги. Тут все точно дрожало от нетерпения и нетерпимости, здесь неизменно звучал лозунг – требуйте, требуйте!.. Требуйте земли, воли, новых свобод. Здесь, в кулуарах, были свои герои, как Алябьев, депутат от «трудовой партии», носивший гвоздику в петлице. Он упивался похвалами журналистов и публики, говорил много и горячо. Вот и сейчас, до заседания, Алябьев уже ораторствовал и собрал небольшую толпу. Варвара Дмитриевна хотела остановиться и тоже послушать, а потом вспомнила странную нелюбовь Генри Кембелл-Баннермана именно к этому социалисту, и передумала останавливаться. Их с Генри путь лежал мимо залы заседаний в большую угловую комнату, где помещалась конституционно-демократическая партия и Варвара Дмитриевна обыкновенно работала. Был Большой день – когда в министерской ложе появлялись министры со своими проектами законов, которые Дума должна была принять или отвергнуть. В такие дни заседания законодательного собрания обыкновенно превращались в «безудержный митинг», как писали газеты. Вся сила двух основных партий – кадетов и «трудовиков» – была направлена против правительства, и в Большие дни министрам приходилась несладко. Муромцев, думский председатель, обыкновенно устраивал после министерских речей небольшой перерыв, чтобы депутаты немного выпустили пар в кулуарах, но это не слишком помогало. Министры виделись депутатам врагами народа, и они почитали своим долгом как можно скорее и как можно резче вывести этих «прислужников самодержавия на чистую воду», сказать им всю правду. Горение духа исключало всякую практическую догадку. Сотрудничество с правительством было непреложным условием законодательной работы любого народного представительства, меж тем «всякое соприкосновение с властью приводило депутатов в состояние сектантского негодования». Варвара Дмитриевна вошла в комнату с большими французскими окнами, ответила на приветствия собравшихся товарищей по борьбе и парламентской работе, спросила чаю и вывела Кембелл-Баннермана на травку. Бульдог дал круг, огибая клумбу, попил из мраморной чаши, в которую налило вчерашним дождем, улыбнулся и улегся в тенек, а Варвара Дмитриевна приступила к своим обязанностям. «Весь дворец кипит, дышит, двигается, полный надежд на новую, невиданную свободу и невиданную ранее русскую демократию, которая сию минуту нарождается здесь, в этих высоких белых залах, покоем расположенных в Таврическом дворце, окна которого выходят в прекрасный сад, насаженный еще при князе Потемкине, и этот весенний сад будто поддерживает своим буйным весенним цветением в наших чаяниях и надеждах». Варвара Дмитриевна поставила точку и пристроила перо рядом с чернильницей понадежней, чтоб держалось. Дурацкое перо часто скатывалось и однажды оставило на белой, первый раз надетой блузке довольно большое пятно. – Что вы там все пишете, Варвара Дмитриевна? Дневник ведете? Это была шутка, и Варвара Дмитриевна улыбнулась. – Вот уж нет. Боюсь, не успею всего. Такой день впереди! Сегодня министра финансов ждут с его идеей французского заема. Жарко будет. Князь Дмитрий Иванович Шаховской, секретарь думского председателя и его главный помощник, улыбнулся в ответ: – Ничего. Вы быстрая. Учитесь на ходу. – Я и раньше писала в газеты! – За что мы вас особенно ценим, Варвара Дмитриевна. Ценили не только за это, но и за быстрый ум, жизнерадостность, готовность внимательно слушать, запоминать, четко передавать главное, не увлекаясь отсебятиной, которая так свойственна пишущим мужчинам!.. А еще Варвара Дмитриевна чудо какая хорошенькая. Это, конечно, не самое главное, но рядом с хорошенькими и в политике как-то веселее. В большой угловой комнате, где помещалась фракция кадетов, окна стояли открытыми весь день, можно выйти прямо в сад к деревянной решетке, увитой шток-розой, возле которой в теньке полеживал сейчас полный тезка британского премьер-министра, и там, на свободе, продолжить заседание. Впрочем, заседанием и не назовешь то, что происходило в угловой комнате с открытыми в потемкинский сад французскими окнами! Некогда тут заседать да беседовать! Такие дела творятся! Нужно с лету, на ходу, в короткий перерыв между прениями и голосованиями составить язвительный, уничижительный ответ на министерскую речь, наметить ораторов, полных неизжитого гнева против неограниченного самодержавия. Перерыв, устраиваемый председателем Муромцевым, не охлаждал горячие головы, а еще больше распалял их!.. Из залы заседаний взбудораженные депутаты приносили с собой в кулуары «пульсацию прений». Здесь можно было не опасаться чужих ушей, не считаться с произведенным впечатлением, тут собирались «свои», понимающие, горящие общностью идей и настроений. Вот и хорошенькая Варвара Дмитриевна горела. Князь Шаховской в свое время настоятельно рекомендовал товарищам по кадетской партии принять госпожу Звонкову в свои ряды, хотя заслуг у нее было маловато и политически она была не слишком подготовлена, впрочем идеи конституционных демократов разделяла всей душой. Но он настаивал и в конце концов убедил – партия только выиграет, если в мужском ареопаге будет женщина. Начала Варвара Дмитриевна с того, что устроила бой с Милюковым по вопросам женского равноправия. Разумеется, в кадетской партии состояли люди все выдающиеся, просвещенные, передовые – юристы, правоведы, профессора – и вопрос о женском равноправии к тому времени был уже как будто разрешен. Однако Павел Николаевич почему-то упирался, указывая на то, что женское избирательное право, да и равноправие вообще, вызовет недовольство среди крестьян, не привыкших смотреть на женщину, как на равную. Он справедливо отмечал отсталость русских крестьянок, их малограмотность и неподготовленность к политической жизни. Впрочем, многие подозревали Павла Николаевича в известном лукавстве. Он был большим любителем дамского общества и, возможно, побаивался, что политическая борьба несколько помрачит женское обаяние. Варвара Дмитриевна до того памятного дня, когда состоялся ее бой с Милюковым, вовсе и не задумывалась над женским вопросом. Ни Бебеля, ни Брауна, самых яростных пропагандистов женских прав, не читывала. Но ей даже подумать было странно, что образованный человек, видный либерал мог отрицать ее с ним равность! Ведь до манифеста семнадцатого октября политических прав не имел никто, ни женщины, ни мужчины! Значит, и получить их должны все, все! Дело происходило во время трехдневного съезда кадетской партии, в полукруглом амфитеатре Тенишевского училища, переполненном людьми. Съехались со всей России! Помнится, тогда кто-то и предложил название «партия народной свободы», но предложение отвергли, приняв трудную, из двух слов сложенную «этикетку» – конституционно-демократическая. Программу «партии народной свободы» особенно и не обсуждали, она была давно обдумана и выработана, об этой программе по всей России толковали за самоваром, беседовали в гостях и на журфиксах. Неужели все правда, господи помилуй?.. После стольких лет темного, неограниченного самодержавия власть признала наконец, что народ «имеет право голоса»? Что «народное представительство» будет созвано и вот-вот проведут выборы в первый русский парламент? Поминались новгородское вече и боярская дума. Все чаще слышались слова «революция» и «оппозиция», производившие должное впечатление даже на смиренные умы. Профессора и правоведы разъясняли за чаем необходимость конституции самого последнего образца авантажным дамам, горевшим той же жаждой свободы, что и вся Россия. Так вот, равноправие!.. Милюков равноправие отрицал за ненадобностью, и на помощь ему пришел кто-то из мусульманских кандидатов, кажется, из Казани, который объявил, что в случае внесения такого пункта в программу мусульманские голоса будут потеряны. Варвара Дмитриевна, недавно только возвратившаяся из Парижа, вся кипела. Стремительно взлетела она на кафедру и заговорила горячо, громко. На нее посматривали с удивлением – многим она была незнакома, хотя ее статьи в «Освобождении» и «Вопросах жизни» считались занимательными, их читали. Но все же места в рядах она еще не заняла. Варвара Дмитриевна начала с того, что сознание людей необходимо поднимать, а не тащить вниз. Русская женщина, уверяла собрание Звонкова, вполне доказала свою зрелость, участвуя в политическом движении. Борьбу вели вместе и женщины, и мужчины, вместе подвергались опасностям, гонениям, подчас вместе шли в тюрьму! Куда же это годится, если мужчины получат права, а женщины нет? И все это было так мило, так горячо, так искренне, что жар пробежал по рядам, и даже Павел Николаевич умилился. Избирательных прав наравне с мужчинами женщины так и не добились, но Варвара Дмитриевна свою лепту в борьбу внесла, и чопорный англичанин, кажется, оценил ее смелость. Конечно, у них в Европе с женским вопросом дело плоховато поставлено. У нас в России гораздо лучше и разумней, что есть, то есть. Либералы от души признавали женское равноправие и с удовольствием наблюдали живейшее участие дам в политической жизни, ценили энергию, которую они развивали на ниве освобождения России. Другое дело, что Варваре Дмитриевне не приходило в голову, будто у нее должны быть равные права не только с мужчинами – либералами, профессорами и адвокатами, любовавшимися ее горячностью и ямочками на щеках, но и со Степаном-конюхом из ее волжского имения, которого она терпеть не могла за то, что, подвыпив, он всегда буянил и орал несусветное, а также с женой его Акулиной, неряшливой бабой, так плохо смотревшей за детьми, что приходилось то и дело возить к ним доктора из Нижнего. Впрочем, это неважно. Тут что-то недодумано. А сомневаться в необходимости равноправия – стыдно просвещенным людям начала двадцатого века. Возле овального стола ораторы, намеченные сегодня возражать министру финансов Коковцову, – в том, что ему придется возражать, не было никаких сомнений, и возражать колюче, задорно, не давая опомниться! – в последний раз проверяли доводы, согласовывали позиции, обсуждали слабые стороны противника. Варвара Дмитриевна на секунду присела к ним за стол, послушала немного, а потом вышла в сад к Генри Кембелл-Баннерману и не удержалась – расхохоталась. Давешний оратор Алябьев с гвоздикой в петлице маялся в некотором отдалении, как видно, намеревался зайти в помещение, но опасался Генри, раскинувшегося под шток-розой. – Алексей Федорович! – окликнула его госпожа Звонкова. – Вы к нам? – Добрый день, Варвара Дмитриевна. Я не знал, что ваш верный страж… сегодня опять с вами. – Генри без меня сильно скучает. Проходите, я его подержу. – Благодарю, Варвара Дмитриевна. Генри, радостно приветствовавший хозяйку верчением плотного обрубка хвоста, при приближении Алябьева скосил глаз и зарычал, негромко, но убедительно. – Ах ты, господи!.. Идите, идите, не бойтесь. – Да я и не боюсь, – пробормотал себе под нос Алексей Федорович, который боялся бульдога и терпеть его не мог. Такая хорошенькая девушка, на что ей это чудище заморское?! Сопит, рычит, хрюкает неприлично при дамах, редкая гадость. – Вы к Дмитрию Ивановичу? Князь Шаховской, как секретарь председателя, вечно всем был нужен, все его разыскивали, о чем-то просили, что-то втолковывали, отводили в сторону, понижали голос и настаивали. Князь терпеть не мог интриговать и келейничать, и вообще в Думе его почитали несколько одержимым идеей демократии. Муромцев, к примеру, став председателем, от повседневной жизни отстранился совершенно, несколько даже занесся и все повторял, что «председатель Государственной думы второе после государя лицо в империи». Князь же, совершенно напротив, показал себя бесценным практическим работником. Почему-то никому не приходило в голову, что вновь созданная Дума – не только трибуна для проявления ораторских способностей и всяческого обличения правительства, но… учреждение, которому прежде всего должно работать именно как учреждению. Князь Дмитрий Иванович взвалил на себя все: наладил думскую канцелярию, сношения с прессой, раздачу билетов для газетчиков и для публики. Кроме того, был налажен стенографический отдел. Состав стенографисток оказался подобран превосходно, отчеты раздавались иногда в тот же день, что особенно ценили журналисты. Варвара Дмитриевна рядом с Шаховским чувствовала себя приятно и легко, и даже просто упомянуть его имя казалось ей весело. – У меня короткое дело собственно к князю Шаховскому. – Алябьев продвигался мимо решетки к распахнутому французскому окну, за которым звучали громкие голоса, как видно, спор разгорался, а Генри Кембелл-Баннерман рычал все отчетливей. – За что же он меня невзлюбил, хотелось бы знать? – За политические взгляды, Алексей Федорович! – объявила госпожа Звонкова и засмеялась. – Вы же социалист, а он социалистических идей не разделяет. – Напрасно, Варвара Дмитриевна, напрасно. Вот увидите, именно идеи социал-демократов будут единодушно приняты и подхвачены русским народом! – И зачем только он пошел через сад, а не покоями! – Двадцатый век докажет… что социалисты вырвут Россию из многовековой… темноты… укажут совершенно иной, невиданный путь. Социализм перевернет и разрушит прежний строй, самодержавие падет под его ударами… Генри Кембелл-Баннерман, полный тезка британского премьер-министра, вскочил на упористые, как будто вывернутые лапы, выдвинул и без того отвратительную нижнюю челюсть, гавкнул на весь сад и капнул слюной. …Порвет брюки, с тоской подумал Алябьев. Как пить дать порвет. Репутации конец, и брюки жалко. Следовало отступить красиво и с достоинством, но как это сделать на глазах у госпожи Звонковой, которая тонкими пальчиками держала бульдога за складчатый загривок и смотрела смеющимися глазами. Разве такие пальчики удержат эдакое… насекомое?.. Тут, слава богу, его окликнули из-за кустов: – Алексей Федорович! Прошу прощения! Алябьев оглянулся, Варвара Дмитриевна, присевшая было возле собаки, поднялась, а Генри потоптался, развернулся и зарычал уже в сторону кустов. – Bad boy, – выговорила ему Варвара Дмитриевна с укоризной. – What’s the matter with you today?[1] Считалось, что бульдог понимает исключительно по-английски. – Алексей Федорович, – заговорили издалека, – вас во фракции ждут, просили сию минуту подойти! Вот-вот к заседанию позвонят. Алябьев воспрял духом. Можно удалиться красиво и за брюки не опасаться!.. – Эдакая спешка каждый день! Ничего не поделаешь, придется явиться. Князю поклон, да мы еще увидимся… И Алексей Федорович пропал из глаз. – Stay here, Henry! Be nice dog[2]. Полный тезка британского премьера, только что изгнавший противника и отлично это сознающий, облизнулся плотоядно и ткнулся Варваре Дмитриевне в юбку. – Негодник! Пока отряхивала юбку – что за наказанье такое, опять слюни! – пока выговаривала Генри, по сторонам не смотрела, а когда подняла глаза, увидела перед собой, очень близко, молодого человека в заношенном студенческом сюртуке. Шапку он мял в руках. – Разрешите отрекомендоваться, Варвара Дмитриевна. Борис Викторов, бывший студент, пятнадцатого класса чиновник[3], – госпожа Звонкова шутку про «пятнадцатый класс» оценила, улыбнулась миленько. – Состою при Алексее Федоровиче Алябьеве, помогаю по мере сил. – Вы журналист? – Н-нет, – запнулся, будто бы не сразу сообразив, Борис. – Больше по практической части. Варвара Дмитриевна не стала уточнять. Вот уж неинтересно! Погрозила Генри Кембелл-Баннерману, еще раз велела быть «clever boy» – хорошим мальчиком, смежила ресницы – солнце светило уж больно ярко! – и направилась к французскому окну, за которым уже доспоривали, говорили потише. И впрямь вот-вот к заседанию позвонят! – Горячий сегодня день, – вслед ей сказал помощник Алябьева. – Министра финансов ждут, а он из… непримиримых. Варвара Дмитриевна кивнула и совсем вознамерилась уйти, но молодой человек не унимался. – Госпожа Звонкова, – он придвинулся поближе, шапка у него в руках тряслась. Нервическая дрожь, что ли? – Нельзя ли мне на минутку видеть князя Шаховского? Что это такое, помилуйте, всем сегодня с утра нужен князь, да Варвара Дмитриевна и понятия не имела, можно или нельзя! Князь перед заседаниями бывал особенно озабочен, многочисленные важные и мелкие дела требовали его внимания, да и Муромцев, председатель, ни минуты не мог без него обойтись. – Зайдемте и узнаем, – предложила Варвара Дмитриевна довольно холодно. – Нет, нет, мне никак нельзя!.. Вы не могли бы… вызвать его сюда? Генри Кембелл-Баннерман при этих словах Бориса нашел нужным негромко зарычать, и госпожа Звонкова вдруг натуральным образом перепугалась. Разумеется, в Таврическом дворце не было и не могло быть никакого отпетого народа. И полуциркульный зал заседаний, и кулуары, и сад наводнены приставами. Дюжие молодцы с серебряной цепью на шее жестко блюли порядок, особенно в дни, когда в правительственной ложе появлялись министры. Террористы вряд ли могли проникнуть в Думу, но по всей России они продолжают убивать. То и дело приходили известия из Твери, Самары и других городов – там убит губернатор, а здесь прокурор, а то и телеграфист, почтмейстер. Эсеры и эсдеки – социал-демократы, к которым как раз и принадлежал Алябьев, – продолжают убивать жестоко и безрассудно, и прогрессивная русская общественность решительно не знает, как следует относиться к этому явлению. И Варвара Дмитриевна не знала!.. Вроде бы убийства и жестокости творились на благо революции и дела освобождения, но… все же страшно очень! Князь Шаховской утверждает, что террор нужно непременно осудить публично, с думской трибуны, ибо парламент не сможет работать, пока не наступит в стране успокоение, но осудить – значило косвенно поддержать правительство, а следовательно, ненавистное самодержавие!.. … А вдруг этот человек с его шапкой… из этих? Вдруг он задумал страшное, сейчас прогремит взрыв, – Варвара Дмитриевна знала, что при последнем акте было убито двадцать семь и ранено больше ста человек, – и ничего этого больше не будет. Ни сада, ни Генри, ни решетки, увитой шток-розой, ни майского свежего утра. И ее, Варвары, не будет тоже. Только куча окровавленной плоти в комьях вывороченной земли, расколотая надвое мраморная чаша, запах пороха и гари. – Нет, – пробормотала сильно побледневшая Варвара Дмитриевна и отступила. – Нет, нет!.. – Помилуйте, мне на одну минуту только!.. – Генри! За мной! Бульдог вскочил и следом за хозяйкой забежал за французское окно. Варвара Дмитриевна моментально повернула витую ручку. В комнате никого не было, кроме князя Шаховского. Он пробегал глазами какие-то бумаги, и когда ворвалась госпожа Звонкова, поднял голову. – Что с вами, Варвара Дмитриевна? Вас что-то напугало? – Там… человек. Он странный. Князь одно мгновение изучал ее лицо, а потом подошел и стал рядом. Она смотрела в сад. – Никого нет, Варвара Дмитриевна. И в самом деле – никого не было на дорожках и возле решетки со шток-розой. Сад опустел перед заседанием совершенно. Варвара Дмитриевна коротко вздохнула и незаметно вытерла влажную ладонь о юбку. Все это ей показалось странно и очень нехорошо. – Убитого зовут Павел Ломейко, – выговорил Шаховской с усилием. Тело, которое только что унесли санитары, перестало быть просто телом и обрело вполне человеческие знакомые черты, и профессору трудно было это осознать. – Я хорошо его знал. – Ломейко Павел Игоревич, – подтвердил полковник Никоненко, – по документам так и установлено. Значится директором музея. А вам-то он откуда известен? – Какого музея? – Это музей, – и Никоненко показал почему-то на камин с мраморной полкой. – А потерпевший, стало быть, его директор. Был. – Позвольте, это здание никогда не было музеем! …Вот ученый народ, это надо же, подумал полковник с веселым раздражением. Ты ему про труп, а он тебе про музей! Ну, вот какая ему разница, музей тут или, может, пивная?! – С прошлого года здание отдали под музей, а Ломейко назначен директором. Откуда вы его знаете, а? – Музей чего?! – Я не знаю. Музей и музей. Вам потерпевший откуда известен, Дмитрий Иванович? Шаховской зачем-то принялся опять натягивать резиновые перчатки, которые только что бросил. – Павел Ломейко в прошлом году собирался защищать докторскую диссертацию. Я был назначен его оппонентом. – И чего он? Провалился с треском? – Защита не состоялась. Я прочел монографию, потом затребовал текст целиком, и… в общем, до защиты его не допустили. – Да что такое случилось-то с этой защитой?! – Вот чего Никоненко терпеть не мог, так это когда при нем умничали и говорили загадками! – Текст оказался скомпиллированным из докторской диссертации профессора Серебрякова почти двадцатилетней давности. Защищался Серебряков в Томском университете. Павел Игоревич, попросту говоря, все украл. Плагиат. Это нынче повсеместное явление. – А вы, стало быть, вывели его на чистую воду? – Я не понимаю, что вас так раздражает, – сказал Шаховской полковнику. – Я стараюсь помочь. Как могу. Так получилось, что Серебряков еще аспирантом читал у нас в университете спецкурс. Я его помнил отлично. Это правда случайность! Если бы Серебряков не читал, а меня не назначили оппонентом… – Помер бы этот самый Ломейко доктором наук, – закончил за Шаховского полковник. – А вы тогда с ним сильно поссорились, профессор? С потерпевшим? – Он приезжал объясняться, мы поговорили… довольно резко. Я, кажется, сказал ему, что воровать нехорошо, а он просил не устраивать скандала. – А вы все равно устроили! – Я довел до сведения аттестационной комиссии, что текст диссертации не имеет никакого отношения к соискателю и написан совершенно другим человеком много лет назад, – отчеканил Шаховской. – И привел доказательства. Больше мы с ним не виделись. Я понятия не имел, что он директорствует в музее! – Тут профессор подумал немного. – Видимо, у него были значительные связи, раз уж после всего этого его сюда назначили. – Ну, связи мы все проверим. А вы его не убивали, профессор? Просто чтобы очистить науку от всей и всяческой скверны? Шаховской посмотрел полковнику в лицо. Эксперт Варвара, возившаяся со своим чемоданчиком и делавшая вид, что ничего не видит и не слышит, перестала возиться и покосилась на профессора и полковника. – Я не убивал, – сказал Шаховской. – Впрочем, это все тоже проверяется, правда? Я с самого утра был в университете, читал лекции, а потом в Думе, откуда вы меня и привезли. Они еще посмотрели друг на друга и отвели глаза. Поединок кончился вничью. Варвара снова принялась тихо возиться. – Чашка, – Дмитрий Иванович взял со стола фарфоровую штуку. – Значит, так. Мейсен, примерно середина девятнадцатого века. Видите, клеймо, скрещенные голубые мечи? В восемнадцатом вот здесь, внизу, еще рисовали звезду, а в двадцатом, до тысяча девятьсот тридцать пятого года, наоборот, вверху ставили точку. Здесь нет ни того, ни другого. Рисунок, традиционный для мейсенского фарфора, называется «синие луковицы», не знаю почему. Никоненко слушал очень внимательно, ехидных вопросов не задавал. – Мейсенские сервизы были в основном у аристократов, у августейших фамилий, разумеется. Все изделия расписываются исключительно вручную с тысяча семьсот девятнадцатого года и по сей день. Чашка в прекрасном состоянии. Такое впечатление, что она лежала в каком-то специальном хранилище. – Я вам сейчас покажу это хранилище. – А императору она могла принадлежать? – спросила подошедшая Варвара. – Какому? – Ну, не знаю. Николаю Второму, например? Шаховской пожал плечами. Неподдельный интерес к императорам, который в последнее время охватил всех без исключения, его раздражал. Кто только и каких только глупостей не писал и не рассказывал про этих самых императоров, стыдно читать и слушать. Почему-то принято считать, что интерес к ним означает интерес к истории отечества, но писали как раз больше про фарфор, наряды жен и дочек, мундиры и прочую ерунду. Вот, например, о том, что Петр Великий почти грамоте не разумел и до конца жизни не умел в слова гласные вставлять, так и писал одними согласными, и указы его собственноручные разобрать было невозможно даже по горячим следам, никто не упоминал, а это важно, важно!.. Гораздо важнее для понимания личности грозного реформатора, чем кафтаны, Анна Монс и фарфоровые чашки!.. – Эта чашка могла принадлежать кому угодно, – сказал Шаховской Варваре, которая, по всей видимости, тоже интересовалась императорами. – Николаю Второму в том числе. Или его отцу, Александру Третьему. А могла не принадлежать ни ему, ни его папе. – Подойдите сюда, Дмитрий Иванович!.. Видите? Обойдя лужу черной крови на полу, Шаховской подошел к полковнику. – Смотрите! Тут, по всей видимости, раньше дымоход был, а потом его заложили. Шаховской стал на цыпочки и посмотрел. С чугунной, наглухо замалеванной дверцы была сбита краска, царапины совсем свежие. За дверцей оказался небольшой тайничок. – По всей видимости, и чашка, и бумаги вытащены именно отсюда. – Значит, их положили в тайник, когда печи уже не топили и дымоходы были заложены. Ни бумага, ни фарфор не выдержали бы перепадов температуры. То есть намного позже девятьсот шестого года, которым датировано письмо! И… класть в тайник чашку странно. – Пустую – странно, – согласился Никоненко неторопливо. – Но в ней могло что-то лежать и, скорее всего, лежало! Как раз то, что и забрал с собой злодей. Из-за чего весь сыр-бор. Может, бриллианты? Чашку с бриллиантами-то тиснули, как в послании этом говорится! То есть бриллианты тиснули, а чашку оставили! – Я не подумал, – пробормотал Шаховской. – Хорошо, а что здесь было раньше? Ну, в особняке? В девятьсот шестом году, к примеру? – Здесь жил человек, это был его дом. Звали человека Арсений Морозов, он являлся племянником знаменитого Саввы. Кажется, двоюродным. Никоненко засмеялся. Почему-то его развеселило, что в этом особняке на Воздвиженке жил какой-то человек и у него даже было имя!.. Варвара тоже засмеялась, Шаховской не понял из-за чего. – Этот участок Арсению подарила мать, происходившая из рода купцов Хлудовых. Очень богатые фабриканты. А раньше на этом участке был цирк, весьма популярный, потому что место хорошее, бойкое, рядом с Арбатской площадью. А потом цирк в одночасье сгорел. Причины пожара так и не доискались. В Москве поговаривали, что сожгли, чтобы освободить место, которое матери Арсения очень приглянулось. – Да ну? – Никоненко округлил глаза. – Вот ведь какое беззаконие в то время процветало! Пожары устраивали, чтоб, стало быть, землю захватить!.. Дикие времена! – Арсений Морозов где-то в Антверпене познакомился с архитектором Мазыриным, который этот дом и построил. Он был довольно странным человеком. Например, всерьез утверждал, что в прошлой жизни был египтянином и сооружал пирамиды. – Батюшки-светы, – закудахтал Никоненко-Анискин, – это ж надо такому быть, чтоб в православной стране отдельные личности верили в переселение душ! Это что ж такое получается, а?.. Никакого православия, а сплошная дикость нравов и брожение умов! – Над Мазыриным все смеялись, а Морозову он нравился. Должно быть, как раз потому, что производил впечатление сумасшедшего. Когда дошло дело до строительства, Мазырин все же спросил у заказчика, в каком стиле строить, и стал перечислять все имеющиеся в архитектуре стили, на что Морозов ответил: «Строй во всяких, у меня на все денег хватит!» – Вот какие миллионеры-то на Руси водились, – не унимался участковый уполномоченный, – понятия никакого, зато денег куры не клюют! Это надо ж такому быть – строй во всяких! За все плачу, мол!.. Все им дозволено было, миллионерам-то! Вот времена лихие! – Игорь, – тихо сказала Варвара, – что ты разошелся? – Я?! – поразился Никоненко. – Да я радуюсь от всей души, что такого безобразия сейчас не бывает, миллионеры у нас сплошь культурно образованные, богатство свое не показывают, употребляют в дело да на благо!.. А, Дмитрий Иванович? Шаховской осторожно поставил чашку в тайник и прикрыл дверцу. Закрывалась она плохо, видно, долго была замурована. Собственно, она оставалась замурованной до сегодняшнего дня. Когда дверца открылась, произошло убийство. Как странно. Почти невозможно осознать. – Этот дом строили всего два года. Скорость по тем временам, да и по нынешним, невероятная!.. Стили на самом деле разные, и мавританский, и модерн, и готика. Есть легенда, что именно про этот дом писал Толстой в «Воскресении». В том смысле, что «строится глупый, ненужный дворец глупому и ненужному человеку». Он осторожно достал чашку и вернул ее на стол. – Да, а мать Арсения, когда дом был построен, сказала сыну знаменитую фразу: «Что ты дурак, я одна знала, а ты хочешь всей Москве показать!» Тем не менее, Арсений Морозов прожил здесь девять лет, а в девятьсот восьмом году, во время какой-то чудовищной попойки, на спор прострелил себе ногу. – Зачем?! – удивилась Варвара. – Он что? Вправду дурак был?! – Спорили о том, что волевой человек может вытерпеть любую боль. Он вытерпел, к врачу не поехал, а через три дня помер от заражения крови. Ему было тридцать пять лет. – По пьяной лавочке-то каких только дел не наделаешь, – встрял Никоненко, – особенно когда вокруг друзья-товарищи весело гуляют! – Какое-то время дом пустовал, в восемнадцатом году сюда въехал Пролеткульт, труппа Первого рабочего театра, потом его передали Наркомату иностранных дел, здесь были посольства, потом общество дружбы народов, а в последнее время дом приемов правительства. – А сейчас музей! – похвастался Никоненко. – Этого я не знал. …Хоть чего-то ты не знаешь, и то хорошо, приятно!.. – Присядем, товарищ профессор! – и Никоненко отодвинул стул. – Порешаем, чего нам от вас нужно! Шаховской осторожно передвинул драгоценную чашку на середину стола, чтобы не задеть, не дай бог, а бумаги пристроил рядом со своим локтем, так чтобы все время их видеть, и вдруг спохватился: – А здесь можно сидеть? Мы ничего не… нарушим? – Не нарушим. – Хотите чаю? – Это Варвара спросила. – А у тебя есть, что ли? – Не было б, я бы не предлагала! – Валяй, наливай чаю! Дмитрию Ивановичу донельзя странно и непонятно было, как это в комнате «с убийством» можно ни с того ни с сего пить чай, тем не менее предложенный алюминиевый стаканчик он взял. Пахло из стаканчика хорошо, лимоном и еще чем-то приятным, и он вдруг подумал, что очень хочет есть. – Бутерброд? – спросила Варвара. – А у тебя с чем? – С колбасой, конечно. – Давай, давай скорее! Некоторое время все молча жевали. Чай и бутерброд с колбасой всегда делают жизнь чуть более легкой, а неразрешимые вопросы чуть более простыми. – Мне нужно понять, что именно могло быть в этой чашке, – с набитым ртом заговорил Никоненко, – если из-за ее содержимого убили человека! Ну, судя по писульке этой – бриллианты были, только что-то не верится мне в такие клады. Чашку бросили, бумажки бросили – нам оставили вместе с трупом!.. Как бы узнать, что там хранилось, а? И можно ли это узнать в принципе? Больше нету бутерброда, Варвара Дмитриевна? – Есть, есть!.. А вам, Дмитрий Иванович? Шаховской взял и второй. Что такое происходит в его жизни, а?! Почему он пьет чай в особняке Арсения Морозова на Воздвиженке, а время к ночи, на полу кровь и обведенный мелом силуэт человека?! – Можно попробовать установить, о каком именно заговоре идет речь в письме. Поискать в архивах свидетельства. Данных маловато, конечно, но если там на самом деле упоминается Столыпнин, а писал на самом деле Щегловитов, могло что-то остаться… Я, правда, не могу пока представить, как это связать с убийством и вообще с сегодняшним днем… – Это мы сами свяжем, – перебил Никоненко нетерпеливо. – Ясно ежу, что убийца знал про эту чашку и ее содержимое. И покойник или знал, или узнал… некстати. – Подождите! – Шаховского вдруг осенило. – Но сейчас ведь не девятьсот шестой год! – Это точно! – Значит, есть какие-нибудь камеры, да? Ну, не может не быть! И если это музей, наверняка есть сторож, охрана! – Все, все есть, дорогой вы мой Дмитрий Иванович! – засмеялся Никоненко. – И камеры, и сторож с охраной!.. Не стал бы я вас сюда тащить, да еще из самой Думы, – тут он округлил глаза уважительно, – если б камеры да сторожа могли мне содействие оказать! – А они не могут… оказать? – Потерпевший Ломейко Павел Игоревич был назначен директором этого самого музея не знаю чего всего месяца четыре назад. Первым делом потерпевший объявил здесь ремонт, который сейчас и осуществляется. – Ремонт? – не поверил Шаховской и обвел взглядом ампирную залу, находящуюся в полном и безупречном порядке. – Здесь идет ремонт? – По документикам – полным ходом. Средства из бюджета выделены, ведутся работы по улучшению, так сказать. В связи с ремонтом никакая пропускная система тут не действует, чтобы рабочие могли беспрепятственно заходить и покидать здание. – Но здесь нет никакого ремонта! – Да что вы говорите! – воскликнул Никоненко. – Не может такого быть, чтоб не было, раз по документам он есть! Положено быть!.. Он вытряхнул себе в рот остатки чая из алюминиевого стаканчика, посмотрел в него с сожалением, аккуратно поставил на стол, сложил руки на животе, наклонил голову набок и уставился на Шаховского. – Эх, люблю я ученых людей! – порассматривав профессора таким макаром некоторое время, объявил Никоненко-Анискин. – Что птички божьи, чесслово!.. Чистые, наивные души. В науках всяких разбираются, а в практической жизни – вот ни-ни, нисколечко! И замолчал, выжидая. Дмитрий Иванович смотрел в бумаги и ничего не говорил. Пришлось продолжать. – На ремонт отпущена сумма, которая, как я понимаю, сейчас и осваивается в правильном направлении!.. Под открытие здесь провели бы уборку, полы натерли, люстры надраили – готово дело, как будто был ремонт! – Как будто? – переспросил Дмитрий Иванович. – Короче, в сухом остатке так: по вечерам в сторожке дежурят два охранника. Ну, чего там они дежурят, чай дуют и в телевизор пялятся. Мимо них муха не пролетит, понятное дело. Камеры по всему зданию не работают уже давненько, так эти два чудика утверждают. Распоряжение директора, чтобы, стало быть, тонкая аппаратура не повредилась известкой или цементной пылью. С их же слов в особняк время от времени на самом деле приходили какие-то рабочие и чего-то делали с трубами, то ли в подвале, то ли на чердаке. А может, и не с трубами и не на чердаке, а еще где. Они в сторожке сидят, ворота открывают-закрывают!.. Чудиков я, конечно, в оборот возьму, может, и они нашалили, но все прочие-разные варианты тоже придется отрабатывать, – Никоненко ладонями побарабанил по столу. – Так что камеры отключены, и никто ничего и никого не видел, вот в чем загвоздка, дорогой товарищ профессор! Придется нам старорежимными методами действовать, без всяких камер и прочих компьютерных технологий. Свидетелей искать, опрашивать, показания сверять, мотивы устанавливать! Вот по вашей исторической линии, может, чего узнаем. – Понятно, – сказал Дмитрий Иванович. – Только это же все долго. А вам надо срочно. – Это вы в самую точку попадаете, – согласился Никоненко со вздохом. – Как можно быстрее нам надо. Место уж больно центровое, мимо этого особняка всякий день кто-нибудь из большого начальства едет! А у нас тут труп нарисовался. …Это его работа, сам себе напомнил Шаховской. Он говорит так не потому, что бездушен и хамоват, а потому что у него такая работа. Он должен найти убийцу и сделать это быстро и грамотно. Одно то, что полковник первым делом вызвал на место преступления историка, как только обнаружил какие-то столетней давности бумаги, говорит в его пользу. Он так понимает свою работу и старается делать ее хорошо. – Понять бы, правда ли в чашке бриллианты были и как она с бумажками этими связана. Сможете? – Не знаю, – признался Шаховской честно. – Попробую. У меня есть один аспирант, он как раз занимается Первой Думой. Вот тут в письме говорится про моего однофамильца из этой Думы, который помог раскрыть заговор. – Шаховской, точно!.. – Я постараюсь выяснить. Борис уж всяко знает больше моего. – Как, еще больше? – невесело удивился Никоненко. – Тут ведь такая штука может быть, что никак не связаны бумаги с чашкой, а чашка с бумагами, а бриллианты и вовсе выдумка глупая! Могли бумаги просто рядом лежать?.. Отчего ж им и не лежать. Шаховской вдруг подумал: хорошо, если бы оказались связаны! Это ведь так интересно – преступление, случившееся сегодня, из-за чего-то или кого-то существовавшего в тысяча девятьсот шестом году!.. Интересно, увлекательно, странно – как будто из романа. Дмитрий Иванович подобного рода романами никогда не увлекался и немедленно устыдился своих мыслей. Ведь человека убили по-настоящему, а не как в романе. Выходили втроем – полковник замыкал шествие и приотстал, втолковывая что-то молодому человеку в форме, который спрашивал у Шаховского паспорт. Дмитрий Иванович, оказавшись на улице, удивился, что ничего не изменилось – за закрытыми воротцами гудела и ревела Москва, автомобильное чудище, подтянувшее хвост поближе к окраинам, никуда не делось, томилось на прежнем месте, воняло выхлопными газами. Дождик шел такой мелкий, как будто из сита сыпало. – Вас подвезти? Профессор спохватился и оглянулся. Варвара поставила свой чемоданчик в машину, захлопнула заднюю дверь и открыла водительскую. Вид у нее был усталый, но улыбалась она чудесно. Он сразу заметил, как чудесно она улыбается. – Да мне… близко. – Просто поздно совсем. Никоненко сбежал с крыльца: – Куда везти-то вас, Дмитрий Иванович? Шаховской развеселился – все хотят его везти, вот какие любезные люди! – Я и пешком отлично… Огонек горел на той стороне дворика – он горел еще когда Шаховской только приехал, и сейчас тоже, – и Дмитрий Иванович быстро пошел по мокрой брусчатке в ту сторону. – Вы куда, профессор?! – Сейчас, одну секунду! В два счета он добежал до невысокого забора и посмотрел. За коваными блестящими от дождя пиками оказалась церковь, одно окошко светилось. Шаховской, взявшись за ограду перчатками, влез на кирпичное основание и посмотрел повнимательнее. Раньше он никогда не замечал эту церковь! Впрочем, со стороны Воздвиженки ее и не видно. Под крыльцом с полукруглой жестяной крышей, у самых дверей прислонен скутер, во дворе никого, в дрожащих от ветра лужах отражается желтый свет. – Дмитрий Иванович! Куда вас понесло?! Чего вы там высматриваете?! Шаховской спрыгнул с забора и зачем-то отряхнул перчатки. – Я никогда не знал, что там церковь. – А там церковь? Некоторое время они выясняли, с кем Дмитрий Иванович поедет, а он все отговаривался тем, что ему близко, и поехал с Варварой. Когда отец Андрей вышел из церкви, старательно, на два оборота запер дверь, от души подергал, проверяя, закрылась ли, и взялся за свой скутер, во дворе соседнего особняка, где весь вечер был какой-то съезд специальных машин с мигалками, суета и возня, уже никого не осталось. Он вывел скутер за ограду, замкнул калитку на висячий замок, вздыхая, приладил на голову каску и, подобрав полы длинных одежд, оседлал скутер и повернул в зажигании ключик. 1906 год. Отец Андрей оглянулся по сторонам, не видит ли кто – по всему проспекту людей не было, – взгромоздился в недавно купленную «эгоистку», изящную одноместную коляску, разобрал вожжи и покатил. Каурая лошадка, соскучившаяся ждать, весело потрусила по мостовой, копыта зацокали громко, он даже голову в плечи втянул!.. Мечтал отец Андрей об одном – побыстрее доехать до квартиры и знакомых не встретить, что было мудрено. Батюшка служил на углу, в храме Знамения иконы Божьей Матери, и всем тут был известен. Храм хоть и небольшой и довольно новый – всего сто лет, как построен, – но народу туда собиралось порядочно, все больше женщины, конечно, да старики, молодежи совсем мало приходит. По всей России так, не только в столицах. Молодежь революцией очень увлекается, а церкви как будто и вовсе нет. Заходят иногда, как в музей искусства, стоят перед образами, будто перед картинами, и выходят равнодушные. Нету у них потребности в обряде, в церковности, в религиозном миросозерцании. Третьего дня к обедне пришли три незнакомые барышни, очень веселые. Народу в воскресный день было много, церковь переполнена. Остановились они у правого клироса, не молились, а только перешептывались. На них оглядывались, барышни были хорошенькие, особенно одна, в бархатном берете, словно с картины художника-итальянца сошла. Она держала маленькую книжку, как будто молитвенник, из которого все трое читали, почти сталкиваясь лбами. После службы вместе со всеми подошли к кресту, книжечка упала, дьякон поднял и подал. Весь день он потом промаялся – отец Андрей видел, что мается, но решил не спрашивать, сам расскажет. Так и вышло. Отводя глаза, будто из-за сильного стыда, дьякон уж перед тем, как церковь запереть, сказал отцу Андрею, что книжечка, которую он поднял, вовсе не молитвенник, а революционные стихи, издание «Народной воли». Барышни в церкви вместо молитвы читали призывы к бунту и террору. Отец Андрей постарался дьякона утешить, сказал, что время пройдет, мол, душа повзрослеет, Бог поможет, и уверуют барышни, поймут, кто тут, в земной жизни, им друг, а кто враг, но сам в свои слова не очень верил, оттого и вышли они неубедительные. Каурая лошадка очень старалась бежать, но отцу Андрею казалось, что почти с места не двигается, а все из-за «эгоистки», будь она неладна! Купить модную коляску его уговорила матушка, которой страсть как хотелось «экипаж», вот теперь извольте – священник на такой легкомысленной свистульке катит. Отец Андрей «эгоистку» невзлюбил с первого взгляда и моментально всей душой полюбил пешие прогулки, теперь даже до Александро-Невской лавры, где у него были дела, старался пешочком добираться, зато матушка каталась с удовольствием, и согласие в семье не порушилось, а это самое главное. Матушка происходила из знаменитых Чистопольских. Ее батюшка, тесть отца Андрея, служил в селе Высоком на Волхове, в богатом поместье князей Шаховских. Старый князь, во всем последователь реформ царя-освободителя Александра Второго, к вопросам веры относился своеобразно, однако внешнюю религиозную форму держал строго, обычаи соблюдал неукоснительно, молился вместе со своим народом и с приходским священником приятельствовал. Дом у тестя всегда был полная чаша, всего вволю, чего не хватало, помещик свое присылал, вот дочка и росла немного… балованная, да еще в окружении людей светских, просвещенных, идейных. Идеи супруги иногда отца Андрея пугали, однако больше забавляли. Он был уверен, что в семейной жизни главное не идеи, которыми супруги питаются, а умение эти идеи приладить друг к другу, а если уж никак не прилаживаются, вовсе не обращать на них внимания, как будто нет их. Также он был уверен, что в мелочах с матушкой лучше не спорить, предоставить ей устроить так, как она считает лучшим и разумным, – вот «эгоистку» купили! – тогда в главном у него будет свобода все сделать по-своему. В вопросах важных матушка полностью на него полагалась и поддерживала. Правда, иногда отца Андрея брало смутное сомнение – не оттого ли она полагается, что вовсе не считает эти самые вопросы главными, а мелочи, вроде коляски этой, как раз принимает за наиважнейшее. В делах службы матушка была вернейшей ему помощницей: ее усилиями в церкви летом всегда стояли букеты, артистически подобранные, она же сшила кружевное покрывало на стол, где лежали крест, Евангелие и требники. Было еще множество других мелочей, сделанных ее руками и придававших церкви почти семейный вид – это у нее от родителей, которые не только волховскую церковь, где тесть служил, но и часовенку деревенскую обустраивали своими руками, с любовью и вниманием, и каждому входящему словно приотворялась дверь в какие-то другие покои, куда нет доступа неверующему или сомневающемуся – хорошо, славно, просторно для души и глазу приятно. Отцу Андрею повезло – в Петербурге он занимал квартиру в небольшом особнячке даже с собственным садиком, в котором росли корявые низкорослые яблони и груша, дававшая мелкие жесткие плоды, совершенно несъедобные. Матушка поначалу принялась было варить из них варенье, но оно выходило похожим на кашу, твердые груши разваривались в сиропе, превращались в крупу, а вкуса никакого не имели. В этом году решили пустить весь урожай на наливку, а если уж и из наливки ничего не выйдет, по осени грушу выкорчевать и посадить другое, более благодарное дерево, но отец Андрей знал совершенно точно, что грушу корчевать ни за что не станет. Она была старая, с одной стороны как будто ободранная, и болячку отец Андрей долго лечил, мазал варом, заматывал тряпицами. Под грушу в мае месяце обычно выносили деревянный стол и самовар, и чаевничали только на улице, когда не было дождя. В холодном, чопорном Петербурге эти чаепития под грушей становились праздником, отрадой, возвращением к детству, к веселой и правильной деревенской жизни. Третьего дня отец Андрей полез на дерево спилить сухую ветку, надломленную зимним ураганом, и спрыгнул до того неловко, что подвернул ногу – целая история вышла, матушка разохалась и весь вечер ставила ему холодные компрессы, ухаживала, а с утра настояла ехать на «эгоистке», чтоб не перетрудиться. Ну разве можно такую грушу ликвидировать?! Сколько вокруг нее событий происходит! До квартиры отец Андрей добрался без всяких приключений, вроде бы даже никем не замеченный, матушке похвалил коляску – легкая и быстрая. Заодно сказал, что ушиб его решительно не беспокоит и завтра он уж точно пойдет пешком. До вечера он занимался, чай с вареньем и сдобными булочками пили под грушей, потом матушка от сырости ушла в дом, а отец Андрей принялся молиться. Он особенно любил молиться под открытым небом, из его садика был даже виден клочок заката, а за ним угадывался голубой, быстро темнеющий простор, и в такие минуты совершенство и огромность Божьего мира умиляли отца Андрея почти до слез. Молитва всегда утомляла его, как трудная работа, зато и какой покой воцарялся в душе, все становилось на свои места, все казалось правильным и справедливым. На этот раз никакого покоя не получилось. Отец Андрей только что дочитал «Отче наш», свою любимую молитву, еще дыхание не перевел для следующей, когда в кустах у него за спиной сильно затрещало, пристроившиеся спать воробьи брызнули в разные стороны, закачались ветки, что-то как будто стукнуло, и особое состояние гармонии с миром было нарушено. Отец Андрей обернулся, неловко приналег на ушибленную ногу, замахал руками и чуть не упал. – Батюшка? Вы батюшка? – спросили из кустов сдавленным голосом. Отец Андрей дохромал до стула и взялся за спинку. – Кто тут? – Вы один? Вопрос был настолько странен, что отец Андрей огляделся по сторонам, как будто проверяя, один ли он, хотя точно знал, что в садике кроме него никого быть не должно. Воробьи, перелетевшие в жасмин, возились и пищали, уже вовсю темнело. В кустах около каменного забора никого не было видно, но смотрели и спрашивали именно оттуда. – Батюшка, вы один?.. Отец Андрей еще немного постоял, держась за спинку стула, а потом решительно пошел в сторону кустов. – Что вам угодно, милостивый государь, и почему вы в такое время лазаете по чужим садам? – Тише, тише! – сказали оттуда, и из веток выступил молодой человек, по виду студент. – Умоляю вас, не кричите. Отец Андрей кричать и не собирался. – Мне нужно с вами поговорить. Дело очень срочное, – сказал студент. – Позвольте, какое же у вас может быть ко мне дело, если мы даже не знакомы! – Я вас видел, – сообщил студент. – Вы на углу, в большой церкви служите. – В храме Знамения иконы Божьей Матери, – поправил отец Андрей машинально. – Вы прихожанин? На прихожанина студент похож не был. Такие все больше стихи из подозрительных сборников декламируют, а в храмы не заглядывают. В сумерках лица было не разглядеть, голос напряженный, и сам студент весь как будто ходуном ходил, то ли от испуга, то ли от избытка нервической энергии. А что, если… бомбист?.. Что, как пришел он вовсе не разговаривать, а убивать? По всей России то и дело убивали, служили заупокойные службы, писали об убийствах в газетах и продолжали убивать. Кажется, это называется революционным террором и в только что созванной государем Думе об этом много говорят, среди депутатов есть и священники… «Матушку жалко, – подумал отец Андрей. – Совсем молодая, славная. Ее-то за что?» – Батюшка, – молодой человек сделал шаг вперед, и отец Андрей на секунду прикрыл глаза, ожидая, что тот сейчас достанет из шапки бомбу и кинет ему под ноги. – Вразумите меня. Я не знаю… что делать. Отец Андрей коротко вздохнул, чувствуя, как колотится сердце, оглянулся на дом – только б матушка не вышла позвать его! – и сказал, стараясь, чтоб звучало поспокойнее: – Посидимте здесь? – А здесь безопасно? – Бог с вами, что за опасности? Отец Андрей повернулся к студенту спиной, – это было трудно сделать, – дошагал до стола, уселся, нащупал на груди крест и сжал его для укрепления духа. Студент еще немного помедлил, вытянул шею, как будто высматривая что-то в сумерках, подошел и сел далеко, на другом конце стола. – Как ваше имя? – Борис. Впрочем, это не имеет никакого значения! Я… у меня важное дело. – Именно ко мне? – уточнил отец Андрей. О том, что в картузе у студента может быть бомба, он старался не думать, но думал только об этом. – Я вас слышал в церкви, – заговорил студент. – Вы об убийствах говорили и о том, что церковь все грехи прощает… – Господь прощает, – опять поправил отец Андрей. – И не об убийствах я говорил, а о том, что жизнь насильственно забирать у существа человеческого – великий грех и преступление. – В это я не верю, – нетерпеливо сказал студент и выложил свою шапку на стол. По всему видно, нет там бомбы. Или есть?.. – Разве это преступление, если оно совершается во имя народа, во имя целей, которые в будущем дадут счастье тысячам и десяткам тысяч! И все, что стоит на пути к этой великой цели, должно быть сметено и уничтожено. Это же так понятно. – Совсем не понятно, – признался отец Андрей. – Как же светлая цель, да еще счастье какое-то могут быть достигнуты через насильственную смерть и горе? – Да, но на одной чаше весов горе одного семейства и близких убитого сатрапа, а на другой – счастье и свобода целого народа! – Так ведь никак нельзя одно купить или обменять на другое, – отец Андрей тихонько погладил крест, самого главного своего защитника и помощника. – Как же это?.. Убивать одних для других? Где тут смысл? Где светлая цель? – Вы не понимаете! Убиты будут десятки, может, сотни, а счастье получит весь народ. – Да вы бы хоть спросили весь народ, какое счастье ему надобно, в чем оно для него заключается. Вы, насколько я могу судить, студент? – Бывший, – отмахнулся гость со злобой. – Выгнали с курса. За революцию. То, что молодой человек из «неблагонадежных», было очевидно, но покамест отец Андрей не мог взять в толк, зачем революционер вечером залез к нему в садик. Об идеях демократии потолковать, что ли? – Стало быть, вы образованный человек, в устройстве мира понимаете. Должно быть, в гимназии исторический курс изучали. Разве же перемены к лучшему наступают от того, что чья-то воля берет на себя переустроить жизнь на свой лад? От этого бунт наступает, смута, а радости и света никаких. К свету и радости полагается идти маленькими шажочками, постепенно, осмысленно, да при этом стараться ничего вокруг не повредить, не задеть, не испортить. Господь мир создал таким прекрасным, за что ж его рушить и кромсать? – Рушить и кромсать требуется тех, кто мешает разумному устройству! А Господь ваш устроил неправильно! Так не может быть, чтоб одним все, а другим совсем, совсем ничего! Только тупая работа от рождения до смерти, нищета и болезни. Отец Андрей вздохнул. Он часто об этом думал. – Вот и требуется постепенное движение, – сказал он тихо. – Зачем же еще больнее-то делать, если и так везде больно? – Без боли ничего не выйдет. Гнилой зуб удалять тоже больно, однако ж приходится, потому что с ним жить невыносимо. – Так ведь если с зубом вместе всю голову удалить, жить и вовсе невозможно станет, в ту же минуту конец придет, как удалишь-то ее. И никакие перемены не потребуются, ни к добру, ни к худу, и одна дорога – на погост. Помолчали. В саду становилось холодно, со стороны реки налетел сырой, резкий ветер, какой бывает только в мае и только на Балтике. Студент на том конце стола ссутулился и поник – черная тень. Отец Андрей молчал, не торопил. Понятно было, что появление его неспроста и предвещает какие-то важные, если не грозные события. – И Дума! – вдруг воскликнул студент. – Все не так, все неправильно! Избирательный закон плох, труден, не разобраться. Гражданские свободы опять только пообещали и не дали. Один дворянский голос приравняли к сорока пяти рабочим! – Дайте срок, все изменится. Это только начало. Государь решился на столь серьезный шаг… – Да чтоб ему раньше решиться, государю-то! – перебил студент с силой. – Тянули, тянули и опять на полдороге бросили, не вытянули! Сколько раз в русской истории так было – решатся на реформы, а потом перепугаются и давай пятиться. Лучше б тогда и не сулили, и надежд не внушали. Пустая говорильня! – Помилуйте, разве так? Еще несколько месяцев назад в России о парламенте только мечтали, да и то самые горячие головы, а нынче вокруг Думы вся общественная жизнь сконцентрировалась. – Вы верите в возможность перемен без крови? – вдруг спросил студент и взялся обеими руками за столешницу так, что тяжеленный стол покачнулся. – Верите, что Дума чего-то добьется? Что пустословие перейдет в дело? Отец Андрей не видел лица собеседника, а ему важно было увидеть. Он понимал, что это вопрос наиглавнейший – с кровью или без крови. Насилие, насилие со всех сторон. Боевые революционные группы убивают государственных людей вовсе без разбору, жгут помещиков, поднимают восстания. Власть без суда и следствия расстреливает бунтовщиков или тех, кто кажется ей бунтовщиками, правый «Союз русского народа» во главе с Дубровиным и Пуришкевичем призывает к диктатуре, требует, чтоб самодержавие «железным кулаком» сокрушило всех, кто верит в перемены и демократию. Подготовленным умам не разобраться, где уж простому священнику или студенту?! …С кровью или без крови? – Что вы молчите, батюшка? – Я одно могу сказать, зато от самого сердца. Если насилие не остановить, не опомниться сию минуту, не начать слушать, что одна сторона другой толкует, вся Россия кровью истечет, и народ ее многострадальный еще худшее испытает, чем сейчас испытывает, Господи, спаси и помилуй. – Не верю я в Господа, – выпалил студент, как будто даже с гордостью. – И в церковь Его не верю. Отец Андрей вздохнул. – И Господь, и церковь Его и не такие потрясения переживали. Однако же две тысячи без малого лет существуют. И еще не одну тысячу просуществуют, верим мы в них или не верим, неважно. Опять помолчали. Вставала луна, в садике становилось светло. Студент вдруг решительно поднялся. Неужели уйдет, успел подумать отец Андрей. Но студент никуда не ушел. Он приблизился к батюшке и зашептал на ухо: – Готовится убийство. Такое, чтоб царь надолго запомнил и чтоб вся страна содрогнулась. Уже скоро. На железной дороге. Бомбой может много людей побить. Что делать? Я сегодня хотел одному депутату довериться и не решился… Скажите, как быть, батюшка? Вы же с Богом на короткой ноге!.. – …И семнадцатого октября тысяча девятьсот пятого года был издан Высочайший Манифест «о даровании гражданских свобод и придании Государственной думе законодательных полномочий». После тяжелых и продолжительных раздумий император Николай Второй решил, что населению все-таки необходимы «незыблемые основы гражданской свободы». Дмитрий Иванович обвел взглядом аудиторию и усмехнулся. Студенты слушали плохо – последняя пара, всем хотелось по домам, есть, спать, валяться, а лучше пить, гулять и развлекаться! Какие там «гражданские свободы», вы что, шутите, профессор?.. Сто лет прошло, даже с лишком, а что-то никаких «гражданских свобод» не видать. Вот сейчас тренькнет звонок, и за толстыми университетскими стенами, как за стенами тюрьмы, грянет настоящая свобода – личная, молодая, веселая, никакая не «гражданская»! Каждый год одно и то же. Поступившие в университет девочки и мальчики, придирчиво и внимательно отобранные, получившие необходимое – почти невозможное! – количество баллов, прошедшие сложные собеседования, оказывались решительно не готовыми… ни к чему. Нет, некоторые из них всерьез собирались учиться и даже старались, и даже «дополнительные задания» делали, и даже «рекомендованную литературу» почитывали, но в этой точке – начало двадцатого века в России – происходило как будто короткое замыкание. Треск, искры сыплются, а потом полная, непроглядная темнота. Мы этого не проходили. В школе мы учили не так. А разве все это было на самом деле? Удивление, недоверие, потом вежливая скука – что-то вы, профессор, странное рассказываете. Быть такого не может. Поп Гапон – да. Казачьи сотни – да. Мануфактуры забастовали, кажется. И еще, кажется, в самом деле Думу открыли. Или нет, нет, избрали. Впрочем, быстро закрыли. То есть, нет, нет, разогнали. Ну и что?.. Что тут особенного-то? Сколько раз он клялся себе, что первый курс брать ни за что не будет, и столько же раз ректор его уговаривал. «Дмитрий Иванович, ну как же так?.. Вы же лучший специалист именно по этому периоду! Первая русская революция, шутка ли! Такое сложное время, судьба державы решалась, устои по швам трещали, все вразнос шло, как паровоз с горы катится! Если вы не объясните, кто им дальше станет объяснять? А после нашего факультета, сами понимаете, им прямая дорога на госслужбу да на преподавательскую работу, так хорошо б, чтобы знали историю державы-то!..» – Страна наша в девятисотые годы была уже тяжело больна. Какова природа болезни и чем ее лечить, государственные мужи спорили долго и бестолково. А между тем начались конвульсии!.. За год, с октября тысяча девятьсот пятого года по осень шестого, революционерами было убито и ранено более трех с половиной тысяч государственных служащих, а за десять лет – больше двадцати тысяч! Они вовсе не были высокопоставленными чиновниками, от них мало что зависело или не зависело совсем ничего. Городовые, телеграфисты, чиновники. – Как три с половиной тысячи убитых за год? – вдруг спросил лохматый с заднего ряда. В голосе его звучало безмерное удивление. – Это ж очень много народу! Шаховской кивнул лохматому. Правильно ты удивляешься, мальчик. Да уж, «очень много народу»! Всего сто лет прошло, а об этом все забыли. И в школе не рассказывают. И в книжках не пишут. – Так это… терроризм какой-то сплошной! – Террор – вовсе не новейшее изобретение, вот это вы точно должны знать. – Нет, ну еще Ленин вроде объявлял террор, «красный», а еще был «белый», но это все потом случилось! – Боевые технические группы появились задолго до Ленина и «красного» террора! Поначалу в них состояли, разумеется, идейные революционеры всех сословий. Много студентов, а как же иначе? Учащаяся молодежь, – тут Шаховской слегка улыбнулся «учащейся молодежи», – всегда активна и заинтересованна. Студенты тогда были грозной силой. И, между прочим, оставались таковой довольно долго. Университеты всегда представляли опасность для власти – вольнодумство, запрещенные книги, сходки, песни, разговоры! И самая главная идея – свобода! Всем хотелось свободы. Звонок тренькнул. Все остались сидеть. Как только заговорили «про понятное», увлекательное и опасное – свободу, студентов, убийства, – сразу стало интересно и спать расхотелось. Продолжайте, профессор!.. – Продолжим на следующей лекции. Студенты завозились и стали подниматься – с некоторым разочарованием. Дмитрий Шаховской преподавал не первый год и умел самое интересное оставлять «на потом», до завтра, до следующей лекции, до новой книжки, которую непременно нужно прочесть к понедельнику. Он как будто мастерил из событий, малоизвестных исторических фактов, странных сопоставлений крючки и ловил на них ребячий интерес. Некоторые быстро срывались и уходили, но и оставались многие, и вот с этими, оставшимися, имело смысл возиться. – Дмитрий Иванович, вот вы говорите – боевые группы, а они чьи были? – В каком смысле? – Он засовывал в портфель ноутбук. Еще две тетрадки, часы, которые он всегда снимал и клал перед собой на стол, чтоб были перед глазами, телефон и всякая ерунда. Хорошо бы ничего не забыть. Разноцветная толпишка студентов тянулась к выходу, возле его стола топталось несколько ребят, те самые, что теперь уж точно не сорвутся. – Ну, кто их создавал? Это же все давно известно – бандформирования всегда кто-то финансирует, руководство есть, оружие кто-то поставляет. Из других стран. – В девятисотые годы это было немного не так. – Шаховской оглядел стол. – Вы сейчас излагаете современную модель. Да и бандформирования – термин совершенно не подходящий. – Нет, ну, руководил-то террористами кто? Ленин?.. – Ленин вечером семнадцатого октября, как раз когда был издан Манифест о создании Думы и даровании свобод, писал в Женеве, что это «один из великих дней русской революции». Еще он писал, что «неприятель не принял серьезного сражения, отступил, потому что в случае победы народа царская власть была бы сметена начисто». – То есть не Ленин, да? А тогда кто? – Ленин руководил Февральской революцией, а после нее Октябрьской, – объявила томная девушка, которой не давали покоя кудри, она то и дело их поправляла и перекидывала из стороны в сторону. Звали ее, кажется, Лолита. – Но это в семнадцатом году. А в девятьсот пятом году как таковой революционный процесс только зарождался и не был ярко выраженным. А Дума была продажной, и в нее никто не хотел идти, и все бойкотировали выборы. Шаховской знал, что смеяться никак нельзя, но все же засмеялся осторожненько. Лолита – так ее зовут или не так? – сделала движение головой, и кудри заняли новое положение, и расширила глаза. – Выборы в Первую Думу на самом деле проигнорировали только леворадикальные партии. Они действительно выносили в заголовки своих прокламаций фразу «Участники Думы – предатели народа». Они считали, что жечь усадьбы и устраивать вооруженные восстания гораздо действенней и интересней, чем пытаться договориться с властью. – Дмитрий Иванович, а террористам кто деньги давал?! – Дмитрий Иванович, а партии откуда взялись?.. Радикальные и всякие? – А почему император так долго думал, а?.. Ну, вы сказали! Во всей Европе парламенты были давным-давно, и что такого? Подумаешь, Дума!.. Кому она мешала? Шаховской застегнул, наконец, часы и поднял руку, как на римском форуме. – Господа и… дамы! Мы обо всем еще поговорим. На самом деле, это страшно интересное время – начало двадцатого века. И почему-то так получилось, что именно об этом времени мало рассказывают в школах и… институтах. – Про террористов я ничего не понял, – подумав, сообщил лохматый. – И про Ленина тоже. – Ленин устроил Октябрьскую революцию и всякие безобразия, – объяснила ему Лолита и опять поправила кудри. – Он был немецкий шпион. – Это не доказано!.. – А я читала, что доказано! – Дмитрий Иванович, вы освободились? Профессор оглянулся на двери, и студенты оглянулись тоже, довольно сердито. Борис Викторов, бывший студент, аспирант, нынче готовивший на кафедре Шаховского докторскую диссертацию, нисколько не дрогнул, вошел и объявил, что у него к профессору срочное дело, что означало – пора расходиться. Студенты вразнобой попрощались и поволокли к выходу расхристанные рюкзаки, загребая ногами в пудовых разношенных ботинках. Студенту, как и священнику, вдруг подумал Шаховской, что сейчас, что сто лет назад, просто необходимы крепкие и удобные башмаки. Студент все время на ногах и все время бегает – на занятия, в библиотеку, на уроки, по книжным магазинам за редкой монографией. Девушки на шпильках… как бы это выразиться… не до конца студентки! Девушки на шпильках учатся уж точно не для того, чтобы узнать нечто новое о русской революции девятьсот пятого года и Первой Думе!.. Ради чего-то другого они учатся. «Или я стар стал? Брюзглив? Нынче студент уже не тот, и вообще колбаса подорожала?» – Правильно я понял? Нужно было спасать вас от жаждущих знаний? – спросил Борис. – Спасать не надо, а вот опаздываю я, это точно, Боря. – Опять в Думе консультируете? – Это было сказано с некоторой насмешкой, как будто профессор Шаховской консультировал в салоне красоты «Престиж» или в Сандуновских банях. Дмитрий Иванович знал, что Боря Викторов, повзрослевший у него на глазах, превратившийся из недокормленного, вечно сглатывающего слюну, как будто у него сохнет во рту, мальчонки во вполне уверенного в себе и в жизни молодого мужчину, тоже мечтал о чем-то таком… возвышенном. Консультировать. Составлять исторические справки. Разрабатывать новые концепции и толкования. И чтоб на титульном листе в списке «редакционной коллегии» – Борис Викторов, доктор исторических наук, профессор. Еще хорошо бы золотыми буквами – депутат Государственной думы или что-то в этом роде. Красиво! Дмитрий Иванович знал об этом, извинял, хоть и посмеивался немного. Сам он «к красоте» никогда не стремился и внимания на нее не обращал. Или думал, что не обращает. У него-то как раз все было – и степени, и фамилия в списке «редакционной коллегии», и «научные труды», на которые ссылались в других научных трудах, и книги в синих «государственных» переплетах. Почему-то до сих пор значительные труды по истории издаются в синих или малиновых переплетах! – А ты что приехал, Боря? – А я на самом деле к вам, Дмитрий Иванович. – На самом деле или ко мне? Если ко мне, то я опаздываю. – Да я хотел только монографию показать. Теперь Шаховской пытался вспомнить, где оставил пальто, то ли на кафедре, то ли в гардеробе. В гардеробе раздевались в основном студенты, но Дмитрий Иванович любил университетских гардеробщиц, можно сказать, обожал. Две старухи с морщинистыми длинными лицами и накрахмаленными спинами принимали студенческую хлипкую одежонку руками в черных шелковых перчатках и величественно исчезали в плохо освещенной гардеробной. Потом выныривали из глубин с латунным номерком в шелковых пальцах. Они служили в этом, самом старом здании университета, сколько себя помнил Шаховской, и их шелковые перчатки, и прямые спины, и длинные морщинистые лица никогда не менялись. Для него, как и для многих поколений студентов, университет начался именно с этих старух. Тут профессор вдруг подумал, что двадцать пять лет назад, когда он только поступил, две его старухи, должно быть, были совсем молодыми женщинами, и это показалось ему странным и невозможным. В широких и высоких коридорах было пусто, шла какая-то там по счету пара, звуков никаких не доносилось – в самом старом из всех университетских зданий школярский шум оставался за толстыми стенами и высокими двойными дверями аудиторий. …Пожалуй, раздевался он у старух, а не на кафедре. Нет, точно у старух. Борис Викторов поспешал за ним. Боря всегда был вежлив, но настойчив. Настойчив, но вежлив. – Боря, если дело срочное, я никак не успею сегодня. – Там всего тридцать восемь страниц, Дмитрий Иванович. Это даже не монография, а, скорее, статья. Мне ее в печать сдавать. Посмотрите, сделайте одолжение. Только, если можно, поскорее. – Боря, – Шаховской натянул пальто, которое подали ему черные шелковые руки, и похлопал себя по карманам, проверяя ключи от машины, – ты меня не слышишь? Я сегодня в Думе допоздна. – Дмитрий Иванович, я бы раньше показал, но очень долго провозился. И потом… вы же соавтор. – Я?! – Он даже приостановился. – Боря, я все понимаю, но такие вещи, как правило, согласовываются. Разве нет? Боря посмотрел в угол, потом на стену, где была довольно криво приклеена стенгазета под названием «Our trip to Japan» с фотографиями и подписями под ними, сделанными фломастерами. В университете считалось, что студенты непременно и обязательно должны делать что-то карандашами, красками, фломастерами, то есть простыми, понятными способами, а главное, предметами, которые можно осязать. Нет ничего понятнее карандаша!.. Когда человек криво рисует на куске ватмана «trip to Japan», бумаге передаются впечатления и эмоции, и они живые. Компьютерная презентация – это красиво, конечно, но она мертва и обезличена, как наштампованные на конвейере искусственные цветы. – Дмитрий Иванович, вы же никогда не отказываете, а мне очень нужны публикации на… хорошем уровне. Без вашего имени они не берут, а это «Вестник исторического общества». Уровень как раз подходящий. Очень, очень настойчив!.. Но вежлив, что и говорить. Шаховской тоже посмотрел на стенгазету. Препираться ему было некогда и неохота, и это означало, что монографию, – или, скорее, статью! – он сейчас возьмет, будет всю ночь читать и править, ибо нужна она как пить дать завтра утром. Боря Викторов потому и явился без предупреждения, да еще в «присутственный день», когда профессор консультирует в «государственном учреждении», и все об этом знают. Все рассчитано правильно, и от этого особенно неприятно. С другой стороны, Шаховской сочувствовал Боре, который изо всех сил мечтал «прорваться», но при этом из пенсионного фонда не воровал, левые кредиты не выдавал и наркотиками не приторговывал. Уже хорошо. – Ладно, я посмотрю. Боря моментально, одним движением вынул из портфеля диск в обложечке и пачку отпечатанных листов, скрепленных черным канцелярским зажимом – знал, конечно, что профессор не откажет, и приготовился. – Я на всякий случай распечатал. Чтобы вам не возиться, и вот здесь… сначала биография, я ее хотел отдельно дать, а потом решил, что в контексте… – Я разберусь! – Теперь, когда Шаховской взял статью, пробивной Боря Викторов его раздражал и хотелось поскорее от него отвязаться. – Я с ней сегодня весь день провозился, с самого утра. Правил, сверял, но без вас, сами понимаете… – Понимаю. – Так и не определив, где ключи от машины, Шаховской поклонился в сторону деревянного широкого прилавка, за которым маячили две тени в шелковых перчатках. – Благодарю вас, всего доброго. – Будьте здоровы, Дмитрий Иванович, – ответствовал кто-то из старух, – до завтра. Боря еще что-то говорил на ходу, но Шаховской махнул на него рукой, и он отстал. Тяжеленные неухоженные двери под потолок с латунными палками-перекладинами, за которые брались бесчисленные поколения студентов и профессоров, тамбур с вытоптанными мраморными плитами на полу и высокое крыльцо с балюстрадой – ступеньки двумя полукружьями, налево и направо. Иногда Шаховской сбегал по левому полукружью, а иногда по правому, так развлекался. Не поедет он на машине – себе дороже и удовольствия никакого. Моховая и дальше Охотный ряд по вечернему времени стояли намертво, как будто машины приклеены друг к другу и к асфальту невиданным фантастическим клеем, ни конца, ни начала. Огни, размытые мелким дождем, поднимались дальше, выше, к Лубянке, которую за поворотом не было видно – Апокалипсис, конец света, неподвижность, время замкнуло в чадящее мертвое автомобильное кольцо. Не поедет он на машине!.. Здесь до Думы рукой подать и идти приятно – сначала вдоль университетских решеток, потом мимо старинного, очень буржуазного и очень самодовольного отеля, возле которого всегда похаживал швейцар в ливрее, потом подземный переход через Тверскую, и он на месте. Швейцар слегка приподнял цилиндр, когда Шаховской, сторонясь толпы, забежал под отельный козырек. Дмитрий Иванович кивнул в ответ. В отель он никогда не заходил, но со швейцаром они встречались каждый день и были друг другу приятели – ты на работе, и я на работе, ты мимо бежишь, а я прохаживаюсь, я не знаю, кто ты такой, и ты меня не знаешь, но мы свои, здешние, постоянные, различимые в сотнях и тысячах незнакомых лиц, крохотная радость узнавания, кивок, завтра опять встретимся, не унывай, дружище!.. – Ба, Дмитрий Иванович! – проговорил знакомый насмешливый голос, когда в бюро пропусков закончилась привычная возня с паспортом, списками, сличением физиономии в паспорте с собственной профессорской физиономией, извлечением из карманов ключей и телефона, с торжественным проезжанием профессорского портфеля через просвечивающий аппарат, с водворением ключей и телефона на место, ловлей портфеля, который все норовил свалиться с черной ленты. – Опаздываете?.. Ну, раз опаздываете, значит, все хорошо. Вот если бы вы хоть раз не опоздали, я бы подумал, что небо упало на землю и Измаил, наконец, сдался. Обладателя насмешливого голоса звали Петр Валерианович Ворошилов, именно его Шаховской бросил в разгар дискуссии, когда позвонил полковник Никоненко. Числился Ворошилов советником думского председателя, без него не обходилось ни одно важное совещание или заседание. Он был блестяще образован, обладал превосходной памятью, умел направить это самое совещание в нужное русло – даже если его участники наотрез отказывались направляться в какое бы то ни было русло и каждый говорил про свое, подчас не просто далекое от темы, а как бы вовсе с ней не связанное. Если объявлялось, к примеру, что совещание будет посвящено столетию Первой мировой войны, собравшиеся начинали выступления с того, что Первая мировая война, конечно, важная штука, но сейчас необходимо решить, как быть с Костромским краеведческим музеем или вот, например, в Калининграде закатали в асфальт все трамвайные пути, а трамвай там основной вид транспорта был, и что теперь делать? Шаховской, когда его в первый раз пригласили в Думу «для консультаций», попав на такое совещание, некоторое время думал, что он чего-то не понял и остальные приглашенные тоже не поняли, и был страшно удивлен, когда Ворошилов, дав собравшимся какое-то время поговорить «вообще», потом все же заставил их высказываться по теме, и, помнится, из этих высказываний даже что-то складное вышло. – А что вы думаете? – спросил его тогда Ворошилов, пряча в чехольчик узенькие очочки, во время совещания смешно съезжавшие на самый кончик ворошиловского носа. – У нас тут работать непросто, дорогой профессор. Малюсенькое дельце, кажется, а на самом деле!.. Начинаешь разбираться, а там! Сплошные подводные камни, омуты и мели. И так нехорошо, и эдак плохо, и разэдак ничего не выйдет. И у всех свои интересы. У кого разумные, у кого безумные. Сейчас Ворошилов велел профессору идти за ним, он знает «короткий путь» и моментально доставит того к месту совещания. Это было прекрасное предложение – Шаховской в думских коридорах вечно путался, терялся, уезжал на лифте не туда, выходил не там, знать не знал, где «центральные лифты», а где еще какие-то, страшно удивлялся, оказавшись в буфете на первом этаже, и не мог сообразить, как оттуда выбраться. – Это еще с царских времен так положено, с Таврического дворца! – говаривал насмешливый Ворошилов. – Чтоб в Думе все путались и никто ничего не понимал. Кабы все понимали, так и жизнь другая была бы! Оказалось, что совещание еще и не начиналось, ибо вести его должен был как раз Петр Валерианович, и все его экзерсисы в адрес опоздавшего профессора вызваны тем, что сам он опаздывал тоже! Речь на заседании должна была идти о большом историческом исследовании, которое Дума заказывала Академии наук и которое называлось, кажется, «История парламентаризма» или еще как-то более красиво и сложно. Шаховской участия в исследовании не принимал и, может, из-за слова «консультант», а может, как раз из-за неучастия чувствовал себя вполне «по-консультантски» – слушал скептически, морщил нос, записывал в блокноте явные ошибки, которые допускали молодые и самоуверенные историки, знавшие все на свете на манер первокурсницы Лолиты с ее кудрями. Ошибок выходило много. – Знаете, как Николай Второй речь произносил перед депутацией от народа по поводу своего бракосочетания?.. – на ухо спросил Ворошилов. Очки на самом кончике носа сидели насмешливо. – А супруга его Александра Федоровна тогда по-русски совсем не понимала. Вот она возьми и спроси кого-то, что, мол, царь и мой молодой супруг объясняет своему народу? А ей отвечают: он им объясняет, что они дураки. Вы в этом духе записочку составляете? Все дураки?.. Шаховской развеселился: – Да может, и не все, но ошибок много! Что делать? – Исправлять. На то мы тут с вами и посажены, – и Петр Валерианович подвигал бровями, отчего очки сползли еще ниже, вот-вот упадут. – Я вам слово в самом конце предоставлю, подытожите. Шаховской, которому нравилась нынче его роль «консультанта» и некоторая отстраненность от происходящего – приятно время от времени ничего не делать, ни о чем пристально не думать, а критиковать себе, особенно на бумаге, без последствий и необходимости доказывать и обосновывать, ссылаться на первоисточники и даты, – подытоживать ничего не хотел. Он устал, а впереди еще полдня и вечером Борина монография – или нет, статья! – и неизвестно, сколько он с ней провозится, может, до самого утра. и навязанное соавторство, о котором он помнил, Шаховского раздражало. Если он сейчас возьмется «подытоживать» на свой лад, дело кончится тем, что после совещания все участники, которых он уличит в ошибках и невежестве, станут подходить к нему по очереди, брать за пуговицу и втолковывать, что профессор сам ошибается, на самом деле было совсем не так, и вот же новейшие исследования, и вообще следует к историческим процессам подходить с политической точки зрения, а если не подходить… – Петр Валерианович, – начал Шаховской шепотом, – может, сегодня я не буду… – Придется, Дмитрий Иванович!.. Вы в прошлый раз уже проманкировали! Кстати, куда вы тогда исчезли прямо под конец? – Я вам потом расскажу. Ворошилов покосился на него насмешливо – в смысле что за таинственность? – быстро закруглил оратора и предоставил слово Шаховскому. Тот вздохнул, заговорил и говорил довольно долго, дольше, чем обычно. Остановился только когда понял, что Ворошилов вот-вот и его «закруглит» и давно пора заканчивать. Возле подъезда Думы, где почему-то все время сильно дуло, – от ветра пришлось поднять воротник пальто и повернуться спиной – Шаховской некоторое время постоял, соображая, а потом решительно пошел в толпе вниз, к Моховой. Его приятель-швейцар возле подъезда гостиницы приподнял цилиндр ему навстречу, и Дмитрий Иванович кивнул с удовольствием, он был рад его видеть. В два счета он добежал до Воздвиженки, пошел к бульварам вдоль монументальных зданий, где когда-то располагались универмаг с внушительным названием «Военторг», – Шаховской отлично помнил этот магазин, – а дальше приемная «всероссийского старосты дедушки Калинина», которую он, разумеется, не помнил, но его собственная бабушка, ходившая в эту приемную «хлопотать», рассказывала и показывала ему, маленькому, куда именно ходила. В церковном дворике, обнесенном невысоким железным забором, не было ни души, однако желтый скутер оказался на месте, под козырьком крыльца. Шаховской немного порассматривал скутер. На нем ездили, по всей видимости, много, он был старенький, грязноватый, к багажнику прикручен пакет, в пакете – Дмитрий Иванович потрогал – книжка. Он усмехнулся, потянул высокую дверь и зашел. Женщина в платочке на него оглянулась, и человек, читавший за прилавком, поднял голову. Больше в церкви никого не было. Однако свечи перед образами горели, довольно много, и лампады красного стекла были зажжены. Дмитрий Иванович попросил у человека свечку за двенадцать рублей, поискал глазами Серафима Саровского, подошел и постоял возле иконы немного. Поблагодарил за сбывшееся и возможное. Попросил о потаенном и несбыточном. Наспех рассказал, как живет. Ему казалось, что Серафим улыбается доброй и немного насмешливой улыбкой из-за желтого теплого пламени. Дмитрий Иванович, доктор наук и профессор, знал совершенно точно, что Серафим видит и слышит его. Мимо прошел высокий человек в церковном облачении. Под мышкой у него была каска, на плече на длинном ремне болталась туго набитая сумка. Он остановился возле прилавка, заговорил негромко. Дмитрий Иванович попрощался с Серафимом, тот как будто его отпустил, сказал: «Беги, беги, я все понимаю» – и следом за высоким выскочил на улицу. Тот пристраивал сумку на багажник скутера и поднял глаза, когда открылась дверь. – Вы ко мне? – Меня зовут Дмитрий Иванович Шаховской. У вас есть пять минут? – А я отец Андрей, – представился высокий и поглядел немного насмешливо, но с любопытством. – Если разговор обстоятельный, к примеру, о спасении души, пяти минут маловато будет. – О спасении тоже неплохо бы поговорить, но у меня… другой вопрос. – Здесь спросить хотите или внутрь зайдем? – Лучше здесь. – Тогда присядем! Отец Андрей прикрутил на багажник свою сумку, подергал, проверяя, не свалится ли, прошагал к лавочке и уселся. Под черными одеждами у него были джинсы и высокие шнурованные ботинки. Должно быть, священнику, как и студенту, просто необходимы удобные и крепкие башмаки!.. Все время на ногах, да и концы, по всей видимости, немалые. – Вы к нам раньше никогда не заглядывали. – Нет, – согласился Шаховской, пристраиваясь рядом. – Я даже и не знал, что здесь церковь есть. – Храм Знамения иконы Божьей Матери. – И про церковь не знал, и про музей не знал, – Дмитрий Иванович кивнул за решетку. – Оказывается, в особняке Морозова теперь музей. – Так говорят, – согласился отец Андрей. – Мне там всего один раз побывать довелось. Раньше было все закрыто наглухо, не попасть, а сейчас вроде бы ремонт. – Вроде бы или ремонт? – Так ведь отсюда не видно, да я и особенно не присматривался. Знаю, что человека в особняке убили недавно, люди говорят. Вы поэтому ко мне пришли? Из-за убийства? Шаховской кивнул. Отец Андрей растопыренной пятерней старательно отряхнул со складок одеяния какие-то крошки, похожие на восковые, поковырял ногтем. – Вы не похожи на… компетентные органы. – Да я и не органы. Я профессор истории. Просто так получилось, что принимаю участие в следствии. Вы никого оттуда не знаете? – Из особняка никто ко мне никогда не заглядывал. – Отец Андрей отпустил полу, как следует расправил ее на коленке и вздохнул. – К нам только свои ходят, кто знает, что тут храм, или живет поблизости. Но таких мало, кто нынче в центре живет? Осколки прошлого, так сказать. А новоприбывшим в нашем храме неинтересно и малоспасительно. Новоприбывшие очень красоту и помпезность любят, чтоб на виду постоять, людей посмотреть, себя показать. А у нас… где же? – И директора музея вы тоже никогда не видели?