Структура художественного текста бесплатное чтение
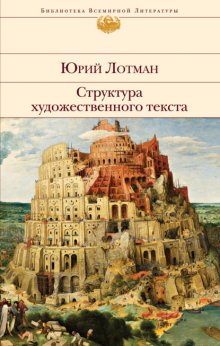
Лотман Ю.М
Структура художественного текста
Введение
На протяжении исторически зафиксированного существования человечества ему сопутствует искусство. Занятый производством, борющийся за сохранение своей жизни, почти всегда лишенный самого необходимого, человек неизменно находит время для художественной деятельности, ощущает ее необходимость. На разных этапах истории периодически раздавались голоса о ненужности и даже вреде искусства. Они шли и от ранней средневековой церкви, боровшейся с языческим фольклором, с традициями античного искусства, и от иконоборцев, выступавших против церкви, и из рядов многих других общественных движений разных эпох. Иногда борьба с теми или иными видами художественного творчества или с искусством в целом велась широко и опиралась на мощные политические институты. Однако все победы в этой борьбе оказывались химеричными: искусство неизменно воскресало, переживая своих гонителей. Эта необычайная устойчивость, если вдуматься в нее, способна вызвать удивление, поскольку существующие эстетические концепции по-разному объясняют, в чем же состоит необходимость искусства. Оно не является составной частью производства, и существование его не обусловлено потребностью человека в непрерывном возобновлении средств удовлетворения материальных нужд.
В ходе исторического развития каждое общество вырабатывает определенные формы присущей ему социально-политической организации. И если нам совершенно ясна их историческая неизбежность, если мы можем объяснить, почему общество, обладающее нулевой формой внутренней организации, не могло бы существовать, невозможность существования общества, не имеющего искусства, значительно труднее объяснима. Объяснение здесь обычно заменяется ссылкой на факт, указанием на то, что истории человечества не известны (или известны лишь как редкие аномалии, данные своего рода социальной тератологии, лишь подтверждающие своей исключительностью общую норму) общества, не имеющие своего искусства. При этом следует иметь в виду и то, что отличает в этом отношении искусства от иных видов идеологических структур. Организуя общество, те или иные структуры неизбежно охватывают всех его членов: каждый человек в отдельности, самим фактом принадлежности историческому коллективу, поставлен перед жесткой (14) необходимостью быть частью той или иной группировки, входя в одно из наличных подмножеств данного социального множества. Например, человек предреволюционной Франции XVIII в., для того чтобы быть политической личностью, мог принадлежать к одному из трех сословий, но не мог не принадлежать ни к какому. Но общество, накладывая порой очень жесткие ограничения на искусство, никогда не предъявляет своим членам ультимативного требования заниматься художественной деятельностью. Ритуал обязателен — хоровод доброволен. Исповедовать ту или иную религию, быть атеистом, входить в какую-либо политическую организацию, принадлежать определенной юридической группе — каждое общество представляет своим членам обязательный список подобных признаков.
Производить или потреблять художественные ценности — всегда признак факультативный. «Этот человек ни во что не верит» и «этот человек не любит кино (поэзию, балет)» — ясно, что мы имеем дело с нарушением общественных норм совершенно разной степени обязательности. Если в нацистской Германии равнодушие к официальному искусству воспринималось как признак нелояльности, то очевидно, что речь шла совсем не о нормах отношения человека к искусству.
И тем не менее, не являясь обязательным ни с точки зрения непосредственных жизненных нужд, ни с точки зрения облигаторных общественных связей, искусство всей своей историей доказывает свою насущную необходимость.
Давно уже было указано на то, что необходимость искусства родственна необходимости знания, а само искусство — одна из форм познания жизни, борьбы человечества за необходимую ему истину. Однако, будучи прямолинейно истолковано, это положение порождает ряд трудностей. Если понимать под искомым познанием логические положения, однотипные результаты научных изысканий, то нельзя не согласиться с тем, что человечество обладает и более прямыми путями для их получения, нежели искусство. И если придерживаться такой точки зрения, то придется согласиться, что искусство дает некое знание низшего типа. Об этом, как известно, со всей определенностью писал Гегель: «Вследствие своей формы искусство ограничено также и определенным содержанием. Лишь определенный круг и определенная ступень истины могут найти свое воплощение в форме художественного произведения». Из этого положения с неизбежностью вытекал вывод о том, что дух современной культуры «поднялся, по-видимому, выше той ступени, на которой искусство представляет собой высшую форму осознания абсолютного. Своеобразный характер художественного творчества и создаваемых им произведений уже больше не дают полного удовлетворения нашей высшей потребности».[1]
Несмотря на то, что это положение Гегеля неоднократно подвергалось критике, например Белинским, оно настолько органично для охарактеризованного выше понимания задач искусства, что снова и снова возникает в (15) истории культуры. Проявления его многообразны — от периодически оживающих толков о ненужности или устарелости искусства до убеждения в том, что критик, ученый или любой другой человек, являющийся носителем логико-теоретической мысли или претендующий на это, уже тем самым имеет право учить и наставлять писателя.
Это же убеждение проявляется в слабых сторонах школьной методики изучения литературы, настойчиво убеждающей учеников в том, что несколько строк логических выводов (предположим, вдумчивых и серьезных) составляют всю суть художественного произведения, а остальное относится к второстепенным «художественным особенностям».
Итак, существующие концепции культуры объясняют нам необходимость существования производства и форм его организации, необходимость науки. Искусство же может показаться факультативным элементом культуры. Мы можем определить, какое влияние оказывает на него нехудожественная структура действительности. Однако если вопрос: «Почему невозможно общество без искусства?» — остается открытым, а реальность исторических фактов заставляет его снова и снова ставить, то с неизбежностью напрашивается вывод о недостаточности наших концепций культуры человечества.
Мы знаем, что история человечества не могла сложиться без производства, социальных конфликтов, борьбы политических мнений, мифологии, религии, атеизма, успехов науки. Могла ли она сложиться без искусства? Отведена ли искусству второстепенная роль вспомогательного орудия, к которому прибегают (но могут и не прибегнуть) более субстанциональные потребности человеческого духа? У Пушкина есть заметка: «В одной из шекспировых комедий крестьянка Одрей спрашивает: „Что такое поэзия? вещь ли это настоящая?“».[2] Как ответить на этот вопрос? Действительно ли поэзия — «вещь настоящая», или, по выражению Державина, она
К сожалению, чисто эмоциональный ответ, основанный на любви к искусству, привычке к каждодневным эстетическим впечатлениям, не будет обладать окончательной убедительностью. Слишком часто науке приходится отвергать убеждения, привычность и житейская очевидность которых составляют самую сущность нашего бытового опыта. Как легко было бы ученому, весь опыт которого замыкался бы в кругу европейской культуры, доказать, что музыка дальневосточного типа не может существовать или не может считаться музыкой. Возможно, конечно, и обратное рассуждение. ^Привычность или «естественность» той или иной идеи не есть доказательство ее истинности.
Вопрос о необходимости искусства не составляет предмета настоящей книги и не может быть рассмотрен здесь всесторонне. Уместно будет остановиться на нем лишь в такой мере, в какой он связан с внутренней (16) организацией художественного текста и с его общественным функционированием.
Жизнь всякого существа представляет собой сложное взаимодействие с окружающей его средой. Организм, не способный реагировать на внешние воздействия и к ним приспособляться, неизбежно погиб бы. Взаимодействие с внешней средой можно представить себе как получение и дешифровку определенной информации. Человек оказывается с неизбежностью втянутым в напряженный процесс: он окружен потоками информации, жизнь посылает ему свои сигналы. Но сигналы эти останутся неуслышанными, информация — непонятой и важные шансы в борьбе за выживание упущенными, если человечество не будет поспевать за все возрастающей потребностью эти потоки сигналов дешифровать и превращать в знаки, обладающие способностью коммуникации в человеческом обществе. При этом оказывается необходимым не только увеличивать количество разнообразных сообщений на уже имеющихся языках (естественных, на языках различных наук), но и постоянно увеличивать количество языков, на которые можно переводить потоки окружающей информации, делая их достоянием людей. Человечество нуждается в особом механизме — генераторе все новых и новых «языков», которые могли бы обслуживать его потребность в знании. При этом оказывается, что дело не только в том, что создание иерархии языков является более компактным способом хранения информации, чем увеличение до бесконечности сообщений на одном.
Определенные виды информации могут храниться и передаваться только с помощью специально организованных языков, — так, химическая или алгебраическая информация требуют своих языков, которые были бы специально приспособлены для данного типа моделирования и коммуникации.
Искусство является великолепно организованным генератором языков особого типа, которые оказывают человечеству незаменимую услугу, обслуживая одну из самых сложных и не до конца еще ясных по своему механизму сторон человеческого знания.
Представление о том, что мир, окружающий человека, говорит многими языками и что свойство мудрости — в том, чтобы научиться их понимать, не ново. Так, Баратынский устойчиво связывал понимание природы с овладением ее особым языком, употребляя для характеристики познания глаголы языкового общения («говорил», «читал»):
Непонимание — забвение или незнание языка:
Еще более интересен случай с пушкинскими «Стихами, сочиненными ночью во время бессонницы». В них Пушкин говорит об обступившей его темной и суетливой жизни, требующей, чтобы ее разгадали:
Стихотворение это при жизни поэта опубликовано не было. Жуковский опубликовал его в посмертном Собрании сочинений Пушкина в 1841 г., заменив последний стих на:
Нам не известны его соображения, и в современных изданиях этот стих, как отсутствующий в автографах Пушкина, устраняется. Однако трудно допустить, чтобы Жуковский, при явном отсутствии здесь каких-либо внешних причин цензурного характера, стал заменять пушкинские стихи своими, «очевидно, для улучшения рифмы» (мнения комментаторов академического издания). Вполне возможно, что у Жуковского — постоянного собеседника Пушкина в 1930-е гг. — были достаточно веские, хотя и неизвестные нам основания изменить этот стих, не считаясь с хорошо известным ему автографом. Но для нас важно другое: кто бы ни сделал это изменение — Пушкин или Жуковский, — но для него стихи:
и
были семантически эквивалентны: понять жизнь — это выучить ее темный язык. И во всех этих — и многих других — случаях речь идет не о поэтических метафорах, а о глубоком понимании процесса овладения истиной и — шире — жизнью.
Для классицизма поэзия — язык богов, для романтизма — язык сердца. Эпоха реализма меняет содержание этой метафоры, но сохраняет ее характер: искусство — язык жизни, с его помощью действительность рассказывает о себе.
Мысль о безъязыком мире, обретающем в поэзии свой голос, в разных формах встречается у многих поэтов. Без поэзии
(В. В. Маяковский)
Устойчивость сопоставления искусства и языка, голоса, речи свидетельствует о том, что связь его с процессом общественных коммуникаций — подспудно или осознанно — входит в самую основу понятия художественной деятельности.
Но если искусство — особое средство коммуникации, особым образом организованный язык (вкладывая в понятие «язык» то широкое содержание, которое принято в семиотике, — «любая упорядоченная система, служащая средством коммуникации и пользующаяся знаками»), то произведения искусства(18) — то есть сообщения на этом языке — можно рассматривать в качестве текстов.
С этой позиции можно сформулировать и задачу настоящей книги. > Создавая и воспринимая произведения искусства, человек передает, получает и хранит особую художественную информацию, которая неотделима от структурных особенностей художественных текстов в такой же мере, в какой мысль неотделима от материальной структуры мозга. Дать общий очерк структуры художественного языка и его отношений к структуре художественного текста, их сходства и отличий от аналогичных лингвистических категорий, то есть объяснить, как художественный текст становится носителем определенной мысли — идеи, как структура текста относится к структуре этой идеи, — такова общая цель, в направлении к которой автор надеется сделать хотя бы некоторые шаги.
1. Искусство как язык
Искусство — одно из средств коммуникации. Оно, бесспорно, осуществляет связь между передающим и принимающим (то, что в известных случаях оба они могут совместиться в одном лице, не меняет дела, подобно тому как человек, разговаривающий сам с собой, соединяет в себе говорящего и слушающего).[3] Дает ли это нам право определить искусство как особым образом организованный язык?
Всякая система, служащая целям коммуникации между двумя или многими индивидами, может быть определена как язык (как мы уже отмечали, случай автокоммункации подразумевает, что один индивид выступает в качестве двух). Часто встречающееся указание на то, что язык подразумевает коммуникацию в человеческом обществе, строго говоря, не является обязательным, поскольку, с одной стороны, языковое общение между человеком и машиной и машин между собой в настоящее время является уже не теоретической проблемой, а технической реальностью.[4] С другой стороны, наличие опре(19)деленных языковых общений в мире животных также не подвергается уже сомнению. Напротив того, системы коммуникаций внутри индивида (например, механизмы биохимической регулировки или сигналов, передаваемых по сети нервов организма) языками не являются.[5]
В этом смысле мы можем говорить как о языках не только о русском, французском или хинди и других, не только об искусственно создаваемых разными науками системах, употребляемых для описания определенных групп явлений (их называют «искусственными» языками, или метаязыками данных наук), но и об обычаях, ритуалах, торговле, религиозных представлениях. В этом же смысле можно говорить о «языке» театра, кино, живописи, музыки и об искусстве в целом как об особым образом организованном языке.
Однако, определив искусство как язык, мы тем самым высказываем некие определенные суждения относительно его устройства. Всякий язык пользуется знаками, которые составляют его «словарь» (иногда говорят «алфавит», для общей теории знаковых систем эти понятия равнозначны), всякий язык обладает определенными правилами сочетания этих знаков, всякий язык представляет собой определенную структуру, и структуре этой свойственна иерархичность.
Такая постановка вопроса позволяет подойти к искусству с двух различных точек зрения.
Во-первых, выделить в искусстве то, что роднит его со всяким языком, и попытаться описать эти его стороны в общих терминах теории знаковых систем.
Во-вторых, — на фоне первого описания — выделить в искусстве то, что присуще ему как особому языку и отличает его от других систем этого типа.
Поскольку мы в дальнейшем будем пользоваться понятием «язык» в том специфическом значении, которое ему придается в работах по семиотике и существенно расходится с привычным словоупотреблением, определим содержание этого термина. Под языком мы будем понимать всякую коммуникационную систему, пользующуюся знаками, упорядоченными особым образом. Рассмотренные таким образом языки будут отличаться:
во-первых, от систем, не служащих средствами коммуникации;
во-вторых, от систем, служащих средствами коммуникации, но не пользующихся знаками;
в-третьих, от систем, служащих средствами коммуникации и пользующихся совсем или почти не упорядоченными знаками.
Первое противопоставление позволяет отделить языки от тех форм человеческой деятельности, которые не связаны непосредственно и по своей целевой установке с накоплением и передачей информации. Второе позволяет ввести следующее разделение: знаковое общение происходит в основном (20) между индивидами, внезнаковое — между системами внутри организма. Однако вернее, видимо, было бы истолковать это противопоставление как антитезу коммуникаций на уровне первой и второй сигнальных систем, поскольку, с одной стороны, возможны внезнаковые связи между организмами (особенно значительные у низших животных, но сохраняющиеся и у человека в виде явлений, изучаемых телепатией), с другой — возможно и знаковое общение внутри организма. Имеется в виду не только самоорганизация человеком своего интеллекта при помощи тех или иных знаковых систем, но и те случаи, когда знаки вторгаются в сферу первичной сигнализации (человек «заговаривает» словами зубную боль; действуя сам на себя при помощи слов, переносит страдания или физическую пытку).
Если с этими оговорками принять положение о том, что язык есть форма коммуникации между двумя индивидами, то придется сделать еще некоторые уточнения. Понятие «индивидуум» удобнее будет заменить «передающим сообщение» (адресантом) и «принимающим его» (адресатом). Это позволит ввести в схему те случаи, когда язык связывает не два индивидуума, а два других передающих (принимающих) устройства, например телеграфный аппарат и подключенное к нему автоматическое записывающее устройство. Но важнее другое — нередки случаи, когда один и тот же индивид выступает и как адресант и как адресат сообщения (заметки «на память», дневники, записные книжки). Информация тогда передается не в пространстве, а во времени и служит средством самоорганизации личности. Следовало бы считать, что данный случай — лишь малозначительная частность в общей массе социальных общений, если бы не одно соображение: можно рассматривать в качестве индивида отдельного человека, тогда схема коммуникации А В (от адресанта к адресату) будет явно преобладать над А А/ (адресант сам же является адресатом, но в другую единицу времени). Однако стоит подставить под «А», например, понятие «национальная культура», чтобы схема коммуникации А А/ получила по крайней мере равноправное значение с А В (в ряде культурных типов она будет главенствовать). Но сделаем следующий шаг — подставим под «А» человечество в целом. Тогда автокоммуникация станет (по крайней мере, в пределах исторически реального опыта) единственной схемой коммуникации.
Третье противопоставление отделит языки от тех промежуточных систем, которыми в основном занимается паралингвистика, — мимики, жестов и т. п.
Если понимать «язык» предложенным выше образом, то понятие это объединит:
а) естественные языки (например, русский, французский, эстонский, чешский);
б) искусственные языки: языки науки (метаязыки научных описаний), языки условных сигналов (например, дорожных знаков) и т. п.;
в) вторичные языки (вторичные моделирующие системы) — коммуникационные структуры, надстраивающиеся над естественно-языковым уровнем (миф, религия). Искусство — вторичная моделирующая система. «Вторичный по отношению к языку» следует понимать не только как «пользующийся естественным языком в качестве материала». Если бы термин имел такое (21) содержание, то включение в него несловесных искусств (живописи, музыки и других) было бы явно неправомерно. Однако отношение здесь более сложное: естественный язык — не только одна из наиболее ранних, но и самая мощная система коммуникаций в человеческом коллективе. Самой своей структурой он оказывает мощное воздействие на психику людей и многие стороны социальной жизни. Вторичные моделирующие системы (как и все семиотические системы) строятся по типу языка. Это не означает, что они воспроизводят все стороны естественных языков. Так, музыка резко отличается от естественных языков отсутствием обязательных семантических связей, однако в настоящее время очевидна уже полная закономерность описания музыкального текста как некоторого синтагматического построения (работы М. М. Ланглебен и Б. М. Гаспарова). Выделение синтагматических и парадигматических связей в живописи (работы Л. Ф. Жегина, Б. А. Успенского), кино (статьи С. М. Эйзенштейна, Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенбаума, К. Меца) позволяет видеть в этих искусствах семиотические объекты — системы, построенные по типу языков. Поскольку сознание человека есть сознание языковое, все виды надстроенных над сознанием моделей — и искусство в том числе — могут быть определены как вторичные моделирующие системы.
Итак, искусство может быть описано как некоторый вторичный язык, а произведение искусства — как текст на этом языке.
Доказательству и объяснению этого тезиса будет посвящена значительная часть предлагаемого вниманию читателей исследования. Пока ограничимся несколькими цитатами, подчеркивающими неотделимость поэтической идеи от особой, ей соответствующей структуры текста, особого языка искусства. Вот запись А. Блока (июль 1917 г.): «Ложь, что мысли повторяются. Каждая мысль нова, потому, что ее окружает и оформляет новое. „Чтоб он, воскреснув, встать не мог“ (моя), „Чтоб встать он из гроба не мог“ (Лермонтов — сейчас вспомнил) — совершенно разные мысли. Общее в них — „содержание“, что только доказывает лишний раз, что бесформенное содержание само по себе не существует, не имеет веса».[6]
Рассматривая природу семиотических структур, можно сделать одно наблюдение: сложность структуры находится в прямо пропорциональной зависимости от сложности передаваемой информации. Усложнение характера информации неизбежно приводит и к усложнению используемой для ее передачи семиотической системы. При этом в правильно построенной (то есть достигающей цели, ради которой она создана) семиотической системе не может быть излишней, неоправданной сложности.
Если существуют две системы А и В и обе они полностью передают некий единый объем информации при одинаковом расходе на преодоление шума в канале связи, но система А значительно проще, чем В, то не вызывает никаких сомнений, что система В будет отброшена и забыта.[7] (22)
Поэтическая речь представляет собой структуру большой сложности. Она значительно усложнена по отношению к естественному языку. И если бы объем информации, содержащейся в поэтической (стихотворной или прозаической — в данном случае не имеет значения) и обычной речи был одинаковым,[8] художественная речь потеряла бы право на существование и, бесспорно, отмерла бы. Но дело обстоит иначе: усложненная художественная структура, создаваемая из материала языка, позволяет передавать такой объем информации, который совершенно недоступен для передачи средствами элементарной собственно языковой структуры. Из этого вытекает, что данная информация (содержание) не может ни существовать, ни быть передана вне данной структуры. Пересказывая стихотворение обычной речью, мы разрушаем структуру и, следовательно, доносим до воспринимающего совсем не тот объем информации, который содержался в нем. Таким образом, методика рассмотрения отдельно «идейного содержания», а отдельно — «художественных особенностей», столь прочно привившаяся в школьной практике, зиждется на непонимании основ искусства и вредна, ибо прививает массовому читателю ложное представление о литературе как о способе длинно и украшенно излагать те же самые мысли, которые можно сказать просто и кратко. Если идейное содержание «Войны и мира» или «Евгения Онегина» можно изложить на двух страничках, то естествен вывод: следует читать не длинные произведения, а короткие учебники. Это вывод, к которому толкают не плохие учителя нерадивых учеников, а вся система школьного изучения литературы, которая, в свою очередь, лишь упрощенно и потому наиболее четко отражает тенденции, ясно дающие себя чувствовать в науке о литературе.
Мысль писателя реализуется в определенной художественной структуре и неотделима от нее. Л. Н. Толстой писал о главной мысли «Анны Карениной»: «Если же бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен был написать роман тот самый, который я написал сначала. И если критики теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю <…> И если близорукие критики думают, что я хотел описывать только то, что мне нравится, как обедает Облонский и какие плечи у Карениной, то они ошибаются. Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой для выражения себя; но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна и без того сцепления, в котором она находится». Толстой необычайно ярко сказал о том, что художественная мысль реализует себя через «сцепление» — структуру — и не существует вне ее, что идея художника реализуется в его модели действительности. И далее Толстой пишет: «…нужны люди, которые показали бы бессмыслицу отыскивания отдельных мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесчисленном (23) лабиринте сцеплений, в котором состоит сущность искусства, и по тем законам, которые служат основанием этих сцеплений».[9]
Определение «форма соответствует содержанию», верное в философском смысле, все же недостаточно точно отражает отношение структуры и идеи. Еще Ю. Н. Тынянов указывал на ее неудобную (применительно к искусству) метафоричность: «Форма + содержание = стакан + вино. Но все пространственные аналогии, применяемые к понятию формы, важны тем, что только притворяются аналогиями: на самом деле в понятие формы неизменно подсовывается при этом статический признак, тесно связанный с пространственностью».[10] Для наглядного представления отношения идеи к структуре удобнее вообразить себе связь жизни и сложного биологического механизма живой ткани. Жизнь, составляющая главное свойство живого организма, немыслима вне его физической структуры, она является функцией этой работающей системы. Исследователь литературы, который надеется постичь идею, оторванную от авторской системы моделирования мира, от структуры произведения, напоминает ученого-идеалиста, пытающегося отделить жизнь от той конкретной биологической структуры, функцией которой она является. Идея не содержится в каких-либо, даже удачно подобранных цитатах, а выражается во всей художественной структуре. Исследователь, не понимающий этого и ищущий идею в отдельных цитатах, похож на человека, который, узнав, что дом имеет свой план, начал бы ломать стены в поисках места, где этот план замурован. План не замурован в стену, а реализован в пропорциях здания. План — идея архитектора, структура здания — ее реализация. Идейное содержание произведения — структура. Идея в искусстве — всегда модель, ибо она воссоздает образ действительности. Следовательно, вне структуры художественная идея немыслима. Дуализм формы и содержания должен быть заменен понятием идеи, реализующей себя в адекватной структуре и не существующей вне этой структуры.
Измененная структура донесет до читателя или зрителя иную идею. Из этого следует, что в стихотворении нет «формальных элементов» в том смысле, который обычно вкладывается в это понятие. Художественный текст — сложно построенный смысл. Все его элементы суть элементы смысловые.
Искусство в ряду других знаковых систем
Рассмотрение искусства в категориях коммуникационной системы позволяет поставить, а частично и разрешить ряд вопросов, остававшихся вне поля зрения традиционной эстетики и теории литературы.
Современная теория знаковых систем обладает хорошо разработанной концепцией коммуникации, позволяющей наметить общие черты художественного общения. (24)
Всякий акт коммуникации включает в себя отправителя и получателя информации. Но этого мало: хорошо известный нам факт непонимания свидетельствует о том, что не всякое сообщение воспринимается. Для того чтобы получатель понял отправителя сообщения, необходимо наличие у них общего посредника — языка. Если взять сумму возможных сообщений на одном языке, то легко будет заметить, что некоторые элементы этих сообщений будут выступать как в тех или иных отношениях взаимоэквивалентные (например, между вариантами фонемы, в одном отношении, фонемой и графемой, в другом, будет возникать отношение эквивалентности). Нетрудно заметить, что отличия будут появляться за счет природы материализации того или иного знака или его элемента, а сходства — как результат одинакового места в системе. Общее для различных взаимоэквивалетных вариантов будет выступать как их инвариант. Таким образом, мы получим два различных аспекта коммуникационной системы: поток отдельных сообщений, воплощенных в той или иной материальной субстанции (графической, звуковой, электромагнитной при разговоре по телефону, телеграфных знаках и т. п.), и абстрактную систему инвариантных отношений. Разделение этих двух начал и определение первой как «речи» (parole), а второй как «языка» (langue) принадлежит Ф. де Соссюру. При этом очевидно, что, поскольку носителями определенных значений выступают единицы языка, то процесс понимания состоит в том, что определенное речевое сообщение отождествляется в сознании воспринимающего с его языковым инвариантом. При этом одни признаки элементов речевого текста (те, которые совпадают с инвариантными им признаками в системе языка) выделяются как значимые, а другие снимаются сознанием воспринимающего как несущественные. Таким образом, язык выступает как некоторый код, при помощи которого воспринимающий дешифрует значение интересующего его сообщения. В этом смысле, позволяя себе известную степень неточности, можно отождествлять разделение системы на «речь» и «язык» в структурной лингвистике и «сообщение» и «код» в теории информации.[11] Однако если представлять себе язык как определенную систему инвариантных элементов и правил их сочетания,[12] то станет очевидной справедливость высказанного Р. Якобсоном и другими учеными положения, что в процессе передачи информации фактически используются не один, а два кода: один — зашифровывающий и другой — дешифрующий сообщение. В этом смысле говорят о правилах для говорящего и правилах для слушающего. Разница между ними стала очевидной, как только возникла задача искусственного порождения (синтеза) и дешифровки (анализа) текста на (25) каком-либо естественном языке с помощью электронно-вычислительных устройств.
Все эти вопросы имеют непосредственное отношение к определению искусства как коммуникационной системы.
Первым следствием из общего положения о том, что искусство представляет собой одно из средств массовой коммуникации, является утверждение: чтобы воспринимать передаваемую средствами искусства информацию, надо владеть его языком. Сделаем еще одно необходимое отступление. Представим себе некоторый язык. Возьмем, например, язык химических знаков. Если мы выпишем все употребляемые в нем графические значки, то легко убедимся, что они разделяются на две группы: одни — буквы латинского алфавита — обозначают химические элементы, другие (знаки равенства, плюсы, цифровые коэффициенты) будут обозначать способы их соединения. Если мы выпишем все знаки — буквы, то получим некоторое множество имен химического языка, которые в своей совокупности будут означать всю сумму известных к этому моменту химических элементов.
Теперь предположим, что мы членим все обозначаемое пространство на определенные группы. Например, мы будем описывать все множество содержания при помощи языка, имеющего только два имени: металлы и неметаллы, или будем вводить какие-либо другие системы записи, пока не дойдем до членения на элементы и обозначения их отдельными буквами. Ясно, что каждая система записи будет отражать определенную научную концепцию классификации обозначаемого Таким образом, каждая система химического языка есть вместе с тем и модель определенной химической реальности. Мы пришли к существенному выводу всякий язык есть не только коммуникативная, но и моделирующая система, вернее, обе эти функции неразрывно связаны
Это справедливо и для естественных языков. Если в древнерусском языке (XII в.) «честь» и «слава» оказываются антонимами, а в современном — синонимами,[13] если в древнерусском «синий» — иногда синоним «черного», иногда — «багрово-красного», «серый» означает наш «голубой» (в значении цвета глаз), «голубой» же — наш «серый» (в значении масти животного и птицы),[14] если небо никогда не называется в текстах XII в. голубым или синим, а золотой цвет фона на иконе, видимо, для зрителя той поры вполне правдоподобно передает цвет небес, если старославянское: «Кому сини очи, не пребывающим ли в вине, не назирающим ли кьде пирове бывають»[15] — следует переводить: «У кого же багровые (налитые кровью) глаза, как не у пьяницы, как не у того, кто высматривает, где бывают пиры», — то ясно, (26) что мы имеем дело с совсем иными моделями этического или цветового пространства.
Но очевидно вместе с тем, что не только «знаки-имена», но и «знаки-связки» играют моделирующую роль, — они воспроизводят концепцию связей в обозначаемом объекте.
Итак, всякая коммуникативная система может выполнять моделирующую функцию и, обратно, всякая моделирующая система может играть коммуникативную роль. Конечно, та или иная функция может быть выражена более сильно или почти совсем не ощущаться в том или ином конкретном социальном употреблении. Но потенциально присутствуют обе функции.[16]
Это чрезвычайно существенно для искусства.
Если произведение искусства что-либо мне сообщает, если оно служит целям коммуникации между отправителем и получателем, то в нем можно выделить:
1) сообщение — то, что мне передается;
2) язык — определенную, общую для передающего и принимающего абстрактную систему, которая делает возможным самый акт коммуникации. Хотя, как мы увидим в дальнейшем, отвлечение каждой из названных сторон возможно лишь в порядке исследовательской абстракции, противопоставление этих двух аспектов в произведении искусства, на определенной стадии изучения, совершенно необходимо.
Язык произведения — это некоторая данность, которая существует до создания конкретного текста и одинакова для обоих полюсов коммуникации (в дальнейшем в это положение будут введены некоторые коррективы). Сообщение — это та информация, которая возникает в данном тексте. Если мы возьмем большую группу функционально однородных текстов и рассмотрим их как варианты некоего одного инвариантного текста, сняв при этом все «внесистемное» с данной точки зрения, то получим структурное описание языка данной группы текстов. Так построена, например, классическая «Морфология волшебной сказки» В. Я. Проппа, дающая модель этого фольклорного жанра. Мы можем рассмотреть все возможные балеты как один текст (так, как мы обычно рассматриваем все исполнения данного балета как варианты одного текста) и, описав его, получим язык балета, и т. д.
Искусство неотделимо от поисков истины. Однако необходимо подчеркнуть, что «истинность языка» и «истинность сообщения» — понятия принципиально различные. Для того чтобы представить себе эту разницу, вообразим, с одной стороны, высказывания об истинности или ложности решения той или иной задачи, логической правильности того или иного утверждения, а с другой — рассуждения об истинности геометрии Лобачевского или четырехзначной логики. О каждом сообщении на русском или любом другом из естественных языков можно задать вопрос: истинно оно или ложно? Но этот (27) вопрос совершенно теряет смысл применительно к какому-либо языку в целом. Поэтому часто встречающиеся рассуждения о художественной непригодности, неполноценности или даже «порочности» каких-либо художественных языков (например, языка балета, языка восточной музыки, языка абстрактной живописи) заключают в себе логическую ошибку — результат смешения понятий. Между тем очевидно, что суждению об истинности или ложности должно предшествовать внесение ясности в постановку вопроса, что оценивается: язык или сообщение. Соответственно и будут работать различные критерии оценки. Культура заинтересована в своеобразном полиглотизме. Не случайно искусство в своем развитии отбрасывает устарелые сообщения, но с поразительной настойчивостью сохраняет в своей памяти художественные языки прошедших эпох. История искусств изобилует «ренессансами» — возрождением художественных языков прошлого, воспринимаемых как новаторские.
Расчленение этих аспектов существенно и для литературоведа (как и вообще искусствоведа). Здесь дело не только в постоянном смешении своеобразия языка художественного текста и его эстетической ценности (с постоянным утверждением «непонятное — плохое»), но и в отсутствии сознательного расчленения исследовательской задачи, в отказе от постановки вопроса о том, что изучается — общий художественный язык эпохи (направления, писателя) или определенное сообщение, переданное на этом языке.
В последнем случае, видимо, целесообразнее описывать массовые, «средние», наиболее стандартизованные тексты, в которых общая норма художественного языка обнажена отчетливее всего. Нерасчленение этих двух аспектов приводит к тому смешению, на которое указывало еще традиционное литературоведение и избежать которого на интуитивном уровне оно пыталось, требуя различать «массовое» и «индивидуальное» в литературном произведении. Среди ранних и весьма далеких от совершенства опытов изучения массовой художественной нормы можно назвать, например, известную монографию В. В. Сиповского по истории русского романа. В начале 1920-х гг. вопрос этот уже был поставлен как совершенно отчетливая задача. Так, В. М. Жирмунский писал, что при изучении массовой литературы «по существу поставленной задачи приходится, отвлекаясь от индивидуального, улавливать распространение некоторой общей тенденции».[17] Вопрос этот отчетливо ставился в работах Шкловского и Виноградова.
Однако, осознав различие этих аспектов, нельзя не заметить, что отношение между ними в художественных и нехудожественных коммуникациях глубоко отлично, и самый факт настойчивого отождествления проблем специфики языка того или иного вида искусства с ценностью передаваемой на нем информации настолько широко распространен, что не может оказаться случайным.
Всякий естественный язык состоит из знаков, характеризуемых наличием определенного внеязыкового содержания, и синтагматических элементов, со(28)держание которых не только воспроизводит внеязыковые связи, но и в значительной мере имеет имманентный, формальный характер. Правда, между этими группами языковых фактов существует постоянное взаимопроникновение: с одной стороны, значимые элементы становятся служебными, с другой — служебные постоянно семантизируются (осмысление грамматического рода как содержательно-половой характеристики, категория одушевленности и т. д.). Однако процесс диффузии здесь настолько незаметен, что оба аспекта вычленяются весьма четко.
Иное дело в искусстве. Здесь, с одной стороны, проявляется постоянная тенденция к формализации содержательных элементов, к их застыванию, превращению в штампы, полному переходу из сферы содержания в условную область кода. Приведем единственный пример. Б. А. Тураев в своем очерке истории египетской литературы сообщает, что настенные изображения египетских храмов знают особый сюжет: рождение фараонов в виде строго повторяющихся эпизодов и сцен. Это «галерея изображений, сопровождаемых текстом и представляющих древнюю композицию, составленную, вероятно, для царей V династии и потом в стереотипной форме передававшуюся официально из поколения в поколение». Автор указывает, что «этой официальной драматической поэмой в ряде картин особенно охотно пользовались те, права которых на престол оспаривались»,[18] как, например, царица Хат-шепсут, и сообщает замечательный факт: желая укрепить свои права, Хат-шепсут приказала поместить на стенах Дейр-эль-Бахри изображение своего рождения. Но при этом изменение, соответствующее полу царицы, было внесено лишь в подпись. Само же изображение осталось строго традиционным и представляло рождение мальчика. Оно полностью формализовалось, и информационной была не отнесенность изображения ребенка к реальному прототипу, а сам факт помещения или непомещения в храме художественного текста, связь которого с данной царицей устанавливалась лишь посредством подписи.
С другой стороны, стремление осмыслить все в художественном тексте как значимое настолько велико, что мы с основанием считаем, что в произведении нет ничего случайного. И мы еще будем неоднократно обращаться к глубоко обоснованному Р. Якобсоном[19] утверждению о художественном значении грамматических форм в поэтическом тексте, равно как и к другим примерам семантизации формальных элементов текста в искусстве.
Конечно, соотношение двух этих начал в разных исторических и национальных формах искусства будет различным. Но их наличие и взаимосвязь постоянны. Более того, если мы допустим два высказывания: «В произведении искусства все принадлежит художественному языку» — и: «В произведении искусства все является сообщением», противоречие, в которое мы впадаем, будет только кажущимся. (29)
При этом естественно возникает вопрос: нельзя ли отождествить язык с формой художественного произведения, а сообщение — с содержанием и не отпадает ли тогда утверждение, что структуральный анализ снимает дуализм рассмотрения художественного текста с точки зрения формы и содержания? Видимо, подобного отождествления не следует делать. Прежде всего потому, что язык художественного произведения — совсем не «форма», если вкладывать в это понятие представление о чем-то внешнем по отношению к несущему информационную нагрузку содержанию. Язык художественного текста в своей сущности является определенной художественной моделью мира и в этом смысле всей своей структурой принадлежит «содержанию» — несет информацию. Мы уже отмечали, что модель мира, создаваемая языком, более всеобща, чем глубоко индивидуальная в момент создания модель сообщения. Сейчас уместно сказать о другом: художественное сообщение создает художественную модель какого-либо конкретного явления — художественный язык моделирует универсум в его наиболее общих категориях, которые, будучи наиболее общим содержанием мира, являются для конкретных вещей и явлений формой существования. Таким образом, изучение художественного языка произведений искусства не только дает нам некую индивидуальную норму эстетического общения, но и воспроизводит модель мира в ее самых общих очертаниях. Поэтому с определенных точек зрения информация, заключающаяся в выборе типа художественного языка, представляется наиболее существенной.
Выбор писателем определенного жанра, стиля или художественного направления — тоже есть выбор языка, на котором он собирается говорить с читателем. Язык этот входит в сложную иерархию художественных языков данной эпохи, данной культуры, данного народа или данного человечества (в конце концов, с необходимостью возникает и такая постановка вопроса). При этом следует отметить одну существенную черту, к которой мы еще вернемся: язык данной науки является для нее единственным, связанным с особым, ей присущим предметом и аспектом. Чрезвычайно плодотворная в большинстве случаев и возникающая в связи с интердисциплинарными проблемами перекодировка с одного языка на другой или раскрывает в одном, как прежде казалось, объекте объекты двух наук, или ведет к созданию новой области познания, с новым, ей присущим метаязыком.
Естественный язык в принципе допускает перевод. Он закреплен не за объектом, а за коллективом. Однако внутри себя он уже имеет определенную иерархию стилей, позволяющую содержание одного и того же сообщения изложить с разных прагматических точек зрения. Построенный таким образом язык моделирует не только определенную структуру мира, но и точку зрения наблюдателя.
В языке искусства с его двойной задачей одновременного моделирования и объекта и субъекта происходит постоянная борьба между представлением о единственности языка и о возможности выбора между в какой-то мере адекватными художественными коммуникативными системами. На одном полюсе стоит размышление, волновавшее еще автора «Слова о полку Игореве»: петь ли песнь «по былинам сего времени» или «по замышлению Баяна», (30) на другом — утверждение Достоевского: «Я даже верю, что для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме».[20]
Противоположность и этих высказываний, в сущности, мнимая: там, где существует лишь один возможный язык, не возникает проблемы соответствия — несоответствия его моделирующей сущности авторской модели мира. Моделирующая система языка в этом случае не обнажена. Чем больше потенциальная возможность выбора, тем более информации несет в себе сама структура языка и тем резче обнажается соотнесенность ее с той или иной моделью мира.
И вот потому, что язык искусства моделирует наиболее общие аспекты картины мира — ее структурные принципы, — в целом ряде случаев именно он и будет основным содержанием произведения, может стать его сообщением — текст замкнется на себе. Так бывает во всех случаях литературных пародий, полемик — в тех случаях, когда художник определяет самый тип отношения к действительности и основные принципы его художественного воспроизведения.
Таким образом, язык искусства не может быть отождествлен с традиционным понятием формы. Более того, используя тот или иной естественный язык, язык искусства делает его формальные стороны содержательными.
Наконец, необходимо рассмотреть еще один аспект отношения языка и сообщения в искусстве. Представим себе два портрета Екатерины II: парадный, кисти Левицкого, и бытовой, изображающий императрицу в царскосельском парке, написанный Боровиковским. Для современников-царедворцев чрезвычайно существенным было сходство портрета с известной им внешностью императрицы. То, что на обоих портретах изображено одно и то же лицо, составляло для них основное сообщение, разница в трактовке, специфика художественного языка — волновала только людей, посвященных в тайны искусства. Для нас навсегда утрачен интерес, который имели эти портреты в глазах людей, видавших Екатерину II, зато на первый план выдвигается разница художественной трактовки. Информационная ценность языка и сообщения, данных в одном и том же тексте, меняется в зависимости от структуры читательского кода, его требований и ожиданий.
Однако подвижность и взаимосвязь этих двух начал особенно резко проявляется в другом. Прослеживая процесс функционирования художественного произведения, мы не можем не отметить одну особенность: в момент восприятия художественного текста мы склонны ощущать и многие аспекты его языка в качестве сообщения — формальные элементы семантизируются, то, что присуще общекоммуникационной системе, войдя в специфическую структурную целостность текста, воспринимается как индивидуальное. В талантливом произведении искусства все воспринимается как созданное ad hoc. Однако в дальнейшем, войдя в художественный опыт человечества, (31) произведение, для будущих эстетических коммуникаций, все становится языком, и то, что было случайностью содержания для данного текста, становится кодом для последующих. Н. И. Новиков еще в середине XVIII в. писал:
«Меня никто не уверит и в том, чтобы Мольеров Гарпагон писан был на общий порок. Всякая критика, писанная на лицо, по прошествии многих лет обращается в критику на общий порок; осмеянной по справедливости Кащей со временем будет общий подлинник всех лихоимцев».[21]
Понятие языка словесного искусства
Если пользоваться понятием «язык искусства» в том значении, которое мы ему условились придавать выше, то очевидно, что художественная литература, как один из видов массовой коммуникации, должна обладать своим языком. «Обладать своим языком» — это значит иметь определенный замкнутый набор значимых единиц и правил их соединения, которые позволяют передавать некоторые сообщения.
Но литература уже имеет дело с одним из типов языков — естественным языком. Как соотносятся «язык литературы»[22] и тот естественный язык, на котором произведение написано (русский, английский, итальянский или любой другой)? Да и есть ли этот «язык литературы», или достаточно разделить содержание произведения («сообщение»; ср. наивный читательский вопрос: «Про что там?») и язык художественной литературы как функционально-стилистический пласт общенационального естественного языка?
Чтобы уяснить себе этот вопрос, поставим перед собой следующую весьма тривиальную задачу. Выберем следующие тексты: группа I — картина Делакруа, поэма Байрона, симфония Берлиоза; группа II — поэма Мицкевича, фортепианные пьесы Шопена; группа III — поэтические тексты Державина, архитектурные ансамбли Баженова. Теперь зададимся целью, как это уже неоднократно делалось в различных этюдах по истории культуры, представить тексты внутри каждой из групп как один текст, сводя их к вариантам некоторого инвариантного типа. Таким инвариантным типом для первой группы будет «западноевропейский романтизм», для второй — «польский романтизм», для третьей — «русский предромантизм». Само собой разумеется, что можно поставить перед собой задачу описать все три группы как единый текст, введя абстрактную модель инварианта второй ступени. (32)
Если мы поставим перед собой такую задачу, то нам, естественно, придется выделить некоторую коммуникативную систему — «язык» — сначала для каждой из этих групп, а затем и для всех трех вместе. Предположим, что описание этих систем будет производиться на русском языке. Ясно, что в данном случае он выступит как метаязык описания (оставляем в стороне вопрос о некорректности подобного описания, поскольку неизбежно моделирующее влияние метаязыка на объект), но сам описываемый «язык романтизма» (или любой из частных его подъязыков, соответствующий указанным трем группам) не может быть отождествлен ни с одним из естественных языков, поскольку будет пригоден для описания и несловесных текстов. Между тем полученная таким образом модель языка романтизма будет приложима и к литературным произведениям и на определенном уровне сможет описывать систему их построения (на уровне, общем для словесных и несловесных текстов).
Но необходимо рассмотреть, как относятся к естественному языку те структуры, которые создаются внутри словесных художественных конструкций и не могут быть перекодированы на языки несловесных искусств.
Художественная литература говорит на особом языке, который надстраивается над естественным языком как вторичная система. Поэтому ее определяют как вторичную моделирующую систему. Конечно, литература — не единственная вторичная моделирующая система, но рассмотрение ее в этом ряду увело бы нас слишком далеко в сторону от нашей непосредственной задачи.
Сказать, что у литературы есть свой язык, не совпадающий с ее естественным языком, а надстраивающийся над ним, — значит, сказать, что литература имеет свою, только ей присущую систему знаков и правил их соединения, которые служат для передачи особых, иными средствами не передаваемых сообщений. Попробуем это доказать.
В естественных языках сравнительно легко выделяются знаки — устойчивые инвариантные единицы текста — и правила синтагматики. Знаки отчетливо разделяются на планы содержания и выражения, между которыми существует отношение взаимной необусловленности, исторической конвенциональности. В словесном художественном тексте не только границы знаков иные, но иное и само понятие знака.
Нам уже приходилось писать, что знаки в искусстве имеют не условный, как в языке, а иконический, изобразительный характер.[23] Положение это, очевидное для изобразительных искусств, применительно к словесным влечет за собой ряд существенных выводов. Иконические знаки построены по принципу обусловленной связи между выражением и содержанием. Поэтому разграничение планов выражения и содержания в обычном для структурной лингвистики смысле делается вообще затруднительным. Знак моделирует свое содержание. Понятно, что в этих условиях в художественном тексте проис(33)ходит семантизация внесемантических (синтаксических) элементов естественного языка. Вместо четкой разграниченности семантических элементов происходит сложное переплетение: синтагматическое на одном уровне иерархии художественного текста оказывается семантическим на другом.
Но тут следует напомнить, что именно синтагматические элементы в естественном языке отмечают границы знаков и членят текст на семантические единицы. Снятие оппозиции «семантика — синтактика» приводит к размыванию границ знака. Сказать: все элементы текста суть элементы семантические — означает сказать: понятие текста в данном случае идентично понятию знака.
В определенном отношении это так и есть: текст есть целостный знак, и все отдельные знаки общеязыкового текста сведены в нем до уровня элементов знака.
Таким образом, каждый художественный текст создается как уникальный, ad hoc сконструированный знак особого содержания. Это на первый взгляд противоречит известному положению о том, что только повторяемые элементы, образующие некоторое замкнутое множество, могут служить передаче информации. Однако противоречие здесь кажущееся. Во-первых, как мы уже отмечали, созданная писателем окказиональная структура модели навязывается читателю уже как язык его сознания. Окказиональность заменяется универсальностью. Но дело не только в этом. «Уникальный» знак оказывается «собранным» из типовых элементов и на определенном уровне «читается» по традиционным правилам. Всякое новаторское произведение строится из традиционного материала. Если текст не поддерживает памяти о традиционном построении, его новаторство перестает восприниматься.
Образующий один знак, текст одновременно остается текстом (последовательностью знаков) на каком-либо естественном языке и уже поэтому сохраняет разбиение на слова — знаки общеязыковой системы. Так возникает то характерное для искусства явление, согласно которому один и тот же текст при приложении к нему различных кодов различным образом распадается на знаки.
Одновременно с превращением общеязыковых знаков в элементы художественного знака протекает и противоположный процесс. Элементы знака в системе естественного языка — фонемы, морфемы, — становясь в ряды некоторых упорядоченных повторяемостей, семантизируются и становятся знаками. Таким образом, один и тот же текст может быть прочтен как некоторая образованная по правилам естественного языка цепочка знаков, как последовательность знаков более крупных, чем членение текста на слова, вплоть до превращения текста в единый знак, и как организованная особым образом цепочка знаков более дробных, чем слово, вплоть до фонем.
Правила синтагматики текста также связаны с этим положением. Дело не только в том, что семантические и синтагматические элементы оказываются взаимообратимыми, но и в другом: художественный текст выступает и как совокупность фраз, и как фраза, и как слово одновременно. В каждом из этих случаев характер синтагматических связей различен. Первые два случая не нуждаются в комментариях, зато на последнем следует остановиться. (34)
Будет ошибочным полагать, что совпадение границ знака с границами текста снимает проблему синтагматики. Рассмотренный таким образом текст может распадаться на знаки и соответственно синтагматически организовываться. Но это будет не синтагматика цепочки, а синтагматика иерархии — знаки будут связаны, как куклы-матрешки, вкладываемые одна в другую.
Подобная синтагматика вполне реальна для построения художественного текста, и если она непривычна для лингвиста, то историк культуры легко найдет ей параллели, например в структуре мира, увиденного глазами средневековья.
Для мыслителя средневековья мир — не совокупность сущностей, а сущность, не фраза, а слово. Но это слово иерархически состоит из отдельных, как бы вложенных друг в друга слов. Истина не в количественном накоплении, а в углублении (надо не читать много книг — много слов, — а вчитываться в одно слово, не накоплять новые знания, а толковать старые).
Из сказанного вытекает, что словесное искусство хотя и основывается на естественном языке, но лишь с тем, чтобы преобразовать его в свой — вторичный — язык, язык искусства. А сам этот язык искусства — сложная иерархия языков, взаимно соотнесенных, но не одинаковых. С этим связана принципиальная множественность возможных прочтений художественного текста. С этим же, видимо, связана не доступная никаким другим — нехудожественным — языкам смысловая насыщенность искусства. Искусство — самый экономный и компактный способ хранения и передачи информации. Но искусство обладает и другими свойствами, которые вполне достойны привлечь внимание специалиста-кибернетика, а со временем, может быть, и инженера-конструктора.
Обладая способностью концентрировать огромную информацию на «площади» очень небольшого текста (ср. объем повести Чехова и учебника психологии), художественный текст имеет еще одну особенность: он выдает разным читателям различную информацию — каждому в меру его понимания, он же дает читателю язык, на котором можно усвоить следующую порцию сведений при повторном чтении. Он ведет себя как некоторый живой организм, находящийся в обратной связи с читателем и обучающий этого читателя.
Вопрос о том, какими средствами это достигается, должен волновать не только гуманитара. Достаточно себе представить некоторое устройство, построенное аналогичным образом и выдающее научную информацию, чтобы понять, что раскрытие природы искусства как коммуникационной системы может произвести переворот в методах хранения и передачи информации.
О множественности художественных кодов
Художественная коммуникация обладает одной интересной особенностью: обычные виды связи знают только два случая отношений сообщения на входе и выходе канала связи — совпадение или несовпадение. Второе приравнивается ошибке и возникает за счет «шума в канале связи» — разного рода (35) обстоятельств, препятствующих передаче. Естественные языки страхуют себя от искажений механизмом избыточности — своеобразным запасом семантической прочности.[24]
Вопрос о том, как обстоит дело с избыточностью в художественном тексте, пока не является предметом нашего рассмотрения. В данной связи нас интересует другое: между пониманием и непониманием художественного текста оказывается очень обширная промежуточная полоса. Разница в толковании произведений искусства — явление повседневное и, вопреки часто встречающемуся мнению, проистекает не из каких-либо привходящих и легко устранимых причин, а органически свойственно искусству. По крайней мере, видимо, именно с этим свойством связана отмеченая выше способность искусства коррелировать с читателем и выдавать ему именно ту информацию, в которой он нуждается и к восприятию которой подготовлен.
Здесь прежде всего следует остановиться на одном принципиальном различии между естественными языками и вторичными моделирующими системами художественного типа. В лингвистической литературе получило признание положение Р. Якобсона о разделении правил грамматического синтеза (грамматика говорящего) и грамматики анализа (грамматика слушающего). Аналогичный подход к художественной коммуникации раскрывает ее большую сложность.
Дело в том, что воспринимающему текст в целом ряде случаев приходится не только при помощи определенного кода дешифровывать сообщение, но и устанавливать, на каком «языке» закодирован текст.
При этом приходится различать следующие случаи:
I. а) Воспринимающий и передающий пользуются одним общим кодом — общность художественного языка безусловно подразумевается, новым является лишь сообщение. Таковы все художественные системы «эстетики тождества». Каждый раз ситуация исполнения, тематика и другие внетекстовые условия безошибочно подсказывают слушателю единственно возможный художественный язык данного текста.
б) Разновидностью этого случая будет восприятие современных массовых штампованных текстов. Здесь также действует общий код для передающего и принимающего текст. Но если в первом случае — это условие художественной коммуникации и в качестве такового подчеркивается всеми средствами, то во втором случае автор стремится замаскировать этот факт — он придает тексту ложные признаки другого штампа или сменяет один штамп другим. В этом случае читателю, прежде чем получить сообщение, предстоит выбрать из имеющихся в его распоряжении художественных языков тот, которым кодирован текст или его часть. Сам выбор одного из известных кодов создает дополнительную информацию. Однако величина ее незначительна, поскольку список, из которого делается выбор, всегда сравнительно невелик. (36)
II. Иным является случай, когда слушающий пытается расшифровывать текст, пользуясь иным кодом, чем его создатель. Здесь также возможны два типа отношений.
а) Воспринимающий навязывает тексту свой художественный язык. При этом текст подвергается перекодировке (иногда даже разрушению структуры передающего). Информация, которую стремится получить воспринимающий, — это еще одно сообщение на уже известном ему языке. В этом случае с художественным текстом обращаются как с нехудожественным.
б) Воспринимающий пытается воспринять текст по уже знакомым ему канонам, но методом проб и ошибок убеждается в необходимости создания нового, ему еще неизвестного кода. При этом происходит ряд интересных процессов. Воспринимающий вступает в борьбу с языком передающего и может быть в этой борьбе побежден: писатель навязывает свой язык читателю, который усваивает его себе, делает его своим средством моделирования жизни. Однако практически, видимо, чаще в процессе усвоения язык писателя деформируется, подвергается креолизации с языками, уже имеющимися в арсенале сознания читателя. Тут возникает существенный вопрос: у этой креолизации, видимо, есть свои избирательные законы. Вообще теория смешения языков, существенная для лингвистики, видимо, должна сыграть огромную роль при изучении читательского восприятия.
Интересен и другой случай: отношение между случайным и системным в художественном тексте для передающего и принимающего имеет различный смысл. Получая некоторое художественное сообщение, по тексту которого еще предстоит выработать код для его дешифровки, воспринимающий строит определенную модель. При этом могут возникать системы, которые будут организовывать случайные элементы текста, придавая им значимость. Так, при переходе от передающего к принимающему количество значимых структурных элементов может возрастать. Это один из аспектов такого сложного и до сих пор еще мало изученного явления, как способность художественного текста накапливать информацию.
О величине энтропии художественных языков автора и читателя
Проблема соотношения синтетического художественного кода автора и аналитического — читателя имеет еще один аспект. И тот и другой коды представляют собой иерархическое построение большой сложности.
Дело усложняется еще и тем, что один и тот же реальный текст может на разных своих уровнях подчиняться различным кодам (этот достаточно чистый случай мы для простоты в дальнейшем изложении вообще не рассматриваем).
Для того чтобы акт художественной коммуникации вообще произошел, необходимо, чтобы код автора и код читателя образовывали пересекающиеся (37) множества структурных элементов, — например, чтобы читателю был понятен естественный язык, на котором написан текст. Непересекающиеся части кода и составляют ту область, которая деформируется, креолизуется или любым другим способом перестраивается при переходе от писателя к читателю.
Желательно указать на одно обстоятельство: в последнее время предпринимаются попытки подсчета энтропии художественного текста и, следовательно, определения величины информации. При этом следует указать на следующее: в популяризаторских работах порой возникает смешение количественного понятия величины информации и качественного — его ценности. Между тем это вещи глубоко различные. Вопрос: «Есть ли Бог?» — дает возможность выбора одного из двух. Предложение выбрать блюдо в меню хорошего ресторана даст возможность исчерпать значительно большую энтропию. Свидетельствует ли это о большей ценности полученной вторым способом информации?
Видимо, вся поступающая в сознание человека информация организуется в определенную иерархию, и подсчет количества ее имеет смысл лишь внутри уровней, ибо только в этих условиях соблюдается однородность составляемых факторов. Вопрос же о том, каким образом образуются и как классифицируются эти ценностные иерархии, относится к типологии культуры и должен быть исключен из настоящего изложения.
Таким образом, подходя к подсчетам энтропии художественного текста, следует избегать смешения:
а) энтропии авторского и читательского кода,
б) энтропии различных уровней кода.
Интересующая нас проблема была впервые выдвинута академиком А. Н. Колмогоровым, заслуги которого в деле построения современной поэтики вообще исключительно велики. Ряд высказанных А. Н. Колмогоровым идей лег в основу работ его учеников и, в основном, обусловил современное направление лингво-статистических изучений в советской поэтике наших дней.[25]
Школа А. Н. Колмогорова прежде всего поставила и решила задачу строго формального определения ряда исходных понятий стиховедения. Затем на обширном статистическом материале были изучены вероятности появления определенных ритмических фигур в непоэтическом (нехудожественном) тексте, равно как и вероятности различных вариаций внутри основных типов русской (39) метрики. Поскольку эти метрические подсчеты неизменно давали двойные характеристики: явлений основного фона и отклонений от него (фон общеязыковой нормы и поэтическая речь как индивидуальный случай; среднестатистические нормы русского ямба и вероятности появления отдельных разновидностей и т. п.), появлялась возможность оценить информационные возможности той или иной разновидности стихотворной речи. Этим, в отличие от стиховедения 1920-х гг., ставился вопрос о содержательности метрических форм и одновременно делались шаги к измерению этой содержательности методами теории информации.
Это, естественно, привело к задаче изучения энтропии поэтического языка. А. Н. Колмогоров пришел к выводу, что энтропия языка (Н) складывается из двух величин: определенной смысловой емкости (h1) — способности языка в тексте определенной длины передать некоторую смысловую информацию, и гибкости языка (h2) — возможности одно и то же содержание передать некоторыми равноценными способами. При этом именно h2 является источником поэтической информации. Языки с h2 = 0, например искусственные языки науки, принципиально исключающие возможность синонимии, материалом для поэзии быть не могут. Поэтическая речь накладывает на текст ряд ограничений в виде заданного ритма, рифмы, лексических и стилистических норм. Измерив, какая часть способности нести информацию расходуется на эти ограничения (она обозначается буквой ß), А. И. Колмогоров сформулировал закон, согласно которому поэтическое творчество возможно лишь до тех пор, пока величина информации, расходуемой на ограничения, не превышает ß < h2 — гибкости текста. На языке с ß ≥ h2 поэтическое творчество невозможно.
Применение А. Н. Колмогоровым теоретико-информационных методов к поэтическому тексту открыло возможность точных измерений художественной информации. При этом следует отметить чрезвычайную осторожность исследователя, многократно предостерегавшего от чрезмерного увлечения пока еще довольно скромными результатами математико-статистического, теоретико-информационного, в конечном итоге — кибернетического изучения поэзии. «Большинство приводимых в кибернетических работах примеров моделирования на машинах процессов художественного творчества поражает своей примитивностью (компилирование мелодий из отрывков по четыре-пять нот, взятых из нескольких десятков введенных в машину известных мелодий, и т. п.). В некибернетической литературе формальный анализ художественного творчества уже давно достиг высокого уровня. Внесение в эти исследования идей теории информации и кибернетики может принести большую пользу. Но реальное продвижение в этом направлении требует существенного повышения уровня гуманитарных интересов и знаний в среде работников в области кибернетики».[26] (39)
Выделение А. Н. Колмогоровым трех основных компонентов энтропии словесного художественного текста: разнообразия возможного в пределах данной длины текста содержания (исчерпание его создает общеязыковую информацию), разнообразия различного выражения одного и того же содержания (исчерпание его создает собственно художественную информацию) и формальных ограничений, наложенных на гибкость языка и уменьшающих энтропию второго типа, имеет самое фундаментальное значение.
Однако современное состояние структуральной поэтики позволяет предположить, что отношения между этими тремя компонентами значительно более диалектически сложны. Во-первых, следует отметить, что представление о поэтическом творчестве как о выборе одного из возможных вариантов изложения заданного содержания с учетом определенных ограничивающих формальных правил (а именно это представление чаще всего кладется в основу кибернетических моделей творческого процесса) страдает известной упрощенностью. Предположим, что поэт творит именно этим способом. Как известно, это далеко не всегда так.[27] Но и в этом случае если для создателя текста исчерпывается энтропия гибкости языка (h2), то для воспринимающего дело может обстоять совсем иным образом. Выражение для него становится содержанием — он воспринимает поэтический текст не как один из возможных, а как единственный и неповторимый. Поэт знает, что он мог написать иначе, — для читателя в тексте, воспринимаемом как художественно совершенный, случайного нет. Читателю свойственно считать, что иначе не могло быть написано. Энтропия h2 воспринимается как h1, как расширение круга того, о чем можно сказать в пределах данной длины текста. Читатель, ощущающий необходимость поэзии, видит в ней не средство сказать в стихах то, о чем можно сообщить и прозой, а способ изложения особой истины, не конструируемой вне поэтического текста. Энтропия гибкости языка переходит в энтропию разнообразия особого поэтического содержания. А формула H= h1 + h1 приобретает вид: Н = h1 + h/1 (разнообразие общеязыкового содержания плюс специфически поэтическое содержание). Попытаемся объяснить, что это значит.
Понимая, что модель А. Н. Колмогорова не имеет целью воспроизводить процесс индивидуального творчества, который, конечно, протекает интуитивно и многими, трудноопределяемыми путями, а дает лишь общую схему тех резервов языка, за счет которых происходит создание поэтической информации, попытаемся интерпретировать ее в свете того бесспорного факта, что структура текста с точки зрения адресанта по типу отличается от подхода к этому вопросу адресата художественного сообщения.
Итак, предположим, что писатель, исчерпывая смысловую емкость языка, строит некоторую мысль, а за счет исчерпания гибкости языка выбирает (40) синонимы для ее выражения. При этом писатель действительно обладает свободой замены слов или частей текста другими, семантически адекватными им. Достаточно взглянуть на черновики многих писателей, чтобы увидать этот процесс замены слов их синонимами. Однако с точки зрения читателя картина представляется иной: читатель считает, что предложенный ему текст (если речь идет о совершенном произведении искусства) единственно возможный — «из песни слова не выкинешь». Замена в тексте того или иного слова дает для него не вариант содержания, а новое содержание. Доводя эту тенденцию до идеальной крайности, можно сказать, что для читателя нет синонимов. Зато для него значительно расширяется смысловая емкость языка. Стихами можно говорить о том, для чего у нестихов нет средств выражения. Простое повторение слова несколько раз делает его неравным самому себе. Таким образом, гибкость языка (h2) переходит в некую дополнительную смысловую емкость, создавая особую энтропию «поэтического содержания». Но поэт и сам является слушателем своих стихов и может писать их, руководствуясь сознанием слушателя. Тогда для него возможные варианты текста перестают быть адекватными с точки зрения содержания: он семантизирует фонологию, рифму, созвучия слов подсказывают избираемый вариант текста, развитие сюжета приобретает самостоятельность, как кажется автору, не зависимую от его воли. Это побеждает читательская точка зрения, воспринимающая все детали текста содержательно. Читатель, в свою очередь, может встать на «авторскую» точку зрения (исторически это часто бывает в культурах с массовым распространением поэзии, когда и читатель — поэт). Он начинает ценить виртуозность и склонен к h1 → h2 (воспринимать и общеязыковое содержание текста лишь как предлог преодоления поэтических трудностей).
Можно сказать, что в предельном случае в поэтическом языке любое слово может стать синонимом любого. Если у Цветаевой в стихе «Там нет тебя — и нет тебя» «нет тебя» не синоним, а антоним своему повторению, то у Вознесенского синонимами оказываются «спасибо» и «спасите». Поэт (как и вообще художник) не только «описывает» какой-то эпизод, который является одним из множества возможных сюжетов, в совокупности составляющих вселенную, — все универсальное множество тем и аспектов. Этот эпизод становится моделью всего универсума, заполняет его своей единственностью, и тогда все другие возможные сюжеты, которые автор не избрал, — это не рассказы о других уголках мира, а другие модели той же вселенной, то есть сюжетные синонимы реализованного в тексте эпизода. Формула приобретает такой вид: Н = h2 + h/2. Но как разделенные в своей сущности «грамматика говорящего» и «грамматика слушающего» реально сосуществуют в сознании каждого носителя речи, так точка зрения поэта проникает в читательскую аудиторию, а читательская — в сознание поэта. Можно было бы даже наметить приближенную схему типов отношений к поэзии, в которых побеждает та или иная модификация исходной формулы.
Для автора в принципе возможны лишь две позиции («своя» и «читателя» или «зрителя»). То же самое можно сказать и об аудитории, которая может занимать лишь одну из двух позиций — «свою» или «авторскую». Следова(41)тельно, все возможные здесь ситуации можно свести к матрице из четырех элементов.
Ситуация № 1. Писатель в позиции: Н = h2 + h/2; читатель: Н = h1 + h/1. Адресат (читатель или критик) разделяет в произведении «содержание» и «художественные приемы». Ценит выше всего нехудожественную информацию, содержащуюся в художественном тексте. Писатель оценивает свою задачу как художественную, читатель видит в нем в первую очередь публициста и оценивает его произведение по «направлению», журналу, в котором опубликовано произведение (ср. восприятие «Отцов и детей» Тургенева в связи с опубликованием их в «Русском вестнике»), или вне данного текста проявившейся общественной позиции писателя (ср. отношение к поэзии Фета в среде передовой молодежи 1860-х гг. после появления его реакционных публицистических статей). Яркое проявление ситуации № 1 — «реальная критика» Добролюбова.
Ситуация № 2. Писатель в позиции: Н = h2 + h/2; читатель: Н = h2 + h/2. Возникает в эпохи утонченной художественной культуры (например, европейское Возрождение, определенные эпохи культуры Востока). Массовое распространение поэзии: почти каждый читатель — поэт. Поэтические конкурсы и состязания, известные античности и многим средневековым европейским и восточным культурам. В читателе развивается эстетство.
Ситуация № 3. Писатель в позиции: Н = h1 + h/1; читатель: Н = h1 + h/1. Писатель смотрит на себя как на естествоиспытателя, поставляющего читателю факты в правдивом описании. Развивается «литература факта», «жизненных документов». Писатель тяготеет к очерку. «Художественность» — уничижительный эпитет, равнозначный «салонности» и «эстетству».
Ситуации № 4. Писатель в позиции: Н = h1 + h/1 читатель: Н = h2 + h/2. Писатель и читатель парадоксально поменялись местами. Писатель рассматривает свое произведение как жизненный документ, рассказ о подлинных фактах, а читатель настроен эстетски. Предельный случай: нормы искусства накладываются на жизненные ситуации — бой гладиаторов в римском цирке;
Нерон, оценивающий пожар Рима по законам театральной трагедии; Державин, повесивший, по словам Пушкина, пугачевца «из пиитического любопытства». (Ср. ситуацию в «Паяцах» Леонкавалло — жизненная трагедия воспринимается зрителем как театральная.) У Пушкина:
Все охарактеризованные ситуации представляют крайние случаи и воспринимаются как насилие над некоторой интуитивно данной нормой читательского отношения к литературе. Нас они интересуют как заложенные в самой основе диалектики «писательского» и «читательского» взгляда на литературный текст, в самих своих крайностях проясняющие его конструктивную (42) природу. Нормой же является другое: «писательская» и «читательская» системы различны, но каждый владеющий литературой как неким единым культурным кодом совмещает в своем сознании оба этих различных подхода, подобно тому как всякий владеющий тем или иным естественным языком совмещает в своем сознании анализирующие и синтезирующие языковые структуры.
Но один и тот же художественный текст при взгляде на него с позиции адресанта или адресата выступает как результат исчерпания разной энтропии и, следовательно, носитель разной информации. Если не учитывать тех интересных изменений в энтропии естественного языка, которые связаны с величиной В и о которых речь еще будет идти, то формулу энтропии художественного текста можно будет выразить так:
H=H1 + Н2, где Н1 = h1 + h/1, a Н2 = h2 + h/2.
Но поскольку H1 и H2 в предельном случае, грубо говоря, охватывают всю лексику данного естественного языка, то становится объяснимым факт значительно большей информативности художественного текста по сравнению с нехудожественным.
2. Проблема значения в художественном тексте
Существует весьма распространенное предубеждение, согласно которому структуральный анализ призван отвлечь внимание от содержания искусства, его общественно-нравственной проблематики ради чисто формальных штудий, статистического учета «приемов» и тому подобного. У неподготовленного читателя, заглянувшего в работу, выполненную на достаточно высоком уровне формализации, создается впечатление, что живое тело художественного произведения только подвергается разъятию ради подведения тех или иных его сторон под абстрактные категории. А поскольку сами эти категории определяются в терминах странных и незнакомых, то невольно возникает чувство тревоги Каждому мерещится свое привычное пугало: одним — убийство искусства, другим — проповедь «чистого искусства», злокозненная безыдейность. Самое забавное, что эти два обвинения часто предъявляются одновременно.
При этом, иногда с добросовестным непониманием, а иногда в жару полемики, уводящей за пределы корректных приемов научного спора, ссылаются на высказывания как сторонников формальной школы 1920-х гг., так (43) и современных структуралистов о необходимости изучать искусство как совершенно замкнутую, имманентную систему.
Утверждение, что структурно-семиотическое изучение литературы уводит от вопроса содержания, значения, общественно-этической ценности искусства и его связи с действительностью, основано на недоразумении.
Само понятие знака и знаковой системы неотрывно связано с проблемой значения. Знак выполняет в культуре человечества функцию посредника. Цель знаковой деятельности — передача определенного содержания.
Уход от значения не может быть результатом того метода, который в центр ставит исследование самой проблемы семиозиса. Именно изучение того, что же означает «иметь значение», что такое акт коммуникации и какова его общественная роль, — составляет сущность семиотического подхода. Однако для того, чтобы понять содержание искусства, его общественную роль, его связь с нехудожественными сторонами человеческой деятельности, мало доброго желания, мало и бесконечного повторения общеизвестных и слишком общих истин. Вряд ли кто-нибудь сейчас будет спорить с тем, что общественная жизнь определяет облик искусства. Но разве, еще раз повторив этот ни у кого не вызывающий сомнений тезис, мы можем компенсировать неумение объяснить, чем текст Достоевского отличается от текста Толстого? И почему одинаковые условия порождают различные художественные произведения?
Но почему же сторонники структурального подхода говорят о необходимости изучения произведения как синхронно замкнутой структуры, о закономерности интереса к имманентному анализу текста? Разве это не уход от проблемы внеэстетического значения произведения?
Позволим себе прибегнуть к примеру. Перед вами книга. Книга эта содержит очень важные для вас истины, но написана на незнакомом языке. Вы не лингвист и специально вопросами языкознания не интересуетесь, изучение языка как самоцель вас тоже не интересует. Что вас привлекает к книге? Желание узнать ее содержание. Вы будете, конечно, правы, когда скажете, что, кроме него, вам вообще ни до чего в этой книге дела нет. Таков естественный подход всякого, обращающегося к любой знаковой системе.
Однако представим себе человека, который бы сказал: я хочу знать содержание этой книги, но не хочу понимать языка, на котором она написана. Ему, естественно, сообщили бы, что это невозможно. Для того чтобы получить сообщение, надо владеть языком, на котором оно написано. А если уж человек решился овладеть языком, ему неизбежно придется отвлечься от содержания тех или иных предложений и изучить их форму. Известно, что учебники иностранного языка не отличаются особенной глубиной развиваемых в них идей, — у них другая задача: научить владению языком как определенной системой, способной служить средством передачи любого содержания. Если считать это формализмом, то придется признать в качестве образца борьбы с этим злокозненным подходом утверждение Митрофана о том, что дверь — прилагательное, «потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана шеста неделя дверь стоит еще не навешана: так та (44) покамест существительна». Мы часто предполагаем, что это глупость, между тем слова Митрофана нечто совсем иное — это здравый смысл, который не признает абстракций и желает решать вопросы с точки зрения существа, а не с точки зрения метода. Еще ярче это проявляется в известном замечании Простаковой по поводу того, как разделить найденные «триста рублев» троим поровну: «Врет он, друг мой сердечный! Нашел деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке». Не будем смеяться над Простаковой, а проанализируем ее слова. Права ли она? Бесспорно, если смотреть на задачу с точки зрения здравого смысла, а не стремления овладеть формальными правилами арифметики (не касаемся моральной стороны высказывания Простаковой), с точки зрения математика, то есть извращенного человека, привыкшего глядеть не на «сущность» явления, а на правильность производимых операций, «альтруистический» ответ:
«Все отдай, Митрофанушка, не учись этой эгоистической науке!» — не менее нелеп. Но Цыфиркин учит Митрофана совсем не тому, как нравственно, полезно или выгодно поступать, а тому, как осуществлять деление целых чисел. Можно по-разному относиться к обучению арифметике или грамматике, но нельзя опровергнуть того, что для овладения этими науками их следует — на определенном этапе — представить как имманентные, замкнутые структуры знаний.
Из этого не следует, что, изучив язык как имманентную систему, мы не будем им в дальнейшем пользоваться для получения определенных — уже содержательных — сообщений. Наш интерес к содержательной стороне будет столь велик, а владение формальным механизмом языка столь автоматично, что мы вообще сможем о нем забывать, вспоминая, что мы пользуемся определенным механизмом лишь в общении с иностранцами или детьми, то есть тогда, когда этот аппарат будет нарушаться.
Итак, имманентное изучение языка — путь (и существенный) к содержанию того, что на нем написано.
Но тогда сразу же выдвигается две стороны одного общего вопроса: как построен художественный текст в своей внутренней, имманентной (синтагматической) конструкции и какое он имеет значение, то есть каковы его семантические связи с внеположенными ему явлениями.
Но прежде чем говорить об этом, следует поставить вопрос: что же значит «иметь художественное значение»? Ответить на него труднее, чем это может показаться вначале. Что значит вообще «иметь значение»? Б. А. Успенский, вслед за К. Шенноном, определяет значение «как инвариант при обратимых операциях перевода».[28] Это определение выражает, видимо, наиболее точно понятие значения. Рассмотрим некоторые специальные аспекты понятия значения во вторичных моделирующих системах.
Проблема значений — одна из основных для всех наук семиотического цикла. В конечном итоге, целью изучения любой знаковой системы является (45) определение ее содержания. Особенно остро это ощущает исследователь вторичных моделирующих систем: изучение культуры, искусства, литературы как знаковых систем в отрыве от проблемы содержания теряет всякий смысл. Однако нельзя не видеть, что именно содержание знаковых систем, если только не удовлетворяться чисто интуитивными представлениями о значениях, наиболее сложно для анализа. В этой связи будет полезно вообще уточнить представление о природе знака и его значении.
Несмотря на то, что понятие системности знаков лежит в самой основе структурального понимания этого вопроса, практически широко распространено значительно более упрощенное толкование. Часто приходится сталкиваться с атомарным пониманием природы знака. Единство обозначаемого и обозначающего подчеркивается гораздо чаще, чем неизбежность включения знака в более сложные системы. А между тем это первое свойство представляется лишь проявлением второго. При рассмотрении той стороны знака, которую связывают с планом выражения, системность подчеркивается чаще. Возможность перекодировки одной системы выражения в другую (например, звуковой в графическую) — очевидный факт, который не дает оспорить мысль о том, что материальность знака реализуется прежде всего через создание определенной реляционной системы. Из этого вытекает, что в плане выражения существование отдельного, атомарного, внесистемного знака просто невозможно.
Однако необходимо признать, что и содержания знаков могут мыслиться лишь как связанные определенными отношениями структурные цепочки. Сущность каждого из элементов ряда содержания не может быть раскрыта вне отношения к другим элементам. Факт, который не может быть ни с чем сопоставлен и не включается ни в один класс, не может составить содержания языка. Из сказанного следует, что значение возникает в тех случаях, когда мы имеем хотя бы две различные цепочки-структуры. В привычных терминах одну из них можно определить как план выражения, а другую — как план содержания. При перекодировке между определенными парами элементов, разными по своей природе, будут устанавливаться соответствия, причем один элемент в своей системе будет восприниматься как эквивалентный другому в его системе. Подобное пересечение двух цепочек структур в некоей общей двуединой точке мы будем называть знаком, причем вторая из цепочек — та, с которой устанавливается соответствие, — будет выступать как содержание, а первая — как выражение. Следовательно, проблема содержания есть всегда проблема перекодировки.[29] Правда, само разделение двух планов — содержания и выражения — обладает известной условностью (аналогичную мысль высказывал Л. Ельмслев), поскольку установление эквивалентности (46) между элементами двух разных систем — наиболее частый, но не единственный случай образования значений. Можно указать на семиотические системы, претендующие на универсальность, которые принципиально не допускают подстановки значений из структуры другого рода. Здесь мы будем иметь дело с реляционными значениями, возникающими в результате выражения одного элемента через другие внутри одной системы. Этот случай можно определить как внутреннюю перекодировку.
Попутно следует заметить, что подобный подход ослабляет абсолютность противопоставления планов содержания и выражения, в принципе допуская их обратимость. Конечно, коммуникационные цели предъявляют к каждому из этих планов особые требования и практически делают их связь однонаправленной. Однако в сфере теории таких ограничений не существует. Так, на уроке языка, разговаривая с учениками, не владеющими русской речью, учитель показывает на стол и говорит «стол». В этом случае вещи будут выступать в качестве знаков метаязыка, содержание которых будут составлять слова.
Вторичные моделирующие системы представляют собой структуры, в основе которых лежит естественный язык. Однако в дальнейшем система получает дополнительную, вторичную структуру идеологического, этического, художественного или какого-либо иного типа. Значения этой вторичной системы могут образовываться и по способам, присущим естественным языкам, и по способам других семиотических систем. Таким образом, представляется целесообразным указать на некоторые теоретически возможные способы образования значений, а затем проследить, какие из них и каким образом могут реализовываться в конкретном историко-литературном материале.
Значение образуется путем внутренней перекодировки. Возможны семиотические системы, в которых значение образуется не путем сближения двух цепочек структур, а имманентно, внутри одной системы. Приведем пример простого алгебраического выражения а = b + с. Очевидно, что знак «а» имеет здесь определенное содержание. Однако это содержание не вытекает из каких-либо связей с внеположенными этому равенству системами. Мы можем приписать ему внешнее значение, подставив под «а», например, определенный численный показатель, но отсюда отнюдь не вытекает, что при отказе от подобных подстановок эти знаки не будут иметь значений. Их значение будет иметь реляционную природу — оно будет выражать отношение одних элементов системы к другим. Содержанием «а» является в нашем примере «b+с». В общесемиотическом смысле вполне можно представить себе системы с именно такой природой содержания знаков. К ним, видимо, можно отнести математические выражения, а также непрограммную и не связанную с текстом музыку. Конечно, вопрос о значении музыкального знака сложен и, видимо, всегда включает связи с экстрамузыкальными реальными и идейно-эмоциональными рядами, но безусловно, что эти связи носят значительно более факультативный характер, чем, например, в языке, и мы можем себе представить, хотя бы условно, чисто музыкальное значение, образуемое отношениями звучащих рядов, вне каких-либо экстрамузыкальных (47) связей.[30] В том случае, когда перед нами, как это имеет место в музыке, значение образуется соотнесенностью ряда элементов (или цепочек элементов) внутри структуры, можно говорить о множественной внутренней перекодировке.
Значения образуются путем внешней перекодировки. Этот случай кажется нам более привычным, ибо он представлен в естественных языках. Устанавливается эквивалентность между двумя цепочками — структурами разного типа и их отдельными элементами. Эквивалентные элементы образуют пары, объединяемые в знаки. Следует подчеркнуть, что эквивалентными оказываются разнотипные структуры. Хотя трудно установить принципиальную разницу между такими видами перекодировки, как перевод звуковой формы в графическую или с одного языка на другой, с одной стороны, и дешифровка содержания, с другой, однако очевидно, что чем дальше отстоят взаимоуравниваемые в процессе перекодировки структуры друг от друга, чем отличнее их природа, тем содержательнее будет сам акт переключения из одной системы в другую.
Сближение двух рядов — наиболее распространенный случай образования значений в естественных языках. Его можно определить как парную внешнюю перекодировку.
Однако во вторичных моделирующих системах мы будем сталкиваться и со множественными внешними перекодировками — сближением не двух, а многих самостоятельных структур, причем знак будет составлять уже не эквивалентную пару, а пучок взаимоэквивалентных элементов разных систем.
Можно заметить, что планы выражения и содержания (если не касаться вопроса об их обратимости) более или менее естественно выделяются при перекодировках третьего типа. Остальные же случаи (внутренние и множественные внешние перекодировки), по сути дела, не поддаются подобной интерпретации.
Все перечисленные выше виды образования значений присутствуют во вторичных моделирующих системах, проявляясь с той или иной степенью полноты. Имманентно-реляционные значения будут особенно ярко выявляться в тех вторичных семиотических системах, которые претендуют на всеобщность, монопольный охват всего мировоззрения, систематизацию всей данной человеку действительности. Ярким примером системы с доминирующей внутренней перекодировкой во вторичных моделирующих системах художественного типа является литературный романтизм. (48)
Если мы возьмем значение такого понятия в системе романтизма, как «гений», «великий дух», то содержание его легко можно будет получить, определив отношение этого понятия к другим понятиям системы. Укажем на некоторые из оппозиций, которые позволяют раскрыть содержание понятия «гений — толпа». Эта антитеза накладывается на оппозиции: «величие — ничтожество», «необычность, исключительность — пошлость, заурядность», «духовность — материальность», «творчество — животность», «мятеж — покорность» и т. п. Все первые понятия этих двучленных оппозиций, с одной стороны, и все вторые, с другой, выступают как варианты некоего архизначения, которое тем самым дает нам с определенной приближенностью содержание этого понятия в рамках структуры романтического сознания. Однако мы можем еще более уточнить его значение, если вспомним, что в системе романтического мышления «гений» включается и в иные антитезы. Таковыми будут, например, противопоставление его свободному и прекрасному патриархальному народу (здесь понятие будет включаться в оппозиции: эгоизм — альтруизм; своеволие — вера в предания и заветы отцов; мертвая душа — сила чувства; рационализм — жизнь сердца; безверие — религиозность) или идеальному женскому образу (возникают оппозиции: трагическая разорванность — гармоническая цельность; безобразие как выражение дисгармонии — красота; принадлежность миру трагического зла — добро и др.). Как мы видим, архитип[31] понятия «гений» в этих случаях весьма различен. И все же они входят в одну систему и, следовательно, все эти архитипы воспринимаются как варианты одного архитипа второго ряда, между различиями устанавливается отношение эквивалентности. Так образуется значение. Таким образом, мы можем получить достаточно ясное представление о понятии «гений», изучив его отношение к другим понятиям системы и всей системе в целом. Однако выхода за пределы этой системы, с точки зрения романтика, не требуется. Вопрос об объективном значении, о том, что те или иные понятия означают на языке иного мышления, в пределах романтического сознания принципиально не возникает. Зато в реалистической художественной системе вопрос о соотношении значения понятия в структуре (идей или стиля) с внесистемным значением сразу же занимает первостепенное место. Средством выявления этого значения выступает внешняя перекодировка, демонстративное обнажение возможности переключения из одной системы (идей или стиля) в другую. Так, Пушкин, уже смотрящий на романтическую структуру глазами реалиста, стремился раскрыть значение романтической системы стиля, перекодируя его в иной стилистический регистр:
Показательно, что романтическая фразеология Ленского выступает как выражение, а авторская речь — как ее объективное содержание. Структура неромантического повествования воспринимается здесь не как один из многих возможных способов выражения,[32] а как содержание, структура самой действительности.
Более сложен случай, когда автор не сопоставляет два стиля, подразумевая, что один из них — ложный, неестественный и напыщенный, а другой — правдивый, воплощающий самое истину, а стремится проникнуть в сущность действительности, поняв ограниченность любой из кодирующих систем. Здесь мы сталкиваемся с множественной внешней перекодировкой. Значение возникает из уравнивания различного, из установления эквивалентности нескольких, очень непохожих семантических систем первого ряда. Многократность перекодировки позволяет построить общее для разных систем семантическое ядро, которое воспринимается как значение, выход за пределы знаковых структур в мир объекта.
При этом необходимо подчеркнуть, что множественность внешней перекодировки получает различный смысл в разных структурах. В одних она может служить цели построения из ряда субъективных систем объективного их инварианта — действительности. Так построен «Герой нашего времени». Автор дает некую множественность субъективных точек зрения, которые, взаимопроектируясь, раскрывают свое общее содержание — действительность. Но возможно и обратное, например в комедиях Тика или некоторых драмах Пиранделло: многократные перекодировки утверждают отсутствие объективной действительности. Реальность, которая распадается на множество интерпретаций в такой системе, — мнимая. С точки зрения автора, действительность — лишь знак, содержанием которого являются бесконечные интерпретации.[33] В первом случае интерпретация — знак, а действительность — содержание: во втором — действительность — знак, а интерпретация — сущность, содержание.
Не следует забывать, что теоретически различные системы образования значений в реальных вторичных моделирующих системах часто сосуществуют. (50) Мы можем выделить в одной и той же системе, например, значения, возникающие в результате внутренней и внешней перекодировки. Так, анализируя идеи Руссо, мы можем пойти по пути выявления содержания отдельных понятий или системы в целом, раскрывая связи их с определенными рядами действительности, например, изучая объективное экономическое значение идеалов Руссо, связь его представлений с социальной практикой тех или иных общественных сил его эпохи. Мы можем пойти по пути определения значения идей (напомню, что мы определяем в данном случае не значение слов, а значение идей, выраженных словами) Руссо, сопоставив их с идеями других структурных рядов, например, сравнивая понятие «народ» у Руссо с соответствующими представлениями Вольтера, Мабли, Радищева, Гоббса и других. Однако можно пойти и по иному пути, пытаясь определить значение элемента путем выяснения его отношения к другим элементам этой же системы. Такое имманентное значение мы получим, например, если изучим отношение понятия «народ» у Руссо к понятиям «человек», «разум», «нравственность», «власть», «суверенитет» и др. Правда, имманентность значений здесь будет, конечно, не столь безусловна, как, например, в математическом выражении, ибо, выясняя реляционное семантическое содержание, мы не можем отвлечься и от множественных внесистемных, с точки зрения мировоззрения Руссо, значений этих терминов. Однако внесистемные значения, неизбежно присутствуя, не составляют в данном случае главного, а порой могут даже становиться источниками заблуждений.[34]
Все эти соображения чрезвычайно существенны для решения вопроса о природе содержания вторичных моделирующих систем. Попытаемся проиллюстрировать их на примере анализа некоторых сторон стиля Лермонтова.
Романтическая лирика Лермонтова дает весьма последовательную моностилистическую структуру. Это является следствием всеобъемлющего характера романтического субъективизма. Мир авторского «я» — единственный. Он не соотносится ни с миром реальности, ни с миром какой-либо другой личности. Поэтому, с точки зрения романтика, возможность эквивалентности его поэтического мира и реальности или мира, наблюдаемого другим, например более прозаическим, человеком, — исключается. Романтическая система как целое принципиально (с точки зрения романтизма) не подлежит перекодировке. Как целое она единственна, составляет собой универсум данного поэта, и, следовательно, семантического значения (выражения в (51) другой системе) не имеет. На заре русского предромантизма А. М. Кутузов сочувственно цитировал слова Якоба Бёме: «Ангелы и диаволы находятся неподалеку друг от друга; однако же Ангел, быв посреди Ада, находится в Раю и не видит Ада, тако же и диавол, быв посреди Рая, находится в Аду и не видит Рая».[35]
В системе, которая строится на подобных принципах, значения будут возникать не за счет установления эквивалентности ее элементов элементам другой системы, а в их внутреннем отношении друг к другу. Так, гармонический душевный мир героини романтической поэмы — антитеза трагической разорванности героя, ее доброта противопоставлена его демонизму, ее вера — бездне его безверия, ее любовь — его ненависти, а ее красота — часто — его безобразию. Таким образом, героиня не имеет ни самостоятельного характера, ни самостоятельного значения. Она — дополнительная величина по отношению к образу героя, его идеал, его идеальное инобытие (поэтому разница пола иногда здесь совершенно не обязательна, и, переводя «Сосну» Гейне, Лермонтов снял этот дифференцирующий признак: сосна и пальма у него — обе женского рода).[36] Значение элементов возникает в их отношении.
То же можно сказать о семантике романтического пейзажа. С этим связано стилистическое единство романтического творчества Лермонтова.[37]
Выход писателя за пределы романтического сознания определил новый подход к проблеме значений. Возникает вопрос об объективном значении знаков и структур. Лермонтов начинает допускать возможность увидеть одно и то же явление с двух точек зрения. Это приводит к появлению произведений, в которых демонстративно пересказывается одно и то же содержание в разных семантических ключах и в разных стилистических тональностях. Такая двузначность характерна для поэмы «Сашка»:
«Щит варяжский» и «сыр голландской» (можно отметить антитезу не только лексическую, но и грамматико-стилистическую — торжественное «ий» и разговорное «ой») взаимоэквивалентны, так как имеют общее значение на уровне реальности (луна). Причем отношение между ними не адекватно снижению романтического стиля в приведенном нами выше примере из «Евгения Онегина». Там романтический стиль выступает как ложная вычурность (не случайно определение романтизма Белинским — «век фразеологии» — или лермонтовская антитеза «ложной мишуры» и «правды голоса благородного»), противопоставленная простой истине. Таким образом, соотношение было единонаправленным, напоминая отношение содержания и (52) выражения в языке. В «Сашке» система иная: перед нами две равноправные точки зрения, а значением является не одна из них, а их отношение. Связь цепочек-структур здесь не одно-, а взаимонаправленная. Это подчеркивается устойчивым приемом: введением параллельных по реальному содержанию, но резко противопоставленных по стилю строф:
* * *
Еще пример:
* * *
Приведенные примеры показывают, что пласт «романтического» стиля («щит варяжский») — не только предмет снижения и пародирования. Ни тот ни другой пласт не представляют собой значения в чистом виде: оно возникает в результате их взаимопроекции.
Подобное построение отражало усложненный образ действительности. Из представления, согласно которому действительность — это то, что дано обыденному, простому взгляду, вырабатывается другое: действительность — это взаимопересечение различных точек зрения, позволяющее выйти за пре(53)делы ограниченности каждой из них. Носителем значения становится не какой-либо стилистический пласт, а пересечение многих контрастных стилей (точек зрения), дающее некое «объективное» (надстилевое) значение. Блестящим примером такого построения является стиль «Героя нашего времени». Лермонтов постоянно пользуется приемом перекодировки, показывая, как наблюдаемое с одной точки зрения выглядит с другой. Действительность раскрывается как взаимоналожение аспектов. Так, характер Печорина дан нам глазами автора, Максима Максимовича, самого Печорина и других героев. Суждения каждого из них, начиная с Максима Максимовича, считающего, что англичане «ввели моду скучать», так как «они всегда были отъявленные пьяницы», ограниченны. Но каждое суждение содержит и ту часть истины, которая выявляется от их пересечения.
В основе стиля «Героя нашего времени» — сложная система перекодировок, раскрывающая родство внешне различных точек зрения и отличие сходных. Так, романтическая антитеза кавказского («экзотического») и русского («обыденного») этноса снимается утверждением единства народной (наивной) точки зрения. Это структурно раскрывается легкостью и естественностью, с какой непереводимые идиомы языка и обычаев народов Кавказа перекодируются в формы русского народного сознания: «Эй, Азамат, не сносить тебе головы, — говорил я ему, — яман будет твоя башка!» «Как же у них празднуют свадьбу?» — в этом вопросе автора Максиму Максимовичу звучит ожидание экзотики, но ответ демонстративно переводит этнографическую необычность в стиль обыденной повседневности и подчеркнутых русизмов: «Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана; потом дарят молодых…» Эти «обыкновенно» и «молодые» дают стилевой ключ всей картине, рисующей полную обратимость понятий. Пирующие черкесы — «честная компания», певец-акын — это «бедный старичишка», который «бренчит на трехструнной… забыл, как по-ихнему… ну, да вроде нашей балалайки». Черкесские танцы перекодированы в формы русского деревенского пляса: «Девки и молодые ребята становятся в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют».[38] Полное понимание Максимом Максимовичем мира горцев («Хотя разбойник он, а все-таки был моим кунаком». Или — о Казбиче, убившем отца Бэлы: «Конечно, по-ихнему <…> он был совершенно прав») и полное непонимание им Печорина весьма показательны. Понятия Печорина не перекодируются в системе Максима Максимовича. Он для него «с большими странностями». «Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал:
— Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо.
— Что нехорошо?
— Да то, что ты увез Бэлу… <…>
— Да когда она мне нравится?..
Ну, что прикажете отвечать на это?.. Я стал в тупик».[39] (54)
Очень сложно соотношение Печорина с персонажами, окружающими его, в «Княжне Мери». Разными сторонами своего характера он проецируется на разных персонажей. Лермонтов демонстративно заставляет противоположных по характеру героев пользоваться одной и той же фразеологией.
Печорин: «Жены местных властей <…> привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум».[40]
Грушницкий: «И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью».[41]
Печорин (пародируя стиль речи «русской барышни»): «Года через два выйдет замуж за урода, из покорности к маменьке и станет себя уверять, что она несчастна, что она одного только человека и любила <…> но что небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя под этой толстой, серой шинелью билось сердце страстное и благородное».[42]
Между Печориным и Грушницким устанавливается особая система отношений: одинаковые выражения раскрывают разницу характеров. Но разница не может снять того, что все же они говорят одно и то же и, следовательно, в определенном отношении эквивалентны. Мы получаем возможность увидеть Печорина глазами Грушницкого и Грушницкого глазами Печорина. Вокруг Печорина — целая система героев, которые как бы переводят его сущность на язык другой системы и тем самым эту сущность выявляют. Причем здесь дается целая гамма от наиболее далеких типов сознания до тождественных. Формула «другой, но тождественный» тоже может рассматриваться как частный случай перекодировки (с нулевым изменением) — средство сделать систему явной для себя. Такую роль играет дневник Печорина — инобытие его личности — и образ доктора Вернера. Причем если Печорин и Грушницкий настолько далеки, что автор может дать им произносить сходные речи, то Печорин и Вернер настолько тождественны, что всякое словесное общение между ними делается бесполезным; бессмысленные реплики, которыми они обмениваются, — лишь знаки полного тождества невысказанных мыслей: «Мы часто сходились вместе и толковали вдвоем об отвлеченных предметах очень серьезно, пока не замечали оба, что мы взаимно друг друга морочим. Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились, довольные своим вечером». Или: «…Вернер взошел в мою комнату. Он сел в кресла, поставил трость в угол, зевнул и объявил, что на дворе становится жарко. Я отвечал, что меня беспокоят мухи, — и мы оба замолчали».[43] Мы получаем ряд оценок Печорина: «Славный был малый», «немножко странен», человек, с которым «непременно должно соглашаться», «глупец я или злодей?», «видно, в детстве был ма(55)менькой избалован», «странный человек», «опасный человек», «…есть минуты, когда я понимаю Вампира… А еще слыву добрым малым…», «одни скажут: он был добрый малый, другие — мерзавец», странствующий офицер «да еще с подорожной по казенной надобности», «герой нашего времени». Но одновременно мы получаем сведения и о системах, в терминах которых герой так описывается, и о характере отношения этих систем к описываемому объекту (Печорину).
Мы видим, что структура, значение которой образуется в результате взаимной перекодировки многих систем-цепочек, позволяет в наибольшей мере выходить вообще за пределы каждой конкретной системности. Это соответствует природе значений в некоторых типах реалистического искусства.
Перекодировка органически связана с проблемой эквивалентности. Вопрос этот приобретает особое значение в связи с тем, что эквивалентность элементов на различных уровнях является одним из основных организующих принципов поэзии и, шире, художественной структуры вообще. Ее можно проследить на всех уровнях, от низших (тропы, ритмика) до высших (композиционная организация текста). Однако сложность вопроса в значительной мере состоит в том, что само понятие эквивалентности во вторичных моделирующих системах художественного типа имеет иную природу, чем в структурах первичного (лингвистического) типа. В этом случае эквивалентными (на семантическом уровне) считаются элементы, однозначные по отношению к общему денотату, ко всей семантической системе в целом и к любому ее элементу, ведущие себя одинаково в одинаковом окружении и, как следствие, поддающиеся взаимной перестановке. При этом необходимо учитывать, что значительно чаще, чем полная семантическая эквивалентность, с которой в основном будет иметь дело переводчик, а не человек, производящий семантические трансформации в пределах одного языка, встречается семантическая эквивалентность на определенном уровне. Рассмотрим слова: «есть» — «жрать» и «спать» — «дрыхать». Взятые на уровне сообщения, которое безразлично к стилистической окраске, первые два (равно как и два вторые) слова будут эквивалентными. Но для сообщения, включающего, например, информацию об отношении говорящего к действиям объекта, они не будут эквивалентными. И наконец, мы можем представить себе сообщение с доминирующей стилистической нагрузкой, в котором первое и третье и второе и четвертое слова будут попарно эквивалентными.
Эквивалентность семантических единиц художественного текста реализуется иным путем: в основу кладется сопоставление лексических (и иных семантических) единиц, которые на уровне первичной (лингвистической) структуры могут заведомо не являться эквивалентными. Более того, часто писатель стремится положить в основу художественного параллелизма наиболее удаленные значения, явно относящиеся к денотатам разного типа. Затем строится вторичная (художественная) структура, в которой эти единицы оказываются в положении взаимного параллелизма, и это становится сигналом того, что в данной системе их следует рассматривать в качестве эквивалентных. Происходит нечто, прямо противоположное явлению семантической эквива(56)лентности в языке, но возможное только на основе устойчивого опыта языкового общения.
Эквивалентность семантических элементов художественной структуры не подразумевает ни одинакового отношения к денотату, ни тождественности отношений к остальным элементам семантической системы естественного языка, ни одинакового отношения к общему окружению. Напротив, все эти отношения на языковом уровне могут быть отличными. Однако, поскольку художественная структура, устанавливает между этими различными элементами состояние эквивалентности, воспринимающий начинает предполагать существование иной, отличной от общеязыковой семантической системы, в составе которой эти элементы оказываются в одинаковом отношении к смысловому окружению. Так создается особая семантическая структура данного художественного текста. Но дело не ограничивается этим: эквивалентность неэквивалентных элементов заставляет предполагать, что знаки, имеющие на языковом уровне разные денотаты, на уровне вторичной системы обладают общим денотатом. Так, «сыр» и «щит», имеющие на языковом уровне различные денотаты, в поэтическом тексте Лермонтова получили общий — «луна». Вместе с тем ясно, что «луна» как общеязыковый денотат не может обозначаться знаками «сыр» и «щит», тем более одновременно. Так может обозначаться лишь луна как элемент особой картины мира, созданной Лермонтовым. Следовательно, необходимо отказаться от традиционного представления, согласно которому мир денотатов вторичной системы тождествен миру денотатов первичной. Вторичная моделирующая система художественного типа конструирует свою систему денотатов, которая является не копией, а моделью мира денотатов в общеязыковом значении.
Классифицируя различные типы значений, следует различать два случая эквивалентности рядов-цепочек в пределах знаковых систем: перекодировку в сфере семантики и перекодировку в сфере прагматики. «Щит варяжский или сыр голландской» следует рассматривать как семантическую перекодировку, так как здесь эквивалентными становятся семантически различные элементы.[44] Прагматическая перекодировка возникает тогда, когда реализуется возможность стилистически различного повествования об одном и том же объекте. Изменяется не модель объекта, а отношение к ней, то есть моделируется новый субъект.
Приведем пример прагматической перекодировки:
(М Ю. Лермонтов. «Дума»)
(А. А. Вознесенский. «Отступление в ритме рок-н-ролла»)
«Промотавшиеся отцы» и «продувшиеся отцы» — и объект-понятие и объект-денотат — демонстративно совпадают. Изменяется прагматика. Причем, если в стихотворении Вознесенского художественное значение семантического типа образуется рядом сложных звуковых оппозиций внутри текста («расплата» — «распадов», «продукты» — «продувшихся» и др.), то прагматическое значение раскрывается в определенной мере внетекстовым сопоставлением со стихами Лермонтова.[45]
В этом смысле наиболее ранним в пределах русской литературы примером образования новых значений на прагматическом уровне может служить размышление автора «Слова о полку Игореве», о том, как строить повествование: «по былинам сего времени» или «по замышлению Бояню». Показательны образцы того, как воспел бы Боян поход Игоря Святославича, и противопоставление ему своего стиля.
Следует, однако, подчеркнуть, что разделение перекодировок на семантические и прагматические в художественном тексте чаще всего возможно лишь в порядке исследовательской абстракции. На самом деле перед нами, как правило, сложные сочетания обеих систем. Более того, одни и те же сближения в одних структурных связях могут выступать как семантические, а в других — как прагматические.
Сказанное подтверждает, что, рассматривая содержание художественного текста только на уровне языкового сообщения, мы проходим мимо сложной системы значений, создаваемых собственно художественной структурой.
Можно высказать предположение, что классификация значений вторичных моделирующих систем художественного типа по способу установления эквивалентности между смысловыми элементами может оказаться полезной при построении структуральной теории тропов и — шире — художественных значений вообще, а разделение на семантический и прагматический типы перекодировки — при изложении проблем стилистики в свете семиотических идей.
Значения, образуемые в результате внешних перекодировок, можно определить как парадигматические, внутренних — как синтагматические. В дальнейшем мы еще вернемся к этим важнейшим принципам образования художественных значений. Сейчас отметим лишь одну сторону их соотнесен(58)ности. Системы, построенные только на основе синтагматических или только парадигматических значений, в реальных художественных текстах, видимо, невозможны. Чаще всего встречается доминирование одного типа значений над другим. При этом можно отметить одну закономерность: чем жестче организована одна из этих систем, тем свободнее в пределах данной структуры построение другой. Так, непрограммная (и не вокальная) музыка строится на основе очень жесткой синтагматики — главным элементом значения будет отношение сегментов текста к их текстовому окружению. Зато семантика каждого элемента — отношение его к любым экстрамузыкальным рядам — представляет тот свободный структурный резерв, который упорядочивается каждым слушателем в процессе его восприятия. Чем жестче задано отношение порядка сегментов текста, тем свободнее семантическое отнесение элементов музыкального текста к внемузыкальным представлениям.
В противоположной структуре — психологическом романе XIX в. — основные значения образуются за счет внешних перекодировок (парадигматическая система). Последовательность эпизодов и любых других сегментов текста образует определенные значения, однако стоит нам прибегнуть к пересказу, как мы тотчас же убеждаемся, что синтагматику сегментов текста нам гораздо легче изменить, чем парадигматику. Нам гораздо легче спутать последовательность глав в «Войне и мире», чем отношение характера Пьера к характеру Андрея Болконского.
Показательно, что стоит обратиться к жанрам с более строгой синтагматической структурой — например, к приключенческому или детективному роману, — как жесткость парадигматической организации заметно ослабевает.
А если взять такой текст, как лирическое стихотворение, и рассматривать его в качестве одного структурного сегмента (при условии, что стихотворение не входит в цикл), то синтагматические значения — например, отнесение текста к другим произведениям того же автора или его биографии — приобретут такой же характер структурного резерва, какой в музыке имела семантика.
3. Понятие текста
Текст и внетекстовые структуры
Определение понятия «текст» затруднительно. Прежде всего, приходится возражать против отождествления «текста» с представлением о целостности художественного произведения. Весьма распространенное противопоставление текста как некоей реальности концепциям, идеям, всякого рода осмыс(59)лению, в которых видится нечто слишком зыбкое и субъективное, при всей своей внешней простоте, малоубедительно.
Художественное произведение, являющееся определенной моделью мира, некоторым сообщением на языке искусства, просто не существует вне этого языка, равно как и вне всех других языков общественных коммуникаций. Для читателя, стремящегося дешифровать его при помощи произвольных, субъективно подобранных кодов, значение резко исказится, но для человека, который хотел бы иметь дело с текстом, вырванным из всей совокупности внетекстовых связей, произведение вообще не могло бы быть носителем каких-либо значений. Вся совокупность исторически сложившихся художественных кодов, делающая текст значимым, относится к сфере внетекстовых связей. Но это вполне реальные связи. Понятие «русский язык» не менее реально, чем «текст на русском языке», хотя это реальности разного типа и методы изучения их будут тоже различны.
Внетекстовые связи произведения могут быть описаны как отношение множества элементов, зафиксированных в тексте, к множеству элементов, из которого был осуществлен выбор данного употребленного элемента. Совершенно очевидно, что употребление некоторого ритма в системе, не допускающей других возможностей; допускающей выбор из альтернативы одной или дающей пять равновероятных способов построения стиха, из которых поэт употребляет один, — дает нам совершенно различные художественные конструкции, хотя материально зафиксированная сторона произведения — его текст — останется неизменной.
Следует подчеркнуть, что внетекстовая структура так же иерархична, как и язык художественного произведения в целом. При этом, включаясь в разные уровни иерархии, тот или иной элемент текста будет вступать в различные внетекстовые связи (то есть получать различную величину энтропии). Например, если мы определим некоторый текст как произведение русской поэзии, то возможность употребления в нем любого из размеров, одинаково свойственных русскому стиху, будет равновероятна. Если мы сузим хронологические границы внетекстовой конструкции, в которую будем вписывать данный текст, до категории «произведение русского поэта XIX в.» или сделаем то же самое с жанром («баллада»), вероятности будут изменяться. Но текст в равной мере принадлежит всем этим структурам, и это следует учитывать, определяя величину его энтропии.
То, что принадлежность текста к разным жанрам, стилям, эпохе, автору и тому подобное меняет величину энтропии отдельных его элементов, не только заставляет рассматривать внетекстовые связи как нечто вполне реальное, но и показывает некоторые пути для измерения этой реальности.
Следует дифференцировать внетекстовые связи на уровне художественного языка и на уровне художественного сообщения. Примеры первых мы привели выше. Вторые — это случаи, когда неупотребление того или иного элемента, значимое отсутствие, «минус-прием», становится органической частью графически зафиксированного текста. Таковы, например, пропуски строф, отмеченных номерами в окончательном тексте «Евгения Онегина», замена Пушкиным готового окончания стихотворения «Наполеон» обрывком стиха: (60) «Мир опустел…», равно как и все другие случаи внесения в окончательный текст незавершенных построений, употребление безрифмия на фоне читательского ожидания рифмы и т. п. Соотнесенность неупотребленного элемента — минус-приема — со структурой читательского ожидания, а его, в свою очередь, с величиной вероятности употребления в данном конструктивном положении текстуально зафиксированного элемента делает и информацию, которую несет минус-прием, величиной вполне реальной и измеримой. Вопрос этот является частью более общей проблемы — конструктивной роли значимого нуля («zero-probleme»),[46] семантического значения паузы, измерения той информации, которую несет художественное молчание.
Непременным условием его, как мы видели, является то, чтобы на месте, которое в тексте того или иного уровня занято минус-приемом, в соответствующей ему кодовой структуре находился значимый элемент или некоторая множественность синонимичных в пределах данной конструкции значимых элементов. Таким образом, художественный текст обязательно включается в более сложную внетекстовую конструкцию, составляя с ней парную оппозицию.
Вопрос осложняется еще одним обстоятельством: внетекстовые структуры меняют величину вероятности тех или иных своих элементов в зависимости от того, относятся ли они к «структурам говорящего» — авторским или «структурам слушающего» — читательским, со всеми вытекающими последствиями сложности этой проблемы в искусстве.
Понятие текста
В основу понятия текста, видимо, удобно будет положить следующие определения.
1. Выраженность. Текст зафиксирован в определенных знаках и в этом смысле противостоит внетекстовым структурам. Для художественной литературы это в первую очередь выраженность текста знаками естественного языка. Выраженность в противопоставлении невыраженности заставляет рассматривать текст как реализацию некоторой системы, ее материальное воплощение. В де-соссюровской антиномии языка и речи текст всегда будет принадлежать области речи. В связи с этим текст всегда будет обладать наряду с системными элементами и внесистемными. Правда, сочетание принципов иерархичности и множественной пересеченности структур приводит к тому, что внесистемное с точки зрения одной из частных подструктур может оказаться системным с точки зрения другой, а перекодировка текста на язык художественного восприятия аудитории может перевести любой в принципе (61) элемент в класс системных. И все же наличие внесистемных элементов — неизбежное следствие материализации, равно как и ощущение того, что одни и те же элементы могут быть системными на одном уровне и внесистемными на другом, — обязательно сопутствуют тексту.
2. Отграниченность. Тексту присуща отграниченность. В этом отношении текст противостоит, с одной стороны, всем материально воплощенным знакам, не входящим в его состав, по принципу включенности — невключенности. С другой стороны, он противостоит всем структурам с невыделенным признаком границы — например, и структуре естественных языков, и безграничности («открытости») их речевых текстов. Однако в системе естественных языков есть и конструкции с ярко выраженной категорией отграниченности — это слово и в особенности предложение. Не случайно они особенно важны для построения художественного текста. Об изоморфности художественного текста слову в свое время говорил А. А. Потебня. Как показал А. М. Пятигорский, текст обладает единым текстовым значением и в этом отношении может рассматриваться как нерасчленимый сигнал. «Быть романом», «быть документом», «быть молитвой» — означает реализовывать определенную культурную функцию и передавать некоторое целостное значение. Каждый из этих текстов определяется читателем по некоторому набору признаков. Поэтому передача признака другому тексту — одно из существенных средств образования новых значений (текстовой признак документа придается художественному произведению и пр.).
Понятие границы по-разному манифестируется в текстах различного типа: это начало и конец текстов со структурой, развертываемой во времени (о специфической моделирующей роли «начала» и «конца» в текстах этого типа см. дальше), рама в живописи, рампа в театре. Отграниченность конструктивного (художественного) пространства от неконструктивного становится основным средством языка скульптуры и архитектуры.
Иерархичность текста, то, что его система распадается на сложную конструкцию подсистем, приводит к тому, что ряд элементов, принадлежащих внутренней структуре, оказывается пограничным в подсистемах разного типа (границы глав, строф, стихов, полустиший). Граница, показывая читателю, что он имеет дело с текстом, и вызывая в его сознании всю систему соответствующих художественных кодов, находится структурно в сильном положении. Поскольку одни из элементов являются сигналами одной какой-либо границы, а другие — нескольких, совпадающих в общей позиции в тексте (конец главы является и концом книги), поскольку иерархия уровней позволяет говорить о доминирующем положении тех или иных границ (границы главы иерархически доминируют над границей строфы, граница романа — над границей главы), открывается возможность структурной соизмеримости роли тех или иных сигналов отграничения. Параллельно с этим насыщенность текста внутренними границами (наличие «переносов», строфичность или астрофичность построения, разбиение на главы и т. п.) и отмеченность внешних границ (степень отмеченности внешних границ может понижаться вплоть до имитации механического обрыва текста — «Сентиментальное путешествие» Стерна) также создают основу для классификации типов построения текста. (62)
3. Структурность. Текст не представляет собой простую последовательность знаков в промежутке между двумя внешними границами. Тексту присуща внутренняя организация, превращающая его на синтагматическом уровне в структурное целое. Поэтому для того, чтобы некоторую совокупность фраз естественного языка признать художественным текстом, следует убедиться, что они образуют некую структуру вторичного типа на уровне художественной организации.
Следует отметить, что структурность и отграниченность текста связаны.[47]
Иерархичность понятия текста
Следует подчеркнуть, что, говоря о материальной выраженности текста, мы имеем в виду одно, в высшей мере специфическое, свойство знаковых систем. Материальной субстанцией в них выступают не «вещи», а отношения вещей. Соответственным образом это проявляется и в проблеме художественного текста, который строится как форма организации, то есть определенная система отношений составляющих его материальных единиц. С этим связано то, что между различными уровнями текста могут устанавливаться дополнительные структурные связи — отношения между типами систем. Текст раскладывается на подтексты (фонологический уровень, грамматический уровень и т. п.), из которых каждый может рассматриваться как самостоятельно организованный. Структурные отношения между уровнями становятся определенной характеристикой текста в целом. Именно эти устойчивые связи (внутри уровней и между уровнями) придают тексту характер инварианта. Функционирование текста в социальной среде порождает тенденцию к разделению текста на варианты. Это явление хорошо изучено для фольклора и средневековой литературы. Обычно предполагается, что техника печатания, навязавшая свой графический язык новой культуре, привела к исчезновению вариантов литературного текста. Это не совсем так. Стоит только записать на ленту чтение одного и того же стихотворения различными чтецами, чтобы убедиться, что печатный текст дает лишь некоторый инвариантный тип текста (например, на уровне интонации), а записи — его варианты. Если изучать современную литературу не с позиции писателя, как мы привыкли, а с позиции читателя, сохранение вариативности станет очевидным фактом. Наконец, проблема текста и его вариантов в полной мере существует для текстологов.
То, что текст — инвариантная система отношений, со всей очевидностью проявляется при реконструкции дефектных или утраченных произведений. (63) Причем, хотя этим с успехом занимаются фольклористы,[48] хотя задача эта для медиевистики может считаться традиционной,[49] однако в той или иной мере она регулярно возникает перед исследователями новой литературы. Так, можно было бы указать на многочисленные, особенно в пушкинистике, опыты реконструкции замыслов и творческих планов поэта, на интересные попытки восстановления утраченных текстов. Если бы текст не представлял собой некоторой константной в своих пределах структуры, сама постановка подобных задач была бы неправомерна.
Однако ясно, что при таком подходе к вопросу можно, взяв группу текстов (например, русскую комедию XVIII в.), рассмотреть ее как один текст, описав систему его инвариантных правил, а все различия отнеся к вариантам, порождаемым в процессе его социального функционирования. Подобная абстракция может быть построена на очень высоком уровне. Вероятно, вполне возможна задача рассмотреть понятие «художественная литература XX в.» как некоторый подлежащий описанию текст со сложным отношением вариантных и инвариантных, внесистемных и системных связей.
Из сказанного вытекает, что если взять группу изоморфных в каком-либо отношении текстов и описать их как один текст, то подобное описание будет по отношению к описываемым текстам содержать только системные элементы, а сами тексты по отношению к нему будут выступать как сложное сочетание организованных (системных, релевантных) и неорганизованных (внесистемных, нерелевантных) элементов. Следовательно, текст высшего уровня будет выступать по отношению к текстам низшего уровня как язык описания. А язык описания художественных текстов, в свою очередь, в определенном отношении изоморфен этим текстам. Другим следствием является то, что описание самого высокого уровня (например, «художественный текст»), которое будет содержать только системные отношения, будет являться языком для описания других текстов, но само текстом не будет (согласно правилу о том, что текст, являясь материализованной системой, содержит внесистемные элементы).
На основании этих положений можно вывести полезное правило. Во-первых: язык описания текста представляет собой иерархию. Смешение описаний разных уровней недопустимо. Необходимо точно оговаривать, на каком (на каких) уровне производится описание. Во-вторых: в пределах данного уровня (64) описание должно быть структурным и полным. В-третьих: метаязыки разных уровней описания могут быть различными.
Следует, однако, подчеркнуть, что реальность исследовательского описания не до конца совпадает с реальностью читательского восприятия: для описывающего исследователя реальна иерархия текстов, как бы вкладываемых друг в друга. Для читателя реален один-единственный текст — созданный автором. Жанр можно представить себе как единый текст, но невозможно сделать его объектом художественного восприятия. Воспринимая созданный автором текст как единственный, получатель информации все надстраиваемое над ним рассматривает как иерархию кодов, которые выявляют скрытую семантику одного реально данного ему произведения искусства.
В связи с этим очевидно, что без дополнительной классификации в аспекте «адресант — адресат» определение художественного текста не может быть полным. Так, разные исполнительские трактовки роли, музыкальной пьесы, одного и того же сюжета в живописи (например, «Мадонна с младенцем») и т. п. могут с одной позиции восприниматься как повторения одного текста (разница не фиксируется — ср. замечание неподготовленной аудитории, что в Эрмитаже «все одно и то же», что «все иконы одинаковы», что «поэтов XVIII в. невозможно отличить друг от друга» и т. п.), как варианты одного инвариантного текста или же — с другой — как разные и даже взаимопротивопоставленные тексты.
Словесный изобразительный знак (образ)
Свойство художественных текстов превращаться в коды — моделирующие системы — приводит к тому, что некоторые признаки, специфические именно для текста как такового, в процессе художественной коммуникации переносятся в сферу кодирующей системы. Например, отграниченность становится не только признаком текста, но и существенным свойством художественного языка.
Мы сейчас не будем останавливаться на значении отграниченности как конструктивного принципа композиции, а остановимся на том, какие это имеет последствия для языка искусства.
Словесное искусство начинается с попыток преодолеть коренное свойство слова как языкового знака — необусловленность связи планов выражения и содержания — и построить словесную художественную модель, как в изобразительных искусствах, по иконическому принципу. Это не случайно и органически связано с судьбой знаков в истории человеческой культуры.
Знаки естественного языка с их условностью в отношении обозначаемого к обозначающему, понятные только при отнесении их к определенному коду, легко могут стать непонятными, а там, где кодирующая семантическая система оказывается вплетенной в социальную жизнь, — и лживыми. Знак как источник информации не менее легко становится и средством социальной дезинформации. Тенденция борьбы со словом, осознания того, что возмож(65)ность обмана коренится в самой его сущности, — столь же постоянный фактор человеческой культуры, как преклонение перед мощью слова. Не случайно высшая форма понимания для многих типов культур укладывается в форму «понятно без слов» и ассоциируется с внесловесными коммуникациями — музыкой, любовью, эмоциональным языком паралингвистики.
Изобразительные знаки обладают тем преимуществом, что, подразумевая внешнее, наглядное сходство между обозначаемым и обозначающим, структурой знака и его содержанием, они не требуют для понимания сложных кодов (наивному адресату подобного сообщения кажется, что он вообще не пользуется в данном случае никаким кодом). Приведем пример комбинированного дорожного знака, состоящего из двух элементов: запретительной полосы и лошадиной морды. Первый элемент имеет условный характер: чтобы понять его значение, надо владеть специфическим кодом дорожных знаков. Второй — иконический и кодируется только предшествующим жизненным опытом (человек, никогда не видавший лошади, его не поймет). Проделаем, однако, другой мысленный эксперимент: соединим запретительный знак с цифрой или словом. Оба элемента будут конвенциональными, однако степень условности их различна. На фоне автодорожного знака, расшифровываемого с помощью специального и известного лишь узкому кругу кода, слово и цифра будут выделяться своей общепонятностью и функционально приравняются лошадиной голове и любому другому иконическому элементу. Этот пример того, как условный знак может функционально приравниваться к изобразительному, очень интересен для литературы. Из материала естественного языка — системы знаков, условных, но понятных всему коллективу настолько, что условность эта на фоне других, более специальных «языков» перестает ощущаться, — возникает вторичный знак изобразительного типа (возможно, его следует соотнести с «образом» традиционной теории литературы). Этот вторичный изобразительный знак обладает свойствами иконических знаков: непосредственным сходством с объектом, наглядностью, производит впечатление меньшей кодовой обусловленности и поэтому — как кажется — гарантирует большую истинность и большую понятность, чем условные знаки.
У этого знака существует два неразделимых аспекта: сходство с обозначаемым им объектом и несходство с обозначаемым им объектом. Оба эти понятия не существуют друг без друга. (66)
4. Текст и система
Системное и внесистемное в художественном тексте
И в читательском, и в исследовательском подходе к художественному произведению издавна соревнуются две точки зрения: одни читатели считают, что главное — это понять произведение, другие — испытать эстетическое наслаждение; одни исследователи считают целью своей работы построение концепции (чем более всеобщей, то есть абстрактной, — тем более ценной), а другие подчеркивают, что любая концепция убивает самую сущность художественного произведения и, логизируя, обедняет и искажает его.
Непримиримость исходных позиций неоднократно уже приводила исследователей к взаимным обвинениям: в абстрактном логизировании, с одной стороны, и агностическом отрицании самой основы научного познания — права на абстрактную теорию, с другой.
Парадоксальность положения заключается в том, что каждая сторона может привести весьма веские соображения в пользу своей позиции. В самом деле, вряд ли кто-либо станет спорить с тем, что восприятие произведения искусства представляет собой акт познания и что восприятие произведения искусства доставляет чувственное наслаждение. Однако сложность вопроса в том, что эти утверждения не только противоположны, но и, по сути дела, несовместимы.
Всякое познание можно представить себе как дешифровку некоторого сообщения. С этой точки зрения процесс познания будет делиться на следующие моменты: получение сообщения; выбор (или выработка) кода; сопоставление текста и кода. При этом в сообщении выделяются системные элементы, которые и являются носителями значений. Внесистемные воспринимаются как не несущие информации и отбрасываются.
Таким образом, процесс познания неизбежно подразумевает возведение текста до уровня абстрактного языка.
После того как сообщение дешифровано, текст понят, с ним уже более нечего делать. Однако мы продолжаем видеть, слышать, чувствовать и получать от этого радость или страдание, независимо от того, поняли мы, что это значит, или нет, столь долго, пока внешние раздражители действуют на наши органы чувств. При этом является данный элемент текста системным или внесистемным с точки зрения определенного кода, он, в силу своей физической материальности, может действовать на наши органы чувств и доставлять нам чувство радости или страдания. Таким образом, создается впечатление, что разница между наслаждением интеллектуального понимания и наслаждением физического употребления не только очень велика, но и принципиально не позволяет свести эти две реально существующие в искусстве стороны воедино, что заведомо обрекает искусствоведа на двойственность подхода к объекту изучения. (67)
Однако посмотрим на проблему несколько с иной стороны. Нельзя не признать, что всякий процесс чувственного освоения также можно представить как получение информации. Вероятно, с определенной степенью огрубления, чувственное наслаждение можно было бы определить как получение информации из несистемного материала (в отличие от интеллектуального — получения информации из системности).
Но «получение информации из несистемного материала» представляет собой противоречие в терминах, поскольку информация (по определению) может заключаться только в определенной системе, в определенном типе структурных отношений. Дело здесь в том, что любой процесс чувственного освоения представляет собой длительное и многократное приложение к тексту различных, часто взаимонесвязанных кодов с целью введения в систему предельного круга внесистемных элементов. Человек получает информацию не только из знаков и знаковых систем. Любой контакт с внешней средой, любое биологическое усвоение представляет собой получение информации и может быть описано в терминах теории информации. Система чувственных рецепторов или биохимический механизм могут быть представлены как организации кодов, декодирующих определенную информацию. Это не противоречит утверждению о том, что языки осуществляют коммуникации между индивидуумами. Теория информации шире семиотики — она изучает не только такой частный случай, как пользование социальными знаками в определенном коллективе, а все случаи передачи и хранения информации, понимая последнюю как величину организации — противоположность энтропии. Представим, например, в качестве текста кусок съедаемой нами пищи. Весь процесс его употребления может быть разбит на этапы взаимодействий с нервными рецепторами, кислотами, ферментами. При этом на каждом этапе нечто из того, что на предшествующем не усваивалось, то есть не несло информации, было внесистемным, нейтральным, включается в активный процесс обмена с человеческим организмом, становится системным и отдает заключенную в себе информацию.
Таким образом, интеллектуальное наслаждение дается в результате приложения к сообщению одного или небольшого числа логически связанных кодов (это наслаждение в том и состоит, чтобы массу пестрого материала свести к одной системе).[50] Учитывая скорость работы головного мозга человека, следует отметить, что время интеллектуального наслаждения — понимания, — если не включать в него предшествующего времени «непонимания», ничтожно мало. Человеком оно осознается как «мгновенное».
Чувственное наслаждение подразумевает применение многократных и разных кодов. Оно длительно и может продолжаться, пока есть определенная реальность, подлежащая чувствам, пока есть внесистемный материал, который подлежит ввести в различные системы. (68)
Но из сказанного следует не только различие между интеллектуальным и чувственным наслаждением, но и их принципиальное единство с точки зрения антиномии: информация — энтропия.
При интеллектуальном наслаждении использование материальной стороны знака мгновенно: выражение, как оболочку ореха, раскалывают, чтобы отбросить. Физическое наслаждение стремится быть продолжительным, поскольку имеет дело с внезнаковой информацией, в которой самое выражение (воздействие на чувства) содержательно. Искусство, с одной стороны, превращает незнаковый материал в знаки, способные доставлять интеллектуальную радость, а с другой — строит из знаков мнимофизическую реальность второго ряда, превращая знаковый текст в квазиматериальную ткань, способную доставлять физическое наслаждение.
Таким образом, те непримиримые, казалось бы, точки зрения, о которых мы говорили в начале этого параграфа, по сути дела, сводятся к соотношению информационной нагрузки системного и несистемного материала в художественном тексте.
И здесь легко ощутимы два подхода: «в художественном произведении — все системно» (все не случайно, имеет цель) и «все представляет собой нарушение систем�
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023 Введение На протяжении исторически зафиксированного существования человечества ему сопутствует искусство. Занятый производством, борющийся за сохранение своей жизни, почти всегда лишенный самого необходимого, человек неизменно находит время для художественной деятельности, ощущает ее необходимость. На разных этапах истории периодически раздавались голоса о ненужности и даже вреде искусства. Они шли и от ранней средневековой церкви, боровшейся с языческим фольклором, с традициями античного искусства, и от иконоборцев, выступавших против церкви, и из рядов многих других общественных движений разных эпох. Иногда борьба с теми или иными видами художественного творчества или с искусством в целом велась широко и опиралась на мощные политические институты. Однако все победы в этой борьбе оказывались химеричными: искусство неизменно воскресало, переживая своих гонителей. Эта необычайная устойчивость, если вдуматься в нее, способна вызвать удивление, поскольку существующие эстетические концепции по-разному объясняют, в чем же состоит необходимость искусства. Оно не является составной частью производства и существование его не обусловлено потребностью человека в непрерывном возобновлении средств удовлетворения материальных нужд. В ходе исторического развития каждое общество вырабатывает определенные формы присущей ему социально-политической организации. И если нам совершенно ясна их историческая неизбежность, если мы можем объяснить, почему общество, обладающее нулевой формой внутренней организации, не могло бы существовать, невозможность существования общества, не имеющего искусства, значительно труднее объяснима. Объяснение здесь обычно заменяется ссылкой на факт, указанием на то, что истории человечества не известны (или известны лишь как редкие аномалии, данные своего рода социальной тератологии, лишь подтверждающие своей исключительностью общую норму) общества, не имеющие своего искусства. При этом следует иметь в виду и то, что отличает в этом отношении искусства от иных видов идеологических структур. Организуя общество, те или иные структуры неизбежно охватывают всех его членов: каждый человек в отдельности, самим фактом принадлежности историческому коллективу, поставлен перед жесткой необходимостью быть частью той или иной группировки, входя в одно из наличных подмножеств данного социального множества. Так, например, человек предреволюционной Франции XVIII века, для того чтобы быть политической личностью, мог принадлежать к одному из трех сословий, но не мог не принадлежать ни к какому. Но общество, накладывая порой очень жесткие ограничения на искусство, никогда не предъявляет своим членам ультимативного требования заниматься художественной деятельностью. Ритуал обязателен – хоровод доброволен. Исповедовать ту или иную религию, быть атеистом, входить в какую-либо политическую организацию, принадлежать определенной юридической группе – каждое общество представляет своим членам обязательный список подобных признаков. Производить или потреблять художественные ценности – всегда признак факультативный. «Этот человек ни во что не верит» и «этот человек не любит кино (поэзию, балет)» – ясно, что мы имеем дело с нарушением общественных норм совершенно разной степени обязательности. Если в нацистской Германии равнодушие к официальному искусству воспринималось как признак нелояльности, то очевидно, что речь шла совсем не о нормах отношения человека к искусству. И тем не менее, не являясь обязательным ни с точки зрения непосредственных жизненных нужд, ни с точки зрения облигаторных общественных связей, искусство всей своей историей доказывает свою насущную необходимость. Давно уже было указано на то, что необходимость искусства родственна необходимости знания, a caмo искусство – одна из форм познания жизни, борьбы человечества за необходимую ему истину. Однако, будучи прямолинейно истолковано, это положение порождает ряд трудностей. Если понимать под искомым познанием логические положения, однотипные результатам научных изысканий, то нельзя не согласиться с тем, что человечество обладает и более прямыми путями для их получения, нежели искусство. И если придерживаться такой точки зрения, то придется согласиться, что искусство дает некое знание низшего типа. Об этом, как известно, со всей определенностью писал Гегель: «Вследствие своей формы искусство ограничено также и определенным содержанием. Лишь определенный круг и определенная ступень истины могут найти свое воплощение в форме художественного произведения». Из этого положения с неизбежностью вытекал вывод о том, что дух современной культуры «поднялся, по-видимому, выше той ступени, на которой искусство представляет собой высшую форму осознания абсолютного. Своеобразный характер художественного творчества и создаваемых им произведений уже больше не дают полного удовлетворения нашей высшей потребности»1. Несмотря на то что это положение Гегеля неоднократно подвергалось критике, например Белинским, оно настолько органично для охарактеризованного выше понимания задач искусства, что снова и снова возникает в истории культуры. Проявления его многообразны – от периодически оживающих толков о ненужности или устарелости искусства до убеждения в том, что критик, ученый или любой другой человек, являющийся носителем логико-теоретической мысли или претендующий на это, уже тем самым имеет право учить и наставлять писателя. Это же убеждение проявляется в слабых сторонах школьной методики изучения литературы, настойчиво убеждающей учеников в том, что несколько строк логических выводов (предположим, вдумчивых и серьезных) составляют всю суть художественного произведения, а остальное относится к второстепенным «художественным особенностям». Итак, существующие концепции культуры объясняют нам необходимость существования производства и форм его организации, необходимость науки. Искусство же может показаться факультативным элементом культуры. Мы можем определить, какое влияние оказывает на него нехудожественная структура действительности. Однако если вопрос: «Почему невозможно общество без искусства?» – остается открытым, а реальность исторических фактов заставляет его снова и снова ставить, то с неизбежностью напрашивается вывод о недостаточности наших концепций культуры человечества. Мы знаем, что история человечества не могла сложиться без производства, социальных конфликтов, борьбы политических мнений, мифологии, религии, атеизма, успехов науки. Могла ли она сложиться без искусства? Отведена ли искусству второстепенная роль вспомогательного орудия, к которому прибегают (но могут и не прибегнуть) более субстанциональные потребности человеческого духа? У Пушкина есть заметка: «В одной из шекспировых комедий крестьянка Одрей спрашивает: «Что такое поэзия? вещь ли это настоящая?»2 Как ответить на этот вопрос? Действительно ли поэзия – «вещь настоящая», или, по выражению Державина, она К сожалению, чисто эмоциональный ответ, основанный на любви к искусству, привычке к каждодневным эстетическим впечатлениям, не будет обладать окончательной убедительностью. Слишком часто науке приходится отвергать убеждения, привычность и житейская очевидность которых составляют самую сущность нашего бытового опыта. Как легко было бы ученому, весь опыт которого замыкался бы в кругу европейской культуры, доказать, что музыка дальневосточного типа не может существовать или не может считаться музыкой. Возможно, конечно, и обратное рассуждение. Привычность или «естественность» той или иной идеи не есть доказательство ее истинности. Вопрос о необходимости искусства не составляет предмета настоящей книги и не может быть рассмотрен здесь всесторонне. Уместно будет остановиться на нем лишь в такой мере, в какой он связан с внутренней организацией художественного текста и с его общественным функционированием. Жизнь всякого существа представляет собой сложное взаимодействие с окружающей его средой. Организм, неспособный реагировать на внешние воздействия и к ним приспособляться, неизбежно погиб бы. Взаимодействие с внешней средой можно представить себе как получение и дешифровку определенной информации. Человек оказывается с неизбежностью втянутым в напряженный процесс: он окружен потоками информации, жизнь посылает ему свои сигналы. Но сигналы эти останутся неуслышанными, информация – непонятой и важные шансы в борьбе за выживание упущенными, если человечество не будет поспевать за все возрастающей потребностью эти потоки сигналов дешифровать и превращать в знаки, обладающие способностью коммуникации в человеческом обществе. При этом оказывается необходимым не только увеличивать количество разнообразных сообщений на уже имеющихся языках (естественных, на языках различных наук), но и постоянно увеличивать количество языков, на которые можно переводить потоки окружающей информации, делая их достоянием людей. Человечество нуждается в особом механизме – генераторе все новых и новых «языков», которые могли бы обслуживать его потребность в знании. При этом оказывается, что дело не только в том, что создание иерархии языков является более компактным способом хранения информации, чем увеличение до бесконечности сообщений на одном. Определенные виды информации могут храниться и передаваться только с помощью специально организованных языков – так, химическая или алгебраическая информация требуют своих языков, которые были бы специально приспособлены для данного типа моделирования и коммуникации. Искусство является великолепно организованным генератором языков особого типа, которые оказывают человечеству незаменимую услугу, обслуживая одну из самых сложных и не до конца еще ясных по своему механизму сторон человеческого знания. Представление о том, что мир, окружающий человека, говорит многими языками и что свойство мудрости – в том, чтобы научиться их понимать, не ново. Так, Баратынский устойчиво связывал понимание природы с овладением ее особым языком, употребляя для характеристики познания глаголы языкового общения («говорил», «читал»): Непонимание – забвение или незнание языка: Еще более интересен случай с пушкинскими «Стихами, сочиненными ночью во время бессонницы». В них Пушкин говорит об обступившей его темной и суетливой жизни, требующей, чтобы ее разгадали: Стихотворение это при жизни поэта опубликовано не было. Жуковский опубликовал его в посмертном Собрании сочинений Пушкина в 1841 году, заменив последний стих на: Нам неизвестны его соображения, и в современных изданиях этот стих, как отсутствующий в автографах Пушкина, устраняется. Однако трудно допустить, чтобы Жуковский, при явном отсутствии здесь каких-либо внешних причин цензурного характера, стал заменять пушкинские стихи своими, «очевидно, для улучшения рифмы» (мнения комментаторов академического издания). Вполне возможно, что у Жуковского – постоянного собеседника Пушкина в 1830-е годы – были достаточно веские, хотя и неизвестные нам основания изменить этот стих, не считаясь с хорошо известным ему автографом. Но для нас важно другое: кто бы ни сделал это изменение – Пушкин или Жуковский, – но для него стихи: и были семантически эквивалентны: понять жизнь – это выучить ее темный язык. И во всех этих – и многих других – случаях речь идет не о поэтических метафорах, а о глубоком понимании процесса овладения истиной и – шире – жизнью. Для классицизма поэзия – язык богов, для романтизма – язык сердца. Эпоха реализма меняет содержание этой метафоры, но сохраняет ее характер: искусство – язык жизни, с его помощью действительность рассказывает о себе. Мысль о безъязыком мире, обретающем в поэзии свой голос, в разных формах встречается у многих поэтов. Без поэзии улица корчится безъязыкая — Устойчивость сопоставления искусства и языка, голоса, речи свидетельствует о том, что связь его с процессом общественных коммуникаций – подспудно или осознанно – входит в самую основу понятия художественной деятельности. Но если искусство – особое средство коммуникации, особым образом организованный язык (вкладывая в понятие «язык» то широкое содержание, которое принято в семиотике, – «любая упорядоченная система, служащая средством коммуникации и пользующаяся знаками»), то произведения искусства – то есть сообщения на этом языке – можно рассматривать в качестве текстов. С этой позиции можно сформулировать и задачу настоящей книги. Создавая и воспринимая произведения искусства, человек передает, получает и хранит особую художественную информацию, которая неотделима от структурных особенностей художественных текстов в такой же мере, в какой мысль неотделима от материальной структуры мозга. Дать общий очерк структуры художественного языка и его отношений к структуре художественного текста, их сходства и отличий oт аналогичных лингвистических категорий, то есть объяснить, как художественный текст становится носителем определенной мысли – идеи, как структура текста относится к структуре этой идеи, – такова общая цель, в направлении к которой автор надеется сделать хотя бы некоторые шаги. 1. Искусство как язык Искусство – одно из средств коммуникации. Оно, бесспорно, осуществляет связь между передающим и принимающим (то, что в известных случаях оба они могут совместиться в одном лице, не меняет дела, подобно тому как человек, разговаривающий сам с собой, соединяет в себе говорящего и слушающего)1. Дает ли это нам право определить искусство как особым образом организованный язык? Всякая система, служащая целям коммуникации между двумя или многими индивидами, может быть определена как язык (как мы уже отмечали, случай автокоммуникации подразумевает, что один индивид выступает в качестве двух). Часто встречающееся указание на то, что язык подразумевает коммуникацию в человеческом обществе, строго говоря, не является обязательным, поскольку, с одной стороны, языковое общение между человеком и машиной и машин между собой в настоящее время является уже не теоретической проблемой, а технической реальностью2. С другой стороны, наличие определенных языковых общений в мире животных также не подвергается уже сомнению. Напротив того, системы коммуникаций внутри индивида (например, механизмы биохимической регулировки или сигналов, передаваемых по сети нервов организма) языками не являются3. В этом смысле мы можем говорить как о языках не только о русском, французском или хинди и других, не только об искусственно создаваемых разными науками системах, употребляемых для описания определенных групп явлений (их называют «искусственными» языками, или метаязыками данных наук), но и об обычаях, ритуалах, торговле, религиозных представлениях. В этом же смысле можно говорить о «языке» театра, кино, живописи, музыки и об искусстве в целом как об особым образом организованном языке. Однако, определив искусство как язык, мы тем самым высказываем некие определенные суждения относительно его устройства. Всякий язык пользуется знаками, которые составляют его «словарь» (иногда говорят «алфавит», для общей теории знаковых систем эти понятия равнозначны), всякий язык обладает определенными правилами сочетания этих знаков, всякий язык представляет собой определенную структуру, и структуре этой свойственна иерархичность. Такая постановка вопроса позволяет подойти к искусству с двух различных точек зрения. Во-первых, выделить в искусстве то, что роднит его со всяким языком, и попытаться описать эти его стороны в общих терминах теории знаковых систем. Во-вторых, – на фоне первого описания – выделить в искусстве то, что присуще ему как особому языку и отличает его от других систем этого типа. Поскольку мы в дальнейшем будем пользоваться понятием «язык» в том специфическом значении, которое ему придается в работах по семиотике и существенно расходится с привычным словоупотреблением, определим содержание этого термина. Под языком мы будем понимать всякую коммуникационную систему, пользующуюся знаками, упорядоченными особым образом. Рассмотренные таким образом языки будут отличаться: а) во-первых, от систем, не служащих средствами коммуникации; б) во-вторых, от систем, служащих средствами коммуникации, но не пользующихся знаками; в) в-третьих, от систем, служащих средствами коммуникации и пользующихся совсем или почти не упорядоченными знаками.→ Первое противопоставление позволяет отделить языки от тех форм человеческой деятельности, которые не связаны непосредственно и по своей целевой установке с накоплением и передачей информации. Второе позволяет ввести следующее разделение: знаковое общение происходит в основном между индивидами, внезнаковое – между системами внутри организма. Однако вернее, видимо, было бы истолковать это противопоставление как антитезу коммуникаций на уровне первой и второй сигнальных систем, поскольку, с одной стороны, возможны внезнаковые связи между организмами (особенно значительные у низших животных, но сохраняющиеся и у человека в виде явлений, изучаемых телепатией), с другой – возможно и знаковое общение внутри организма. Имеется в виду не только самоорганизация человеком своего интеллекта при помощи тех или иных знаковых систем, но и те случаи, когда знаки вторгаются в сферу первичной сигнализации (человек «заговаривает» словами зубную боль; действуя сам на себя при помощи слов, переносит страдания или физическую пытку). Если с этими оговорками принять положение о том, что язык есть форма коммуникации между двумя индивидами, то придется сделать еще некоторые уточнения. Понятие «индивидуум» удобнее будет заменить «передающим сообщение» (адресантом) и «принимающим его» (адресатом). Это позволит ввести в схему те случаи, когда язык связывает не два индивидуума, а два других передающих (принимающих) устройства, например телеграфный аппарат и подключенное к нему автоматическое записывающее устройство. Но важнее другое – не редки случаи, когда один и тот же индивид выступает и как адресант и как адресат сообщения (заметки «на память», дневники, записные книжки). Информация тогда передается не в пространстве, а во времени и служит средством самоорганизации личности. Следовало бы считать, что данный случай – лишь малозначительная частность в общей массе социальных общений, если бы не одно соображение: можно рассматривать в качестве индивида отдельного человека, тогда схема коммуникации A→B (от адресанта к адресату) будет явно преобладать над A→Á (адресант сам же является адресатом, но в другую единицу времени). Однако стоит подставить под «А», например, понятие «национальная культура», чтобы схема коммуникации A→Á получила по крайней мере равноправное значение с A→B (в ряде культурных типов она будет главенствовать). Но сделаем следующий шаг – подставим под «А» человечество в целом. Тогда автокоммуникация станет (по крайней мере, в пределах исторически реального опыта) единственной схемой коммуникации. Третье противопоставление отделит языки от тех промежуточных систем, которыми в основном занимается паралингвистика – мимики, жестов и т. п. Если понимать «язык» предложенным выше образом, то понятие это объединит: а) естественные языки (например, русский, французский, эстонский, чешский); б) искусственные языки: языки науки (метаязыки научных описаний), языки условных сигналов (например, дорожных знаков) и т. п.; в) вторичные языки (вторичные моделирующие системы) – коммуникационные структуры, надстраивающиеся над естественно-языковым уровнем (миф, религия). Искусство – вторичная моделирующая система. «Вторичный по отношению к языку» следует понимать не только как «пользующийся естественным языком в качестве материала». Если бы термин имел такое содержание, то включение в него несловесных искусств (живописи, музыки и других) было бы явно неправомерно. Однако отношение здесь более сложное: естественный язык – не только одна из наиболее ранних, но и самая мощная система коммуникаций в человеческом коллективе. Самой своей структурой он оказывает мощное воздействие на психику людей и многие стороны социальной жизни. Вторичные моделирующие системы (как и все семиотические системы) строятся по типу языка. Это не означает, что они воспроизводят все стороны естественных языков. Так, например, музыка резко отличается от естественных языков отсутствием обязательных семантических связей, однако в настоящее время очевидна уже полная закономерность описания музыкального текста как некоторого синтагматического построения (работы Μ. Μ. Ланглебен и Б. Μ. Гаспарова). Выделение синтагматических и парадигматических связей в живописи (работы Л. Ф. Жегина, Б. А. Успенского), кино (статьи С. Эйзенштейна, Ю. Н. Тынянова, Б. Μ. Эйхенбаума, К. Меца) позволяет видеть в этих искусствах семиотические объекты — системы, построенные по типу языков. Поскольку сознание человека есть сознание языковое, все виды надстроенных над сознанием моделей – и искусство в том числе – могут быть определены как вторичные моделирующие системы. Итак, искусство может быть описано как некоторый вторичный язык, а произведение искусства – как текст на этом языке. Доказательству и объяснению этого тезиса будет посвящена значительная часть предлагаемой вниманию читателей книги. Пока ограничимся несколькими цитатами, подчеркивающими неотделимость поэтической идеи от особой, ей соответствующей структуры текста, особого языка искусства. Вот запись А. Блока (июль 1917 года): «Ложь, что мысли повторяются. Каждая мысль нова, потому, что ее окружает и оформляет новое. «Чтоб он, воскреснув, встать не мог» (моя), «Чтоб встать он из гроба не мог» (Лермонтов – сейчас вспомнил) – совершенно разные мысли. Общее в них – «содержание», что только доказывает лишний раз, что бесформенное содержание само по себе не существует, не имеет веса»4. Рассматривая природу семиотических структур, можно сделать одно наблюдение: сложность структуры находится в прямо пропорциональной зависимости от сложности передаваемой информации. Усложнение характера информации неизбежно приводит и к усложнению используемой для ее передачи семиотической системы. При этом в правильно построенной (то есть достигающей цели, ради которой она создана) семиотической системе не может быть излишней, неоправданной сложности. Если существуют две системы А и В и обе они полностью передают некий единый объем информации при одинаковом расходе на преодоление шума в канале связи, но система А значительно проще, чем В, то не вызывает никаких сомнений, что система В будет отброшена и забыта5. Поэтическая речь представляет собой структуру большой сложности. Она значительно усложнена по отношению к естественному языку. И если бы объем информации, содержащейся в поэтической (стихотворной или прозаической – в данном случае не имеет значения) и обычной речи был одинаковым6, художественная речь потеряла бы право на существование и, бесспорно, отмерла бы. Но дело обстоит иначе: усложненная художественная структура, создаваемая из материала языка, позволяет передавать такой объем информации, который совершенно недоступен для передачи средствами элементарной собственно языковой структуры. Из этого вытекает, что данная информация (содержание) не может ни существовать, ни быть передана вне данной структуры. Пересказывая стихотворение обычной речью, мы разрушаем структуру и, следовательно, доносим до воспринимающего совсем не тот объем информации, который содержался в нем. Таким образом, методика рассмотрения отдельно «идейного содержания», а отдельно – «художественных особенностей», столь прочно привившаяся в школьной практике, зиждется на непонимании основ искусства и вредна, ибо прививает массовому читателю ложное представление о литературе, как о способе длинно и украшенно излагать те же самые мысли, которые можно сказать просто и кратко. Если идейное содержание «Войны и мира» или «Евгения Онегина» можно изложить на двух страничках, то естественный вывод: следует читать не длинные произведения, а короткие учебники. Это вывод, к которому толкают не плохие учителя нерадивых учеников, а вся система школьного изучения литературы, которая, в свою очередь, лишь упрощенно и потому наиболее четко отражает тенденции, ясно дающие себя чувствовать в науке о литературе. Мысль писателя реализуется в определенной художественной структуре и неотделима от нее. Л. Н. Толстой писал о главной мысли «Анны Карениной»: «Если же бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен был написать роман тот самый, который я написал сначала. И если критики теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю <…>. И если близорукие критики думают, что я хотел описывать только то, что мне нравится, как обедает Облонский и какие плечи у Карениной, то они ошибаются. Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой для выражения себя; но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна и без того сцепления, в котором она находится». Толстой необычайно ярко сказал о том, что художественная мысль реализует себя через «сцепление» – структуру – и не существует вне ее, что идея художника реализуется в его модели действительности. И далее Толстой пишет: «…нужны люди, которые показали бы бессмыслицу отыскивания отдельных мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесчисленном лабиринте сцеплений, в котором состоит сущность искусства и по тем законам, которые служат основанием этих сцеплений»7. Определение «форма соответствует содержанию», верное в философском смысле, все же недостаточно точно отражает отношение структуры и идеи. Еще Ю. Н. Тынянов указывал на ее неудобную (применительно к искусству) метафоричность: «Форма + содержание = стакан + вино. Но все пространственные аналогии, применяемые к понятию формы, важны тем, что только притворяются аналогиями: на самом деле в понятие формы неизменно подсовывается при этом статический признак, тесно связанный с пространственностью»8. Для наглядного представления отношения идеи к структуре удобнее вообразить себе связь жизни и сложного биологического механизма живой ткани. Жизнь, составляющая главное свойство живого организма, немыслима вне его физической структуры, она является функцией этой работающей системы. Исследователь литературы, который надеется постичь идею, оторванную от авторской системы моделирования мира, от структуры произведения, напоминает ученого-идеалиста, пытающегося отделить жизнь от той конкретной биологической структуры, функцией которой она является. Идея не содержится в каких-либо, даже удачно подобранных цитатах, а выражается во всей художественной структуре. Исследователь, не понимающий этого и ищущий идею в отдельных цитатах, похож на человека, который, узнав, что дом имеет свой план, начал бы ломать стены в поисках места, где этот план замурован. План не замурован в стену, а реализован в пропорциях здания. План – идея архитектора, структура здания – ее реализация. Идейное содержание произведения – структура. Идея в искусстве – всегда модель, ибо она воссоздает образ действительности. Следовательно, вне структуры художественная идея немыслима. Дуализм формы и содержания должен быть заменен понятием идеи, реализующей себя в адекватной структуре и не существующей вне этой структуры. Измененная структура донесет до читателя или зрителя иную идею. Из этого следует, что в стихотворении нет «формальных элементов» в том смысле, который обычно вкладывается в это понятие. Художественный текст – сложно построенный смысл. Все его элементы суть элементы смысловые. Искусство в ряду других знаковых систем Рассмотрение искусства в категориях коммуникационной системы позволяет поставить, а частично и разрешить ряд вопросов, остававшихся вне поля зрения традиционной эстетики и теории литературы. Современная теория знаковых систем обладает хорошо разработанной концепцией коммуникации, позволяющей наметить общие черты художественного общения. Всякий акт коммуникации включает в себя отправителя и получателя информации. Но этого мало: хорошо известный нам факт непонимания свидетельствует о том, что не всякое сообщение воспринимается. Для того чтобы получатель понял отправителя сообщения, необходимо наличие у них общего посредника – языка. Если взять сумму возможных сообщений на одном языке, то легко будет заметить, что некоторые элементы этих сообщений будут выступать как в тех или иных отношениях взаимоэквивалентные (так, например, между вариантами фонемы, в одном отношении, фонемой и графемой – в другом, будет возникать отношение эквивалентности). Нетрудно заметить, что отличия будут возникать за счет природы материализции того или иного знака или его элемента, а сходства – как результат одинакового места в системе. Общее для различных взаимоэквивалентных вариантов будет выступать как их инвариант. Таким образом, мы получим два различных аспекта коммуникационной системы: поток отдельных сообщений, воплощенных в той или иной материальной субстанции (графической, звуковой, электромагнитной при разговоре по телефону, телеграфных знаках и т. п.), и абстрактную систему инвариантных отношений. Разделение этих двух начал и определение первой как «речи» (parole), а второй как «языка» (langue) принадлежит Ф. де Соссюру. При этом очевидно, что, поскольку носителями определенных значений выступают единицы языка, то процесс понимания состоит в том, что определенное речевое сообщение отождествляется в сознании воспринимающего с его языковым инвариантом. При этом одни признаки элементов речевого текста (те, которые совпадают с инвариантными им признаками в системе языка) выделяются как значимые, а другие снимаются сознанием воспринимающего как несущественные. Таким образом, язык выступает как некоторый код, при помощи которого воспринимающий дешифрует значение интересующего его сообщения. В этом смысле, позволяя себе известную степень неточности, можно отождествлять разделение системы на «речь» и «язык» в структурной лингвистике и «сообщение» и «код» в теории информации9. Однако если представлять себе язык как определенную систему инвариантных элементов и правил их сочетания10, то станет очевидным справедливость высказанного Р. Якобсоном и другими учеными положения, что в процессе передачи информации фактически используются не один, а два кода: один – зашифровывающий и другой – дешифрующий сообщение. В этом смысле говорят о правилах для говорящего и правилах для слушающего. Разница между ними стала очевидной, как только возникла задача искусственного порождения (синтеза) и дешифровки (анализа) текста на каком-либо естественном языке с помощью электронно-вычислительных устройств. Все эти вопросы имеют непосредственное отношение к определению искусства как коммуникационной системы. Первым следствием из общего положения о том, что искусство представляет собой одно из средств массовой коммуникации, является утверждение: чтобы воспринимать передаваемую средствами искусства информацию, надо владеть его языком. Сделаем еще одно необходимое отступление. Представим себе некоторый язык. Возьмем, например, язык химических знаков. Если мы выпишем все употребляемые в нем графические значки, то легко убедимся, что они разделяются на две группы: одни – буквы латинского алфавита – обозначают химические элементы, другие (знаки равенства, плюсы, цифровые коэффициенты) будут обозначать способы их соединения. Если мы выпишем все знаки – буквы, то получим некоторое множество имен химического языка, которые в своей совокупности будут означать всю сумму известных к этому моменту химических элементов. Теперь предположим, что мы членим все обозначаемое пространство на определенные группы. Например, мы будем описывать все множество содержания при помощи языка, имеющего только два имени: металлы и неметаллы, или будем вводить какие-либо другие системы записи, пока не дойдем до членения на элементы и обозначения их отдельными буквами. Ясно, что каждая система записи будет отражать определенную научную концепцию классификации обозначаемого. Таким образом, каждая система химического языка есть вместе с тем и модель определенной химической реальности. Мы пришли к существенному выводу: всякий язык есть не только коммуникативная, но и моделирующая система, вернее, обе эти функции неразрывно связаны. Это справедливо и для естественных языков. Если в древнерусском языке (XII век) «честь» и «слава» оказываются антонимами, а в современном – синонимами11, если в древнерусском «синий» – иногда синоним «черного», иногда – «багрово-красного», «серый» означает наш «голубой» (в значении цвета глаз), «голубой» же – наш «серый» (в значении масти животного и птицы)12, если небо никогда не называется в текстах XII века голубым или синим, а золотой цвет фона на иконе, видимо, для зрителя той поры вполне правдоподобно передает цвет небес, если старославянское: «Кому сини очи, не пребывающим ли в вине, не назирающим ли кьде пирове бывають»13, следует переводить: «У кого же багровые (налитые кровью) глаза, как не у пьяницы, как не у того, кто высматривает, где бывают пиры», – то ясно, что мы имеем дело с совсем иными моделями этического или цветового пространства. Но очевидно вместе с тем, что не только «знаки-имена», но и «знаки-связки» играют моделирующую роль – они воспроизводят концепцию связей в обозначаемом объекте. Итак, всякая коммуникативная система может выполнять моделирующую функцию и, обратно, всякая моделирующая система может играть коммуникативную роль. Конечно, та или иная функция может быть выражена более сильно или почти совсем не ощущаться в том или ином конкретном социальном употреблении. Но потенциально присутствуют обе функции14. Это чрезвычайно существенно для искусства. Если произведение искусства что-либо мне сообщает, если оно служит целям коммуникации между отправителем и получателем, то в нем можно выделить: 1) сообщение – то, что мне передается; 2) язык – определенную, общую для передающего и принимающего абстрактную систему, которая делает возможным самый акт коммуникации. Хотя, как мы увидим в дальнейшем, отвлечение каждой из названных сторон возможно лишь в порядке исследовательской абстракции, противопоставление этих двух аспектов в произведении искусства, на определенной стадии изучения, совершенно необходимо. Язык произведения – это некоторая данность, которая существует до создания конкретного текста и одинакова для обоих полюсов коммуникации (в дальнейшем в это положение будут введены некоторые коррективы). Сообщение – это та информация, которая возникает в данном тексте. Если мы возьмем большую группу функционально однородных текстов и рассмотрим их как варианты некоего одного инвариантного текста, сняв при этом все «внесистемное» с данной точки зрения, то получим структурное описание языка данной группы текстов. Так построена, например, классическая «Морфология волшебной сказки» В. Я. Проппа, дающая модель этого фольклорного жанра. Мы можем рассмотреть все возможные балеты как один текст (так, как мы обычно рассматриваем все исполнения данного балета как варианты одного текста) и, описав его, получим язык балета, и т. д. Искусство неотделимо от поисков истины. Однако необходимо подчеркнуть, что «истинность языка» и «истинность сообщения» – понятия принципиально различные. Для того чтобы представить себе эту разницу, вообразим, с одной стороны, высказывания об истинности или ложности решения той или иной задачи, логической правильности того или иного утверждения, а с другой, рассуждения об истинности геометрии Лобачевского или четырехзначной логики. О каждом сообщении на русском или любом другом из естественных языков можно задать вопрос: истинно оно или ложно. Но этот вопрос совершенно теряет смысл применительно к какому-либо языку в целом. Поэтому часто встречающиеся рассуждения о художественной непригодности, неполноценности или даже «порочности» каких-либо художественных языков (например, языка балета, языка восточной музыки, языка абстрактной живописи) заключают в себе логическую ошибку – результат смешения понятий. Между тем очевидно, что суждению об истинности или ложности должно предшествовать внесение ясности в постановку вопроса, что оценивается: язык или сообщение. Соответственно и будут работать различные критерии оценки. Культура заинтересована в своеобразном полиглотизме. Не случайно искусство в своем развитии отбрасывает устарелые сообщения, но с поразительной настойчивостью сохраняет в своей памяти художественные языки прошедших эпох. История искусств изобилует «ренессансами» – возрождением художественных языков прошлого, воспринимаемых как новаторские. Расчленение этих аспектов существенно и для литературоведа (как и вообще искусствоведа). Здесь дело не только в постоянном смешении своеобразия языка художественного текста и его эстетической ценности (с постоянным утверждением «непонятное – плохое»), но и в отсутствии сознательного расчленения исследовательской задачи, в отказе от постановки вопроса о том, что изучается – общий художественный язык эпохи (направления, писателя) или определенное сообщение, переданное на этом языке. В последнем случае, видимо, целесообразнее описывать массовые, «средние», наиболее стандартизованные тексты, в которых общая норма художественного языка обнажена отчетливее всего. Нерасчленение этих двух аспектов приводит к тому смешению, на которое указывало еще традиционное литературоведение и избежать которого на интуитивном уровне оно пыталось, требуя различать «массовое» и «индивидуальное» в литературном произведении. Среди ранних и весьма далеких от совершенства опытов изучения массовой художественной нормы можно назвать, например, известную монографию В. В. Сиповского по истории русского романа. В начале 1920-х годов вопрос этот уже был поставлен как совершенно отчетливая задача. Так, В. Μ. Жирмунский писал, что при изучении массовой литературы «по существу поставленной задачи приходится, отвлекаясь от индивидуального, улавливать распространение некоторой общей тенденции»15. Вопрос этот отчетливо ставился в работах Шкловского и Виноградова. Однако, осознав различие этих аспектов, нельзя не заметить, что отношение между ними в художественных и нехудожественных коммуникациях глубоко отлично, и самый факт настойчивого отождествления проблем специфики языка того или иного вида искусства с ценностью передаваемой на нем информации настолько широко распространен, что не может оказаться случайным. Всякий естественный язык состоит из знаков, характеризуемых наличием определенного внеязыкового содержания, и синтагматических элементов, содержание которых не только воспроизводит внеязыковые связи, но и в значительной мере имеет имманентный, формальный характер. Правда, между этими группами языковых фактов существует постоянное взаимопроникновение: с одной стороны, значимые элементы становятся служебными, с другой – служебные постоянно семантизируются (осмысление грамматического рода как содержательно-половой характеристики, категория одушевленности и т. д.). Однако процесс диффузии здесь настолько незаметен, что оба аспекта вычленяются весьма четко. Иное дело в искусстве. Здесь, с одной стороны, проявляется постоянная тенденция к формализации содержательных элементов, к их застыванию, превращению в штампы, полному переходу из сферы содержания в условную область кода. Приведем единственный пример. Б. А. Тураев в своем очерке истории египетской литературы сообщает, что настенные изображения египетских храмов знают особый сюжет: рождение фараонов в виде строго повторяющихся эпизодов и сцен. Это – «галерея изображений, сопровождаемых текстом и представляющих древнюю композицию, составленную, вероятно, для царей V дин. и потом в стереотипной форме передававшуюся официально из поколения в поколение». Автор указывает, что «этой официальной драматической поэмой в ряде картин особенно охотно пользовались те, права которых на престол оспаривались»16, как, например, царица Хатшепсут, и сообщает замечательный факт: желая укрепить свои права, Хатшепсут приказала поместить на стенах Дейр-эль-Бахри изображение своего рождения. Но при этом изменение, соответствующее полу царицы, было внесено лишь в подпись. Само же изображение осталось строго традиционным и представляло рождение мальчика. Оно полностью формализовалось, и информационной была не отнесенность изображения ребенка к реальному прототипу, а сам факт помещения или непомещения в храме художественного текста, связь которого с данной царицей устанавливалась лишь посредством подписи. С другой стороны, стремление осмыслить все в художественном тексте как значимое настолько велико, что мы с основанием считаем, что в произведении нет ничего случайного. И мы еще будем неоднократно обращаться к глубоко обоснованному Р. Якобсоном17 утверждению о художественном значении грамматических форм в поэтическом тексте, равно как и к другим примерам семантизации формальных элементов текста в искусстве. Конечно, соотношение двух этих начал в разных исторических и национальных формах искусства будет различным. Но их наличие и взаимосвязь постоянны. Более того, если мы допустим два высказывания: «В произведении искусства все принадлежит художественному языку» – и: «В произведении искусства все является сообщением», – противоречие, в которое мы впадаем, будет только кажущимся. При этом естественно возникает вопрос: нельзя ли отождествить язык с формой художественного произведения, а сообщение – с содержанием, и не отпадает ли тогда утверждение, что структуральный анализ снимает дуализм рассмотрения художественного текста с точки зрения формы и содержания? Видимо, подобного отождествления не следует делать. Прежде всего потому, что язык художественного произведения – совсем не «форма», если вкладывать в это понятие представление о чем-то внешнем по отношению к несущему информационную нагрузку содержанию. Язык художественного текста в своей сущности является определенной художественной моделью мира и в этом смысле всей своей структурой принадлежит «содержанию» – несет информацию. Мы уже отмечали, что модель мира, создаваемая языком, более всеобща, чем глубоко индивидуальная в момент создания модель сообщения. Сейчас уместно сказать о другом: художественное сообщение создает художественную модель какого-либо конкретного явления – художественный язык моделирует универсум в его наиболее общих категориях, которые, будучи наиболее общим содержанием мира, являются для конкретных вещей и явлений формой существования. Таким образом изучение художественного языка произведений искусства не только дает нам некую индивидуальную норму эстетического общения, но и воспроизводит модель мира в ее самых общих очертаниях. Поэтому с определенных точек зрения информация, заключающаяся в выборе типа художественного языка, представляется наиболее существенной. Выбор писателем определенного жанра, стиля или художественного направления – тоже есть выбор языка, на котором он собирается говорить с читателем. Язык этот входит в сложную иерархию художественных языков данной эпохи, данной культуры, данного народа или данного человечества (в конце концов, с необходимостью возникает и такая постановка вопроса). При этом следует отметить одну существенную черту, к которой мы еще вернемся: язык данной науки является для нее единственным, связанным с особым, ей присущим, предметом и аспектом. Чрезвычайно плодотворная в большинстве случаев и возникающая в связи с интердисциплинарными проблемами перекодировка с одного языка нa другой или раскрывает в одном, как прежде казалось, объекте – объекты двух наук, или ведет к созданию новой области познания, с новым, ей присущим, метаязыком. Естественный язык в принципе допускает перевод. Он закреплен не за объектом, а за коллективом. Однако внутри себя он уже имеет определенную иерархию стилей, позволяющую содержание одного и того же сообщения изложить с разных прагматических точек зрения. Построенный таким образом язык моделирует не только определенную структуру мира, но и точку зрения наблюдателя. В языке искусства с его двойной задачей одновременного моделирования и объекта и субъекта происходит постоянная борьба между представлением о единственности языка и о возможности выбора между в какой-то мере адекватными художественными коммуникативными системами. На одном полюсе стоит размышление, волновавшее еще автора «Слова о полку Игореве»: петь ли песнь «по былинам сего времени» или «по замышлению Баяна», на другом – утверждение Достоевского: «Я даже верю, что для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме»18. Противоположность и этих высказываний, в сущности, мнимая: там, где существует лишь один возможный язык, не возникает проблемы соответствия – несоответствия его моделирующей сущности авторской модели мира. Моделирующая система языка в этом случае не обнажена. Чем больше потенциальная возможность выбора, тем более информации несет в себе сама структура языка и тем резче обнажается соотнесенность ее с той или иной моделью мира. И вот потому, что язык искусства моделирует наиболее общие аспекты картины мира – ее структурные принципы – в целом ряде случаев именно он и будет основным содержанием произведения, может стать его сообщением – текст замкнется на себе. Так бывает во всех случаях литературных пародий, полемик – в тех случаях, когда художник определяет самый тип отношения к действительности и основные принципы его художественного воспроизведения. Таким образом, язык искусства не может быть отождествлен с традиционным понятием формы. Более того, используя тот или иной естественный язык, язык искусства делает его формальные стороны содержательными. Наконец, необходимо рассмотреть еще один аспект отношения языка и сообщения в искусстве. Представим себе два портрета Екатерины II: парадный, кисти Левицкого, и бытовой, изображающий императрицу в царскосельском парке, написанный Боровиковским. Для современников-царедворцев чрезвычайно существенным было сходство портрета с известной им внешностью императрицы. То, что на обоих портретах изображено одно и то же лицо, составляло для них основное сообщение, разница в трактовке, специфика художественного языка – волновала только людей, посвященных в тайны искусства. Для нас навсегда утрачен интерес, который имели эти портреты в глазах людей, видавших Екатерину II, зато на первый план выдвигается разница художественной трактовки. Информационная ценность языка и сообщения, данных в одном и том же тексте, меняется в зависимости от структуры читательского кода, его требований и ожиданий. Однако подвижность и взаимосвязь этих двух начал особенно резко проявляется в другом. Прослеживая процесс функционирования художественного произведения, мы не можем не отметить одну особенность: в момент восприятия художественного текста мы склонны ощущать и многие аспекты его языка в качестве сообщения – формальные элементы семантизируются, то, что присуще общекоммуникационной системе, войдя в специфическую структурную целостность текста, воспринимается как индивидуальное. В талантливом произведении искусства все воспринимается как созданное ad hoc. Однако в дальнейшем, войдя в художественный опыт человечества, произведение, для будущих эстетических коммуникаций, все становится языком, и то, что было случайностью содержания для данного текста, становится кодом для последующих. Н. И. Новиков еще в середине XVIII века писал: «Меня никто не уверит и в том, чтобы Мольеров Гарпагон писан был на общий порок. Всякая критика, писанная на лицо, по прошествии многих лет обращается в критику на общий порок; осмеянной по справедливости Кащей со временем будет общий подлинник всех лихоимцев»19. Понятие языка словесного искусства Если пользоваться понятием «язык искусства» в том значении, которое мы ему условились придавать выше, то очевидно, что художественная литература, как один из видов массовой коммуникации, должна обладать своим языком. «Обладать своим языком» – это значит иметь определенный замкнутый набор значимых единиц и правил их соединения, которые позволяют передавать некоторые сообщения. Но литература уже имеет дело с одним из типов языков – естественным языком. Как соотносятся «язык литературы»20 и тот естественный язык, на котором произведение написано (русский, английский, итальянский или любой другой)? Да и есть ли этот «язык литературы», или достаточно разделить содержание произведения («сообщение»; ср. наивный читательский вопрос: «Про что там?») и язык художественной литературы как функционально-стилистический пласт общенационального естественного языка? Чтобы уяснить себе этот вопрос, поставим перед собой следующую весьма тривиальную задачу. Выберем следующие тексты: группа I – картина Делакруа, поэма Байрона, симфония Берлиоза; группа II – поэма Мицкевича, фортепианные пьесы Шопена; группа III – поэтические тексты Державина, архитектурные ансамбли Баженова. Теперь зададимся целью, как это уже неоднократно делалось в различных этюдах по истории культуры, представить тексты внутри каждой из групп как один текст, сводя их к вариантам некоторого инвариантного типа. Таким инвариантным типом для первой группы будет «западноевропейский романтизм», для второй – «польский романтизм», для третьей – «русский предромантизм». Само собой разумеется, что можно поставить перед собой задачу описать все три группы как единый текст, введя абстрактную модель инварианта второй ступени. Если мы поставим перед собой такую задачу, то нам, естественно, придется выделить некоторую коммуникативную систему – «язык» – сначала для каждой из этих групп, а затем и для всех трех вместе. Предположим, что описание этих систем будет производиться на русском языке. Ясно, что в данном случае он выступит как метаязык описания (оставляем в стороне вопрос о некорректности подобного описания, поскольку неизбежно моделирующее влияние метаязыка на объект), но сам описываемый «язык романтизма» (или любой из частных его подъязыков, соответствующий указанным трем группам) не может быть отождествлен ни с одним из естественных языков, поскольку будет пригоден для описания и несловесных текстов. Между тем полученная таким образом модель языка романтизма будет приложима и к литературным произведениям и на определенном уровне сможет описывать систему их построения (на уровне, общем для словесных и несловесных текстов). Но необходимо рассмотреть, как относятся к естественному языку те структуры, которые создаются внутри словесных художественных конструкций и не могут быть перекодированы на языки несловесных искусств. Художественная литература говорит на особом языке, который надстраивается над естественным языком как вторичная система. Поэтому ее определяют как вторичную моделирующую систему. Конечно, литература – не единственная вторичная моделирующая система, но рассмотрение ее в этом ряду увело бы нас слишком далеко в сторону от нашей непосредственной задачи. Сказать, что у литературы есть свой язык, не совпадающий с ее естественным языком, а надстраивающийся над ним, – значит, сказать, что литература имеет свою, только ей присущую систему знаков и правил их соединения, которые служат для передачи особых, иными средствами не передаваемых сообщений. Попробуем это доказать. В естественных языках сравнительно легко выделяются знаки – устойчивые инвариантные единицы текста – и правила синтагматики. Знаки отчетливо разделяются на планы содержания и выражения, между которыми существует отношение взаимной необусловленности, исторической конвенциональности. В словесном художественном тексте не только границы знаков иные, но иное и само понятие знака. Нам уже приходилось писать, что знаки в искусстве имеют не условный, как в языке, а иконический, изобразительный характер21. Положение это, очевидное для изобразительных искусств, применительно к словесным влечет за собой ряд существенных выводов. Иконические знаки построены по принципу обусловленной связи между выражением и содержанием. Поэтому разграничение планов выражения и содержания в обычном для структурной лингвистики смысле делается вообще затруднительным. Знак моделирует свое содержание. Понятно, что в этих условиях в художественном тексте происходит семантизация внесемантических (синтаксических) элементов естественного языка. Вместо четкой разграниченности семантических элементов происходит сложное переплетение: синтагматическое на одном уровне иерархии художественного текста оказывается семантическим на другом. Но тут следует напомнить, что именно синтагматические элементы в естественном языке отмечают границы знаков и членят текст на семантические единицы. Снятие оппозиции «семантика – синтактика» приводит к размыванию границ знака. Сказать: все элементы текста суть элементы семантические – означает сказать: понятие текста в данном случае идентично понятию знака. В определенном отношении это так и есть: текст есть целостный знак, и все отдельные знаки общеязыкового текста сведены в нем до уровня элементов знака. Таким образом каждый художественный текст создается как уникальный, ad hoc сконструированный знак особого содержания. Это на первый взгляд противоречит известному положению о том, что только повторяемые элементы, образующие некоторое замкнутое множество, могут служить передаче информации. Однако противоречие здесь кажущееся. Во-первых, как мы уже отмечали, созданная писателем окказиональная структура модели навязывается читателю уже как язык его сознания. Окказиональность заменяется универсальностью. Но дело не только в этом. «Уникальный» знак оказывается «собранным» из типовых элементов и на определенном уровне «читается» по традиционным правилам. Всякое новаторское произведение строится из традиционного материала. Если текст не поддерживает памяти о традиционном построении, его новаторство перестает восприниматься. Образующий один знак, текст одновременно остается текстом (последовательностью знаков) на каком-либо естественном языке и уже поэтому сохраняет разбиение на слова – знаки общеязыковой системы. Так возникает то характерное для искусства явление, согласно которому один и тот же текст при приложении к нему различных кодов различным образом распадается на знаки. Одновременно с превращением общеязыковых знаков в элементы художественного знака протекает и противоположный процесс. Элементы знака в системе естественного языка: фонемы, морфемы – становясь в ряды некоторых упорядоченных повторяемостей, семантизируются и становятся знаками. Таким образом, один и тот же текст может быть прочтен как некоторая образованная по правилам естественного языка цепочка знаков, как последовательность знаков более крупных, чем членение текста на слова, вплоть до превращения текста в единый знак, и как организованная особым образом цепочка знаков более дробных, чем слово, вплоть до фонем. Правила синтагматики текста также связаны с этим положением. Дело не только в том, что семантические и синтагматические элементы оказываются взаимообратимыми, но и в другом: художественный текст выступает и как совокупность фраз, и как фраза, и как слово одновременно. В каждом из этих случаев характер синтагматических связей различен. Первые два случая не нуждаются в комментариях, зато на последнем следует остановиться. Будет ошибочным полагать, что совпадение границ знака с границами текста снимает проблему синтагматики. Рассмотренный таким образом текст может распадаться на знаки и соответственно синтагматически организовываться. Но это будет не синтагматика цепочки, а синтагматика иерархии – знаки будут связаны, как куклы-матрешки, вкладываемые одна в другую. Подобная синтагматика вполне «реальна для построения художественного текста, и если она непривычна для лингвиста, то историк культуры легко найдет ей параллели, например в структуре мира, увиденного глазами Средневековья. Для мыслителя Средневековья мир – не совокупность сущностей, а сущность, не фраза, а слово. Но это слово иерархически состоит из отдельных, как бы вложенных друг в друга слов. Истина не в количественном накоплении, а в углублении (надо не читать много книг – много слов, – а вчитываться в одно слово, не накоплять новые знания, а толковать старые). Из сказанного вытекает, что словесное искусство хотя и основывается на естественном языке, но лишь с тем, чтобы преобразовать его в свой – вторичный – язык, язык искусства. А сам этот «язык искусства» – сложная иерархия языков, взаимно соотнесенных, но не одинаковых. С этим связана принципиальная множественность возможных прочтений художественного текста. С этим же, видимо, связана недоступная никаким другим – нехудожественным – языкам смысловая насыщенность искусства. Искусство – самый экономный и компактный способ хранения и передачи информации. Но искусство обладает и другими свойствами, которые вполне достойны привлечь внимание специалиста-кибернетика, а со временем, может быть, и инженера-конструктора. Обладая способностью концентрировать огромную информацию на «площади» очень небольшого текста (ср. объем повести Чехова и учебника психологии), художественный текст имеет еще одну особенность: он выдает разным читателям различную информацию – каждому в меру его понимания, он же дает читателю язык, на котором можно усвоить следующую порцию сведений при повторном чтении. Он ведет себя как некоторый живой организм, находящийся в обратной связи с читателем и обучающий этого читателя. Вопрос о том, какими средствами это достигается, должен волновать не только гуманитара. Достаточно себе представить некоторое устройство, построенное аналогичным образом и выдающее научную информацию, чтобы понять, что раскрытие природы искусства как коммуникационной системы может произвести переворот в методах хранения и передачи информации. О множественности художественных кодов Художественная коммуникация обладает одной интересной особенностью: обычные виды связи знают только два случая отношений сообщения на входе и выходе канала связи – совпадение или несовпадение. Второе приравнивается ошибке и возникает за счет «шума в канале связи» – разного рода обстоятельств, препятствующих передаче. Естественные языки страхуют себя от искажений механизмом избыточности – своеобразным запасом семантической прочности́2. Вопрос о том, как обстоит дело с избыточностью в художественном тексте, пока не является предметом нашего рассмотрения. В данной связи нас интересует другое: между пониманием и непониманием художественного текста оказывается очень обширная промежуточная полоса. Разница в толковании произведений искусства – явление повседневное и, вопреки часто встречающемуся мнению, проистекает не из каких-либо привходящих и легко устранимых причин, а органически свойственно искусству. По крайней мере, видимо, именно с этим свойством связана отмеченная выше способность искусства коррелировать с читателем и выдавать ему именно ту информацию, в которой он нуждается и к восприятию которой подготовлен. Здесь прежде всего следует остановиться на одном принципиальном различии между естественными языками и вторичными моделирующими системами художественного типа. В лингвистической литературе получило признание положение Р. Якобсона о разделении правил грамматического синтеза (грамматика говорящего) и грамматики анализа (грамматика слушающего). Аналогичный подход к художественной коммуникации раскрывает ее большую сложность. Дело в том, что воспринимающему текст в целом ряде случаев приходится не только при помощи определенного кода дешифровывать сообщение, но и устанавливать, на каком «языке» закодирован текст. При этом приходится различать следующие случаи: I. а) Воспринимающий и передающий пользуются одним общим кодом – общность художественного языка безусловно подразумевается, новым является лишь сообщение. Таковы все художественные системы «эстетики тождества». Каждый раз ситуация исполнения, тематика и другие внетекстовые условия безошибочно подсказывают слушателю единственно возможный художественный язык данного текста. б) Разновидностью этого случая будет восприятие современных массовых штампованных текстов. Здесь также действует общий код для передающего и принимающего текст. Но если в первом случае – это условие художественной коммуникации и в качестве такового подчеркивается всеми средствами, то во втором случае автор стремится замаскировать этот факт – он придает тексту ложные признаки другого штампа или сменяет один штамп другим. В этом случае читателю, прежде чем получить сообщение, предстоит выбрать из имеющихся в его распоряжении художественных языков тот, которым кодирован текст или его часть. Сам выбор одного из известных кодов создает дополнительную информацию. Однако величина ее незначительна, поскольку список, из которого делается выбор, всегда сравнительно невелик. II. Иным является случай, когда слушающий пытается расшифровывать текст, пользуясь иным кодом, чем его создатель. Здесь также возможны два типа отношений. а) Воспринимающий навязывает тексту свой художественный язык. При этом текст подвергается перекодировке (иногда даже разрушению структуры передающего). Информация, которую стремится получить воспринимающий, – это еще одно сообщение на уже известном ему языке. В этом случае с художественным текстом обращаются как с нехудожественным. б) Воспринимающий пытается воспринять текст по уже знакомым ему канонам, но методом проб и ошибок убеждается в необходимости создания нового, ему еще неизвестного кода. При этом происходит ряд интересных процессов. Воспринимающий вступает в борьбу с языком передающего и может быть в этой борьбе побежден: писатель навязывает свой язык читателю, который усваивает его себе, делает его своим средством моделирования жизни. Однако практически, видимо, чаще в процессе усвоения язык писателя деформируется, подвергается креолизации с языками, уже имеющимися в арсенале сознания читателя. Тут возникает существенный вопрос: у этой креолизации, видимо, есть свои избирательные законы. Вообще теория смешения языков, существенная для лингвистики, видимо, должна сыграть огромную роль при изучении читательского восприятия. Интересен и другой случай: отношение между случайным и системным в художественном тексте для передающего и принимающего имеет различный смысл. Получая некоторое художественное сообщение, по тексту которого еще предстоит выработать код для его дешифровки, воспринимающий строит определенную модель. При этом могут возникать системы, которые будут организовывать случайные элементы текста, придавая им значимость. Так, при переходе от передающего к принимающему количество значимых структурных элементов может возрастать. Это один из аспектов такого сложного и до сих пор еще малоизученного явления, как способность художественного текста накапливать информацию. О величине энтропии художественных языков автора и читателя Проблема соотношения синтетического художественного кода автора и аналитического – читателя имеет еще один аспект. И тот и другой коды представляют собой иерархическое построение большой сложности. Дело усложняется еще и тем, что один и тот же реальный текст может на разных своих уровнях подчиняться различным кодам (этот достаточно частый случай мы для простоты в дальнейшем изложении вообще не рассматриваем). Для того чтобы акт художественной коммуникации вообще произошел, необходимо, чтобы код автора и код читателя образовывали пересекающиеся множества структурных элементов, – например, чтобы читателю был понятен естественный язык, на котором написан текст. Непересекающиеся части кода и составляют ту область, которая деформируется, креолизуется или любым другим способом перестраивается при переходе от писателя к читателю. Желательно указать на одно обстоятельство: в последнее время предпринимаются попытки подсчета энтропии художественного текста и, следовательно, определения величины информации. При этом следует указать на следующее: в популяризаторских работах порой возникает смешение количественного понятия величины информации и качественного – его ценности. Между тем это вещи глубоко различные. Вопрос: «Есть ли бог?» – дает возможность выбора одного из двух. Предложение выбрать блюдо в меню хорошего ресторана даст возможность исчерпать значительно большую энтропию. Свидетельствует ли это о большей ценности полученной вторым способом информации? Видимо, вся поступающая в сознание человека информация организуется в определенную иерархию, и подсчет количества ее имеет смысл лишь внутри уровней, ибо только в этих условиях соблюдается однородность составляемых факторов. Вопрос же о том, каким образом образуются и как классифицируются эти ценностные иерархии, относится к типологии культуры и должен быть исключен из настоящего изложения. Таким образом, подходя к подсчетам энтропии художественного текста, следует избегать смешения: а) энтропии авторского и читательского кода, б) энтропии различных уровней кода. Интересующая нас проблема была впервые выдвинута академиком А. Н. Колмогоровым, заслуги которого в деле построения современной поэтики вообще исключительно велики. Ряд высказанных А. Н. Колмогоровым идей лег в основу работ его учеников и в основном обусловил современное направление лингво-статистических изучений в советской поэтике наших дней23. Школа А. Н. Колмогорова прежде всего поставила и решила задачу строго формального определения ряда исходных понятий стиховедения. Затем на обширном статистическом материале были изучены вероятности появления определенных ритмических фигур в непоэтическом (нехудожественном) тексте, равно как и вероятности различных вариаций внутри основных типов русской метрики. Поскольку эти метрические подсчеты неизменно давали двойные характеристики: явлений основного фона и отклонений от него (фон общеязыковой нормы и поэтическая речь как индивидуальный случай; среднестатистические нормы русского ямба и вероятности появления отдельных разновидностей и т. п.), появлялась возможность оценить информационные возможности той или иной разновидности стихотворной речи. Этим, в отличие от стиховедения 20-х годов, ставился вопрос о содержательности метрических форм и одновременно делались шаги к измерению этой содержательности методами теории информации. Это, естественно, привело к задаче изучения энтропии поэтического языка. А. Н. Колмогоров пришел к выводу, что энтропия языка (Н) складывается из двух величин: определенной смысловой емкости (h1) – способности языка в тексте определенной длины передать некоторую смысловую информацию, и гибкости языка (h2) – возможности одно и то же содержание передать некоторыми равноценными способами. При этом именно h2 является источником поэтической информации. Языки с h2 = 0, например искусственные языки науки, принципиально исключающие возможность синонимии, материалом для поэзии быть не могут. Поэтическая речь накладывает на текст ряд ограничений в виде заданного ритма, рифмы, лексических и стилистических норм. Измерив, какая часть способности нести информацию расходуется на эти ограничения (она обозначается буквой ß), А. Н. Колмогоров сформулировал закон, согласно которому поэтическое творчество возможно лишь до тех пор, пока величина информации, расходуемой на ограничения, не превышает ß < h2 – гибкости текста. На языке с ß ≥ h2 поэтическое творчество невозможно. Применение А. Н. Колмогоровым теоретико-информационных методов к поэтическому тексту открыло возможность точных измерений художественной информации. При этом следует отметить чрезвычайную осторожность исследователя, многократно предостерегавшего от чрезмерного увлечения пока еще довольно скромными результатами математико-статистического, теоретико-информационного, в конечном итоге – кибернетического изучения поэзии. «Большинство приводимых в кибернетических работах примеров моделирования на машинах процессов художественного творчества поражает своей примитивностью (компилирование мелодий из отрывков по четыре-пять нот, взятых из нескольких десятков введенных в машину известных мелодий, и т. п.). В некибернетической литературе формальный анализ художественного творчества уже давно достиг высокого уровня. Внесение в эти исследования идей теории информации и кибернетики может принести большую пользу. Но реальное продвижение в этом направлении требует существенного повышения уровня гуманитарных интересов и знаний в среде работников в области кибернетики»24. Выделение А. Н. Колмогоровым трех основных компонентов энтропии словесного художественного текста: разнообразия возможного в пределах данной длины текста содержания (исчерпание его создает общеязыковую информацию), разнообразия различного выражения одного и того же содержания (исчерпание его создает собственно художественную информацию) и формальных ограничений, наложенных на гибкость языка и уменьшающих энтропию второго типа, имеет самое фундаментальное значение. Однако современное состояние структуральной поэтики позволяет предположить, что отношения между этими тремя компонентами значительно более диалектически сложны. Во-первых, следует отметить, что представление о поэтическом творчестве как о выборе одного из возможных вариантов изложения заданного содержания с учетом определенных ограничивающих формальных правил (а именно это представление чаще всего кладется в основу кибернетических моделей творческого процесса) страдает известной упрощенностью. Предположим, что поэт творит именно этим способом. Как известно, это далеко не всегда так25. Но и в этом случае если для создателя текста исчерпывается энтропия гибкости языка (h2), то для воспринимающего дело может обстоять совсем иным образом. Выражение для него становится содержанием – он воспринимает поэтический текст не как один из возможных, а как единственный и неповторимый. Поэт знает, что он мог написать иначе, – для читателя в тексте, воспринимаемом как художественно совершенный, случайного нет. Читателю свойственно считать, что иначе не могло быть написано. Энтропия h2 воспринимается как h1, как расширение круга того, о чем можно сказать в пределах данной длины текста. Читатель, ощущающий необходимость поэзии, видит в ней не средство сказать в стихах то, о чем можно сообщить и прозой, а способ изложения особой истины, не конструируемой вне поэтического текста. Энтропия гибкости языка переходит в энтропию разнообразия особого поэтического содержания. А формула Н = h1 + h2 приобретает вид: Н = h1 + h'1 (разнообразие общеязыкового содержания плюс специфически поэтическое содержание). Попытаемся объяснить, что это значит. Понимая, что модель А. Н. Колмогорова не имеет целью воспроизводить процесс индивидуального творчества, который, конечно, протекает интуитивно и многими, трудно определяемыми путями, а дает лишь общую схему тех резервов языка, за счет которых происходит создание поэтической информации, попытаемся интерпретировать ее в свете того бесспорного факта, что структура текста с точки зрения адресанта по типу отличается от подхода к этому вопросу адресата художественного сообщения. Итак, предположим, что писатель, исчерпывая смысловую емкость языка, строит некоторую мысль, а за счет исчерпания гибкости языка выбирает синонимы для ее выражения. При этом писатель действительно обладает свободой замены слов или частей текста другими, семантически адекватными им. Достаточно взглянуть на черновики многих писателей, чтобы увидать этот процесс замены слов их синонимами. Однако, с точки зрения читателя, картина представляется иной: читатель считает, что предложенный ему текст (если речь идет о совершенном произведении искусства) единственно возможный – «из песни слова не выкинешь». Замена в тексте того или иного слова дает для него не вариант содержания, а новое содержание. Доводя эту тенденцию до идеальной крайности, можно сказать, что для читателя нет синонимов. Зато для него значительно расширяется смысловая емкость языка. Стихами можно говорить о том, для чего у нестихов нет средств выражения. Простое повторение слова несколько раз делает его неравным самому себе. Таким образом, гибкость языка (h2) переходит в некую дополнительную смысловую емкость, создавая особую энтропию «поэтического содержания». Но поэт и сам является слушателем своих стихов и может писать их, руководствуясь сознанием слушателя. Тогда для него возможные варианты текста перестают быть адекватными с точки зрения содержания: он семантизирует фонологию, рифму, созвучия слов подсказывают избираемый вариант текста, развитие сюжета приобретает самостоятельность, как кажется автору, не зависимую от его воли. Это побеждает читательская точка зрения, воспринимающая все детали текста содержательно. Читатель, в свою очередь, может встать на «авторскую» точку зрения (исторически это часто бывает в культурах с массовым распространением поэзии, когда и читатель – поэт). Он начинает ценить виртуозность и склонен к h1→h'2 (воспринимать и общеязыковое содержание текста лишь как предлог преодоления поэтических трудностей). Можно сказать, что в предельном случае в поэтическом языке любое слово может стать синонимом любого. Если у Цветаевой в стихе «Там нет тебя – и нет тебя» – «нет тебя» не синоним, а антоним своему повторению, то у Вознесенского синонимами оказываются «спасибо» и «спасите». Поэт (как и вообще художник) не только «описывает» какой-то эпизод, который является одним из множества возможных сюжетов, в совокупности составляющих вселенную, – все универсальное множество тем и аспектов. Этот эпизод становится моделью всего универсума, заполняет его своей единственностью, и тогда все другие возможные сюжеты, которые автор не избрал, – это не рассказы о других уголках мира, а другие модели той же вселенной, то есть сюжетные синонимы реализованного в тексте эпизода. Формула приобретает такой вид: H = h2 + h'2
(В. Маяковский).