Проклятые короли: Негоже лилиям прясть. Французская волчица бесплатное чтение
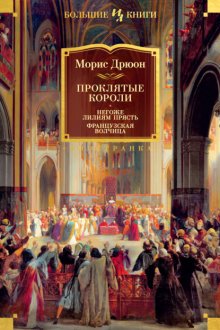
Maurice Druon
LA LOI DES MÂLES
Copyright © 1966 by Maurice Druon, Librairie Plon et Editions Mondiales
LA LOUVE DE FRANCE
Copyright © 1966 by Maurice Druon, Librairie Plon et Editions Mondiales
Published by arrangement with Lester Literary Agency & Associates
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».
© Н. М. Жаркова (наследник), перевод, 1979, 2023
© Ю. В. Дубинин (наследник), перевод, 1979, 2023
© Л. Н. Ефимов, перевод примечаний, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Иностранка®
Дрюон – лучший исторический романист Франции со времен Александра Дюма… В «Проклятых королях» есть все: железные короли и задушенные королевы, битвы и измены, ложь и похоть, обманы, семейные соперничества, проклятие тамплиеров, дети-подменыши, оборотни, грех и мечи, роковая судьба великой династии, и все это (ну, почти все) – подлинные исторические события. Уверяю вас, Старкам и Ланнистерам до Капетингов и Плантагенетов очень и очень далеко. От саг Дрюона вы не сможете оторваться: «Проклятые короли» – это и есть оригинальная игра престолов.
Джордж Р. Р. Мартин
Я хочу еще раз выразить горячую признательность Пьеру де Лакретелю, Жоржу Кесселю, Мадлен Мариньяк за ценную помощь, которую они оказали мне во время работы над этими томами; хочу также выразить свою благодарность бригадному генералу Л. Ф. Е. Уайлеру, кавалеру ордена Бани 3-й степени, кавалеру ордена Британской империи 2-й степени, майору и коменданту-резиденту лондонского Тауэра, который направлял меня при изучении этого монумента, равно как и м-ру Дж. А. Ф. Томпсону из Оксфордского Бэлиол-колледжа, который любезно согласился проконтролировать главы «Французской волчицы», касающиеся истории Англии; и как всегда, поблагодарить работников Национальной библиотеки и Национальных архивов за необходимое содействие моим изысканиям.
М. Д.
Негоже лилиям прясть
Государю надобно иметь суждение, готовое кружиться вместе с ветрами удачи… по возможности не отдаляться от добра, но и уметь прибегнуть ко злу, если необходимо.
Макиавелли
Пролог
В течение 327 лет, другими словами, со времени избрания Гуго Капета вплоть до смерти Филиппа Красивого, на французском троне сменилось всего лишь одиннадцать королей, и каждый оставлял после себя сына, будущего наследника престола.
Словно сама судьба благословила эту династию, вызывавшую всеобщее удивление, на длительное царствование, и казалось, ему не будет конца! Из одиннадцати королей мы можем назвать лишь двоих, чье владычество длилось менее пятнадцати лет.
Эта редкостная в истории непрерывность в отправлении власти и передаче ее прямому наследнику способствовала зарождению национального единства, более того, предопределила это единство.
Феодальные связи, связь как таковая вассала с сюзереном, связь более слабого с более сильным постепенно сменялась иной связью, иным договором, объединившим всех членов этого обширного сообщества, которое столетиями управлялось одним и тем же законом, равно было подвержено одним и тем же превратностям.
Если идея нации еще только завоевывала умы, то самый принцип ее, ее воплощение уже существовали в лице короля, который был высшим источником власти и высшим ее прибежищем. Тот, кто говорил «король», подразумевал Францию.
И всю свою долгую жизнь Филипп Красивый усердно старался укрепить это нарождавшееся единство с помощью сильной централизации всего административного аппарата, систематически пресекая всяческие происки, шли ли они из чужих краев или от его подданных.
Но вскоре после кончины Железного короля за ним сошел в могилу его сын Людовик Сварливый. Народ не мог не увидеть – и увидел – перст судьбы в этих двух смертях, последовавших одна за другой и подкосивших обоих государей во цвете лет.
Людовик Х Сварливый процарствовал всего восемнадцать месяцев, шесть дней и десять часов. Впрочем, и в этот недолгий срок незадачливый монарх успел почти окончательно загубить дело рук своего отца. Во время царствования Людовика была убита его первая жена Маргарита и казнен первый министр отца; голод опустошил Францию, две провинции взбунтовались, целая армия увязла во фландрской грязи. Высшая знать вновь повела наступление на прерогативы королевской власти; реакция стала всемогущей, а казна оскудела.
Людовик Х вступил на престол в тот период, когда католический мир не имел папы; он скончался, когда папа еще не был избран и христианский мир находился на пороге раскола.
И вот Франция осталась без короля.
Ибо от брака с Маргаритой Бургундской Людовик Х имел единственную пятилетнюю дочь – Жанну Наваррскую, которая, по мнению многих, была незаконного происхождения. Королеву Клеменцию Людовик оставил в тягости, и можно было лишь уповать на появление законного наследника, ибо только через пять месяцев она должна была разрешиться от бремени. В довершение всего открыто утверждали, что Сварливый был отравлен.
Ничего не было предпринято для назначения регента, и в ожесточенной борьбе за власть яростно столкнулись личные притязания. В Париже звание регента оспаривал граф Валуа. В Дижоне – герцог Бургундский, родной брат удушенной Маргариты, вожак мощной баронской лиги, решивший отомстить за смерть сестры и ставший таким образом поборником прав малолетней племянницы. В Лионе граф Пуатье, брат Сварливого, старался разрушить козни кардиналов и тщетно добивался решения конклава. Фламандцы не стали мешкать и, воспользовавшись благоприятной обстановкой, вновь взялись за оружие, а сеньоры графства Артуа продолжали вести гражданскую войну.
Разве не достаточно было всего этого, чтобы воскресить в памяти народной то проклятие, которое бросил два года тому назад Великий магистр ордена тамплиеров из пламени костра? И неудивительно, что в ту суеверную эпоху люди в первую неделю июня 1316 года задавали себе вопрос: уж не навек ли проклят род Капетингов?
Часть первая
ФИЛИПП ЗАПРИ ВОРОТА
Глава I
Белая королева
Траурное одеяние королев – белое.
Белого цвета косынка из тонкой ткани, плотно облегающая шею, скрывает подбородок чуть ли не до самых губ и оставляет открытой лишь середину лица; белого цвета длинная вуаль спускается на лоб и брови; волочится по земле белое платье, рукава туго схвачены у запястий. Вот это-то одеяние, сродни монашескому облачению, надела на себя – и, вероятно, навсегда – королева Клеменция Венгерская, оставшаяся вдовой на двадцать третьем году и прожившая в браке с королем Людовиком Х всего лишь десять месяцев.
Отныне никто не увидит более ни прелестных ее золотых волос, ни совершенного овала лица, навсегда померкнет эта лучезарная безмятежность взгляда, этот блеск оживления, который поражал всех ее знавших и прославил на века красоту Клеменции.
Застывшее, как маска, узенькое, трогательное личико, полускрытое ослепительно-белой косынкой, носило следы ночей, проведенных без сна, и следы слез, пролитых днем. Даже взгляд и тот изменился; казалось, он ни на чем не задерживается, лишь скользит по людям и вещам. Уже сейчас королева словно превратилась в надгробие собственной могилы.
И все же под складками белого одеяния зрела новая жизнь. Клеменция ждала ребенка, и ни на минуту ее не оставляла упорная, как наваждение, мысль, что ее супругу не довелось увидеть свое дитя.
«Хоть бы до его рождения дожил Людовик, – думала она. – Еще пять месяцев, всего пять месяцев! Как бы он обрадовался, особенно сыну… И почему не понесла я в нашу первую брачную ночь!..»
Королева обернулась к графу Валуа, который, переваливаясь, как каплун, шагал по комнате.
– Но за что, дядюшка, за что могли его так злодейски отравить, почему? – допытывалась она. – Разве не делал он людям добро, всем, кому мог? Почему вы всегда стараетесь увидеть людское коварство там, где проявляет себя лишь воля Господня?
– Зато только вы одна приписываете воле Господней деяние, которое скорее следует приписать козням сатаны, – отрезал Карл Валуа.
Большеносый, широкоскулый, румяный, с округлым брюшком, в черном капюшоне с высоким гребнем, сбитым на одно плечо, в черном бархатном кафтане с серебряными застежками, сшитом полтора года назад для похорон родного брата, короля Филиппа Красивого, его высочество Валуа прибыл к королеве прямо из Сен-Дени, где он присутствовал при погребении своего племянника Людовика X. Впрочем, на сей раз при исполнении траурного обряда возникли кое-какие осложнения, ибо впервые с тех пор, как был установлен церемониал королевских похорон, герольды, провозгласив: «Король умер!», не смогли добавить: «Да здравствует король!», так как никто не знал, перед кем, перед каким новым властелином следует совершить символические жесты, предусмотренные ритуалом.
– Пустое, вы сломите свой жезл передо мной, – посоветовал Валуа первому камергеру усопшего короля, Матье де Три. – Я старший в семье и лучше других подхожу к этой роли.
Но его единокровный брат, граф д’Эврё, возразил против подобного новшества, догадываясь, что Карл выдвинул этот аргумент с целью добиться регентства.
– Старший в нашей семье, если только вы употребили это слово в его подлинном значении, это вовсе не вы, Карл, – заметил граф д’Эврё. – Как известно, наш дядя Робер Клермонский доводится родным сыном Людовику Святому. Неужели вы забыли, что он еще здравствует?
– Вы сами знаете, что бедняга Робер давно лишился рассудка. Разве можно хоть в чем-то полагаться на эту сумасбродную голову! – возразил Валуа, пожав плечами.
Так или иначе, в конце поминального обеда, устроенного в аббатстве, первый камергер сломал жезл – символ своего высокого ранга – перед пустым стулом…
– Разве Людовик не творил милостыню? Разве не простил он многих узников? – твердила Клеменция, словно стараясь убедить саму себя. – Он был великодушен, поверьте мне… А если он и грешил, то каялся…
Вряд ли стоило сейчас оспаривать добродетели, коими королева украшала покойного своего супруга, чей образ неотступно стоял у нее перед глазами! И все-таки Карл Валуа не сумел скрыть раздражение.
– Знаю, племянница, знаю, что вы оказывали на Людовика самое благотворное влияние, знаю, что он действительно был великодушен… в отношении вас, – отозвался Валуа. – Но нельзя царствовать только с помощью молитв или даров, которыми осыпают близких. И одним покаянием не потушить порожденную тобою же ненависть.
«Так вот каков Карл, – печально думала Клеменция. – При жизни Людовика Карл приписывал себе все заслуги монарха, а теперь во что бы то ни стало стремится отрицать их. И меня, меня не сегодня завтра попрекнут теми дарами, что делал мне Людовик. Я опять стала для них чужеземкой…»
Но Клеменция была слишком слаба, слишком разбита, чтобы вознегодовать. Вслух она лишь произнесла:
– Никогда не поверю, что Людовика ненавидели настолько, что решились его отравить…
– Ну и не верьте, племянница, – вскричал Карл, – однако такова истина! Первое тому доказательство – тот самый пес, что лизнул белье, в которое заворачивали внутренности короля при бальзамировании. Ведь пес издох через час. Далее…
Клеменция прикрыла глаза и схватилась за подлокотники кресла, она испугалась, что потеряет сознание перед этой страшной картиной, которую так настойчиво рисовал ей Валуа. Неужели с такой холодной жестокостью говорят о ее муже, о короле, засыпавшем в ее объятиях, об отце ребенка, которого она носит под сердцем? К чему вызывать перед нею ужасное видение трупа, исполосованного ножом бальзамировщиков?!
А Карл Валуа по-прежнему не скупился на зловещие умозаключения. Когда же наконец замолчит он, этот суетливый, властный, честолюбивый толстяк, появляющийся то в голубом, то в алом, то в черном бархате во все решающие или роковые минуты жизни Клеменции с первого же дня ее приезда во Францию, и всякий раз лишь для того, чтобы поучать ее, оглушить потоком слов и заставить действовать против ее собственной воли? Еще в утро свадьбы в Сен-Лие дядюшка Валуа, которого до того Клеменция видела лишь мимолетно, чуть было не испортил торжественную церемонию, поспешив посвятить новобрачную в дворцовые интриги, так и оставшиеся ей непонятными… Перед взором Клеменции возник Людовик, несущийся ей навстречу по дороге из Труа… сельская церковь, комнатка в маленьком замке, наспех убранная под брачные покои… «Достаточно ли я насладилась своим счастьем? Нет, ни за что не заплачу перед ним!» – решила про себя Клеменция.
– Кто виновник чудовищного злодеяния? – продолжал Валуа. – Этого мы пока еще не знаем, но мы его найдем, племянница, торжественно клянусь вам… если, конечно, мне дадут эту возможность. Мы, короли…
Карл Валуа любил при каждом удобном и неудобном случае напомнить, что он тоже носил две короны, правда носил чисто символически, но это ставило его на равную ногу с владыками мира сего.
– …Мы, короли, имеем врагов, не личных наших врагов, а тех, кто враждебен нашим предначертаниям; и поверьте, немало людей были заинтересованы в том, чтобы сделать вас вдовой. Во-первых, существуют тамплиеры, чей орден, к великому сожалению, уничтожили. Впрочем, я об этом сотни раз говорил!.. Они образовали тайную лигу и поклялись сгубить моего брата и его сыновей. Брат мой скончался, и старший его сын последовал за ним! Затем не забудьте римских кардиналов… Вспомните-ка, что кардинал Каэтани пытался напустить порчу на Людовика и вашего деверя Пуатье, хотел, чтобы их обоих вынесли вперед ногами. Дело открылось, но Каэтани вполне мог отыскать какой-нибудь иной способ сразить их. Что вы хотите, нельзя безнаказанно свергать папу с престола святого Петра, как это сделал мой брат Филипп, и рассчитывать, что этот акт не вызовет озлобления! Возможно также, сторонники герцога Бургундского были возмущены карой, постигшей Маргариту, и не могут примириться с тем, что вы заняли ее место…
Клеменция взглянула прямо в глаза Карлу Валуа, который смутился и даже слегка покраснел. Он сам был причастен, и не в малой мере, к убийству Маргариты. И он понял, что Клеменция это знает; очевидно, Людовик по неосторожности доверился ей…
Но Клеменция продолжала хранить молчание: она по-прежнему избегала разговоров на эту тему. Ей казалось, что и на ней лежит вина, пусть даже невольная. Ибо ее супруг, благородное сердце которого она так превозносила, задушил тем не менее свою первую жену, чтобы жениться на ней, на племяннице Неаполитанского короля. Так нужно ли после этого искать иных причин для постигшей их кары Господней?
– Есть еще графиня Маго, ваша соседка, – поспешно добавил Валуа, – а она из тех женщин, которые не отступят перед преступлением, даже самым злодейским…
«А чем же тогда она отличается от вас? – подумала Клеменция, не смея высказать свою мысль вслух. – Здесь, при французском дворе, на мой взгляд, не долго раздумывают, прежде чем убить».
– …А ведь еще месяца не прошло, как Людовик, желая смирить графиню Маго, отобрал у нее графство Артуа.
Тут Клеменции подумалось, что уж не граф ли Валуа, перечисливший с добрый десяток возможных убийц, был виновником преступления. Но она сама испугалась этой мысли, в сущности не подкрепленной никакими разумными доводами. Нет, она решительно запрещает себе любые подозрения; ей так хочется, чтобы Людовик умер естественной смертью… И однако, взгляд Клеменции невольно устремился через открытое окно к густой листве Венсеннского леса, туда, где чуть южнее стоял замок Конфлан, летняя резиденция графини Маго… За несколько дней до кончины Людовика Маго вместе со своей дочерью, графиней Пуатье, нанесла Клеменции визит, самый любезный визит. Клеменция ни на минуту не оставляла их одних. Они восхищались гобеленами в ее спальне…
«Что может быть унизительнее, чем видеть в каждом приближенном обманщика, – думала Клеменция, – на каждом лице читать измену…»
– Вот почему, дражайшая племянница, – продолжал Валуа, – вам следует вернуться в Париж, о чем я вас и прошу. Вы знаете, как я люблю вас. Я устроил ваш брак. Ваш покойный батюшка был моим шурином. Прислушайтесь же к моим словам, как к словам своего батюшки, если бы Бог сохранил нам его. А вдруг рука, сразившая Людовика, захочет распространить свое мщение на вас и на плод вашей любви, который вы носите под сердцем? Я не могу оставить вас здесь, в лесу, беззащитную против происков злодеев, и только тогда я буду спокоен, ежели вы поселитесь поблизости от меня.
Вот уже целый час Валуа пытался вынудить у Клеменции согласие перебраться во дворец Сите, ибо он сам решил там поселиться. Это переселение входило в его планы: так ему легче будет заставить признать себя регентом и поставить Совет пэров перед свершившимся фактом. Кто хозяин дворца Сите, тот как бы наполовину король. Но если он поселится во дворце один, без королевы Клеменции, это будет похоже на переворот и на узурпацию. Если же Валуа, напротив, въедет во дворец Сите вслед за своей племянницей как самый близкий ее родич и покровитель, никто не посмеет возразить. Ныне чрево королевы – верный залог престижа и наиболее действенное, если так можно выразиться, орудие власти.
Клеменция повернула голову, как бы желая испросить совета у молчаливого свидетеля их беседы, который стоял в нескольких шагах от королевы, держа скрещенные руки на эфесе длинной шпаги.
– Что мне делать, Бувилль? – шепнула она.
Юг де Бувилль, бывший первый камергер Филиппа Красивого, на первом же Совете, собравшемся после смерти Людовика, был назначен хранителем чрева королевы. Дородный, уже наполовину седой, но еще подвижный для своего возраста, славный Бувилль, верно прослужив тридцать лет королям Франции, отнесся к своему новому назначению не только всерьез, но чуть ли не трагически. Тщательно проверив отобранных для этой цели дворян, он создал надежную охрану, и стражи группами в двадцать четыре человека в очередь дежурили у дверей, ведущих в королевские покои. Сам он нацепил все свои воинские доспехи и в этот жаркий июньский день безбожно обливался потом под стальной кольчугой. Крепостные стены, дворы, все подступы к Венсенну были забиты лучниками. За каждым слугой, подававшим на стол, ходил по пятам стражник. Даже придворных дам обыскивали, прежде чем допустить их к королеве. Никогда еще так тщательно не охраняли живого человека, как охраняли сейчас эту жизнь, дремавшую во чреве королевы Франции.
Бувилль формально делил свои обязанности с престарелым сиром де Жуанвилем, назначенным вторым хранителем чрева; о нем вспомнили лишь потому, что в то время он как раз оказался в Париже, куда наезжал с неукоснительной старческой аккуратностью дважды в год за получением пенсиона, выплачиваемого ему при всех трех сменившихся на троне королях, а также за особым пособием, назначенным ему в связи с канонизацией Людовика Святого. Но сенешалю Шампани шел ныне девяносто третий год; в силу своего преклонного возраста он считался старейшиной высшей знати Франции. Полуслепой старик был сверх меры утомлен этим путешествием в столицу из своего замка Васси в верховьях Марны, и большую часть времени он мирно дремал в обществе двух своих конюших, тоже седобородых старцев. Естественно, все заботы выпали на долю одного Бувилля.
Для королевы Клеменции с образом Юга де Бувилля были связаны самые дорогие ее сердцу воспоминания. Ведь Бувилль был послан просить ее руки от имени французского короля, и он же сопровождал ее в пути из Неаполя во Францию. Он был без лести преданным поверенным ее тайн и, возможно, единственным ее верным другом среди французского двора. Бувилль сразу понял, что Клеменции не хочется покидать Венсенн.
– Ваше высочество, – обратился он к Валуа, – мои обязанности стража мне сподручнее выполнять здесь, в этом замке, обнесенном надежными стенами, нежели в Сите, где большой дворец открыт для каждого. А если вы опасаетесь соседства графини Маго, то, коль скоро меня держат в курсе всего происходящего в округе, разрешите сообщить вам, что как раз в эту минуту ее добро грузят на повозки, ибо она тотчас направляется в Париж.
Карл Валуа с видимой досадой выслушал это сообщение; его раздражало, что влияние Бувилля так выросло с тех пор, как он стал хранителем чрева; бывший камергер не покидал королеву ни днем ни ночью, да и сейчас торчал здесь, опираясь на шпагу.
– Мессир Юг, – высокомерно произнес Карл, – вам поручили охранять чрево, а не решать такие важные вопросы, как местопребывание королевской фамилии, и уж тем паче вас не уполномочивали защищать единолично все государство.
Бувилля не смутила эта отповедь.
– Разрешите напомнить вам, ваше высочество, – сказал он, – что королева не может показываться на людях раньше сорокового дня после похорон.
– Неужели, дражайший, вы полагаете, что я хуже вас знаю наши обычаи! Откуда вы взяли, что королева должна кому-то показываться? Мы доставим ее в Париж в закрытом возке… И неужели, племянница, – воскликнул он, поворачиваясь к Клеменции, – вы считаете, что я хочу загнать вас на край света, во владения Великого хана! Вы же сами знаете, что от Парижа до Венсенна не две тысячи лье!
– Поймите меня, дядюшка, – слабо возразила Клеменция, – Венсеннский замок – последний дар Людовика, здесь мы жили с супругом до его смерти. Он пожаловал мне это жилище, вы сами присутствовали при этом, – она указала на двери покоев, где скончался Людовик X, – и выразил волю, дабы я жила здесь… Да и мне все кажется, что он еще не совсем покинул этот замок. Поймите, ведь здесь мы…
Но его высочество Валуа был лишен способности вникать в такие мелочи, как власть воспоминаний и поэзия скорби.
– Ваш супруг, за душу коего мы возносим молитвы, отныне принадлежит прошлому государства. А вы, племянница, вы носите под сердцем его будущее. Подвергая опасности вашу жизнь, вы подвергаете опасности и жизнь вашего дитяти. Людовик, который смотрит на вас с небес, никогда не простил бы вам этого.
Удар попал прямо в цель, и Клеменция молча поникла в кресле.
Но Бувилль заявил, что вопрос такой важности не может быть решен без участия сира де Жуанвиля, и послал за ним слугу. Присутствующие молча ждали его появления. Наконец дверь открылась, но им снова пришлось ждать. Не сразу появился последний сподвижник Людовика Святого; в длинном одеянии, какое носили еще во времена Крестовых походов, он с трудом переступил порог дрожащими, плохо повиновавшимися ногами. Лицо его было все в бурых пятнах и походило на кору векового дуба, выцветшие глаза слезились. Двое конюших, столь же дряхлых, как и их господин, поддерживали его с обеих сторон. Старца усадили с величайшими предосторожностями, и Валуа принялся излагать ему свои проекты насчет местожительства королевы. Сир де Жуанвиль внимательно слушал, сокрушенно покачивал головой, видимо гордясь тем, что его наконец призвали к решению дел государственной важности. Когда же Валуа замолк, сенешаль погрузился в раздумье, которое никто не посмел нарушить; все напряженно ждали, когда с этих старческих уст сорвутся вещие слова. И вдруг старик спросил:
– А где же король?
Валуа досадливо поморщился. Время не терпит, а тут изволь тратить силы на этого старика! Да понял ли сенешаль хоть одно слово из красноречивых доводов Карла?
– Полноте, мессир Жуанвиль, король скончался, – пояснил он, – и нынче утром мы предали его земле. Вы отлично знаете, что вас назначили хранителем чрева…
Сенешаль нахмурил лоб и сделал мучительное усилие, чтобы понять и вспомнить. Такие провалы памяти были для него не в диковинку; диктуя свои знаменитые «Мемуары», восьмидесятилетний старец слово в слово повторял в конце второй части то, что уже было сказано в начале первой…
– Ох, наш государь Людовик… – пробормотал он наконец. – Скончаться таким молодым… Я еще ему преподнес свою знаменитую книгу[1]. А знаете, я уже четвертого короля хороню.
Эти слова он произнес таким тоном, будто речь шла о личных его заслугах.
– Но ежели король скончался, королева должна стать регентшей, – объявил он.
Валуа побагровел. А он-то старался, чтобы в хранители чрева выбрали этих двух – юродивого и тупицу, надеясь, что ими будет легко вертеть; но тонкий этот расчет обернулся против него самого: именно они и чинят ему препятствия.
– Королева не может быть регентшей, мессир сенешаль, она в тягости! – крикнул Валуа. – Как же она может быть регентшей, если неизвестно еще, родится король или нет?! Взгляните сами, в состоянии ли она править государством!
– Вы же знаете, что я ничего не вижу, – ответил старик.
Прижав ладонь ко лбу, Клеменция думала лишь об одном: «Когда же они кончат препираться? Когда оставят меня в покое?»
А Жуанвиль принялся рассказывать, при каких условиях после смерти короля Людовика VIII королева Бланка Кастильская, к великой радости подданных, взяла на себя бремя управления страной.
– Мадам Бланка Кастильская… конечно, вслух об этом не говорили… не совсем отвечала тому образу беспорочности, каковой создала молва… И говорят даже, что граф Тибо де Шампань, добрый приятель мессира моего отца, служил ей верой и правдой также и на ложе…
Приходилось терпеливо слушать. Если сенешаль сегодня забывал то, что произошло вчера, зато он в мельчайших подробностях помнил то, что ему довелось слышать в детстве. Наконец-то он нашел аудиторию, и он не желал упускать счастливого случая. По-стариковски дрожащими руками он непрерывно разглаживал свое шелковое одеяние, туго натянутое на острых коленях.
– И даже когда наш святой государь отправился в Крестовый поход, где вместе с ним был и я…
– Королева в его отсутствие правила Парижем, если не ошибаюсь, – прервал разглагольствования старца Карл Валуа.
– Да, да, – залопотал старик.
Первой сдалась Клеменция.
– Будь по-вашему, дядюшка, – произнесла она, – я покорюсь вашей воле и перееду в Сите.
– Мудрое решение, и, надеюсь, мессир де Жуанвиль вполне его одобрит.
– Да… да…
– Сейчас пойду распоряжусь. Ваш поезд будет возглавлять мой сын Филипп и наш кузен Робер Артуа.
– Спасибо, дядюшка, большое спасибо, – проговорила Клеменция, чувствуя, что ее покидают силы. – А сейчас прошу вас, как милости, дайте мне помолиться в одиночестве.
Через час во исполнение приказа графа Валуа мирный Венсеннский замок пробудился ото сна. Из каретных сараев выкатывали повозки; кнуты конюхов прохаживались по мощным крупам коней, взращенных в Перше. Слуги суетливо бегали взад и вперед; лучники, отложив в сторону оружие, взялись помогать конюхам. Впервые после кончины короля люди, говорившие чуть ли не шепотом, обрадовались поводу покричать. Если бы и впрямь какому-нибудь злодею пришла мысль посягнуть на жизнь королевы, вряд ли ему представилась бы более благоприятная минута.
А в самом замке орудовала целая армия обойщиков; снимали со стен гобелены, скатывали ковры, выносили поставцы, столики и кофры. Свита королевы, ее придворные дамы наспех складывали свои пожитки. Первым поездом рассчитывали отправить двадцать карет, но придется сделать не меньше двух ездок, чтобы переправить все это добро.
Клеменция Венгерская в длинном белом одеянии, к которому она еще не привыкла, бродила по покоям замка в сопровождении верного Бувилля. Повсюду пыль, запах пота, суетня, похожая на грабеж, – неизбежные спутники любого переезда. Казначей со списком в руках наблюдал за упаковкой посуды и ценных предметов, которые снесли по его распоряжению в залу и разложили на полу; здесь были блюда, кувшины для воды, дюжина золоченых кубков – дар Людовика Клеменции, а также огромная рака из чистого золота, содержащая частицу Креста Господня, – сооружение столь увесистое, что слуга, кряхтя, сгибался под его тяжестью, словно и впрямь шел на Голгофу.
В покоях королевы главная кастелянша Эделина, бывшая любовница Людовика X, еще до его первого брака с Маргаритой, распоряжалась укладкой носильных вещей.
– К чему… к чему таскать с собой все эти платья, раз все равно мне их никогда не носить! – проговорила Клеменция.
Да и все эти драгоценности, запертые в тяжелые железные лари, эти перстни, эти редчайшие камни, которые щедро дарил ей Людовик в дни их недолгого супружества, и они тоже теперь ни к чему. Даже три короны, усыпанные изумрудами и жемчугом, слишком массивны, слишком роскошны, и не подобает вдове носить их. Отныне единственным ее украшением, да и то по истечении траура, будет гладкий золотой обруч с узором из лилий, надетый поверх белой вуали.
«Вот и я стала белой королевой, как моя бабушка, Мария Венгерская, – подумала Клеменция. – Но бабушке тогда было больше шестидесяти лет, и она дала жизнь тринадцати отпрыскам… А мой супруг так никогда и не увидит своего…»
– Мадам, – обратилась к ней Эделина, – следовать ли мне за вами во дворец? Никаких распоряжений я не получила.
Клеменция взглянула на эту белокурую красавицу, которая, забыв свою ревность, была ей надежным подспорьем все эти последние месяцы, и особенно во время агонии Людовика. «Он имел от нее дитя и отнял у нее дочку, заточил ее в монастырь… Неужто и за этот проступок нас карает Господь?» Ей казалось, что все злые поступки, совершенные Людовиком до их брака, тяжелым бременем легли ей на плечи и именно ей суждено искупить их ценою своих собственных мук. Впереди у нее целая жизнь, и слезами, молитвой и милостыней она успеет испросить у Бога прощение за грехи, отягчавшие душу Людовика.
– Нет, Эделина, нет, – прошептала она. – Не надо следовать за мной. Пусть хоть кто-нибудь, кто его любил, останется здесь.
И после этих слов, отослав даже верного Бувилля, она удалилась в соседние апартаменты, где царило спокойствие, единственные, которые пощадила общая суматоха, в ту самую залу, где скончался ее супруг.
От спущенных занавесей в комнате стоял полумрак. Клеменция преклонила колена у ложа, прижалась губами к парчовому покрывалу.
Вдруг она отчетливо услышала какой-то странный звук, будто кто-то скреб ногтем по ткани. Ее охватил страх, и страх этот показал королеве, что еще не окончательно угасло в ее душе желание жить. Она застыла на месте, боясь вздохнуть. А где-то позади все слышалось это непонятное царапанье. Клеменция пугливо оглянулась. Это оказался сенешаль де Жуанвиль, которого привели в королевские покои, и здесь, забившись в угол комнаты, он терпеливо ждал отъезда в Париж.
Глава II
Кардинал, не верящий в ад
Июньская ночь начала бледнеть; узенькая серая полоска, прочертившая на востоке небосвод, предвещала близкую зарю, скоро она зальет своим сиянием город Лион.
Был тот час, когда из близлежащих сел тянутся в город повозки с овощами и фруктами, когда смолкает уханье сов, не сменившееся еще чириканьем воробьев, и в этот именно час за узкими окошками парадных покоев аббатства Эне размышлял о смерти кардинал Жак Дюэз.
С юных лет кардинал не испытывал потребности в долгом сне, а с годами и вовсе разучился спать. Ему вполне хватало трех часов сна. После полуночи он подымался с постели и усаживался перед письменным прибором. Человек острого ума, поразительных знаний во всех областях, он писал трактаты по теологии, праву, медицине и алхимии, получившие признание духовенства и ученых мужей того времени.
В ту пору, когда любой – будь то последний бедняк или могущественный владыка – мечтал о золоте алхимиков, люди много говорили о трудах кардинала Дюэза, трактующих о создании эликсиров, способных вызвать трансмутацию металлов.
«Для приготовления сего эликсира три вещи потребны, – писал кардинал в своем труде, озаглавленном «Эликсир философов», – и суть они семь металлов, семь элементов и многое прочее… Семь металлов суть солнце, луна, медь, олово, свинец, железо и ртуть; семь элементов суть серебро, сода, аммиачная соль, трехсернистый мышьяк, окись цинка, магнезия, марказит; а прочее – ртуть, кровь человеческая, кровь из волос и мочи, а моча должна быть тоже человеческая…»
В семьдесят два года кардинал вдруг обнаружил, что остались еще кое-какие области знаний, по поводу коих он не успел высказать своего суждения, и, пока ближние его мирно почивали, творил в ночной тишине. Он один изводил больше свечей, чем вся святая обитель со всеми ее монахами.
Долгими ночами он трудился также над обширной корреспонденцией, которую вел со множеством прелатов, аббатов, легистов, ученых, канцлеров и царствующих особ всей Европы. Секретарь и переписчики Дюэза обнаруживали поутру плоды его ночных бдений, которые они переписывали потом набело весь божий день.
Или, изучая гороскоп своих соперников по конклаву, он сравнивал его со своим собственным гороскопом, вопрошая небесные светила, дабы в расположении их прочесть ответ на вопрос, увенчает ли его чело папская тиара. По расположению небесных светил выходило, что наиболее благоприятный срок для того – начало августа и начало сентября нынешнего года. Однако сейчас уже было десятое июня, а туман все еще не рассеялся…
А потом наступал самый мучительный час – час предрассветный. И как бы предчувствуя, что он покинет земную юдоль именно в эти минуты, кардинал испытывал какой-то смутный страх, какое-то томление духа и тела. И чем неодолимей была телесная слабость, тем чаще возвращался он мыслью к совершенным поступкам. Память разворачивала перед ним картины необычной судьбы, его собственной судьбы… Сын башмачника из города Кагора, проживший в безвестности до того возраста, когда большинство его сверстников уже завершали свою карьеру, он, казалось, начал жить только на сорок четвертом году, нежданно-негаданно попав по торговым делам вместе со своим дядей в Неаполь. Путешествие, жизнь на чужбине, открывшая ему Италию, – все это повлияло на Дюэза самым странным образом. Буквально через несколько дней после прибытия в Неаполь он сделался учеником наставника королевских детей и набросился на изучение отвлеченных предметов со страстью, с исступлением, с необычной легкостью усваивая сложнейшие дисциплины и так легко запоминая услышанное, что ему в этом отношении мог бы позавидовать самый одаренный подросток. Он без труда переносил и голод, и бессонницу. Ломоть хлеба составлял всю его пищу в течение целого дня, и, если бы его заточили в темницу, он прижился бы и в узилище, при том, конечно, условии, что ему доставляли бы вдоволь книг. Вскоре он сделался доктором канонического права, затем права гражданского, вслед за чем пришла известность. Королевский двор в Неаполе охотно советовался с клириком из Кагора.
На смену жажде знаний пришла жажда власти. Советник короля Карла II Анжу-Сицилийского (деда королевы Клеменции), затем секретарь тайного совета, обладатель множества церковных бенефиций, он через десять лет после своего прибытия в Италию был назначен епископом Фрежюсским и вскоре стал отправлять обязанности канцлера Неаполитанского королевства, другими словами, стал первым министром государства, включавшего в себя Южную Италию и графство Прованское.
Само собой, такой сказочный взлет не мог совершиться только благодаря юридическим и богословским талантам епископа Фрежюсского, особенно в той атмосфере интриг, которая царила при неаполитанском дворе. Один факт, известный лишь немногим – ибо то была церковная тайна, – свидетельствовал, что Дюэз обладает также достаточной долей коварства и хладнокровием, граничащим с наглостью.
Несколько месяцев спустя после смерти Карла II Дюэз был послан со специальной миссией к папскому двору, как раз в то время, когда Авиньонская епархия – наиболее влиятельная во всем христианском мире, ибо там находился Святой престол, – пустовала. Будучи канцлером, а следовательно, и хранителем печати, Дюэз не колеблясь написал письмо папе от имени нового неаполитанского короля Роберта, в котором тот якобы просил назначить Жака Дюэза в Авиньонскую епархию. Произошло это в 1310 году. Климент V, стремясь обеспечить себе поддержку Неаполя в эти смутные времена, когда отношения папского престола с королем Франции Филиппом Красивым были достаточно натянутыми, не замедлил удовлетворить эту просьбу. Мошенничество Дюэза открылось при личной встрече папы Климента с королем Робертом, когда оба не могли скрыть удивления, – первый потому, что его даже не поблагодарили за столь великую милость, а второй потому, что считал это неожиданное назначение чересчур бесцеремонным, поскольку его лишили канцлера. Но было уже поздно. Не желая устраивать бесполезного скандала, король Роберт Неаполитанский закрыл глаза на все и предпочел не рвать с человеком, занявшим в церковной иерархии одно из самых высоких мест. Это оказалось всем на руку. Теперь Дюэз был кардиналом курии, и его труды изучали в университетах.
Но как ни удивительна судьба человека, она кажется таковой лишь посторонним, тем, кто смотрит на нее со стороны. Для самого же человека безразлично, прожил ли он жизнь, заполненную до краев или безнадежно пустую, тревожную или спокойную; любой минувший день погребен в прошлом – в прошлом, прах и пепел коего одинаково весят на любой ладони.
К чему весь этот пыл, притязания, эта кипучая деятельность, коль скоро все это неизбежно низвергается в потусторонность, о коей самым высоким умам и самым изощренным наукам не дано знать ничего, кроме невразумительных письмен? Стоит ли жаждать папского престола? А не разумнее ли удалиться в монастырь, отрешившись от земной суеты? Совлечь с себя гордыню знаний, равно как и тщету власти… Обрести смирение самой простодушной веры… готовиться к небытию… Но даже подобные рассуждения становились в голове кардинала Дюэза умозрительными и отвлеченными построениями, а страх смерти превращался в юридический спор с небесами.
«Ученые мужи уверяют нас, – думал он в это утро, – что души праведных после кончины тотчас же удостаиваются блаженного лицезрения Господа, что и служит им наградой. Возможно, возможно… Но после светопреставления, когда воскресшие к жизни тела соединятся со своими душами, всех нас ждет Страшный суд. А ведь Бог, который само совершенство, не может пересматривать свои собственные приговоры. Не может Бог совершить ошибку и изгнать из рая избранных им праведников. Впрочем, не закономерно ли, что душа должна ликовать от созерцания Господа лишь в тот момент, когда, соединившись с телом, она сама становится совершенной по своей природе? А раз так… раз так, ученые мужи заблуждаются… А раз так, то не может быть, собственно говоря, ни вечного блаженства, ни созерцания лика Божьего раньше светопреставления, и Бог даст нам себя лицезреть лишь после Страшного суда. Но где же до тех пор находятся души умерших? Не придется ли нам ждать sub altare dei[2], у того самого алтаря Господня, о котором говорит в „Апокалипсисе“ святой Иоанн?»
Стук лошадиных копыт – явление необычное в столь ранний час – раздался у стен аббатства; копыта четко цокали по маленьким круглым валунам, которыми были вымощены главные улицы Лиона. Кардинал на миг рассеянно прислушался, затем вновь углубился в свои рассуждения, которые вели к поистине неожиданным выводам.
«…Ибо, если рай пуст, – думал он, – это коренным образом меняет положение тех, кого мы считаем святыми или присноблаженными… Но то, что верно в отношении душ праведных, так же верно и в отношении душ грешников. Господь Бог не будет карать злых раньше, чем вознаградит добрых. Ведь работник получает свою плату лишь в конце дня; точно так же и в конце света доброе семя и плевелы будут окончательно отделены друг от друга. Ни одна душа ныне не обитает в аду, коль скоро она еще не осуждена. Другими словами, ада пока не существует…»
Такое положение вселяет бодрость в тех, кто размышляет о смерти; оно отодвигает час расплаты, не лишая надежды на жизнь вечную, и как нельзя лучше соответствует тому представлению, какое имеет о смерти большинство людей: в их понятии смерть – это падение в беспросветную бездну безмолвия, это полнейшее отсутствие сознания.
Бесспорно, если бы подобная доктрина была публично проповедуема с церковных кафедр, она вызвала бы самый решительный отпор среди ученых мужей церкви и смутила бы бесхитростную веру народа… Да и кандидату на папский престол, пожалуй, негоже утверждать, что рай и ад необитаемы или вовсе не существуют[3].
«Подождем лучше конца конклава», – решил кардинал.
Ход его мыслей был прерван стуком в дверь – это брат привратник пришел доложить кардиналу о прибытии гонца из Парижа.
– А кем он послан? – осведомился кардинал.
Голос у Дюэза был глухой, тихий, монотонный, но говорил он внятно.
– От графа Бувилля, – пояснил брат привратник. – Должно быть, гнал всю дорогу, потому что сейчас еле на ногах стоит; пока я ходил за ключами и отпирал дверь, он успел задремать, прислонившись лбом к косяку.
– Введите его немедленно.
И кардинал, который всего лишь пять минут назад размышлял о тщете мирских притязаний, подумал без всякого перехода: «А вдруг он послан насчет избрания папы? А вдруг двор Франции сошелся во мнениях и открыто назовет мое имя? Или же мне хотят предложить какую-либо сделку?..»
Он поднялся с места, волнуемый любопытством и надеждами, и зашагал по комнате мелкими быстрыми шажками. Ростом и хрупким телосложением Дюэз напоминал пятнадцатилетнего мальчика, личико у него было крысиное, брови очень густые и совсем седые.
Небо за окнами порозовело; свечи гасить еще было рано, но все-таки это уже рассвет, заря. Зловещий час суток миновал…
Вошел приезжий; с первого же взгляда кардинал определил, что перед ним не обычный гонец. Во-первых, настоящий гонец прежде всего упал бы на колени и вручил ящичек с посланием, а этот остался стоять, правда преклонив голову, и произнес: «Монсеньор!» И во-вторых, французский королевский двор обычно отправлял свои послания с дюжими молодцами, как, например, с детиной Робэн-Кюис-Мариа, частенько курсировавшим между Парижем и Авиньоном. А перед Дюэзом стоял востроносый юноша, у которого слипались веки и которого даже качало от усталости. «По-моему, не иначе как маскарад… – подумал Дюэз. – Впрочем, я где-то уже видел это лицо».
Маленькой, сухонькой ручкой он разорвал конверт, ломая печати, и сразу же почувствовал разочарование. Речь шла отнюдь не о предстоящем избрании папы, а просто содержала просьбу оказать посланному покровительство. Однако кардиналу хотелось видеть в этом благоприятное предзнаменование; когда Париж нуждается в услуге духовных властей, обращаются все-таки к нему, к Дюэзу.
– Allora, lei é il signore Guccio Baglioni?[4] – спросил он, прочитав послание.
Юноша даже вздрогнул, услышав итальянскую речь.
– Да, монсеньор…
– Граф Бувилль рекомендует вас мне, просит взять вас под свое покровительство и защитить от преследования ваших недругов.
– О, если бы вы оказали мне эту милость, монсеньор!
– Похоже, что вы попали в какую-то скверную историю, раз вынуждены были бежать в одежде гонца, – продолжал кардинал глухим, невыразительным голосом. – Расскажите мне, что произошло. Бувилль пишет, что вы находились в свите королевы Клеменции, когда она направлялась во Францию. Ага, припоминаю теперь, там-то я вас и видел… И вы племянник мессира Толомеи, главного капитана парижских ломбардцев. Чудесно, чудесно. Расскажите-ка вашу историю.
Он уселся и стал машинально вертеть вращающийся пюпитр, на котором лежали книги, необходимые для его научных трудов. Сейчас, когда кардинала отпустили ночные страхи, он чувствовал себя спокойным и не прочь был отвлечься чужими делами.
Гуччо Бальони меньше чем за четыре дня проскакал сто двадцать лье и во всем теле чувствовал усталость от бешеной скачки. Ноги ему не повиновались, в голове стоял туман, застилая взор, и он отдал бы все блага мира, лишь бы лечь, растянуться вот здесь, прямо на полу и спать… спать…
Однако ему удалось стряхнуть с себя сонное оцепенение; ради собственной безопасности, ради своей любви, ради будущего он обязан побороть усталость, продержаться хотя бы еще несколько минут.
– Так вот, монсеньор, я женился на девице знатного рода, – произнес он.
Гуччо показалось, что слова эти произнес не он, а кто-то другой. И вовсе не эти слова собирался он сказать. Ему хотелось объяснить кардиналу, что на него обрушилась неслыханная беда, что он самый несчастный, самый жалкий человек во всей вселенной, что жизнь его в опасности, что он, возможно, навеки разлучен со своей женой, а жизни без нее он не мыслит, что его жену вот-вот заточат в монастырь, что в эту последнюю неделю с ними произошли такие ужасные события, налетевшие с такой жестокой внезапностью, что само время как бы прервало свой обычный ход, и что он, Гуччо, уже не принадлежит к числу живых… Но вся его трагедия, когда о ней пришлось рассказывать, свелась к коротенькой фразе: «Монсеньор, я женился на девице знатного рода».
– Вот оно в чем дело, – пробормотал Дюэз. – А как ее имя?
– Мари де Крессе.
– Крессе, Крессе… Не слыхал.
– Но мне пришлось венчаться тайком, семья была против нашего брака.
– Потому что вы ломбардец? Так… так… Понятно. Во Франции еще придерживаются отсталых взглядов. В Италии, конечно… Итак, вы хотите добиться расторжения брака?.. Но… но ведь, коль скоро венчание происходило втайне…
– Да нет, монсеньор, я ее люблю, и она меня любит, – проговорил Гуччо. – Но ее семья узнала, что Мари в тягости, и братья бросились за мной в погоню, чуть меня не убили.
– Что ж, они в своем праве, закон, освященный обычаем, на их стороне. В их глазах вы просто соблазнитель… А кто вас венчал?
– Фра Винченцо.
– Фра Винченцо? Не слыхал.
– Хуже всего, монсеньор, что его убили. И я не могу даже доказать, что мы действительно обвенчаны. Не подумайте, монсеньор, что я трус. Я готов был с ними драться. Но дядя обратился к Бувиллю, а он…
– А он благоразумно посоветовал вам скрыться на время.
– Да, но ведь Мари заточат в монастырь! Скажите, монсеньор, вы могли бы ее оттуда вызволить? Скажите, увижу ли я ее вновь?
– Слишком много вопросов за один раз, дражайший сын мой, – ответил кардинал, продолжая вращать пюпитр. – Монастырь? А может статься, ей сейчас лучше побыть в монастыре? Уповайте на безграничное милосердие Господне.
Гуччо устало понурил голову. Его черные волосы были щедро припудрены дорожной пылью.
– А ваш дядя имеет дела с Барди? – осведомился кардинал.
– Конечно, монсеньор, конечно. Если не ошибаюсь, Барди – ваши банкиры, – добавил Гуччо только из вежливости, почти машинально.
– Да, они мои банкиры. Но, на мой взгляд, сейчас они не столь… не столь сговорчивы, как в былые времена… А ведь это весьма солидная компания! Повсюду у них есть свои отделения. А при малейшей просьбе им, видите ли, нужно сначала запросить Флоренцию. Словом, они столь же медлительны, как церковный суд… А среди клиентов вашего дядюшки есть прелаты?
Мыслями Гуччо был далек от всех банков мира. В голове сгущался туман, глаза жгло как огнем.
– Нет, большинство наших клиентов высокородные бароны, – ответил он. – Граф Валуа, граф Артуа… Мы были бы весьма польщены, монсеньор…
– Поговорим об этом потом. Сейчас вы находитесь в святой обители, под защитой ее стен. Для всех посторонних вы будете у меня в услужении. Пожалуй, лучше всего нарядить вас в сутану… Я потолкую об этом со своим капелланом. А пока скиньте-ка эту ливрею и почивайте с миром, ибо, по-моему, вам прежде всего необходимо хорошенько отдохнуть.
Гуччо поклонился, пробормотал что-то, желая поблагодарить кардинала, и направился к дверям. Но вдруг он остановился и проговорил:
– Я не могу пока скинуть эту ливрею, монсеньор; я должен передать еще одно поручение.
– Кому? – спросил Дюэз, сразу насторожившись.
– Графу Пуатье.
– Вручите послание мне, а я тотчас же направлю к графу брата служителя…
– Дело в том, монсеньор, что граф Бувилль очень настаивал…
– А не известно ли вам, имеет это послание какое-нибудь отношение к конклаву?
– Нет, монсеньор, оно послано в связи со смертью короля.
Кардинал даже подскочил в своем кресле.
– Как, король Людовик скончался? Но почему же вы до сих пор молчали?
– А разве здесь об этом не знают? Я думал, что вам, монсеньор, это уже известно.
Откровенно говоря, Гуччо вовсе так не думал. Его собственные беды, усталость как-то вытеснили из памяти это важнейшее событие. Он скакал и скакал от самого Парижа, меняя притомившихся лошадей в указанных ему монастырях, перехватывал на ходу кусок хлеба, не пускался ни с кем в разговоры и обогнал, сам того не подозревая, официальных гонцов.
– Отчего он скончался?
– Вот как раз это обстоятельство мессир Бувилль и поручил мне довести до сведения графа Пуатье.
– Злодеяние? – выдохнул шепотом Дюэз.
– Говорят, короля отравили.
Кардинал задумался.
– Это многое может изменить, – пробормотал он. – Регента уже назначили?
– Не знаю, монсеньор. Когда я уезжал, прошел слух, что назначат графа Валуа…
– Что ж, чудесно, дражайший сын мой, идите прилягте.
– Но, монсеньор, а как же быть с графом Пуатье?
Тонкие губы прелата тронула легкая улыбка, которую при желании можно было счесть знаком благоволения.
– Неосторожно было бы с вашей стороны показываться в городе, не говоря уже о том, что вы просто падаете с ног от усталости, – сказал он. – Давайте сюда послание, и, дабы вас ни в чем не могли упрекнуть, я сам передам его по адресу.
Несколько минут спустя кардинал курии, сопровождаемый, как требовалось по чину, слугой, несшим факел, и секретарем, покинул Энейское аббатство, находившееся между Роной и Соной, и отважно углубился в мрачные улочки, где приходилось порой шагать прямо по кучам нечистот. Этот семидесятидвухлетний иссохший старец на редкость легко нес свое щуплое тело, поспешая вперед подпрыгивающим шагом. Его пурпурное одеяние плясало, как огонек, среди темных стен.
Колокола двадцати церквей и сорока двух лионских монастырей зазвонили к заутрене. В этом городе, насчитывавшем в ту пору не более двадцати тысяч обитателей, для одной половины которых промыслом была религия, а для другой – религией был промысел, расстояние между любыми пунктами было невелико. Таким образом, кардинал быстро добрался до дома судьи, у которого остановился граф Пуатье.
Глава III
Ворота Лиона
Граф Пуатье заканчивал свой туалет, когда камергер доложил ему о визите кардинала.
Высокий, тощий, длинноносый, с тщательно зачесанными на лоб коротенькими прядями волос, спущенных локонами вдоль щек с нежной и свежей кожей, какая бывает только в двадцать три года, в домашнем платье из темной тафты[5], юный принц пошел навстречу монсеньору Дюэзу и почтительно облобызал его перстень.
Даже при желании трудно было бы найти двух более несхожих, до смешного различных людей, чем эти двое, из коих один напоминал старого хорька, вылезшего из своей норы, а другой – цаплю, величественно шествующую через болото.
– Несмотря на столь ранний час, ваше высочество, – начал кардинал, – я счел за благо не мешкая вознести за вас свои молитвы в постигшей вас утрате.
– Утрате? – повторил Филипп Пуатье, вздрогнув всем телом.
Первая мысль принца была о его супруге Жанне, оставшейся в Париже и ожидавшей через месяц разрешения от бремени.
– Я вижу, что поступил правильно, придя сюда, дабы известить вас о случившемся, – продолжал Дюэз. – Король, ваш брат, скончался пять дней тому назад.
Ничто не выдало чувств Филиппа, разве что судорожнее заходила грудь. Ни удивления, ни печали, ни даже нетерпения узнать подробности о смерти брата не отразилось на его лице.
– Я благодарен вам за ваше рвение, монсеньор, – проговорил он. – Но каким образом вам стала известна эта весть… раньше, чем мне?
– Мессир Бувилль срочно прислал гонца, дабы я втайне ото всех вручил вам это послание.
Граф Пуатье сломал печать и по примеру всех близоруких людей стал читать письмо, уткнувшись носом в пергамент. Но и сейчас ничто не выдало его чувств; окончив чтение, он сложил письмо и молча опустил его в карман.
Молчал и Дюэз с видом притворного сочувствия к горю принца, хотя, по всей видимости, принц не слишком скорбел.
– Да сохранит его Господь Бог от адских мук, – произнес наконец граф Пуатье, поняв, чего ждет от него прелат со своей постно-благочестивой миной.
– О… ад… – пробормотал Дюэз. – Помолимся вместе Творцу за душу покойного! Я сразу подумал о несчастной королеве Клеменции, ведь она выросла на моих глазах, когда я находился при короле Неаполитанском. Такая кроткая, такая прекрасная принцесса…
– Да, я глубоко жалею мою невестку, – отозвался Филипп.
А сам в это время думал: «Людовик не оставил посмертного распоряжения насчет регентства. Если судить по письму Бувилля, наш дядюшка Валуа уже начал действовать…»
– Что вы намереваетесь делать, ваше высочество? Срочно возвратитесь в Париж? – осведомился кардинал.
– Не знаю, сам еще не знаю, – ответил Филипп. – Подожду более подробных известий. Пусть моей особой располагает, как найдет нужным, королевство.
Бувилль в своем письме не скрыл, что приезд графа Пуатье был бы весьма желателен. Место Филиппа Пуатье, брата покойного короля и пэра Франции, – в Королевском совете, где на первом же заседании начались споры по поводу кандидатуры регента.
Но, с другой стороны, мысль о том, что придется покинуть Лион, не доведя до конца начатого дела, была не только огорчительна Филиппу Пуатье, но и просто невыносима.
Прежде всего ему надо было заключить брачный контракт между своей третьей дочерью Изабеллой, которой не исполнилось еще и пяти лет, и Вьеннским принцем-дофином, крошкой Гигом, уже достигшим шестилетнего возраста. Для переговоров об этом браке пришлось даже заглянуть в Верхнюю Вьенну к отцу жениха, дофину Иоанну II де ла Тур дю Пэну, женатому на Беатрисе, родной сестре королевы Клеменции. Прекрасный союз, благодаря которому французская корона сможет противостоять влиянию в этих краях Анжуйско-Сицилийской ветви. Подписание брачного контракта должно было состояться через несколько дней.
И главное, предстоят выборы папы. Вот уже несколько недель Филипп рыскал по всему Провансу, по Верхней Вьенне и окрестностям Лиона, повидался с каждым из двадцати четырех разбежавшихся кто куда кардиналов[6], уверил каждого, что случай, происшедший в Карпантра, не повторится, что к ним не применят более насилия; намекал то одному, то другому кардиналу, что именно у него есть шансы стать папой, взывал послужить делу веры к вящей славе католической церкви, интересам государства. В конце концов с помощью уговоров, неусыпных трудов и золота ему удалось собрать беглых кардиналов в Лионе, в городе, издревле находившемся под властью духовенства, но совсем недавно, в последние годы царствования Филиппа Красивого, перешедшем во владение французских королей.
Граф Пуатье чувствовал, что дело идет на лад. Но если он уедет в Париж, разве не придется начинать все сызнова, разве не разгорится опять вражда среди кардиналов, люто ненавидевших своих соперников, разве влияние римской знати или Неаполитанского короля не вытеснит здесь влияние французской короны, разве не станут разные партии обвинять друг друга в ереси? А что, если папский престол будет перенесен обратно в Рим? «Отец именно этого и опасался, – думал Филипп Пуатье. – И неужели дело его, которому и без того достаточно повредили Людовик и дядюшка Валуа, погибнет бесславно?»
Кардиналу Дюэзу показалось, что молодой принц совсем забыл о его присутствии. Вдруг Пуатье обратился к нему:
– Будет ли и сейчас гасконская партия поддерживать кандидатуру кардинала Пелагрю? И верите ли вы, что ваши благочестивые коллеги действительно склонны собраться наконец для выбора папы?.. Присядьте, монсеньор, и поведайте мне все ваши соображения на сей счет. В каком положении сейчас дела?
Немало повидал на своем веку старик-кардинал земных владык и правителей, недаром больше трети века он делил с ними заботы по управлению государством. Но ни разу он не встречал подобного самообладания. Вот он только что сообщил двадцатитрехлетнему принцу, что брат его скончался, что французский престол пустует, а принц сидит и разговаривает с таким видом, будто нет у него важнее заботы, чем кардинальские свары.
Усевшись бок о бок у окошка на ларе, покрытом парчой, они завели беседу. Коротенькие ножки кардинала не доставали до пола, а граф Пуатье не спеша покачивал своей тощей длинной ногой.
По словам Дюэза, все вернулось к исходной точке, к тому положению, которое создалось два года назад, после кончины папы Климента V.
Гасконская партия, куда входило десять кардиналов, именуемая также партией французской, по-прежнему была наиболее многочисленной, но все же ее сил было недостаточно для того, чтобы образовать без поддержки других партий большинство, поскольку требовалось, чтобы кандидат собрал две трети голосов священного конклава – другими словами, шестнадцать голосов. Гасконцы, считавшие себя прямыми хранителями заветов покойного папы, который и произвел их в кардиналы, упорно требовали, чтобы папский престол оставался в Авиньоне, и с поразительным единодушием выступали против двух других партий. Но и между ними шел глухой разлад; на папский престол притязал не только Арно де Пелагрю, но и Арно де Фужер, и Арно Нувель. Все трое не скупились на взаимные посулы и старались подставить сопернику ножку.
– В сущности, это борьба трех Арно, – бормотал Дюэз. – А теперь посмотрим, как обстоят дела в итальянской партии.
Итальянцев было всего восемь, причем эта восьмерка разделилась на три группы. Грозный кардинал Каэтани, племянник папы Бонифация VIII, подкапывается под двух кардиналов Колонна, так как между их семьями издревле существует соперничество, превратившееся в лютую ненависть после дела Ананьи и пощечины, которую дал один из Колонна папе Бонифацию. Все прочие итальянцы склоняются то к одному, то к другому сопернику. Так, например, Стефанески, ярый противник политики Филиппа Красивого, держит руку Каэтани, которому, кстати сказать, доводится родней. Наполеон Орсини лавирует. Эта восьмерка согласна лишь в одном пункте: папский престол должен быть возвращен в Вечный город. Тут уж они ни за что не отступятся.
– А знаете, ваше высочество, – продолжал Дюэз, – была минута, когда мог начаться раскол, да и сейчас может… Наши итальянцы отказывались собраться во Франции и недавно дали нам знать, что, ежели будет выбран папа из гасконцев, они его не признают и выберут второго папу у себя в Риме.
– Раскола не будет, – спокойно произнес граф Пуатье.
– Только благодаря вам, ваше высочество, только благодаря вам, мне приятно это сознавать, и я повсюду об этом твержу. Разъезжая по городам и весям, вы, носитель доброго слова, если еще не нашли достойного пастыря, зато хоть собрали воедино стадо.
– Недешево обошлись мне эти овечки, монсеньор! Известно ли вам, что я привез из Парижа шестнадцать тысяч ливров и что на прошлой неделе мне пришлось затребовать еще столько же? Язон по сравнению со мной был просто бедняком. И я порадовался бы, если все это золотое руно сослужило нам хоть какую-то службу, – добавил граф Пуатье, слегка прищурившись, чтобы лучше разглядеть лицо кардинала.
А кардинал, который сумел окольным путем широко попользоваться щедротами французского двора, отлично понял намек, но предпочел дать уклончивый ответ.
– Думаю, что Наполеон Орсини и Альбертини де Прато, а возможно, даже и Гийом де Лонжи, бывший до меня канцлером Неаполитанского короля, без труда отрекутся от своей партии, – хладнокровно пояснил он. – Только бы избежать раскола, для этого любая цена хороша.
«Значит, он истратил наши деньги на подкуп трех итальянцев, то есть заручился для себя еще тремя голосами. Что ж, ход ловкий», – подумал Филипп.
Что касается Каэтани, то, хотя он по-прежнему держится непримиримо, положение его заметно пошатнулось с тех пор, как была открыта его причастность к ворожбе и его попытка навести порчу на короля Франции и на самого графа Пуатье. Бывший тамплиер, полубезумный Эврар, чьими услугами при сношении с дьяволом пользовался Каэтани, немало порассказал о проделках кардинала, прежде чем отдался в руки королевской страже.
– Это дело я держу про запас, – признался Пуатье. – Запашок костра сумеет в нужную минуту согнуть нашего непримиримого Каэтани.
При мысли о том, что на костер пошлют кардинала, узкие губы старого прелата тронула легкая, тут же угасшая усмешка.
– Говорят, что Франческо Каэтани окончательно отвратился от дел Божьих и предался сатане, – добавил Дюэз. – Уж не он ли, видя, что порча не помогла, прибег к помощи яда, дабы отправить вашего брата на тот свет?
Граф Пуатье пожал плечами.
– Всякий раз, когда кончается король, утверждают, что его отравили, – сказал он. – Так говорили о моем деде Людовике Восьмом, так говорили и о моем отце, упокой, Господи, его душу… Мой брат был слаб здоровьем. Но над этим стоит поразмыслить.
– Наконец остается, – продолжал Дюэз, – третья партия, которую зовут провансальской, поскольку кардинал Мандагу самый деятельный среди нас…
Эта последняя партия насчитывала всего шесть кардиналов различного происхождения; южане, такие как братья Беранже Фредоли, мирно уживались с нормандцами, уроженцами Керси, откуда родом был сам Дюэз.
Золото, которым осыпал эту партию Филипп Пуатье, сделало провансальских кардиналов более восприимчивыми к доводам французской политики.
– Нас меньше всех, мы слабее всех, – сказал Дюэз, – но все-таки мы – необходимая опора любого большинства. И коль скоро итальянцы и гасконцы не желают папы из враждебной партии, значит, ваше высочество…
– Значит, придется выбирать папу из вашей… Так я вас понял?
– Думаю, что так, даже уверен, что так. Я твержу об этом со дня смерти папы Климента. Но меня не слушали: полагали, что я хлопочу о себе, ибо мое имя в самом деле называли, но, заметьте, без моего желания. Однако французский двор никогда не оказывал мне большого доверия.
– Только потому, монсеньор, что вас, пожалуй, слишком открыто поддерживал двор неаполитанский.
– А если бы меня, ваше высочество, никто не поддерживал, кто бы тогда обо мне позаботился? Поверьте, нет у меня иных чаяний, как добиться порядка в делах христианства, находящихся ныне в плачевном состоянии; тяжелое бремя падет на плечи будущего преемника святого Петра.
Граф Пуатье, сцепив длинные пальцы, поднес их ко лбу и задумался.
– Полагаете ли вы, – начал он, – что итальянцы, если им посулить, что в папы пройдет не представитель гасконцев, согласятся на пребывание Святого престола в Авиньоне и что гасконцы, если их уверить, что папский престол останется в Авиньоне, откажутся от своего кандидата и присоединятся к вашей третьей партии?
В переводе на обычный язык слова эти означали: «Если вы, монсеньор Дюэз, станете при моей поддержке папой, можете ли вы твердо обещать, что теперешнее местопребывание папского престола останется неизменным?»
Дюэз понял все.
– Ваше высочество, – произнес он, – это будет мудрейшее решение.
– Я запомню ваши ценные советы, – сказал Филипп, подымаясь с места и тем давая понять гостю, что аудиенция окончена.
Он пошел проводить кардинала до двери.
В это мгновение Филипп и Дюэз, столь отличные друг от друга возрастом и внешним видом, опытом и родом деятельности, поняли, что оба они одного склада и что между ними может родиться дружба, что они должны трудиться бок о бок, а такие мгновения являются скорее следствием таинственных предначертаний судьбы, нежели плодом долгой беседы.
Когда Филипп нагнулся, чтобы облобызать перстень кардинала, старик шепнул ему:
– Вы, ваше высочество, были бы превосходным регентом.
Филипп распрямил свой длинный стан. «Неужели он догадался, что я думал только об этом?» – спросил он себя.
– А разве из вас, монсеньор, не вышел бы превосходный папа? – ответил он.
И оба невольно улыбнулись друг другу, старик – отцовски-нежной улыбкой, молодой принц – дружелюбно и почтительно.
– Я был бы весьма признателен, если бы вы сохранили в тайне важнейшую весть, сообщенную мне, хотя бы до того времени, пока она не будет возвещена публично.
– Рад служить вам, ваше высочество.
Оставшись один, граф Пуатье остановился в нерешительности, но тут же стряхнул с себя задумчивость и кликнул первого камергера.
– Скажите, Адам Эрон, не прибыл еще из Парижа гонец? – спросил Филипп.
– Нет, ваше высочество.
– В таком случае прикажите закрыть все лионские ворота.
Глава IV
«Осушим слезы наши»
Этим утром жители Лиона остались без свежих овощей. Повозки окрестных огородников задержали у городских ворот, и хозяйки с громкой руганью обходили пустой рынок. Единственный мост через Сону (мост через Рону не был еще наведен) перегородили отрядом стражников. Но если нельзя было попасть в Лион, то в равной мере нельзя было и выйти из Лиона. Торговцы-итальянцы, путники, странствующие монахи толпились у ворот и требовали объяснений, а к ним присоединялись зеваки и бездельники. На все вопросы стражники твердили: «Приказ графа Пуатье» – с важно-снисходительным видом, с каким обычно разговаривают с толпой представители власти, когда им дают поручение, смысл коего неясен им самим.
– Но у меня в Фурвьере дочка больная лежит…
– Вчера, когда звонили к вечерне, у меня в Сен-Жюсте амбар сгорел…
– Бальи Вильфранка велит меня в тюрьму засадить, если я не принесу ему нынче оброка!.. – кричали из толпы.
– Приказ графа Пуатье!
И когда толпа стала напирать, королевские стражники угрожающе подняли дубинки.
По городу поползли странные слухи.
Одни уверяли, что готовится война. Но с кем? На этот вопрос никто ответить не мог. Другие клялись, что нынче ночью у стен монастыря августинцев произошла кровопролитная стычка между королевскими людьми и сторонниками итальянских кардиналов. Многие слышали конский топот. Называли даже число убитых. Но у августинцев все было мирно и тихо.
Архиепископ Петр Савойский пребывал в состоянии тревоги, он боялся повторения событий 1312 года, когда его силой принудили отречься в пользу архиепископа Санского от Галльского приматства, единственной прерогативы, которую ему удалось сохранить при присоединении Лиона к французской короне[7]. Он послал одного из каноников за новостями; но каноника, сунувшегося было к графу Пуатье, выставил за дверь конюший, вежливо, но молча. И архиепископ с минуты на минуту ждал, когда ему пришлют ультиматум.
Среди кардиналов, нашедших себе приют в различных святых обителях, тоже царил страх, доходивший чуть ли не до умопомрачения. А что, если им снова подстроили ловушку, как в Карпантра? Но на сей раз как и куда бежать? Кардинальские посланцы шныряли из одного монастыря в другой, от августинцев к францисканцам и от доминиканцев к картезианцам. Каэтани отрядил своего человека, аббата Пьера, свою правую руку, к Наполеону Орсини, от него – к Альбертини де Прато, оттуда – к Фиески, единственному испанцу среди претендентов на папский престол, и наказал сообщить каждому: «Ну, вот видите, вы позволили соблазнить себя посулами графа Пуатье. Он поклялся нас не притеснять, клялся, что нам для подачи голосов даже не придется входить в ограду, что мы будем свободны. А теперь взял и запер нас в Лионе».
К самому Дюэзу тоже примчались два его коллеги-провансальца – кардинал Мандагу и Беранже Фредоль старший. Но Дюэз сделал вид, что с головой ушел в свои богословские труды и ничего не ведает. А тем временем в келье, рядом с покоями кардинала, сном праведника спал Гуччо Бальони, даже не подозревавший, что он явился причиной такой паники.
Целый час мессир Варе, лионский судья, прибывший в сопровождении трех своих коллег от имени городского совета к графу Пуатье потребовать объяснений, топтался в его прихожей.
А сам граф Пуатье заседал при закрытых дверях с приближенными и свитой, сопровождавшей его в поездке.
Наконец чья-то рука раздвинула драпировки, и, окруженный советниками, показался граф Пуатье. На всех лицах застыло торжественное выражение, как обычно в минуты, когда принимаются особо важные государственные решения.
– А, мессир Варе, вы пришли очень кстати, и вы тоже, мессиры, – проговорил Пуатье, обращаясь к судье и его спутникам. – Таким образом, мы незамедлительно можем вручить вам послание, которое намеревались довести до вашего сведения. Мессир Миль, соблаговолите прочесть.
Миль де Нуайе, легист, советник парламента и маршал войска Филиппа Красивого, развернул пергамент и начал читать:
Всем бальи, сенешалям и советам славных городов.
Доводим до вашего сведения о великой печали, каковую причинила нам кончина возлюбленного брата нашего, короля нашего, сира Людовика X, по воле Божьей отнятого у верных его подданных. Но натура человеческая создана так, что никто не может продлить отпущенные ему сроки. Посему решили мы осушить слезы наши, вознести вместе с вами молитву Иисусу Христу за душу усопшего короля и верно служить французскому королевству и королевству Наваррскому, дабы не пострадали их исконные права и дабы подданные сих двух королевств жили счастливо, защищаемые мечом правосудия и мира.
Милостью Божьей регент обоих королевств
Филипп
Когда улеглось первое волнение, мессир Варе поспешил облобызать руку графа Пуатье, и прочие судьи без колебаний последовали его примеру.
Король умер. Неожиданная весть ошеломила всех до такой степени, что никто не спросил себя, особенно в первые минуты, кто же сменит его на престоле. За отсутствием совершеннолетнего наследника власть по справедливости должна перейти в руки старшего из братьев покойного государя. Лионские судьи ни на минуту не усомнились, что решение это было принято в Париже палатой пэров.
– Соблаговолите разослать по городу герольдов, чтобы они прочли наше послание, – приказал Филипп Пуатье, – и вслед за тем немедленно откройте все ворота.
Потом он добавил:
– Вы, мессир Варе, ведете крупную торговлю сукном; я буду вам весьма признателен, если мне доставят двадцать черных плащей; их положат в прихожей, чтобы каждый пришедший выразить мне свою скорбь мог надеть траурное одеяние.
И он отпустил судей.
Так совершились два первых акта взятия власти. Филиппа провозгласили регентом его приближенные, которые благодаря этому превратились в членов Государственного совета. Сейчас его признает город Лион, где он случайно оказался в эти дни. А теперь надо побыстрее распространить весть по всему королевству и поставить Париж перед свершившимся фактом. Важнее всего было выиграть время.
Писцы уже перебеляли послание во множестве экземпляров, а гонцы седлали коней, готовясь отбыть во все французские провинции.
И как только ворота Лиона открыли, гонцы Пуатье отправились в путь и повстречались с тремя гонцами, которых с утра продержали на том берегу Соны. Первый из этих гонцов привез письмо от графа Валуа, он писал уже в новом качестве регента, назначенного Королевским советом, и просил Филиппа дать свое согласие, дабы назначение возымело силу. «Уверен, что вы захотите помочь мне в моей задаче на благо государства и дадите немедля ваше согласие, как и подобает разумному и возлюбленному племяннику нашему».
Второе послание было от герцога Бургундского, который тоже требовал назначить его регентом при малолетней племяннице – Жанне Наваррской.
И наконец, граф д’Эврё извещал Филиппа, что, вопреки существующим установлениям, многие пэры Франции отсутствовали на Совете и Карл Валуа, торопясь прибрать власть к рукам, не счел нужным опереться на какой-либо текст закона или на волю соответствующей ассамблеи.
Граф Пуатье сразу же собрал своих приближенных для обсуждения всех этих вопросов. Окружение Филиппа составляли люди, враждебные политике, которую проводили в последние полтора года Людовик Сварливый и Карл Валуа; в числе их находился коннетабль Франции Гоше де Шатийон, командовавший войсками с 1302 года и так и не простивший Людовику Х нелепый «грязевой поход» во Фландрию, который он вынужден был вести прошлым летом. Его зять, Миль де Нуайе, вполне разделял эти чувства. Легист Рауль де Прель, оказавший столько ценных услуг Железному королю, пережил после смерти своего господина черные дни: все имущество его конфисковали, повесили лучшего его друга Ангеррана де Мариньи, а самого подвергли «пытке водой», но так и не вырвали у него признаний; после всех этих бед у него осталась хроническая болезнь желудка да изрядная доля злобы против бывшего императора Константинопольского. Своим спасением и возвращением на государственный пост он был обязан графу Пуатье.
Таким образом, вокруг Филиппа создалось нечто вроде оппозиционной партии, состоявшей в основном из уцелевших от расправы главных сановников Филиппа Красивого. Любой из них косо смотрел на притязания графа Валуа и равно не желал, чтобы в государственные дела вмешался герцог Бургундский. Все они дружно восхищались быстротой и энергией юного принца и возлагали на него все свои надежды.
Пуатье написал Эду Бургундскому и Карлу Валуа, даже не упомянув о полученных письмах, словно они до него не дошли, и сообщил своим родным, что по естественному праву считает себя регентом и при первой возможности намерен собрать всех пэров Франции, которые и подтвердят его избрание.
В то же самое время он назначил эмиссаров, которые должны были незамедлительно отправиться в важнейшие центры государства и управлять ими от его, Филиппа Пуатье, имени. Множество его рыцарей пустились в путь в тот же день – впоследствии им суждено было именоваться «рыцарями сопровождения», – и в том числе Реньо де Лор, Тома де Марфонтен и Гийом Куртегез. При себе Филипп оставил Ансо де Жуанвиля, сына знаменитого сенешаля Жуанвиля, а также Анри де Сюлли.
Пока со всех колоколен несся печальный перезвон, Филипп Пуатье вел долгую беседу с Гоше де Шатийоном. Коннетабль Франции по установленному обычаю заседал во всех государственных советах, и в палате пэров, и в Большом и Малом советах. Филипп просил Гоше отбыть в Париж и представлять его там, а главное, вплоть до его прибытия расстраивать козни Карла Валуа; с другой стороны, присутствие коннетабля в Париже было порукой тому, что наемные солдаты столичного гарнизона, и в частности полк арбалетчиков, будут хранить верность Филиппу.
Ибо вновь назначенный регент, сначала к великому удивлению, а затем к дружному одобрению своих советников, решил временно не покидать Лиона.
– Мы не можем бросать начатое дело, – пояснил он. – Самое главное сейчас для нашего государства – это иметь папу, и мы станем еще сильнее, если сами посадим его на престол!
Он ускорил также подписание брачного контракта между своей дочкой и принцем-дофином. Казалось, этот брак не имеет ничего общего с выборами папы, однако Филипп видел между ними непосредственную связь. Союз с дофином Вьеннским, который правил всеми землями к югу от Лиона и под чьим надзором находилась дорога в Италию, был не последним козырем в начатой игре. Кардиналы, если им придет охота снова разбежаться, не найдут себе убежища на землях дофина. Кроме того, помолвка укрепляла позиции регента; дофин, переходя на его сторону, имел все основания хранить Филиппу верность.
Из-за траура контракт был подписан без празднеств и пиров в один из следующих дней.
Одновременно Филипп столковался с самым могущественным здешним бароном, графом де Форе, кстати, зятем дофина, державшим в своих руках весь правый берег Роны.
Жан де Форе не раз участвовал в походах во Фландрию, не раз представлял Филиппа Красивого при папском дворе и немало потрудился для присоединения Лиона к Франции. Граф Пуатье, продолжавший отцовскую политику, мог смело рассчитывать на его поддержку.
Шестнадцатого июня граф де Форе совершил акт весьма впечатляющий. Он принес торжественную присягу Филиппу как первому сеньору Франции, признав таким образом Пуатье носителем королевской власти.
На следующий день граф Бермон де ла Вут, чье ленное владение Пьергурд находилось в Лионском сенешальстве, тоже торжественно присягнул Пуатье, вложив свои руки в руки Филиппа.
К графу де Форе Филипп обратился с просьбой держать наготове, но и в тайне семьсот вооруженных людей. Таким образом, кардиналы шагу не смогут сделать за пределы Лиона.
Но отсюда до избрания папы было еще далеко. Переговоры затягивались. Итальянцы, смекнув, что регенту не терпится поскорее отбыть в Париж, упорно не шли на уступки. «Ничего, сдастся первым», – говорили они. Их ничуть не смущала трагическая неразбериха, губившая дело Святой церкви.
Филипп Пуатье десятки раз встречался с Дюэзом, которого он теперь безоговорочно считал не только самым умным деятелем во всем конклаве, но и самым опытным и проницательным человеком, самым изощренным в делах религии, наиболее подходящим главой христианства, особенно в эту смутную годину.
– Ересь, ваше высочество, вновь расцветает повсюду, – тревожно твердил Дюэз своим глухим, надтреснутым голоском. – Да и как может быть иначе, коль скоро сами мы подаем верующим недостойный пример. Дьявол пользуется нашими распрями, дабы повсеместно сеять плевелы. А особенно мощно произрастают они в Тулузской епархии. Это исстари крамольная земля, подверженная дурным мечтаниям. Трудно управлять столь обширной епархией, будущему папе следовало бы разбить ее на пять епископств и каждое вести твердой рукой.
– Что и повлечет за собой образование нескольких новых бенефиций, с которых, само собой разумеется, французская корона будет получать аннаты, – отозвался Филипп. – А это, по-вашему, не вызовет возражений?
– Ничуть.
«Аннатами» называлось право короля получать доходы с любой новой церковной бенефиции в течение первого года ее существования. Отсутствие папы препятствовало образованию новых бенефиций, в силу чего королевская казна Франции переживала тяжелые дни безденежья, не говоря уже о том, что недоимки по церковным налогам почти не поступали, а духовенство, пользуясь смутным временем и тем, что Святой престол пустовал, чинило всякие препятствия.
Таким образом, пока Филипп и Дюэз строили планы на будущее – один в качестве регента, другой в качестве кандидата на папский престол, – обоих в равной мере и в первую очередь интересовали финансы.
Королевская казна не только иссякла, но и вошла в долги на много лет вперед, и повинны в этом были восстания феодалов, мятеж во Фландрии, мятеж баронов графства Артуа и «блистательные» финансовые реформы Карла Валуа.
Да и папская казна после двух лет бродячего конклава находилась не в лучшем состоянии; и если кардиналы продавались сильным мира сего за столь высокую плату, то объяснялось это тем, что у большинства из них не было иных средств существования, кроме торговли своими голосами.
– Обложения, ваше высочество, только обложения! – внушал Дюэз молодому регенту. – Обложите штрафом тех, кто сотворил зло, и чем они богаче, тем сильнее наносите им удар. Если у нарушителя законов сто ливров, отберите у него двадцать. Но ежели владеет он тысячью, возьмите у него пятьсот, ежели есть у него сто тысяч – лишите почти всего достояния. Предложение мое содержит три преимущества: первое – поступления в казну возрастут, второе – лишившись благ, человек, преступивший закон, не сможет более совершать злоупотреблений, и, наконец, третье – бедняки, а их большинство, будут на вашей стороне и поверят в вашу справедливость.
Филипп Пуатье улыбнулся.
– То, за что вы так ратуете, монсеньор, вполне разумно и соответствует королевскому правосудию, которое вершит дела светские, – ответил он. – Но я не вижу, как таким путем можно пополнить финансы Святой церкви…
– Обложения, обложения, ваше высочество, – повторил Дюэз. – Наложим налог на грешников; сей источник неиссякаем. Человек по натуре своей греховен, но он склонен расплачиваться скорее сердечным раскаянием, нежели кошельком. И он живее восчувствует раскаяние за содеянный проступок, если искупление грехов обойдется ему в кругленькую сумму, и еще подумает, прежде чем согрешить вторично. Тот, кто жаждет, чтобы ему отпустили грехи, пусть платит за их отпущение.
«Что это, шутка?» – подумал Пуатье, который после многочасовых бесед с Дюэзом обнаружил в кардинале курии немалую склонность к парадоксам и даже плутовству.
– А на какие же грехи вы, монсеньор, собираетесь ввести таксу? – спросил он, как будто соглашаясь поддерживать игру.
– Первым делом на те, что совершаются духовными лицами. Постараемся для начала усовершенствовать самих себя, прежде чем браться за усовершенствование ближнего своего. Наша матерь, Святая католическая церковь, слишком терпима к различным недостаткам и уродствам. По моему мнению, на духовные должности нельзя назначать калек и убогих. А я ведь сам видел некоего священника, по имени Пьер, который состоит при особе кардинала Каэтани и у которого, представьте себе, на левой руке два больших пальца.
«Легкий, но коварный выпад в адрес нашего старого недруга», – подумал Пуатье.
– Я провел обследование, – продолжал Дюэз. – И выяснилось, что среди духовенства несчетное количество хромых, безруких, евнухов, которые скрывают под сутаной свое увечье, однако живут они на церковные бенефиции. Изгоним ли мы их из лона Святой церкви, обречем ли их на нищету, сами ли толкнем в объятия тулузских еретиков или каких-нибудь иных духовных братств – все равно их недостатки непоправимы. Лучше уж разрешим искупить им свои грехи; а тот, кто сказал «искупить», говорит «купить».
Старый прелат произнес всю эту тираду самым серьезным тоном. После встречи с убогим отцом Пьером его воображение неудержимо заработало, и бессонными ночами он уже успел создать весьма стройную систему, которую рассчитывал изложить письменно и поднести в дар, как он скромно говорил, будущему папе.
Речь шла о введении Святой епитимьи; продавая буллы с отпущением любых грехов, можно будет в короткий срок пополнить папскую казну. Увечные священники тоже смогут получить отпущение грехов, внеся столько-то ливров за отсутствующий палец, вдвойне за отсутствующий глаз и такую же сумму за отсутствующие гениталии. Тот, кто кастрирует себя сам, платит вдвойне. От убожеств телесных Дюэз перешел к убожествам души. Незаконнорожденные, скрывшие свое происхождение при вступлении в орден, священники, принявшие сан, состоя в браке, вступившие в брак после посвящения или сожительствующие с женщиной вне брака, двоеженцы, а равно кровосмесители и содомиты – для всех предусматривалась плата соответственно совершенному ими греху[8]. Но особенно высокая плата предусматривалась за отпущение грехов монахиням, распутствующим в стенах или вне стен монастырей с несколькими мужчинами.
– Если введение этой системы, – заявил Дюэз, – в первый же год не даст нам двести тысяч ливров, то пусть меня…
Он чуть было не сказал «пусть меня сожгут», но вовремя спохватился.
А Филипп тем временем думал: «Если его изберут, то мне, слава богу, не придется ломать себе голову над финансовыми делами Святого престола».
Но несмотря на все ухищрения Дюэза и тайную поддержку Филиппа, конклав не сдвинулся с места.
А тем временем из Парижа шли дурные вести. Гоше де Шатийон, объединившись с графом д’Эврё и Маго Артуа, пытался обуздать притязания Карла Валуа. А тот жил во дворце Сите и держал при себе королеву Клеменцию чуть ли не заложницей; по собственному разумению вершил он государственные дела, рассылал в провинции приказы, противоречившие тем, которые слал из Лиона Филипп Пуатье. С другой стороны, шестнадцатого июня в Париж прибыл герцог Бургундский требовать признания своих законных прав; он знал, что за ним стоят вассалы его огромного герцогства. Итак, во Франции было одновременно три регента. Такое положение не могло длиться далее, и Гоше умолял Филиппа поскорее вернуться в столицу.
Двадцать седьмого июня, после совета, на котором присутствовали граф де Форе и граф де ла Вут, молодой принц решил незамедлительно отправиться в путь и приказал своей свите готовиться к отъезду. И тут, вспомнив, что об усопшем его брате не было еще торжественной службы, он повелел, чтобы завтра, до его отъезда, во всех лионских церквах отслужили мессу. Все духовенство, и высшее и низшее, обязано было присутствовать на службе, дабы присоединить свои моления к молитвам регента.
Все кардиналы, и в первую очередь итальянцы, возликовали. Пришлось все-таки Филиппу Пуатье покинуть Лион, не сломив их волю.
– Пытается скрыть свое бегство торжественными мессами! – твердил Каэтани. – А все-таки вынудили его, проклятого, уехать. Надеялся нас прибрать к рукам. Ну так вот, поверьте мне, через месяц, если не раньше, мы возвратимся в Рим.
Глава V
Врата конклава
Кардиналы, как известно, особы высокочтимые, которым мелкая церковная сошка никак не ровня. Поэтому граф Пуатье распорядился, чтобы для заупокойной мессы по усопшему Людовику Х кардиналам отвели церковь при монастыре доминиканцев, называемую иначе церковью Святого Иакова[9], самую роскошную, самую просторную после собора Святого Иоанна, а также и наиболее укрепленную. Кардиналы узрели в этом выборе знак естественного уважения к их сану. И все до одного явились на торжественную церемонию.
Было их только двадцать четыре; и однако же, церковь оказалась битком набитой, ибо каждый кардинал привел с собою весь свой клир – капеллана, секретаря, казначея, писцов, пажей, слуг, тех, кто нес, согласно установленному обычаю, за ним шлейф, а перед ним факел; так что меж белых массивных колонн толпилось в общем человек шестьсот.
Пожалуй, редко когда заупокойной мессе внимали с такой явной рассеянностью. Впервые после многих месяцев кардиналы, расселившиеся группками по монастырям, собрались вместе. Многие не встречались почти два года. Они искоса поглядывали друг на друга, наблюдали за соседями, комментировали вслух внешность и жесты соперников.
– Видели, видели? – шептал один другому. – Орсини поклонился Фредолю младшему… А Стефанески как вошел, так сразу же заговорил с Мандагу. Неужели они сблизились с провансальцами? Зато Дюэз совсем высох, лицо с кулачок стало. Как он постарел!
И в самом деле, Жак Дюэз, стараясь сдержать свой подпрыгивающий шаг, придававший старику неестественно юную прыть, медленно и степенно продвигался вперед и рассеянно отвечал на поклоны, как и подобает человеку, отрешившемуся от мирских дел.
Гуччо Бальони в новом облачении тоже прибыл сюда вместе с кардинальской свитой. Ему было приказано говорить только по-итальянски и отвечать всем, что он прибыл в Лион прямо из Сиены.
«Пожалуй, лучше было бы мне, – думал он, – попасть под покровительство графа Пуатье. Ибо я, без сомнения, мог бы вернуться вместе с ним в Париж и навести справки о Мари, о которой я ничего столько дней не слышал. А сейчас я во всем завишу от этой старой лисы да еще обещал ему достать у дяди денег, и пока деньги не будут у него в руках, он не намерен заниматься моей судьбой. А дядя, как на грех, не отвечает. И говорят, в Париже смута. Мари, прелестная моя Мари!.. Вдруг она подумает, что я ее покинул? А может быть, она уже возненавидела меня? Что они с ней сделали?»
Ее братья способны на все: заточить Мари в Крессе, а возможно, и упрятать в какой-нибудь монастырь для кающихся девиц. «Если через неделю я не получу от нее известий, удеру в Париж».
Дюэз то и дело оглядывался через плечо, и лицо его всякий раз принимало настороженное выражение.
– Вы опасаетесь чего-нибудь, монсеньор? – спросил наконец Гуччо.
– Нет, нет, отнюдь, – ответил Дюэз, украдкой посматривая на своих соседей.
Грозный кардинал Каэтани с изможденным лицом, посреди которого торчал длинный горбатый нос, не скрывал своего торжества, и его седые кудри, подобно завиткам белого пламени, упрямо выбивались из-под алой шапки. Катафалк – символ успения Людовика Х – вызывал в его памяти восковую фигуру, исколотую булавками, – ту, над которой он совершил ворожбу. Он переглядывался со своими людьми – с отцом Пьером, братом Бостом и своим секретарем Андрие, – так смотрят победители. Его подмывало крикнуть во всеуслышание: «Вот видите, мессиры, что происходит с тем, кто по неосторожности навлек на себя гнев Каэтани, ибо Каэтани были могущественными людьми еще во времена Юлия Цезаря».
Оба брата Колонна с тяжелыми пухлыми подбородками, украшенными посередине ямочкой, казались двумя воинами, вырядившимися прелатами.
Граф Пуатье не пожалел расходов на певчих. Хор в сотню с лишним голосов звучал на славу в сопровождении органа, у которого не покладая рук трудились четыре прислужника, раздувая мехи. Громовая, воистину королевская музыка гулко отдавалась под сводами, сотрясала воздух, оглушала толпу. Мальчики-прислужники могли безнаказанно болтать между собой, а дворяне из кардинальских свит высмеивать вслух своих владык. Невозможно было расслышать даже того, что говорилось в трех шагах, а того, что происходило у входа, и подавно.
Служба закончилась; замолкли орган и хор; створки дверей главного портала были широко распахнуты. Но ни один луч дневного света не проникал в собор.
На мгновение толпа замерла: всем показалось, будто во время заупокойной мессы чудом затмилось солнце; но вдруг кардиналы поняли всё, и яростный гул голосов заполнил церковь. Свежая каменная кладка закрыла портал; регент приказал во время мессы замуровать все входы и выходы. Кардиналы очутились на положении пленников.
Тут-то и началось столпотворение: прелаты, каноники, священники, слуги, забыв о чинопочитании и рангах, смешались в кучу и суетливо сновали по храму Божьему, как крысы, попавшие в западню. Пажи влезали друг другу на плечи, подтягивались на руках, заглядывали в окна и кричали сверху:
– Собор со всех сторон окружен вооруженными людьми!
– Что с нами будет, что с нами будет? – стонали кардиналы. – Регент коварно обманул нас.
– Так вот почему он угостил нас такой музыкой!
– Но это же прямое посягательство на Святую церковь! Что нам делать?!
– Отлучить его! – кричал Каэтани.
– А что, если он возьмет и уморит нас голодом или велит всех перебить?
Воинственные братья Колонна и их свита, вооружившись тяжелыми бронзовыми подсвечниками, скамьями и жезлами для торжественных процессий, готовились дорого продать свою жизнь. И уже итальянцы с гасконцами начали осыпать друг друга оскорблениями и упреками.
– Нет, это ваша ошибка! – кричали итальянцы. – Почему вы согласились перебраться в Лион? Мы отлично знали, что попадем в ловушку.
– Если бы вы выбрали кого-нибудь из наших, не пришлось бы нам здесь сейчас торчать, – возражали гасконцы. – Это вы во всем виноваты, недостойные христиане!
Еще минута, и обе партии схватились бы врукопашную.
Лишь одна-единственная дверь была замурована не полностью – в ней оставили узкий проход, куда мог протиснуться человек, но из этого узкого отверстия торчал целый лес пик, зажатых в железные перчатки. Вдруг пики приподнялись, и граф де Форе в доспехах, Бермон де ла Вут и несколько закованных в латы людей проникли в церковь. Их встретили градом угроз и грубейшей руганью.
Сложив руки на эфесе шпаги, граф де Форе спокойно дождался конца бури. Был он человек могучий, смелый, равно нечувствительный как к угрозам, так и к мольбам, а главное, его глубоко возмущало недостойное поведение кардиналов, подававших в течение двух лет худой пример своей пастве; поэтому граф решил любой ценой выполнить распоряжение Филиппа Пуатье. Грубое его лицо было изборождено глубокими морщинами, глаза сурово глядели из-под забрала шлема.
Когда кардиналы и их приспешники наконец осипли от крика, граф де Форе заговорил; его четкая, размеренная речь отдавалась гулким эхом под сводами церкви.
– Мессиры, я нахожусь здесь по приказу регента Франции и уполномочен сообщить вам, что единственной вашей заботой отныне должно быть избрание папы, а равно довожу до вашего сведения, что ни один из вас не выйдет отсюда, пока папа не будет избран. При каждом кардинале может остаться по одному капеллану, по два дворянина для услуг или – если угодно – по два писца. Это уж выбирайте сами. Все прочие могут покинуть собор.
Гасконцы и провансальцы негодовали не меньше итальянской партии.
– Мошенничество! – вопил кардинал де Пелагрю. – Граф Пуатье поклялся, что нам даже не придется войти в ограду монастыря, и только на этом условии мы согласились собраться в Лионе.
– Устами графа Пуатье, – возразил граф де Форе, – говорил король Франции. Но короля Франции нет в живых, и теперь вам говорит регент моими устами.
Единодушное негодование охватило всех пленников. Проклятия на трех языках – итальянском, провансальском и французском – сливались в нестройный гул. Кардинал Дюэз без сил рухнул на сиденье в одной из исповедален и даже руку к сердцу приложил, всем видом показывая, что в столь преклонном возрасте нелегко сносить подобные удары, и притворно-сокрушенно бормотал что-то невразумительное, как бы присоединяя свой голос к протестующим крикам кардиналов. Арно д’Ош, кардинал-камерлинг, брюхатый, полнокровный прелат, бросился к графу де Форе и заявил ему угрожающим тоном:
– Напоминаю вам, мессир, что папу в таких условиях выбирать не положено, ибо вы нарушили устав Григория Десятого, согласно которому конклав должен собираться именно в том городе, где скончался папа.
– Вы там сидели, монсеньоры, в течение двух лет и разбрелись кто куда, не выбрав папы, что, позвольте вам заметить, тоже противоречит уставу. Но ежели вы почему-либо желаете попасть в Карпантра – пожалуйста, мы доставим вас туда в закрытых повозках под надежной охраной.
– Не будем заседать под угрозой насилия!
– Вот поэтому-то, монсеньоры, церковь окружена вооруженной стражей в семьсот человек, которые надежно защищают вас по решению городских властей, дабы обеспечить вам безопасность и дать возможность побыть в уединении… что, кстати сказать, тоже соответствует упомянутому вами уставу. Сир де ла Вут, который, как именитый гражданин Лиона, тоже находится здесь, будет наблюдать за всем. Мессир регент просил также передать вам, что, если в течение трех дней вы не придете к соглашению, вам будет подаваться пища один раз в день, а с девятого дня вас переведут на хлеб и воду, что опять-таки записано в уставе папы Григория X. И если, наконец, пост не просветит ваш разум, мы прикажем разобрать крышу, и тогда придется вам испытать ярость стихии…
Графа прервал Беранже Фредоль старший:
– Мессир, таким образом, вы будете повинны в человекоубийстве, ибо многие из нас не вынесут такого режима. Взгляните на монсеньора Дюэза, он уже сейчас еле дышит и нуждается в уходе.
– Верно, ox, ox, верно! – голосом умирающего произнес Дюэз. – Конечно не вынесу…
– Да бросьте вы с ним разговаривать, – крикнул Каэтани. – Вы же сами видите, что мы попали в руки свирепых и вонючих хищников! Но знайте, мессир, вместо того чтобы выбрать папу, мы отлучим от церкви вас и всех ваших вероломных приспешников.
– Если вы намереваетесь нас отлучить, монсеньор Каэтани, – холодно ответил граф де Форе, – регент может сообщить конклаву кое-какие сведения о заклинателях и ворожеях, коим место уготовано в геенне огненной…
– При чем тут ворожба! – уже без прежнего запала возразил Каэтани. – Главная наша обязанность – избрать папу.
– Э, монсеньор, мы, как видно, поняли друг друга; соблаговолите-ка приказать ненужным вам людям покинуть храм, ибо съестные припасы будут доставляться в строго ограниченном количестве и лишним ртам еды не хватит.
Кардиналы поняли, что дальнейшее сопротивление бессмысленно и что этого закованного в железные латы сеньора, который недрогнувшим голосом передал им приказ графа Пуатье, не так-то просто согнуть. А позади Жана де Форе виднелись вооруженные пиками стражники, которые по одному пролезали в незамурованное отверстие и выстраивались в глубине церкви.
– Придется прибегнуть к хитрости, коль скоро мы лишены возможности прибегнуть к силе, – вполголоса сказал Каэтани своим итальянцам. – Сделаем вид, что покорились, раз не можем пока сделать ничего иного.
Каждый кардинал отобрал из своей свиты трех человек, наиболее ему преданных, умеющих дать нужный совет, искушенных в интригах или же таких, кто мог облегчить телесные страдания владыки в тех тяжелых условиях, в коих ему суждено было очутиться. Каэтани пожелал оставить брата Боста, Андрие и шестипалого Пьера, то есть тех, кто был замешан вместе с ним в ворожбе против Людовика X; он предпочел держать их при себе, боясь отпустить на свободу, где с помощью золота или пыток им могли развязать язык. Братья Колонна остановили выбор на четырех дворянчиках, каждый из которых одним ударом мог оглушить быка. Каноники, писцы, факельщики и шлейфоносцы один за другим исчезали в отверстии, миновав строй вооруженных стражников. Когда они проходили мимо своих владык, те шептали им на ухо последние распоряжения:
– Срочно дайте знать о случившемся моему брату епископу… Напишите от моего имени кузену де Го… Немедленно отправляйтесь в Рим.
Когда Гуччо Бальони пристроился было в хвост уходящих, Жак Дюэз просунул свою иссохшую ручку сквозь решетку исповедальни, где он прикорнул без сил, и схватил итальянца за полу.
– Останьтесь, дитя мое, со мной, – шепнул он, – я уверен, что вы мне пригодитесь.
Дюэз по опыту знал, что деньги имеют немалую власть в любом конклаве; для кардинала было весьма кстати иметь при себе представителя ломбардских банкиров.
Через час в церкви осталось всего девяносто шесть человек, которым предстояло томиться здесь до тех пор, пока двадцать четыре из них не придут к соглашению и не остановят свой выбор на одном. Прежде чем покинуть церковь, стражники внесли внутрь несколько охапок соломы, отныне ей вместе с голым камнем суждено было служить ложем самым могущественным прелатам христианского мира. Принесли также несколько лоханей, чтобы они могли справлять туалет, и несколько глиняных кувшинов с водой, отданных в распоряжение самих кардиналов. Каменщики под зорким оком графа де Форе замуровали последний проход, оставив в середине крошечное квадратное отверстие, достаточно широкое, чтобы через него прошло блюдо с пищей, но недостаточно широкое для того, чтобы через него мог пролезть человек. Вокруг церкви вновь расставили караульных на расстоянии трех туазов друг от друга и выстроили их двумя рядами; один ряд стоял спиной к стене и наблюдал за городом, другой стоял лицом к церкви и наблюдал за окнами.
В полдень граф Пуатье отбыл в Париж. Вместе со своей свитой он увозил дофина Вьеннского и маленького дофинчика, который так и останется жить при французском дворе, чтобы сдружиться со своей пятилетней невестой.
В тот же час кардиналам подали пищу, а так как день был постный, мяса им не полагалось.
Глава VI
Из Нофля в Сен-Марсель
Ранним июльским утром, еще до рассвета, старший де Крессе вошел в спальню сестры. Толстяк Жан держал в руке чадившую свечу; при свете ее было заметно, что брат Мари успел умыться, расчесал бороду и надел лучший свой кафтан для верховой езды.
– Вставай, Мари, – сказал он, – сегодня ты уедешь. Мы с Пьером сами тебя отвезем.
Молодая девушка приподнялась на локте.
– Уеду?.. Как так? Уеду сегодня утром?..
Она еще не очнулась от сна и пристально смотрела на брата большими темно-голубыми глазами, стараясь понять, о чем идет речь. Машинальным жестом она откинула назад свои длинные густые шелковистые волосы, отливавшие золотом.
Жан де Крессе хмуро глядел на красавицу-сестру, так, словно сама эта красота тоже была грехом.
– Собирай пожитки. Домой ты вернешься не скоро.
– Но куда вы меня везете? – спросила Мари.
– Сама увидишь.
– Но вчера… почему вчера вы мне ничего не сказали?
– Тебе скажешь, а ты снова с нами какую-нибудь шутку сыграешь. Что, разве нет?.. Ну ладно, торопись; выедем пораньше, чтобы наши крестьяне не заметили. Хватит с нас позора, незачем им снова трепать языками на твой счет.
Мари ничего не ответила. Вот уже целый месяц только так обращались с ней домашние, только таким тоном говорили. Она тяжело поднялась с постели: по утрам, особенно в первые минуты, давала себя знать пятимесячная беременность, хотя днем она почти ее не ощущала. При свете свечи, которую оставил ей брат, она стала собираться в дорогу, ополоснула лицо и шею водой, быстро заколола волосы; тут только она заметила, что руки ее дрожат. Куда ее везут? В какой монастырь? Мари надела на шею золотую ладанку, подарок Гуччо, которую, по его уверениям, он получил в дар от королевы Клеменции. «Пока что эта реликвия что-то плохо меня защищала, – подумалось ей. – А может быть, я недостаточно молилась?» Она уложила верхнее платье, несколько нижних платьев, безрукавку и куски полотна для умывания.
– Наденешь плащ с капюшоном, – бросил Жан, снова появляясь в спальне.
– Но ведь я в нем сгорю! – воскликнула Мари. – Это зимняя одежда.
– Мать требует, чтобы ты ехала с закрытым лицом. Не перечь, пожалуйста, и поторапливайся.
Во дворе младший брат де Крессе собственноручно седлал лошадей.
Мари отлично знала, что рано или поздно этот день наступит; и хотя сердце ее сжимал тоскливый страх, она не слишком страдала от предстоящей разлуки, больше того, постепенно стала ее желать. Самый неприветливый монастырь, самый строгий устав все же лучше, чем ежедневные уколы и укоры. По крайней мере, там она будет наедине со своим горем. Ей хотя бы не придется больше выносить яростных приступов материнского гнева; после всех этих трагических событий мать, которой кровь бросилась в голову, слегла в постель и всякий раз, когда Мари приносила ей целебную настойку, проклинала и оскорбляла дочь. Тогда приходилось срочно вызывать из Нофля цирюльника, чтобы он отворил кровь тучной владелице замка. Таким образом за две недели у мадам Элиабель выпустили не меньше шести пинт дурной крови, но даже при этих энергичных мерах вряд ли можно было надеяться, что к ней полностью вернется здоровье.
Оба брата, а особенно старший, Жан, обращались с Мари как с преступницей. Ох, уж лучше любой монастырь, в тысячу раз лучше! Одно страшно: сможет ли дойти в святую обитель весть о Гуччо и когда? Вот эта-то мысль доводила ее до умопомрачения, лишь поэтому она страшилась своей участи. Злые ее братья уверяли, что Гуччо бежал за пределы Франции.
«Они скрывают от меня, – думала Мари, – но они, наверное, запрятали его в темницу. Невозможно, немыслимо, чтобы он меня бросил! Должно быть, он вернулся в наши края, чтобы меня спасти; вот поэтому они так торопятся меня увезти, а потом убьют его. Ах, почему я не согласилась убежать с ним! Я не желала слушать доводов Гуччо, боялась оскорбить мать и братьев, и вот за то, что я хотела сделать им добро, они отплатили мне злом!»
В ее воображении рисовались картины одна другой страшнее. Минутами ей хотелось, чтобы Гуччо действительно убежал в Италию, оставив ее на произвол злой судьбы. И нет никого, чтобы спросить совета, нет никого, кто бы утешил ее в горе. Одно утешение – это дитя, что она носит под сердцем; но, откровенно говоря, крохотное существо было ничтожно малым подспорьем, хоть и вселяло мужество в душу Мари.
Когда наступил час отъезда, Мари де Крессе спросила братьев, может ли она попрощаться с матерью. Пьер молча поднялся в материнскую спальню, но оттуда донесся такой истошный крик – видно, частые кровопускания не оказали воздействия на голосовые связки мадам Элиабель, – что Мари сразу поняла всю бессмысленность своей просьбы. Пьер вышел из спальни матери с грустным лицом и беспомощно развел руками.
– Она говорит, что у нее нет дочери, – пояснил он.
И Мари снова подумала: «Лучше бы я убежала с Гуччо. Сама во всем виновата; я обязана была последовать за ним».
Братья вскочили на коней, и Жан де Крессе посадил сестру позади себя на круп своей лошади, которая была все же получше, вернее, менее заморенная, чем у Пьера. Пьер восседал на запаленной кобыле, которая при каждом шаге тяжело выпускала из ноздрей воздух с таким шумом, словно по железу водили напильником; именно на этом одре в прошлом месяце братья де Крессе совершили торжественный въезд в столицу.
Мари бросила прощальный взгляд на маленький замок, которого не покидала со дня рождения и который сейчас, в первых, еще нежных проблесках зари, вставал перед ней в сероватой дымке, будто уже из прошлого. С тех пор как она помнит себя, каждое мгновение ее жизни проходило в этих стенах, на фоне этого пейзажа; ее детские игры, чудесное открытие самой себя и окружающего мира, который день за днем каждый творит как бы заново. Неистощимое разнообразие луговых трав, удивительные венчики цветов и чудесная пыльца на самом их донышке, мягчайший пушок на брюшке утенка, переливы солнечных лучей на крылышке стрекозы… Здесь оставляла она все пережитые часы, те часы, когда впервые заметила, что взрослеет, когда впервые прислушалась к голосу грез, когда зорко подмечала все изменения своего лица, множество раз отраженного прозрачными водами Модры. Здесь она испытала то великое, почти ослепляющее чувство жизни, приходившее в те минуты, когда она ложилась навзничь на луг и смотрела в небо, видя в форме облаков таинственные предзнаменования, надеясь узреть Господа Бога в глубине сверкающей лазури. Она проехала мимо часовни, где под каменной плитой покоился прах ее отца и где итальянский монах тайно обвенчал ее с Гуччо.
– Надвинь пониже капюшон! – приказал старший брат Жан.
Как только они перебрались вброд через речку, он подстегнул лошадь и вслед за ними поскакала кобыла Пьера, шумно выдыхая воздух.
– А не слишком ли ты быстро скачешь? – сказал Пьер, движением головы указывая на сестру.
– Ничего, дурное семя – оно цепкое, – отозвался старший брат, очевидно желая в глубине души, чтобы с Мари стряслась беда.
Но напрасны были его надежды. Здоровая и крепкая Мари была создана для материнства. Переезд в десять лье, отделявший Нофль от Парижа, она перенесла без всякого для себя ущерба. Правда, ныла поясница, Мари задыхалась от жары, но ни разу она даже не охнула. Из-под низко надвинутого на лоб капюшона она не могла разглядеть Париж, видела только мостовые, нижние этажи домов да людей без голов. Сколько ног! Какая обувь! С огромной радостью скинула бы она капюшон, но не смела. Больше всего ее поразил шум, невнятное мощное гудение столицы, крики глашатаев, продавцов, торгующих всякой снедью, разнообразный шум мастерских. На иных перекрестках толпилось столько народу, что лошади с трудом пробирались вперед. Прохожие задевали ноги Мари. Наконец они остановились. Брат ссадил на землю измученную, запыленную Мари. Ей разрешили откинуть капюшон плаща.
– А где мы? – спросила она, с удивлением оглядывая двор и красивый дом.
– У дядюшки твоего ломбардца, – пояснил Жан де Крессе.
А через несколько минут мессир Толомеи, по привычке прищурив левый глаз и широко открыв правый, рассматривал троих отпрысков покойного сира де Крессе, сидевших перед ним рядком, – бородача Жана, безусого Пьера и их сестру, пристроившуюся чуть поодаль и не поднимавшую опущенной головы.
– Значит, понимаете, мессир Толомеи, – начал Жан, – вы дали нам обещание…
– Как же, помню, помню, – подтвердил Толомеи. – И я сдержу свое слово, друзья мои, не сомневайтесь.
– Но, понимаете, нам пришлось действовать быстрее. Значит, понимаете, сестре после всего позора и шума у нас не жить. Значит, понимаете, мы даже к соседям заглянуть не смеем, мужики и те нам вслед смеются, а когда грех, так сказать, слишком уж округлится, нам и вовсе проходу не будет.
На языке у Толомеи вертелся ответ: «Но, сынки, вы сами подняли весь этот шум! Никто вас не заставлял бросаться как одержимых на Гуччо, подняв на ноги весь стольный град Нофль, и тем самым извещать людей о своем позоре без помощи глашатаев».
– И понимаете, наша матушка от горя совсем занемогла, прокляла дочь, и держать Мари дома, значит, никак нельзя, мы боимся, что матушка отдаст Богу душу от гнева. Значит, понимаете…
«…Этот негодяй, как и все, кто требует, чтобы их „понимали“, должно быть, просто болван. Ничего, поболтает и перестанет! Но я-то отлично понимаю теперь, – думал банкир, – почему мой Гуччо наделал столько безумств ради этой красотки. Прежде я его во всем обвинял, но, когда она вошла, я сразу сдался: и если бы в мои годы такое было возможно, я тоже потерял бы из-за нее голову. Прелестные глазки, прелестные волосы, прелестная кожа… Настоящая весенняя ягодка! И по-видимому, мужественно переносит свою беду, а эти-то два дурня орут так, как будто их самих лишили невинности! Но для бедной этой девчурки даже самое страшное горе обернулось благом! У нее добрая душа, это сразу видно. Какая жалость, что она родилась под одним кровом с этими двумя глупцами, и как бы я радовался, если бы Гуччо мог обвенчаться с нею открыто, если бы она жила здесь и краса ее стала бы утехой моей старости».
Толомеи не спускал с Мари глаз. А Мари, вскинув на него взгляд, тут же потупилась, потом снова с тревогой посмотрела ему в лицо. Что подумает о ней дядя Гуччо, почему он так настойчиво за ней наблюдает?
– Значит, понимаете, мессир, ваш племянник…
– Ох, не говорите мне о нем, я от него отрекся, лишил его наследства! Если бы он не удрал в Италию, я бы убил его собственными руками. Если бы я знал, где он сейчас скрывается… – Толомеи сокрушенно склонил голову на руки.
И тут из-под ладоней, приставленных ко лбу щитком, он незаметно для братьев Крессе, но так, чтобы видела Мари, дважды приоткрыл свой глаз, обычно скрытый мясистым веком. Мари сразу догадалась, что нашла в лице банкира союзника, и не могла удержать вздоха облегчения. Гуччо жив, Гуччо находится в надежном месте, и дядя знает, где он. Что по сравнению с этой радостной вестью все монастыри мира!
Мари перестала слушать разглагольствования Жана. Впрочем, и не слушая, она знала, о чем он говорит. Пьер де Крессе молчал, и на его усталом лице застыло какое-то нерешительное выражение. Он упрекал себя за то, что тоже поддался гневному порыву, но не смел высказать свои мысли. И он не прерывал старшего брата, который собственными речами старался убедить себя, что действовал правильно, не прерывал его рассуждений о голубой крови и рыцарской чести, дабы хоть этим оправдать их неслыханно глупый поступок.
Когда после своего маленького, жалкого, полуразвалившегося замка, после их двора, где летом и зимой воняло навозом, братья Крессе увидели королевское жилище Толомеи, парчу, серебряные вазы, когда почувствовали под пальцами тонкую резьбу подлокотников и вдохнули воздух богатства, изобилия, веявший во всем этом доме, они вынуждены были признать, что сестре их жилось бы не так уж плохо, если бы домашние разрешили ей поступить по велению сердца. Младший брат испытывал искренние угрызения совести. «Хоть она одна из всей семьи жила бы в достатке, да и нам было бы хорошо», – твердил про себя Пьер. Но бородатый Жан, человек ограниченный, все больше распалялся злобой и довольно-таки низменным чувством зависти. «Почему ей, грешнице, должно достаться все это богатство, а мы вынуждены влачить нищенское существование?»
Даже Мари не осталась равнодушной к этой роскоши, которая обступала ее, ослепляла, и она еще сильнее почувствовала свое горе.
«Ах, если бы Гуччо был хоть скромным дворянином, – думала она, – или если бы у нас не было дворянства! Да и что значит рыцарство? Неужели же это такая важность, чтоб из-за него столько страдать? И разве богатство не есть тоже своего рода знатность? Такая ли уж большая разница – пользоваться плодами труда сервов или плодами денежных операций?»
– Не беспокойтесь ни о чем, друзья мои, – проговорил наконец Толомеи, – и во всем положитесь на меня. Такова, видно, доля всех дядюшек – исправлять ошибки, содеянные дурными племянниками. Благодаря моим высокородным друзьям я добился разрешения поместить вашу сестру в Сен-Марсель – королевский монастырь для девиц. Ну как, довольны?
Братья Крессе переглянулись и одобрительно закивали. Монастырь Святой Клариссы, что в предместье Сен-Марсель, пользовался самой лучшей репутацией среди всех прочих женских обителей. Туда, как правило, допускали лишь отпрысков знатных семей. И здесь иной раз под белой вуалью скрывалась незаконная дочь кого-нибудь из членов королевской фамилии. Злоба Жана де Крессе утихла – его дворянское тщеславие было удовлетворено. И, желая показать, что они, Крессе, вполне достойны этой чести, несмотря на грехопадение их сестрицы, он поспешно добавил:
– Вот это отменно хорошо. Кстати, тамошняя настоятельница, если не ошибаюсь, нам сродни; матушка неоднократно об этом говорила.
– Значит, все устроилось как нельзя лучше, – произнес Толомеи. – Я сейчас отведу вашу сестрицу к мессиру Югу де Бувиллю, бывшему первому камергеру…
Братья, как по команде, слегка склонили голову в знак уважения к столь высокой персоне.
– От него-то я и добился этой милости, – продолжал Толомеи, – и сегодня же вечером, обещаю вам, она будет в монастыре. Поэтому отправляйтесь с миром восвояси; я буду сообщать вам все новости.
Братьям только это и требовалось. Им удалось отвязаться от сестрицы, переложив заботы о ней на чужие плечи; причем оба считали, что выполнили свой долг. Молчание святой обители поглотит эту драму, и отныне в Крессе не нужно будет говорить о ней шепотом, да и вообще можно будет не говорить об этом.
– Да хранит тебя Господь и да направит на путь раскаяния, – сказал Жан сестре и больше ничего не добавил перед долгой разлукой.
Гораздо горячее попрощался он с банкиром и поблагодарил за все заботы. Еще немного, и он накинулся бы на Мари с упреками – зачем, мол, она причинила столько хлопот такому превосходному человеку.
– Да хранит тебя Господь, Мари, – взволнованно произнес Пьер.
Он потянулся было поцеловать сестру, но под суровым взглядом старшего брата смущенно отступил назад. А Мари, оставшись наедине с Толомеи, дивилась, что этот смуглолицый толстяк-банкир с чувственным ртом и зажмуренным глазом вдруг оказался ей дядей.
Братья Крессе выехали со двора, и скоро утих вдали храп запаленной кобылы – последний отзвук родного Крессе, уже отходившего вдаль.
– А теперь идемте к столу, дитя мое. За едой слез не льют, – сказал Толомеи.
Он помог своей молодой гостье снять плащ, под тяжестью которого она буквально задыхалась; Мари кинула на него удивленно-признательный взгляд, ибо за долгие недели унижений уже успела отвыкнуть не только от знаков внимания, но даже и от простой вежливости.
«Гляди-ка, материя-то моя», – подумал Толомеи, разглядывая платье Мари.
Ломбардец был не только банкиром, он вел также торговлю с Востоком; рагу, куда он изящно запускал всю пятерню, мясо, от которого он деликатно отрывал кусочки, обчищая кости, – все было пропитано пряными, возбуждающими аппетит запахами. Но Мари еле притрагивалась к пище и отведала лишь первую перемену.
– Он в Лионе, – вдруг проговорил Толомеи, подымая левое, обычно опущенное веко. – Сейчас он не может оттуда выехать, но думает он о вас и в вас верит.
– Он не в тюрьме? – спросила Мари.
– Как бы вам сказать, не совсем… Правда, он находится в заключении, но отнюдь не в связи с вашим делом, а разделяет заточение со столь высокими лицами, что опасаться за него не следует; по всему видно, что он благополучно выйдет из церкви и заключение только придаст ему весу.
– Из церкви? – удивленно переспросила Мари.
– Больше я ничего не имею права вам сообщить.
Но Мари и не настаивала. Гуччо заперт в какой-то церкви вместе с какими-то столь важными особами, что даже имени их назвать нельзя… Эта тайна не умещалась в ее головке. Но в жизни Гуччо уже случались всякие загадочные события, и именно таинственность, окружавшая его, была, пожалуй, одной из причин ее восхищения любимым. В первый раз, когда они встретились, разве не попал он в их Нофль прямо из Англии, куда ездил с поручением к королеве Изабелле? Разве дважды не отлучался он на долгий срок в Неаполь, куда его посылали к королеве Клеменции, и она даже подарила Гуччо ладанку с частицей тела Иоанна Крестителя, надетую у Мари на шее! «Непременно назову своего ребенка Иоанном или Иоанной». Если Гуччо находится сейчас в заключении, то это, должно быть, тоже из-за какой-нибудь королевы. Мари радовалась, что Гуччо, вращаясь среди могущественных принцесс и королев, по-прежнему предпочитает ее, деревенскую простушку. Гуччо жив, Гуччо ее любит, а больше ей ничего и не требовалось, чтобы вновь почувствовать радость жизни, и поэтому Мари принялась за еду со здоровым аппетитом восемнадцатилетней женщины, еще до рассвета пустившейся в дорогу.
Но если Толомеи умел легко и непринужденно беседовать с самыми знатными баронами и пэрами Франции, с прославленными легистами и архиепископами, он уже давно отвык говорить с женщинами, особенно с такими молоденькими. Поэтому разговор не вязался. Старый банкир с восторгом глядел на свою новоявленную племянницу, которая свалилась к нему как снег на голову и которая с каждой минутой нравилась ему все больше и больше.
«Какая жалость, – думал он, – что приходится отправлять ее в монастырь! Если бы Гуччо не находился в заключении вместе с конклавом, я переправил бы это прелестное дитя к нему в Лион; но что она будет делать там одна, без помощи и поддержки? А ведь, судя по тому, как идут дела, кардиналы не склонны сдаваться без боя!.. А может быть, оставить ее здесь, при себе, и ждать возвращения Гуччо? Это, пожалуй, было бы мне еще приятнее. Но нет, нельзя: я ведь просил Бувилля о милости; как же я покажусь теперь ему на глаза, отказавшись от его услуг? А что, если настоятельница действительно сродни де Крессе и этим болванам придет в голову осведомиться у нее о сестре!.. Нет, нет, пусть хоть я в этом деле не потеряю головы по примеру Гуччо. Отправлю ее в монастырь…»
– …но не на всю жизнь, – произнес он вслух. – И речи не может идти о вашем пострижении. Согласитесь на временное пребывание в обители и постарайтесь не грустить; а когда родится ребенок, обещаю, что сам устрою ваши дела, и вы будете жить счастливо с моим племянником.
Мари схватила руку банкира и поднесла ее к губам; старик-ломбардец почувствовал смущение; доброта не входила в число его добродетелей, да и по самому характеру своих занятий он не привык к подобным проявлениям благодарности.
– А теперь пора передать вас на руки графа Бувилля, – произнес он.
От Ломбардской улицы до дворца Сите рукой подать. Мари, шедшая рядом с Толомеи, проделала этот путь в состоянии восторженного изумления. Она впервые попала в большой город. Толпы людей под ярким июльским солнцем, красота зданий, множество лавок, сверкающие витрины ювелиров – все это показалось ей какой-то прекрасной феерией. «Какое счастье, просто счастье, – думала она, – жить здесь, и какой чудесный человек дядя моего Гуччо, и как хорошо, что он покровительствует нам! О да, я без слова жалобы перенесу свое заточение в монастыре!» Они прошли через мост Менял и углубились в Торговую галерею, забитую лотками с товарами.
Только ради удовольствия услышать еще раз слова благодарности и увидеть улыбку Мари, открывавшую белоснежные зубки, Толомеи не удержался и купил ей суму на пояс, расшитую мелким жемчугом.
– Это от имени Гуччо. Теперь я его вам заменяю, – пояснил он, прикинув в уме, что зря не обратился к оптовому торговцу, у которого смог бы приобрести подарок за полцены.
Наконец они поднялись по широкой лестнице во дворец. Итак, только потому, что Мари согрешила с юным ломбардцем, она смогла проникнуть в королевское жилище, куда даже помыслить не смели попасть ее отец и братья, несмотря на свое рыцарство, насчитывавшее уже триста лет, и на услуги, оказанные ими королям на поле брани.
Во дворце царил тот особый беспорядок, когда каждый изображает из себя важную персону, та лихорадочная суета, которая немедленно начиналась там, где появлялся Карл Валуа. Пройдя по бесчисленным галереям, коридорам и анфиладам (причем Мари чувствовала, что с каждым шагом словно уменьшается в росте), Толомеи и его спутница достигли наиболее уединенной части дворца, расположенной позади часовни Сент-Шапель и выходившей на Сену и на Еврейский остров. Страж из дворян в воинских доспехах преградил им путь. Ни одна живая душа не смела проникнуть в покои королевы Клеменции без разрешения хранителей чрева. Пока слуги разыскивали графа де Бувилля, Толомеи и Мари отошли к окну.
– Вот, посмотрите, здесь сожгли тамплиеров, – пояснил Толомеи, указывая на остров.
Наконец появился толстяк Бувилль, тоже в полном воинском снаряжении, и решительным шагом, словно шел на штурм крепости, направился к посетителям; под тонкой сталью кольчуги подрагивало его объемистое брюшко. Движением руки он отстранил стража. Толомеи и Мари прошли сначала через комнату, где, сидя в кресле, мирно дремал сир де Жуанвиль. Двое его конюших тут же в сосредоточенном молчании играли в шахматы. Затем Бувилль ввел посетителей в свои собственные покои.
– Оправилась ли мадам Клеменция от своего горя? – спросил Толомеи у Бувилля.
– Плачет она теперь не так часто, – ответил толстяк, – вернее, не показывает нам своих слез, старается их удержать. Но она по-прежнему сражена смертью государя. Да и здешняя жара ей вредна, у нее то и дело бывают головокружения и обмороки.
«Значит, королева Франции здесь, совсем рядом! – думала Мари со жгучим любопытством. – А вдруг меня ей представят? Осмелюсь ли заговорить с ней о Гуччо?»
Ей пришлось присутствовать при бесконечно долгой беседе – из которой, впрочем, она не поняла ни слова – между банкиром и бывшим камергером Филиппа Красивого. Называя какие-то имена, оба понижали голос, а то и отходили в сторону, и Мари старалась не прислушиваться к их шепоту.
Граф Пуатье должен был приехать завтра из Лиона. И теперь Бувилль, так страстно ждавший его возвращения, уже и сам не знал, к добру это или нет. Ибо его высочество Валуа решил немедленно отправиться навстречу Филиппу вместе с графом де ла Маршем; и Бувилль, подведя банкира к окну, указал ему на двор, где шли спешные приготовления к отъезду. С другой стороны, герцог Бургундский, обосновавшийся в Париже, приставил стражу из собственных дворян к своей племяннице, крошке Жанне Наваррской. Королевская казна окончательно опустела. Недобрый ветер мятежа реет над столицей, и борьба за регентство грозит страшными бедами. По мнению Бувилля, следовало бы назначить матерью-регентшей королеву Клеменцию, а ей придать Королевский совет в составе Валуа, Пуатье и герцога Бургундского.
Хотя Толомеи слушал с интересом рассказ Бувилля о дворцовых интригах, он все же не раз пытался прервать его сетования и заговорить о цели своего визита.
– Конечно, конечно, мы позаботимся об этой девице, – рассеянно отвечал Бувилль и тут же снова заводил речь о политике.
Получает ли Толомеи сведения из Лиона? Камергер дружески взял банкира за плечо и зашептал ему что-то прямо в ухо. Как? Гуччо заперли вместе с Дюэзом и всем конклавом? Ну и ловкий малый! А как полагает Толомеи, можно ли сообщаться с его племянником? Если ему удастся получить от него весточку или представится случай передать ему записку, пусть немедленно даст знать; Гуччо послужит им в качестве весьма ценного посредника. А что касается Мари…
– Конечно, конечно, – продолжал Бувилль. – Моя супруга – особа весьма умная и деятельная, она уже устроила все как нельзя лучше. Так что не тревожьтесь.
Кликнули мадам Бувилль, невысокую худенькую даму с властными манерами и личиком, изрезанным продольными морщинами; ее сухонькие ручки постоянно находились в движении. В обществе двух толстяков – Толомеи и Бувилля – Мари чувствовала себя под надежной защитой, а теперь ее сразу охватила тревога и какая-то неловкость.
– Ах, значит, это вы должны скрыть свой грех! – проговорила мадам Бувилль, окинув гостью недоброжелательным взглядом. – Вас ждут в монастыре. Настоятельница не особенно охотно пошла нам навстречу, а когда узнала ваше имя, то просто возмутилась, потому что, оказывается, состоит с вами в родстве и, конечно, не может одобрить вашего поведения. Но в конце концов положение моего супруга при дворе сыграло свою роль. Пришлось мне немножко с ней повздорить, и все уладилось. Вас примут в монастырь. Я сама отвезу вас туда к вечеру.
Говорила она быстро, и прервать ее было нелегко. Когда она остановилась, чтобы перевести дух, Мари ответила ей почтительно, но с достоинством:
– Мадам, я не согрешила, ибо я обвенчана перед Господом Богом.
– Ладно, ладно, – прервала ее мадам Бувилль, – не вынуждайте меня жалеть о том, что мы для вас сделали. Поблагодарите лучше тех, кто вам помог, чем хвастаться своими добродетелями.
Тут Толомеи поторопился поблагодарить супругу Бувилля от имени Мари. Когда же Мари увидела, что банкир направился к двери, ее охватило такое отчаяние, такая растерянность, она почувствовала себя такой одинокой, что, не помня себя, бросилась к Толомеи, словно к родному отцу.
– Сообщайте мне о судьбе Гуччо, – шепнула она ему, – и передайте ему, что я томлюсь без него.
Толомеи ушел, а вслед за ним исчезли и супруги Бувилль. Все послеобеденное время Мари просидела в их приемной, не смея шелохнуться, и только поглядывала в открытое окно на двор, где готовился к отъезду Карл Валуа со свитой. Это зрелище на время отвлекло Мари от ее собственных бед. Никогда еще она не видела таких прекрасных коней, такой прекрасной сбруи, такой прекрасной одежды, и притом в таком множестве. Она вспомнила крестьян из Крессе, одетых в лохмотья, с тряпичными обмотками на ногах, и ей впервые пришла в голову мысль, что мир устроен весьма странно, раз одинаковые существа об одной голове и двух руках, равно сотворенные Господом Богом по его образу и подобию, принадлежат, если судить по их внешнему виду, к двум различным расам.
Молодые конюшие, заметив, что на них смотрит из окошка такая красавица, начали ей улыбаться, а потом, осмелев, слать воздушные поцелуи. Вдруг, прервав свою забаву, они бросились к какому-то вельможе, сплошь расшитому серебром, а тот, видно, был весьма горд собой и принимал царственные позы; потом вся кавалькада умчалась, и полуденный зной тяжело навис над дворами и садами дворца.
К концу дня за Мари пришла мадам Бувилль. Взобравшись на мулов, оседланных по-дамски, то есть ходивших под вьючным седлом, на которое садились боком и ставили ноги на маленькую перекладинку, обе женщины в сопровождении слуг отправились в путь. У дверей таверн толпился народ, слышались крики; между сторонниками графа Валуа и людьми герцога Бургундского началась драка, причем обе стороны были изрядно под хмельком. Городской страже ударами дубинок удалось навести порядок.
– В городе неспокойно, – пояснила мадам Бувилль. – И я ничуть не удивлюсь, если завтра начнется смута.
Проехав через мост Сент-Женевьев и заставу Сен-Марсель, они выехали за пределы Парижа. Пригороды уже окутывал вечерний сумрак.
– В дни моей молодости, – продолжала мадам Бувилль, – здесь и двух десятков домов не было. Но теперь людям негде селиться в городе, вот они и застроили все поля.
Монастырь Святой Клариссы был обнесен высокой белой стеной, скрывавшей от постороннего глаза строения, палисадники и фруктовые сады. В стене – низенькая дверца и возле дверцы – башенка, встроенная в толщу каменной стены. Какая-то женщина, с низко надвинутым на лоб капюшоном, быстро прошла вдоль стены, приблизилась к башенке и, вынув из-под плаща сверток, положила его в клеть; из свертка неслись жалобные попискивания; женщина повернула деревянный барабан, дернула за веревку колокол, но, заметив посторонних, бросилась прочь.
– Что она делает? – полюбопытствовала Мари.
– Подкинула своего младенца, рожденного вне брака, – пояснила мадам Бувилль, кинув на Мари осуждающий взгляд. – Таков обычай. Давайте поторопимся.
Мари стала подгонять своего мула. Ей подумалось, что, может, и ей тоже в один злосчастный день пришлось бы подкинуть свое дитя, так что не стоит слишком жаловаться на свою судьбу.
– Я так благодарна вам, мадам, за все ваши заботы обо мне, – пробормотала она, и на глазах ее выступили слезы.
– Наконец-то слышу от вас первое разумное слово, – ответила мадам Бувилль.
Через несколько минут перед ними распахнулись ворота, и Мари поглотило безмолвие святой обители.
Глава VII
Дворцовые ворота
Этим же вечером граф Пуатье добрался до замка Фонтебло, где ему предстояло провести ночь – последнюю ночь перед въездом в Париж. Он заканчивал ужин в обществе дофина Вьеннского, графа Савойского и своей многочисленной свиты, когда ему доложили о прибытии его дяди графа Валуа, его родного брата графа де ла Марша и их общего кузена Сен-Поля.
– Пусть войдут, пусть войдут немедленно, – приказал Филипп Пуатье.
Но сам не поспешил навстречу дяде. И когда тот, звонко чеканя шаг, торжественно задрав подбородок, появился в пропыленном плаще на пороге, Филипп не сделал даже шага в его сторону, а лишь поднялся с кресла и стоя ждал его приближения. Несколько смущенный таким приемом, Валуа замер в дверях, оглядывая присутствующих, и, так как Филипп упорно не двигался с места, Валуа пришлось сделать к нему несколько шагов. Все свидетели этой сцены замолкли. Когда Валуа приблизился, Филипп обнял его за плечи и дважды коснулся губами его щек, что могло бы при желании сойти за родственную встречу любящего племянника с дядей, но, коль скоро племянник не соблаговолил сдвинуться с места, было чисто королевским жестом.
Поведение Филиппа рассердило Карла де ла Марша. «Неужели мы мчались всю дорогу, – подумал он, – для такой встречи? В конце концов, я ничуть не ниже Филиппа, мы с ним равны; так почему же он позволяет себе обращаться с нами свысока?»
Его прекрасное лицо с правильными чертами, на котором застыло глуповатое выражение, исказилось от горького чувства зависти.
Филипп протянул ему обе руки, поэтому Карлу де ла Маршу не оставалось ничего другого, как обнять брата, впрочем довольно холодно. Но, желая придать себе веса, а также подчеркнуть свое значение, он проговорил, указывая на Валуа:
– Филипп, вы знаете, что наш дядя старейший член царствующего дома. Мы оценили по достоинству ваше достохвальное согласие с ним и с его намерением взять власть в свои руки. Ибо королевству грозит гибель, если власть перейдет к ребенку, который еще не родился и который, естественно, не может осуществлять верховную власть, даже появившись на свет божий; а главное, как сын своей матери, он навсегда останется для нас чужестранцем.
Эта двусмысленная фраза прозвучала не совсем уместно. Она могла означать, что граф де ла Марш склоняется на сторону своего дяди Валуа, которому и надлежит быть регентом вплоть до рождения ребенка покойного короля, а буде таковой родится мужского пола, то и до его совершеннолетия; но она одновременно выдавала и непомерные притязания самого Валуа. Очевидно, граф де ла Марш повторил, но не совсем точно, те слова, которые вдалбливал ему по пути дядя. Некоторые выражения в этой тираде заставили Филиппа Пуатье нахмуриться. Ясно, Валуа метит на королевский престол.
– Мы нарочно взяли с собой нашего кузена Сен-Поля, – продолжал граф де ла Марш, – пусть он подтвердит вам, что такого же мнения придерживаются и бароны.
Филипп бросил на Карла презрительный взгляд.
– Весьма признателен вам, брат мой, за добрый совет, – холодно произнес он, – и за проделанный вами столь длинный путь лишь для того, чтобы я услышал ваше мнение. Но я полагаю, что вы устали не меньше, чем я, а усталость – плохой советчик. Посему предлагаю вам отправиться спать, а завтра со свежей головой в тесном кругу обсудим все эти вопросы. Доброй ночи, мессиры… Рауль, Ансо, Адам, прошу вас следовать за мной.
И он вышел из залы, не предложив своим гостям отужинать и даже не поинтересовавшись, где и как они устроятся на ночлег.
В сопровождении Адама Эрона, Рауля де Преля и Ансо де Жуанвиля регент направился в королевские покои. С тех пор как Филипп Красивый испустил здесь дух, никто не касался королевского ложа, но теперь его приготовили для ночлега графу Пуатье. Филипп поторопился занять королевские покои главным образом для того, чтобы их не заняли другие.
Адам Эрон бросился было раздевать Филиппа.
– Боюсь, что нынче ночью мне не придется раздеваться, – остановил его Филипп. – Отправьте-ка, Адам, одного из моих конюших к мессиру Гоше де Шатийону и дайте ему знать, что завтра утром я буду у заставы д’Анфер. И потом пришлите сюда моего цирюльника, ибо я хочу иметь свежий вид… Велите также приготовить к полуночи двадцать лошадей, но только смотрите, когда мой дядя заснет, не раньше… А вам, Ансо, – добавил он, обратившись к сыну сенешаля де Жуанвиля, мужчине уже в летах, – а вам я поручаю предупредить графа Савойского и дофина, а то они, чего доброго, решат, что я им не доверяю. Оставайтесь здесь до утра и, когда дядя обнаружит мое отсутствие, постарайтесь его задержать и всячески замедлить его отъезд. Сделайте так, чтобы он приехал в Париж как можно позже.
Оставшись наедине с Раулем де Прелем, Филипп погрузился в свои мысли, и легист не посмел нарушить этого молчаливого раздумья.
– Рауль, – проговорил наконец граф, – вы день за днем трудились рядом с моим покойным отцом, и вы знали его даже лучше, чем я. Скажите, как бы поступил он в подобных обстоятельствах?
– Поступил бы, как вы, ваше высочество, ручаюсь вам в том и говорю это не для того, чтобы вам польстить, а лишь потому, что твердо в этом уверен. Я слишком любил нашего государя, короля Филиппа, и слишком натерпелся с тех пор, как его призвал к себе Господь, и если я служу вам теперь верой и правдой, то лишь потому, что вы напоминаете мне его во всем, даже в мелочах.
– Увы, Рауль, увы, что я по сравнению с ним! Отец мог следить за полетом охотничьего сокола и ни на минуту не выпускать его из виду, а у меня слабое зрение. Отец без труда сгибал пальцами подкову. Нет, я не унаследовал от него ни твердости руки во владении оружием, ни внешнего облика, по которому каждый узнавал короля.
Продолжая беседовать с Раулем, Филипп не отрываясь глядел на королевское ложе.
В Лионе он уже чувствовал себя регентом, и ничто там не могло поколебать этой уверенности. Но по мере приближения к столице вера эта понемногу улетучивалась, хоть он и скрывал это от посторонних. Как бы отвечая на не заданный вслух вопрос, Рауль де Прель проговорил:
– Но ведь, ваше высочество, такое положение создалось впервые. Недаром мы обсуждали его в течение нескольких дней. В том состоянии ослабленности, в каком находится ныне французское королевство, власть окажется в руках того, кто осмелится ее взять. И если это удастся сделать вам, Франция будет в выигрыше.
Когда легист удалился, Филипп, не раздеваясь, прилег на кровать, вглядываясь в маленькую лампу, свисавшую под пологом. Граф Пуатье не испытывал ни малейшей неловкости, никакого неприятного чувства на этом ложе, где еще так недавно покоилось тело его отца. Напротив, он как бы черпал в этом силу; ему казалось, что он становится сколком с отца, замещает его, занимает то обширное место на земле, которое принадлежало королю. «Отец, вселитесь в меня!» – молил он и, не шевелясь, скрестив на груди руки, ждал чуда перевоплощения, надеясь, что в него вселится душа, отлетевшая к небу двадцать месяцев назад.
Из коридора донесся шум шагов, голоса, и он услышал, как его камергер сказал кому-то из свиты Карла Валуа, что граф Пуатье почивает. Тишина окутала замок. А через несколько минут явился брадобрей с неизменным своим тазиком, бритвами и нагретыми полотенцами. Пока его брили, Филипп вспоминал, как в этой самой комнате в присутствии всего двора покойный отец давал последние наставления Людовику, который, увы, не воспользовался мудрыми советами умирающего: «Вникните, Людовик, вникните, что значит быть королем Франции. Как можно скорее ознакомьтесь с состоянием вашего королевства».
Ровно в полночь вошел Адам Эрон и доложил, что лошади готовы. И когда граф Пуатье вышел из королевской опочивальни, ему показалось, что не было этих двадцати месяцев, прошедших со дня смерти Филиппа Красивого, и ничто не изменилось за это время, словно он принял прямо из рук покойного отца бразды правления.
Луна благоприятствовала путникам, освещая им дорогу. Июльское небо, все в мерцающих звездах, напоминало богатый покров Пресвятой Богородицы. Лес слал им навстречу все свои ароматы – запахи мха, прелой земли и папоротника, под ветвями слышался таинственный шорох зверья, населявшего этот мрак. Филипп Пуатье скакал на чистокровном коне и наслаждался его прекрасным аллюром. Свежий ветер хлестал по его лицу, чуть раздраженному после бритья.
«Как будет жаль, – думал он, – если столь чудесный край попадет в скверные руки».
Небольшая кавалькада миновала лес, пронеслась галопом через Понтьерри и на рассвете сделала привал в ложбине у Эссона, чтобы перекусить и дать отдышаться лошадям. Филипп поел, сидя на межевой тумбе. Лицо его сияло счастьем. Ему было всего двадцать три года, их ночная вылазка чем-то напоминала воинский поход, и он весело шутил со своими спутниками. Веселость, столь редкая у Филиппа, успокоила всех.
В тот час, когда пронзительный звон окрестных монастырей сзывал верующих к ранней мессе, Филипп достиг ворот Парижа. Там его уже дожидались Людовик д’Эврё и Гоше де Шатийон. Коннетабль хмурился, как в дни проигранных сражений. Без лишних слов он предложил графу отправиться в Лувр.
– А почему не прямо во дворец Сите? – удивился Филипп.
– Потому что по приказу наших достоуважаемых сеньоров графа Валуа и графа де ла Марша дворец занят их вооруженными людьми. А в Лувре находятся королевские войска, повинующиеся мне, то есть вам, а также арбалетчики мессира Галара… Но надо действовать решительно и спешно, – добавил коннетабль, – дабы опередить наших двух Карлов. Если вы дадите мне приказ, ваше высочество, я овладею дворцом.
Филипп понимал, что каждая минута сейчас дорога. Но ведь в любом случае он опередил Валуа на шесть-семь часов.
– Я не хочу предпринимать никаких решительных мер, прежде чем не узнаю, будут ли они благосклонно приняты зажиточными горожанами и народом Парижа, – ответил он.
И, прибыв в Лувр, Филипп первым делом велел вызвать к себе из Парижской палаты мэтра Кокатри, мэтра Жантьена и еще нескольких знатных нотаблей, а с ними прево Гийома, настоятеля собора Святой Мадлены, который в марте занял место прево Плуабуша.
Не тратя зря слов, Филипп сообщил собравшимся о том, какое огромное значение придает он богатым горожанам, равно как и людям, занимающимся ремеслами и торговлей. Польщенные его словами, горожане сразу же успокоились. С такими речами никто не обращался к ним со дня смерти Филиппа Красивого, которого при жизни они, случалось, и поругивали тайком, но о котором в последнее время вспоминали с сожалением. Отвечал Филиппу Жоффруа Кокатри, генеральный контролер, наблюдавший за полноценностью монеты, имевшей хождение в государстве, в чьем ведении находились субсидии и пособия, распределитель военной казны, поставщик армии, досмотрщик над всеми портами и дорогами королевства, глава счетной палаты, – все эти должности он получил при Филиппе Красивом, и покойный король дал ему, как и всем высоким должностным лицам государства, право на наследственное пособие и никогда не спрашивал с него отчета в делах. Мэтр Кокатри побаивался Карла Валуа, который всегда противился назначению горожан на высокие государственные посты, что и доказал на примере Мариньи; он опасался, что Карл отстранит его от должности, чтобы отобрать огромное состояние, нажитое за последние годы. Посему Кокатри поспешил заверить графа Пуатье, величая его при всяком удобном и неудобном случае «мессиром регентом», в полной преданности парижского населения. А слово мэтра Кокатри стоило многого, ибо в Парижской палате он пользовался неограниченной властью и был достаточно богат, чтобы в случае надобности купить всех городских бродяг и поднять в Париже мятеж.
Весть о возвращении Филиппа Пуатье быстро распространилась по столице. Бароны и рыцари, сочувствовавшие его назначению, начали съезжаться в Лувр, и первой появилась графиня Маго Артуа, лично извещенная о приезде зятя.
– Ну, как себя чувствует моя душенька Жанна? – обратился Филипп к теще, открывая ей объятия.
– Ждет со дня на день разрешения от бремени.
– Вот только закончу дела и сразу же поеду к ней.
После чего граф снова решил посоветоваться со своим дядей Людовиком д’Эврё и коннетаблем.
– А сейчас, Гоше, смело можете брать дворец. Постарайтесь, если, конечно, удастся, закончить операцию к полудню. Но всеми возможными способами избегайте кровопролития. Действуйте более страхом, чем насилием. Не хотелось бы мне вступать во дворец по трупам.
Гоше принял командование над вооруженной стражей, собранной в Лувре, и направился к Сите. Одновременно он послал прево в квартал Тампль кликнуть самых искусных плотников и слесарей.
Ворота дворца оказались на запоре. Гоше, при котором неотступно находился командир арбалетчиков, потребовал, чтобы его выслушали. Караульный офицер, выглянув в окошечко, пробитое над главным входом, ответил, что может отпереть ворота лишь по распоряжению графа Валуа или графа де ла Марша.
– Придется вам все-таки мне открыть, – сказал коннетабль, – ибо я намерен войти во дворец и приготовить его к встрече регента, который явится сюда сразу же вслед за нами.
– Открыть мы не можем.
Гоше де Шатийон пригнулся к луке седла.
– Что ж, откроем тогда сами, – сказал он.
И он махнул рукой, подзывая к себе мэтра Пьера, королевского плотника, который явился во главе целого отряда своих подручных, несших пилы, клещи и толстые железные брусья. В то же самое время арбалетчики, вставив ногу в петлю – нечто вроде стремени, помещавшегося на конце самострела, – натянули луки, вложили стрелы в зарубку и выстроились боевым строем, целясь в амбразуры и в просветы между зубцами стены. Лучники и копейщики, сдвинув вплотную щиты, прикрывали, как панцирем, плотников сбоку и сверху. В прилегающих ко дворцу улочках толпились мальчишки и зеваки, которым не терпелось увидеть осаду. Впрочем, держались они на почтительном расстоянии от места предполагаемой битвы. Это было нечаянное развлечение, одних разговоров о таком событии хватит на полгода: «Говорю вам, я сам там был… А коннетабль как вытащит шпагу, длинную-предлинную, своими глазами видел… Уж поверьте на слово, было их две тысячи, да нет, какое, больше чем две…»
Наконец Гоше громовым голосом, каким посылал войска в атаку, крикнул, подняв забрало:
– Мессиры, находящиеся внутри дворца, смотрите, вот мастера – плотники и слесаря, они сейчас разнесут ворота! А вот и арбалетчики мессира Галара, они окружили дворец со всех сторон! Ни одному из вас не удастся проскользнуть наружу. В последний раз предлагаю вам открыть вход, ибо, если вы не сдадитесь на нашу милость, ваши головы полетят прочь, будь вы самые знатные бароны и сеньоры. Не ждите от регента пощады.
И опустил на лицо забрало, показывая, что в дальнейшие переговоры вступать не намерен.
А там, во дворце, должно быть, царили страх и смятение, так как едва только плотники прикоснулись к воротам, они раскрылись сами. Гарнизон графа Валуа сдался.
– В самое время взялись за ум, – похвалил их коннетабль, въезжая как завоеватель во дворец. – Возвращайтесь по домам или в особняки ваших сеньоров, не вздумайте собираться кучно, тогда вам никто не причинит зла.
Через час Филипп Пуатье расположился в королевских покоях. И сразу же принял все меры предосторожности. Двор Сите, обычно открытый для толпы, заперли, выставили вооруженную стражу и тщательно удостоверяли личность каждого, кто пытался проникнуть внутрь. Торговцев красным товаром, издавна пользовавшихся привилегией торговать в большой дворцовой галерее, попросили закрыть на время их лавки.
Когда граф Валуа и его племянник Карл де ла Марш прибыли в Париж, они сразу поняли, что их ставка бита.
– Филипп сыграл с нами злую шутку, – твердили они.
И оба поспешили во дворец, чтобы за неимением иного выхода повыгоднее продать свое согласие подчиниться новому регенту. Вокруг Филиппа Пуатье уже толпились знатные сеньоры, горожане и священнослужители, в числе коих находился и Жан Мариньи, как всегда поспешивший встать на сторону сильного.
– Недолго он продержится! Видно, не слишком уверен в своих силах, раз вынужден опираться на простонародье, – вполголоса заметил Валуа, увидев среди присутствующих мэтра Кокатри, Жантьена и других нотаблей.
Тем не менее он принял самый беспечный вид и пробился вперед, чтобы испросить у Филиппа прощения за утренний инцидент.
– Мои оруженосцы и стража ничего не знали. А дан им был такой строгий приказ из-за… королевы Клеменции.
Он ждал от племянника суровой отповеди, больше того, мечтал о ней, чтобы под благовидным предлогом вступить с племянником в открытую борьбу. Но Филипп и не подумал предоставить дяде выгоду ссоры и ответил самым миролюбивым тоном:
– Я вынужден был так действовать, к великому моему огорчению, ибо необходимо было предотвратить козни герцога Бургундского, которому ваш отъезд развязал руки. Нынче ночью в Фонтенбло я получил об этом весть и не захотел вас будить.
Желая скрыть свою неудачу, Карл Валуа волей-неволей принял это объяснение и даже заставил себя приветливо улыбнуться коннетаблю, которого не без основания считал главным действующим лицом всей этой интриги.
Карл де ла Марш, не столь понаторевший в искусстве притворства, стоял не раскрывая рта.
Тут граф д’Эврё внес предложение, которое они заранее обсудили с Филиппом. Воспользовавшись той минутой, когда Пуатье удалился в угол якобы за тем, чтобы решить кое-какие неотложные дела с коннетаблем и Милем де Нуайе, Людовик д’Эврё начал:
– Благородные сеньоры и все вы, мессиры, послушайтесь моего совета, пусть ради блага нашего королевства и предотвращения пагубных смут наш возлюбленный племянник Филипп возьмет в свои руки бразды правления с всеобщего нашего согласия и вершит дела от имени будущего своего племянника, если по Господней милости королева Клеменция разродится младенцем мужеского пола; советую также созвать ассамблею с участием самых высокопоставленных в государстве лиц, и притом по возможности скорее; пусть в ней примут участие пэры и бароны, дабы одобрить наше решение и присягнуть на верность регенту.
Это был ответный удар на заявление, сделанное накануне в Фонтенбло Карлом де ла Маршем. Но эту сцену разыграли более искусные актеры. Подстрекаемые приспешниками графа Пуатье, все присутствующие дружно выразили свое одобрение. И тут Людовик д’Эврё повторил жест графа де Форе, когда тот в Лионе вложил обе свои руки в руки Филиппа.
– Клянусь вам в верности, племянник, – сказал он, преклоняя колена.
Филипп поднял дядю с колен, облобызал и успел шепнуть ему на ухо:
– Все прошло как нельзя лучше; огромное спасибо вам, дядюшка.
Карл де ла Марш, в полном отчаянии, не в силах сдержать ярости при виде торжества брата, злобно прошипел:
– Король… Он себя уже королем считает!
Но Людовик д’Эврё подошел к Карлу Валуа и произнес:
– Простите, брат мой, что я нарушил законы старшинства.
Карлу Валуа осталось лишь одно – смириться. Он приблизился к Филиппу, протягивая руки. Но эти руки повисли в воздухе.
– Надеюсь, дядя, вы окажете мне честь и будете заседать в моем Совете, – сказал Филипп.
Валуа побледнел. Еще накануне он собственноручно подписывал ордонансы и скреплял их своей личной печатью. А сегодня ему как великую честь предлагают заседать в Совете, как будто у него нет на это права!
– Вручите нам также ключи от казны, – добавил Филипп, понижая голос. – Я отлично знаю, что там свищет ветер. Но пусть хоть окончательно все оттуда не высвищет.
Валуа невольно отпрянул; это уж была полная отставка от всех должностей.
– Но, племянник, не могу… – пробормотал он. – Ведь надо еще привести в порядок счета…
– Так ли уж вы, дядюшка, стремитесь привести счета в порядок? – спросил Филипп с еле заметной иронией. – В таком случае мы также вынуждены будем их проверить, а равно судьбу имущества, изъятого у Ангеррана Мариньи. Лучше отдайте нам ключи, и будем считать, что мы квиты.
Валуа понял, что это угроза.
– Будь по-вашему, племянник, ключи будут здесь через час.
Тут только Филипп протянул дяде руки и принял присягу от своего самого могущественного соперника.
К новому регенту подошел коннетабль Франции.
– А теперь, Гоше, – шепнул ему Филипп, – займемся бургундцем.
Глава VIII
Первые визиты графа Пуатье
Граф Пуатье не строил себе иллюзий. Он одержал первую победу, быструю и внушительную, но понимал, что его противники так просто не сложат оружия.
Приняв от его высочества Валуа присягу на верность, хотя и не сомневаясь, что присягу принесли лживые уста, Филипп первым делом направился к своей невестке Клеменции, чьи покои находились в самом дальнем конце дворца. Его сопровождали Ансо де Жуанвиль и графиня Маго. Завидев Филиппа, Юг Бувилль даже заплакал от радости и, упав на колени, облобызал его руки. Бывший первый камергер Филиппа Красивого, хоть он и входил в Совет пэров, не явился на вечернее заседание; все последнее время он ни на минуту не покидал своего поста, не выпускал из рук шпаги. Осада дворца людьми коннетабля, общая суматоха и бегство приверженцев графа Валуа – все это оказалось слишком суровым испытанием для его чересчур чувствительной натуры.
– Простите, ваше высочество, простите мне эту слабость… Я плачу от радости, оттого, что вы возвратились, – бормотал он, обливая слезами тонкие пальцы регента.
– Ну полноте, полноте, дражайший Бувилль, – сказал Филипп.
Древний старец Жуанвиль не узнал графа Пуатье. Не узнал он также и родного сына и только после трехкратных повторений понял, кто перед ним, но тут же опять все перепутал и почтительно склонился перед Ансо.
Бувилль распахнул двери покоев королевы. Но когда Маго двинулась было вслед за Филиппом, хранитель чрева обрел прежнюю энергию и воскликнул:
– Только вы один, ваше высочество, только вы один!
И захлопнул двери перед самым носом графини.
Королева Клеменция сидела в своих покоях с бледным, усталым лицом, и чувствовалось, что тревожные события, разыгравшиеся во дворце и взволновавшие жителей столицы, были ей глубоко безразличны. Но, увидев Филиппа, который приближался к ней с широко раскрытыми объятиями, она невольно подумала: «Выйди я замуж за него, я не была бы сейчас вдовой. Почему Людовик? Почему не Филипп?» Она гнала прочь эти мысли, которые считала богохульством, упреком Всевышнему. Но нет на свете такой силы, даже пламенная вера не может помешать двадцатитрехлетней вдове терзаться вопросом: почему, почему другие молодые мужчины, почему чужие мужья остались в живых?
Филипп сообщил ей о своем регентстве и уверил королеву в своей безусловной преданности.
– Да, брат мой, да, помогите мне, – пробормотала она.
Ей хотелось сказать: «Помогите мне жить, помогите мне бороться с безысходным моим горем. Помогите мне произвести на свет это новое существо, которому отныне принадлежат все мои помыслы», но она не сумела выразить свою мысль и только спросила:
– Почему наш дядя Валуа силой увез меня из Венсеннского дворца? Ведь Людовик на смертном одре подарил дворец мне.
– Стало быть, вы хотите туда возвратиться? – осведомился Филипп.
– Это единственное мое желание, брат мой! Там я почувствую себя сильнее. И дитя мое родится в близости от того места, где душа его отца отлетела прочь.
Не в привычках Филиппа было принимать решения наспех, даже самые, казалось бы, второстепенные. Он отвел взор от бледного личика Клеменции, полускрытого белой вуалью, и через окно поглядел на шпиль Сент-Шапель; четкие линии часовни расплывались и туманились в его близоруких глазах, и он видел лишь огромный каменный стебель, разукрашенный золотом, на вершине которого как бы расцветала королевская лилия.
«Если я удовлетворю эту просьбу, – думал он, – Клеменция будет мне признательна как своему защитнику и покровителю и будет следовать всем моим решениям. К тому же моим противникам будет труднее добраться до нее в Венсенне, а значит, и труднее пользоваться ею как орудием против меня. Хотя в теперешнем ее состоянии скорби никому она не послужит орудием».
– Я стремлюсь только к тому, сестра, чтобы удовлетворить любое ваше желание, – произнес он, – и когда высокая ассамблея утвердит меня в правах регента, первой моей заботой будет отправить вас обратно в Венсенн. Сегодня понедельник, ассамблея, поскольку я тороплюсь, соберется не позднее пятницы. Так что в следующее воскресенье вы, надеюсь, сможете прослушать мессу в вашем собственном дворце.
– Я знала и знаю, Филипп, что вы мне настоящий брат. Ваш приезд – первое утешение, милостиво посланное мне Господом.
Выйдя из покоев королевы, Филипп увидел поджидавшую его тещу. Она сцепилась было с Бувиллем, но, потерпев поражение, широким мужским шагом мерила длинную галерею под недоверчивым взглядом конюших.
– Ну, как она? – обратилась Маго к Филиппу.
– Благочестива и смиренна, как всегда, и вполне достойна произвести на свет короля Франции, – ответил Филипп громко, чтобы его могли слышать присутствующие. – Затем, понизив голос, добавил: – Не думаю, что при ее состоянии здоровья она способна доносить ребенка до положенного срока.
– Лучшего подарка она не может нам преподнести, а главное, все тогда уладилось бы само собой, – тоже полушепотом ответила Маго. – Кончились бы, слава те Господи, все эти страхи и подозрения, вся эта комедия с охраной, словно кругом идет война. С каких это пор пэру Франции заказан вход к королеве? Я тоже осталась вдовой, но, черт возьми, если дело касалось интересов моих владений, люди свободно приходили ко мне.
Эта отравительница искренне негодовала, что меры, принятые для охраны королевы, направлены и против нее тоже.
Филипп, еще не видевший жены, последовал за Маго в отель Артуа.
– Ваша разлука тяжело отразилась на моей дочери, – сказала Маго. – Но тем не менее вы, надеюсь, найдете ее восхитительно свежей. Никто не скажет, что она накануне родов. И я тоже, когда бывала в тягости, помню, до последней минуты бегала по всему замку.
Встреча графа Пуатье с женой прошла весьма трогательно, хотя не было пролито ни одной слезы. Правда, Жанна отяжелела и двигалась не так изящно, как прежде, но весь ее облик свидетельствовал об отменном здоровье и счастье. Начинало темнеть, и при свечах – отблеск коих благоприятен дамам, заботящимся о своей наружности, – лицо Жанны не носило никаких следов ее положения, словно она и не была на сносях. Несколько ниток кораллов, которые, как известно, помогают при родах, украшали ее шейку.
Только в присутствии жены Филипп впервые понял, сколь велика одержанная им победа, и впервые почувствовал гордость. Обняв жену, он произнес:
– Надеюсь, милый друг, отныне я смогу называть вас мадам регентшей.
– Если бы Господь Бог смилостивился надо мной и послал вам сына! – ответила она, прижимаясь к груди худощавого, но крепкого Филиппа.
– Пусть бы Господь Бог простер свое милосердие, чтобы роды произошли не раньше пятницы, – шепнул Филипп на ухо жене.
Но тут же между Маго и Филиппом начался спор. Графиня Артуа считала, что Жанну следует немедленно перевести в королевский дворец, в покои ее супруга. А Филипп держался противоположного мнения и требовал, чтобы Жанна оставалась в отеле Артуа. Он приводил десятки вполне разумных доводов, но скрыл единственную истинную причину своего упорства и, конечно, ничуть не убедил графиню Маго. В королевском дворце соберется ассамблея, неизвестно еще, пройдет ли она мирно; во всяком случае, волнение может пагубно отразиться на состоянии роженицы; с другой стороны, Филипп считал необходимым дождаться отъезда королевы Клеменции в Венсенн и лишь после этого поселить Жанну в королевском дворце.
– Бог знает, что вы говорите, Филипп, – воскликнула Маго. – А вдруг завтра ее уже поздно будет трогать с места? Неужели вам не хочется, чтобы ваш ребенок увидел божий свет во дворце?
– Именно этого-то я и хочу избежать.
– Решительно не понимаю вас, сын мой, – промолвила Маго, пожимая своими могучими плечами.
Этот спор утомил Филиппа. Он не спал больше суток, проскакал еще до рассвета пятнадцать лье, а сегодняшний день был самым трудным, самым беспокойным днем за всю его жизнь. Он досадливо провел ладонью по щекам, уже успевшим зарасти густой щетиной; он чувствовал, что временами веки его неудержимо смыкаются. Но решил не поддаваться усталости. «В постель, скорее в постель. Только бы она быстрее подчинилась мне, и тогда я смогу лечь», – думал он.
– Узнаем лучше мнение Жанны. Чего вы сами хотите, душенька? – спросил он, уверенный в ответе жены.
Графиня Маго славилась чисто мужским умом, чисто мужским самообладанием и неусыпно пеклась о престиже своего славного рода. Жанна пошла характером не в мать и уже давно смирилась с тем, что самой судьбой предназначена для второстепенных ролей. Сначала ее прочили в невесты Сварливому, но потом отдали в жены второму сыну Филиппа Красивого, и таким образом ей пришлось распрощаться со столь уже близкой короной Наварры и Франции. Когда разразился неслыханный скандал в Нельской башне, она, хоть и помогала сестрам в любовных интригах, хоть и приобщилась к чужим романам, сама не нарушала супружеской верности; даже когда преступницы понесли жестокую кару и были осуждены на пожизненное заключение, она избегла их суровой участи. Причастная ко всем драмам, Жанна ни в одной не играла главной роли. Скорее из чувства какого-то внутреннего изящества, нежели по соображениям морали брезгливо сторонилась она крайностей; а год, проведенный в крепости Дурдан, лишь усугубил ее природную осмотрительность. Умная, чувствительная и ловкая, Жанна искусно и всегда кстати прибегала к исконному женскому орудию – к покорности.
Сразу поняв, что Филипп неспроста настаивает на своем, она сумела подавить мимолетное чувство вполне законного тщеславия и произнесла:
– Я хочу, матушка, рожать именно тут. Мне здесь будет лучше.
В сущности, ей действительно было все равно, родится ли ее четвертый ребенок в королевском дворце или где-либо еще. Филипп поблагодарил жену ласковой улыбкой. Сидя в огромном кресле с прямой спинкой, удобно скрестив длинные ноги, он стал расспрашивать тещу о повивальных бабках и акушерках, которые будут принимать младенца; пожелал узнать их имена, осведомился, кто присоветовал позвать именно их и можно ли на них полностью положиться. А главное, добавил он, пусть приведут их к присяге, хотя эта мера предосторожности принималась лишь при разрешении от бремени особ королевского рода.
«Как он заботится обо мне, какой у меня добрый супруг», – думала Жанна, слушая его речи.
Филипп потребовал также, чтобы, когда у графини начнутся схватки, ворота отеля Артуа закрыли наглухо. И пусть оттуда никого не выпускают, за исключением одного лица, которому будет поручено сообщить ему, Филиппу, о положении роженицы.
– Ну, хотя бы вас, – добавил он, указывая на красавицу Беатрису д’Ирсон, присутствовавшую при разговоре. – Моему камергеру будет дано соответствующее распоряжение, и он вас проведет ко мне в любой час, если даже я буду заседать в Совете. И если вокруг меня будут посторонние, говорите шепотом и ни слова никому другому… если родится сын. Я доверяю вам, ибо не забыл, что вы верно послужили мне.
– Если бы вы знали, ваше высочество, как верно я вам служу, – ответила Беатриса, чуть склонив голову.
Маго метнула на Беатрису испепеляющий взгляд. Даже она сама, бесстрашная графиня Артуа, трепетала перед этой девицей, казалось бы такой томной и бесхитростной, но способной на самые отчаянные поступки. Беатриса по-прежнему улыбалась. Эта мимическая сцена не ускользнула от Жанны, но она сочла благоразумным промолчать. Между графиней и ее фрейлиной накопилось столько тайн, что Жанна предпочитала не поднимать над ними завесы.
Она тревожно оглянулась на мужа, но тот ничего не заметил. Опершись затылком о спинку кресла, он крепко спал, сраженный внезапным сном победителя. На его остроносом и обычно суровом лице застыло кроткое выражение, словно он прислушивался к чему-то, и сейчас регент Филипп напоминал того мальчика, каким был когда-то. Жанна умилилась. Неслышно ступая, подошла она к мужу и осторожно коснулась губами его лба.
Глава IX
Дитя, родившееся в пятницу
На следующий же день Филипп начал готовиться к ассамблее, назначенной на пятницу. Если он победит, никто не осмелится оспаривать его право на власть ни сейчас, ни потом.
По его приказу срочно рассылали гонцов и глашатаев созывать на ассамблею по издавна установленному обычаю знатных людей королевства – но позвали лишь тех, кто находился не более чем в двух днях пути от Парижа; преимущества такого приглашения были очевидны: с одной стороны, нужно было ковать железо, пока оно горячо, а с другой – устранить кое-кого из знатных сеньоров, чьей неприязни не без основания опасался Филипп, имея в виду графа Фландрского и короля Англии.
Одновременно он поручил Гоше де Шатийону, Милю де Нуайе и Раулю де Прелю подготовить положение о регентстве, каковое подлежало рассмотрению на ассамблее. Опираясь на уже принятые решения, легисты утвердили следующие пункты: граф Пуатье будет управлять обоими королевствами во временном звании хранителя, регента и правителя и взимать все королевские доходы. Ежели королева Клеменция родит сына, тот, само собой разумеется, будет королем, а Филипп останется регентом вплоть до его совершеннолетия. Но если Клеменция родит дочь… Вот тут-то и начинались главные трудности. Ибо по справедливости следовало бы короновать в этом случае маленькую Жанну Наваррскую, дочь Сварливого от первого брака. Но доказано ли, что она его законная дочь? Этим вопросом задавался весь двор, все королевство. Не будь скандальной истории с Нельской башней, не будь любовной интриги и суда в Поатуазе, права девочки на французский престол были бы неоспоримы, и она, за неимением наследника мужского пола, стала бы королевой Франции. Но в отношении маленькой Жанны существовали тяжелые подозрения, и именно на ее незаконное происхождение особенно напирал Карл Валуа, устраивая второй брак Людовика X, да и сам Филипп при случае не прочь был намекнуть на это обстоятельство. Сопоставление дат рождения Жанны и начала преступной связи ее матери наводило на кое-какие мысли. Равно как и то непонятное отвращение, с каким Людовик относился к своей дочери, которой запрещено было даже показываться на глаза отцу. И неудивительно поэтому, что при дворе прошел слух, что она дочь Филиппа д’Онэ.
Таким образом, истории Нельской башни, приукрашенной народной фантазией, суждено было со временем стать некой волшебной сказкой, легендой великой любви, порока, преступления и ужаса; этот, в общем, обычный адюльтер, обнаруженный два года назад, поставил перед государственными мужами сложную династическую проблему, и именно он изменил издревле принятый во Франции порядок наследования.
Кто-то предложил уже сейчас решить, что корона в любом случае переходит к ребенку Клеменции, будь то мальчик или девочка.
Услышав такие слова, Филипп нахмурился и привел десяток вполне разумных доводов против этого проекта. Безусловно, подозрения насчет законнорожденности Жанны Наваррской вполне основательны, но ведь прямых доказательств не существует. Ни мать Маргариты Наваррской, престарелая Агнесса, вдовствующая герцогиня Бургундская, ни ее сын, Эд IV, нынешний герцог Бургундский, конечно, не согласятся с тем, чтобы их внучку и племянницу насильственно лишили прав на престол. Все враги королевской власти, и первый – граф Фландрский, не преминут принять их сторону ради своих личных выгод. Таким образом, во Франции может вскоре вспыхнуть гражданская война, война двух королев.
– В таком случае, – предложил Гоше де Шатийон, – давайте прямо так и скажем, что женщины не могут взойти на престол. Должен же существовать какой-нибудь старинный обычай, на него-то мы и сошлемся.
– Мне тоже приходила в голову такая мысль, – отозвался Миль де Нуайе. – Более того, я велел просмотреть все законы, но, увы, ничего не обнаружил.
– Пускай ищут получше! Поручите это ученым мужам из Университета и парламента. Если они возьмутся за дело, они раскопают что угодно, под любое решение подведут обычай и истолкуют его так, как нам надобно. Они до самого Хлодвига дойдут и докажут как дважды два, что вам нужно отсечь голову, поджарить пятки или отрубить вам то, чем вы особенно дорожите.
– Ваша правда, так далеко они не заглядывали, – согласился Миль. – Я приказал им начинать с королевских обычаев, установленных Гуго Великим. Следовало бы копнуть поглубже. Но, боюсь, к пятнице мы ничего подходящего не обнаружим.
Убежденный женоненавистник, как и все добрые вояки, коннетабль упрямо твердил, свирепо двигая своей квадратной челюстью и жмуря морщинистые, как у черепахи, веки:
– Ей-богу, просто безумие позволять женщинам править страной! Ну скажите, где вы видели, чтобы дама или девица командовала армией, не говоря уже о том, что каждый месяц она считается нечистой и каждый год беременеет! И как она, по-вашему, может привести к повиновению вассалов, если не способна смирить голос собственной плоти? Нет, и думать об этом не хочу, и если такое случится – возвращаю вам свою шпагу. Выслушайте меня, мессиры, Франция слишком благородное королевство, чтобы засадить ее за прялку и ткацкий станок. Негоже лилиям прясть!
Этот афоризм хоть и не был немедленно принят всеми присутствующими, все же запал в голову легистам, и позже они не преминули с успехом пустить его в ход.
Филипп Пуатье наконец одобрил весьма двусмысленно составленный документ, откладывавший окончательное решение на неопределенный срок.
– Главное – поставить вопросы, но самим ответа на них не давать, – говорил он. – И напустить побольше туману, дабы каждый поверил, что здесь-то и таится для него прямая выгода.
Таким образом было установлено, что, буде королева Клеменция разрешится дочерью, Филипп останется регентом вплоть до совершеннолетия старшей своей племянницы Жанны. Только тогда будет решено, кому перейдет корона – то ли двум принцессам, между коими поделят Францию и Наварру, то ли одной из них, которая будет, как и ныне, править двумя объединенными королевствами, то ли ни одной из них, если обе откажутся от своих законных прав или ежели ассамблея пэров, призванная для обсуждения, решит, что Францией не может править женщина; в таком случае корона переходит ближайшему родственнику мужского пола последнего короля… другими словами, Филиппу Пуатье. Итак, впервые было официально названо его имя как претендента на престол, но при этом было нагромождено столько оговорок, что создавалось впечатление, будто решение это чисто временное, скорее всего обычный компромисс, и притом весьма спорный.
Это установление, одобренное лично каждым из баронов, сторонников Филиппа, было единодушно принято.
Одна лишь Маго выказала непонятное упрямство и не согласилась одобрить этот акт, подготовляющий восхождение на престол Франции ее зятя и ее собственной дочери. Кое-какие пункты этого устава пришлись ей не по душе.
– А нельзя ли просто написать, – твердила она, – «буде обе королевские дочери откажутся от своих прав…» и не выносить на ассамблею пэров решение вопроса о том, могут ли вообще править особы женского пола?
– Да что вы, матушка, – возразил Филипп, – в таком случае они ни за что не откажутся. Пэры, а ведь вы сами принадлежите к их числу, – единственная полномочная ассамблея. В прежние времена пэры избирали короля, как кардиналы избирают папу или пфальцграфы – императора, и именно они выбрали нашего предка Гуго, который и стал герцогом Франции. Если теперь им не приходится избирать, то лишь потому, что в течение трехсот лет ваши короли бессменно от отца к сыну наследовали престол[10].
– Хорош порядок, который зависит от счастливого случая! – возразила Маго. – Ведь ваш устав будет на руку моему племяннику Роберу. Вот увидите, он непременно этим воспользуется и опять попытается отобрать у меня мое графство.
Как и всегда, все помыслы Маго занимал ее спор с племянником из-за наследства, а никак не интересы Франции.
– Обычаи государства не одно и то же, что обычаи ленных владений, матушка. И вам легче будет сохранить свое графство не с помощью различных юридических закавык, а с помощью короля, другими словами, вашего зятя.
Маго, хоть и не дала убедить себя, вынуждена была покориться.
– Подите ждите после этого благодарности от зятьев, – жаловалась она вечером Беатрисе д’Ирсон. – Тут хлопочешь, подносишь яд королю, чтобы очистить им место, а они, нате вам, сразу же начинают делать все по-своему и ни с кем не желают считаться…
– А все потому, мадам, что он не знает достоверно, чем вам обязан, не знает он также, почему и как нашего государя Людовика вынесли из дворца ногами вперед.
– И не надо ему ничего знать, господи боже ты мой! – воскликнула Маго, поспешно коснувшись того самого места на груди, где висела ладанка с мощами святого Дрюона. Каждый раз, когда речь заходила о ее злодеяниях, она прибегала к его высокой защите. – В конце концов, это же его родной брат, и наш Филипп по-своему понимает справедливость. Придержи-ка язычок, сделай милость, придержи-ка язычок!
Тем временем Карл Валуа с помощью Карла де ла Марша и Робера Артуа развил бурную деятельность; они твердили всем и каждому, что назначать регентом графа Пуатье – безумие и столь же безумно прочить его в наследники престола. У Филиппа и его тещи слишком много врагов; кончина Людовика пришлась им на руку, чего они теперь и не скрывают, и вряд ли они совсем уж непричастны к этой подозрительно быстрой смерти. Он, Валуа, совсем другое дело, и он один, по его словам, может разрешить все трудные проблемы, стоящие перед Францией. Он в дружеских отношениях с Неаполитанским королем и, понятно, сумеет предотвратить любые неприятности, могущие возникнуть со стороны Клеменции. К тому же он единственный из всей королевской фамилии сохранил, вопреки войнам и набегам, добрососедские отношения с графом Фландрским. Оказав немало услуг папскому престолу, он пользуется безграничным доверием итальянских кардиналов, а без них папы не выберешь, несмотря на все грязные махинации с конклавом, который заперли в соборе. Да и бывшие тамплиеры не забыли, что Карл не одобрял гонений на их орден, так что и в этом отношении он тоже наиболее подходящая кандидатура в регенты.
Когда до Филиппа дошел слух об этих кознях, он поручил своим сторонникам на все такие разговоры отвечать одно: странно все-таки, что родной дядя короля хвастает своей близостью с врагами короны и ищет в них поддержку, и если желательно, чтобы папа был в Риме, а Франция в руках анжуйцев, фламандцев или воскресшего ордена тамплиеров, Филипп, не мешкая, передаст графу Валуа бразды правления.
Наконец наступила долгожданная пятница, когда должна была собраться ассамблея. На заре Беатриса д’Ирсон явилась во дворец и была тут же проведена в покои Филиппа. Придворная дама графини Маго изрядно запыхалась, промчавшись единым духом по улице Моконсей. Филипп приподнялся на подушках.
– Мальчик? – спросил он.
– Мальчик, ваше высочество, и на редкость здоровый, – ответила Беатриса, взмахивая ресницами.
Филипп поспешно оделся и бросился в отель Артуа.
– Ворота, ворота! Пусть ворота будут на запоре! – приказал он, входя во двор. – Строго ли исполняются мои распоряжения? Никто, кроме Беатрисы, отсюда не выходил? Пусть до вечера все так и будет.
И тут же помчался вверх по лестнице. С него мигом слетела всегдашняя его скованность и важность, которую он обычно напускал на себя.
«Родильные покои» – ибо в ту пору в каждой семье, принадлежавшей к царствующему дому, роженице отводились особые апартаменты – были пышно разукрашены. Роскошные гобелены, расшитые травами и попугаями, знаменитые аррасские гобелены, гордость графини Маго, покрывали стены сверху донизу. Весь пол был устлан цветами – ирисами, розами, маргаритками, которые безжалостно топтали входившие. Роженица с блестящими глазами, но с бледным личиком, еще носившим следы пережитых мук, лежала на широкой кровати под шелковым пологом, на белоснежных простынях, спускавшихся с постели и покрывавших пол на локоть вокруг. В углу стояли две кушетки, тоже под шелковыми пологами: одна предназначалась для повивальной бабки, принесшей присягу, другая для няньки, охранявшей колыбель.
Молодой регент направился прямо к богато разукрашенной колыбельке и склонился над ней, стараясь разглядеть своего богоданного сына. Страшненький и все же умилительный, как все новорожденные, с красным морщинистым личиком, со слипшимися веками и слюнявым ротиком, с жиденькой прядкой белокурых волосиков на лысом черепе, младенец продолжал спать, словно зародыш в материнской утробе, и, туго запеленутый до самой шеи, казался крохотной мумией.
– Так вот он, мой маленький Луи-Филипп[11], которого я так долго ждал и который появился на свет божий в самое время, – произнес граф Пуатье.
Лишь после этого он приблизился к жене, расцеловал ее в обе щеки и проговорил голосом, исполненным глубокой признательности:
– Спасибо вам, душенька, великое спасибо. Вы доставили мне огромную радость, и пусть отныне навсегда исчезнут все былые наши недоразумения.
Жанна схватила длинную, узкую кисть Филиппа, поднесла ее к губам, провела ею по своему лицу.
– Господь Бог благословил наш союз, благословил нашу августовскую встречу, – шепнула она.
Жанна до сих пор еще не рассталась со своим коралловым ожерельем.
Графиня Маго, засучив, по обыкновению, рукава и открыв поросшие густым пушком руки, присутствовала при этой сцене с таким видом, словно именно она была главной виновницей торжества. И, вмешавшись в разговор, энергично хлопнула себя по животу.
– Ну что, сынок? – зычно пророкотала она. – Ну что я вам говорила? Уж поверьте мне, утробы графства Артуа и Бургундии не подведут.
О всех представительницах их славного рода она говорила как о заводских кобылах.
Филипп тем временем снова подошел к колыбельке.
– А нельзя ли распеленать мальчика, чтобы я мог его получше рассмотреть? – спросил он.
– Не стоит, ваше высочество, – возразила повивальная бабка. – Члены ребенка весьма хрупки, и посему советуют как можно дольше держать младенца спеленутым, дабы их укрепить и дабы они не искривились. Но будьте благонадежны, ваше высочество, мы его хорошенько протерли солью и медом и посыпали толчеными розовыми лепестками, чтобы очистить от слизи, а потом обмакнули палец в мед и помазали ему медом язык и нёбо, чтобы ему было сладко и захотелось кушать. Будьте спокойны, мы его холим и лелеем.
– И вашу Жанну тоже, сынок, – добавила Маго. – Я по совету мэтра Арно де Вильнева велела натереть ее бальзамом, настоянном на заячьем помете, а он имеет свойство сокращать мускулы, особенно живота.
Теща упирала главным образом на это обстоятельство, намекая, что ее зятя ждут новые услады.
– Но, матушка, – возразила роженица, – по-моему, это помогает лишь бесплодным женщинам.
– Не говори! Заячий помет хорош при всех случаях, – уверяла графиня.
Филипп по-прежнему не отрываясь глядел на своего наследника.
– Не находите ли вы, что он очень похож на моего отца, великого короля Филиппа? – обратился регент к теще. – Смотрите, лоб, а особенно подбородок!..
– Возможно, чуточку похож, – неохотно согласилась Маго. – По правде говоря, как только я на него взглянула, мне показалось, что я вижу перед собой покойного Оттона… Лишь бы он унаследовал от обоих дедушек их душевную и телесную силу, вот чего я ему желаю.
– А по-моему, он больше всего похож на вас, Филипп, – кротко заметила Жанна.
Граф Пуатье горделиво расправил плечи.
– Надеюсь, теперь вы поняли смысл моих приказаний, матушка, – произнес он, – поняли, почему я прошу вас держать ворота на запоре. Ни одна живая душа не должна покамест знать, что у меня родился сын. В противном случае непременно начнут говорить, что я нарочно предложил такой порядок наследования, чтобы закрепить за ним престол после себя, ежели Клеменция родит дочь; и я знаю также, что первым заупрямится мой братец Карл, коль скоро он таким образом лишится надежды получить французскую корону. Поэтому, если вы хотите, чтобы этому дитяте удалось стать в свое время королем, – ни слова на сегодняшней ассамблее.
– Ах, ведь и верно, сегодня ассамблея! Из-за нашего молодца я совсем об этом забыла! – воскликнула Маго, указывая на колыбельку. – Давно пора одеваться, да и перекусить перед боем не мешает. У меня кишки с голоду подвело, ведь я поднялась нынче ни свет ни заря. Вы правы, Филипп. Беатриса, иди сюда, Беатриса!
Маго хлопнула в ладоши и велела подать себе паштет из щуки, вареные яйца, творог с пряностями, ореховое варенье, персики и белое вино «Шато-Шалон».
– Нынче пятница – постный день, – пояснила она.
Солнце, поднявшееся над крышами Парижа, заливало своим светом это счастливое семейство.
– Поешь немножечко. Паштет из щуки не повредит, – посоветовала Маго дочери.
Филипп заторопился – надо было еще отдать последние распоряжения относительно ассамблеи, час открытия которой приближался.
– Сегодня, душенька, вам не придется принимать поздравлений, – обратился он к Жанне, указывая на подушки, разложенные полукругом у постели. – Но завтра от посетителей отбоя не будет.
Он направился к двери, но Маго успела схватить его за рукав.
– Подумайте, сын мой, о Бланке, которая томится в Шато-Гайаре. Ведь она родная сестра вашей супруги.
– Подумаю, подумаю. Посмотрю, как и чем облегчить ее участь.
И он ушел, так и не заметив, что к подошве его сапога прилип раздавленный ирис, один из тех ирисов, что устилали пол в покоях роженицы.
Маго собственноручно закрыла за зятем дверь.
– А теперь, няньки, пойте колыбельную, – приказала она.
Глава Х
Ассамблея трех династий
Со двора в покои королевы Клеменции доносился гул голосов, раскатывавшийся эхом под каменными сводами, топот ног высокородных сеньоров и знатных людей, съезжавшихся на ассамблею.
Как раз вчера истекли сорок дней, в течение которых вдовствующей королеве запрещено было показываться на люди, и Клеменция по наивности души решила, что созыв ассамблеи с умыслом приурочен к этому дню, дабы она могла ее возглавить. Королева заранее начала готовиться к своему первому торжественному выходу с невольным чувством любопытства, интереса и нетерпения; в эти дни ей даже стало казаться, что в душе ее вновь просыпается вкус к жизни. Но в последнюю минуту совет лекарей и медиков, в числе коих находились личные врачеватели графа Пуатье и графини Маго, порекомендовал ей не покидать своих покоев, ибо, по их словам, любое волнение может пагубно отразиться на ее положении.
Каждый поспешил признать это решение весьма разумным, так как в действительности никто не собирался отстаивать права королевы Клеменции на регентство и даже на ее законное право присутствовать на ассамблее. Но тем не менее, поскольку заинтересованные люди судорожно искали в истории французского королевства нужные примеры и прецеденты, на свет божий из тьмы веков извлекли королеву Анну Русскую, вдову Генриха I, правившую Францией после смерти супруга вместе со своим зятем Бодуэном Фландрским «в силу нерушимого права, дарованного при помазании»; равно ссылались на более близкий пример – на королеву Бланку Кастильскую[12], память о которой была еще свежа.
Однако дофин Вьеннский, зять Клеменции, который имел все основания выступить в защиту интересов вдовствующей королевы, целиком перешел на сторону Филиппа после подписания брачного контракта между своим сыном и маленькой дочкой графа Пуатье.
Карл Валуа, выдававший себя за ярого защитника и покровителя племянницы, охладел к своей роли, считая рискованным за нее заступаться; к тому же ему приходилось отстаивать свои личные интересы.
Что касается герцога Эда Бургундского, месяц назад объявившего, что он явился в Париж лишь затем, чтобы защищать права своей сестры Маргариты и отомстить за ее смерть, то он питал к Клеменции вполне понятную неприязнь.
А она сама была королевой так недолго, что бароны плохо знали ее и она по-прежнему была для них чужой; большинство знатных сеньоров считали ее ненужной помехой, оставшейся им после краткого правления Людовика X, чреватого смутами и бедствиями.
– Нет, не принесла она удачи французскому королевству, – вздыхали они.
И если Клеменция еще существовала как мать будущего короля, то уже перестала существовать как королева. Сидя взаперти в дальнем крыле дворца, Клеменция прислушивалась к утихавшему гулу, так как члены ассамблеи уже вошли в зал Большого совета и за ними заперли двери.
«Боже мой, Господи, – думала она, – почему, почему я не осталась в Неаполе?!»
И, вспомнив счастливые дни детства, лазурную гладь моря, тамошний шумный, суетливый, великодушный народ, чуткий к чужой беде, «ее» народ, который умеет так горячо любить, она громко зарыдала.
А тем временем Миль де Нуайе зачитывал новый устав престолонаследования.
Граф Пуатье счел уместным отказаться от всех внешних атрибутов королевской власти. Кресло водрузили в самом центре возвышения, но балдахин он приказал не ставить. Он появился в темном одеянии, без единого украшения, хотя официально траур при дворе уже кончился. Всем своим видом он, казалось, говорил: «Мессиры, мы пришли сюда работать». Всего трое булавоносцев, шествовавшие перед Филиппом, молча встали за его креслом.
Таким образом, он уже осуществлял верховную власть, не провозгласив себя ее носителем. Зато он тщательно обдумал, куда кого посадить в зале; к его приходу камергеры развели присутствующих на заранее отведенные для них места, и этот чересчур строгий церемониал, введенный им самовольно, поразил участников ассамблеи, напомнив им времена и повадки Филиппа Красивого.
Справа от себя Филипп усадил Карла Валуа, рядом с ним – Гоше де Шатийона, рассчитывая таким образом держать бывшего императора Константинопольского на виду, а главное, подальше от его клана. Филипп Валуа очутился в шести рядах от отца. По левую руку регента оставили место для его дяди Людовика д’Эврё, чьим соседом оказался родной брат короля Карл де ла Марш, так что оба Карла не могли переговариваться во время заседания и бунтовать против присяги, данной ими Филиппу четыре дня назад.
Но особенно тревожил графа Пуатье его кузен, герцог Бургундский, с которого он не спускал глаз и которого посадили между графиней Маго и дофином Вьеннским.
Филипп знал, что герцог будет говорить от имени своей матери, герцогини Агнессы, которая в качестве последней оставшейся в живых дочери Людовика IX пользовалась влиянием среди баронов, хотя на ассамблеях не появлялась. Все, что было связано с памятью святого короля, поборника христианской веры, героя Туниса, а равно и то, чего ласково касалась его рука, стало чуть ли не предметом культа; таким образом, все, кто видел его при жизни, внимал его речам или пользовался его расположением, были окутаны покровом святости.
Достаточно было Эду Бургундскому встать и сказать: «Моя матушка, дочь короля Людовика Святого, давшего ей свое благословение, когда он отбывал к неверным и погиб там…» – и все присутствующие умилялись.
Потому-то, стремясь заранее отразить этот ловкий ход, Филипп ввел в игру еще один, совершенно неожиданный козырь – Робера Клермонского, шестого сына Людовика Святого, последнего оставшегося в живых. Раз им требуется порука Людовика Святого, они ее получат.
Присутствие Робера, графа Клермонского, казалось чудом, ибо в последний раз он появлялся при королевском дворе более пяти лет назад; о его существовании давно забыли, а когда случайно вспоминали, то говорили о нем чуть ли не шепотом.
И впрямь, Робер был безумец, он лишился рассудка в двадцатичетырехлетнем возрасте, получив удар палицей по голове. Лихорадочный бред сменялся длительными периодами затишья, чем и пользовался иной раз Филипп Красивый, когда ему для представительства требовался отпрыск Людовика Святого. Можно было не опасаться, что старик скажет лишнее, он вообще почти не говорил. Зато приходилось опасаться его поступков, ибо приступы безумия накатывали на Робера без всяких видимых причин, и тогда он, обнажив меч, бросался на своих же родных, внезапно проникшись к ним лютой ненавистью. Было поистине мучительно видеть, как столь высокородный и красивый старец – он и в шестьдесят два года сохранил величественную осанку – крушит мебель, режет гобелены и гоняется за прислужницами, вопя, что они его противники по турниру[13].
Граф Пуатье велел усадить его на другом конце, напротив герцога Бургундского и поближе к дверям. Два конюших могучего телосложения стояли вплотную за его креслом, готовые при малейшем признаке тревоги связать Робера. А сам граф Клермонский осматривал собравшихся недоверчивым, скучающе-рассеянным взглядом, иногда задерживался на каком-нибудь лице, и тогда в глазах его на миг загоралось мучительное беспокойство, словно безумец хотел что-то припомнить, но оно тут же гасло. На него были устремлены все взоры, и каждый при виде этого почтенного старца ощущал какую-то неловкость.
Рядом с безумцем сидел его родной сын, Людовик I Бурбон; хромота мешала ему идти в атаку на врага, однако ничуть не мешала бежать с поля боя, что он блистательно доказал во время битвы при Куртре. Неуклюжий, уродливый коротышка, Бурбон обладал зато светлым разумом, недаром он принял сторону Филиппа Пуатье.
Вот от этих-то сеньоров, слабых кто на голову, кто на ноги, и пошла линия Бурбонов. Итак, на ассамблее, состоявшейся 16 июля 1316 года, сошлись три ветви Капетингов, которым предстояло править Францией в течение еще пяти столетий. Три династии могли воочию видеть свой корень, свое начало или свой конец: тут были прямые потомки Капетингов, линиям которых скоро суждено было угаснуть с Филиппом Пуатье и Карлом де ла Маршем; тут были Валуа, которые, начиная с сына Карла, тринадцать раз будут восходить на французский престол; и, наконец, Бурбоны, которые станут королями лишь после того, как угаснет ветвь Валуа и потребуется снова призвать на трон кого-либо из потомков Людовика Святого. И всякий раз, когда одна династия сменит другую, смена эта будет сопровождаться опустошительными, кровопролитными войнами.
В силу всегда поражающего наблюдателя взаимодействия между деяниями людей и неожиданными поворотами судьбы ход истории французской монархии со всем ее блеском и всеми ее драмами зависел от закона престолонаследования, который в настоящую минуту оглашал легист мессир Миль.
Степенно выпрямившись на скамьях или небрежно прислонившись к стене, бароны, прелаты, ученые мужи парламента и представители богатых горожан внимательно слушали.
«У меня сын, у меня сын, и это станет известно только завтра», – твердил про себя Филипп Пуатье, понимавший в глубине души, что затеял все эти труды лишь в своих собственных интересах и в интересах своего сына. И он готов был в любую минуту отразить внезапную атаку герцога Бургундского. Но атака началась с другого фланга.
Присутствовал на этой ассамблее человек, которого ничто не могло образумить, который уже давно потерял счет деньгам, полученным за то, что продавался направо и налево, которому нипочем была любая знать, ибо в жилах его текла кровь королей, который не склонялся перед чужой силой, ибо сам мог ударом кулака свалить наземь лошадь, который презирал все махинации, кроме своих собственных, и которого не взволновал даже вид безумного родича. Человеком этим был Робер Артуа. Именно он, как только Миль де Нуайе закончил чтение, поднялся с места, желая дать Филиппу бой, ни с кем не посоветовавшись.
Так как сегодня происходил смотр королевской родни и каждый привел с собой своих близких, Робер Артуа явился вместе со своей матушкой, Бланкой Бретонской, крошечной, седоволосой, хрупкой старушкой с тонким личиком, пребывавшей в состоянии непрерывного удивления перед этим гигантом, которого она каким-то чудом произвела на свет божий.
Расставив ноги в красных сапогах и зацепив большие пальцы рук за серебряный пояс, Робер Артуа начал:
– Я поражен, сеньоры, тем, что нам предложили новый порядок установления регентства, каждая статья которого составлена именно в расчете на данный случай, тогда как существуют предписания нашего последнего короля.
Все взгляды обратились к графу Пуатье, и кое-кто из присутствующих с тревогой подумал, что их обвели вокруг пальца и утаили от них завещание Людовика X.
– Не понимаю, о каком предписании вы говорите, кузен мой, – сказал Филипп Пуатье. – Вы сами присутствовали при кончине моего брата, равно как и многие находящиеся здесь сеньоры, и никто никогда не говорил мне, что он выразил свою последнюю волю на сей счет.
– Но, кузен, брат мой, – насмешливо возразил Робер Артуа, – под «последним королем» я вовсе не имею в виду вашего брата Людовика Десятого, упокой, Господи, его душу, но вашего отца, нашего возлюбленного государя Филиппа… упокой, Господи, также и его душу! А ведь король Филипп решил, записал и велел в том присягнуть своим пэрам, что если он умрет до того, как его сын достигнет возраста, положенного для восшествия на престол, всю королевскую власть и регентство должен взять на себя его высочество Карл, брат покойного, граф Валуа. Итак, кузен, коль скоро с тех пор не было вынесено никакого иного решения, по-моему, следует придерживаться этого завещания.
Миниатюрная Бланка Бретонская одобрительно кивала, улыбалась во весь свой беззубый рот и поглядывала поочередно на соседей живыми, блестящими глазками, как бы приглашая их полюбоваться ее сыном и одобрить его предложение. Что бы ни сделал или ни сказал ее горлопан-сынок, все она одобряла, всем восхищалась в этом чудо-богатыре, затевал ли он кляузный процесс, буйствовал ли, транжирил ли деньги или портил девушек. Она заметила, что граф Валуа поблагодарил ее, безмолвно опустив веки.
Филипп Пуатье, слегка опершись на подлокотники кресла, медленно взмахнул рукой.
– Я восхищен, Робер, я просто восхищен вашим теперешним пылом, с каким вы отстаиваете ныне волю моего отца, хотя при жизни не слишком склонялись перед его судом. Что ж, с годами, видно, вы образумились! Но не беспокойтесь. Именно волю моего отца мы и творим здесь. Разве не так, дядюшка? – добавил он, повернувшись к Людовику д’Эврё.
За последние полтора месяца его сводный брат Карл Валуа и его шурин Робер Артуа так досадили Людовику д’Эврё своими интригами, что он не мог отказать себе в удовольствии поставить их на место.
– То установление, на которое вы ссылаетесь, Робер, ценно для нас как принципиальное решение вопроса, а не тем, что там названы те или иные имена. Ибо, если подобный случай в королевской фамилии произойдет, скажем, через пять, десять или сто лет, то ведь не будут же приглашать моего брата Карла стать регентом королевства… хоть я от души желаю ему долгой жизни. Но, – воскликнул он с неожиданным для такого невозмутимого человека пылом, – но не создал Господь Бог Карла бессмертным лишь для того, чтобы тот каждый раз бросался занимать опустевший трон. Если регентом следует назначать старшего из оставшихся братьев, то, понятно, им должен быть Филипп, и именно потому мы почтили его своим выбором. И не возвращайтесь, пожалуйста, к уже решенному вопросу.
Присутствующие подумали, что Робер разбит наголову. Но, видно, плохо они его знали. Робер сделал два шага вперед, наклонил голову, подставив свой жирный загривок солнечным лучам, заглядывавшим в витражи. Его огромная тень, темная, как угроза, распростерлась на плитах пола, коснувшись ног графа Пуатье.
– В распоряжениях покойного короля Филиппа, – возразил он, – ничего не сказано насчет королевских дочерей; ни о том, что им следует отказываться от своих прав, ни о том, что ассамблея пэров правомочна решать вопрос, будут ли они править государством.
Сеньоры герцога Бургундского одобрительно закивали, а герцог Эд, не удержавшись, крикнул:
– Хорошо сказано, Робер! Я об этом как раз и собирался говорить!
Бланка Бретонская снова обвела собрание пронзительным взглядом своих живых, блестящих глаз. Коннетабль досадливо шевельнулся в кресле. Соседи услыхали, как он чертыхается, и все сразу поняли, что сейчас разразится гроза.
– С каких это пор, – спросил герцог Бургундский, подымаясь с места, – с каких это пор подобное новшество введено в свод наших обычаев? Боюсь, что только со вчерашнего дня! С каких это пор королевским дочерям за неимением наследника мужского пола отказано в праве наследовать отцовскую власть и корону?
Тут поднялся коннетабль.
– С тех самых пор, мессир герцог, – произнес он неторопливо, что, очевидно, входило в его расчеты, – с тех самых пор, как мы не можем быть полностью уверены, что та или иная принцесса рождена действительно от своего отца, в чьи преемницы ее прочат. Так знайте же, что говорят на сей счет люди и что десять раз твердил нам на Малых советах Карл Валуа. Франция слишком прекрасная и слишком огромная страна, мессир герцог, чтобы можно было без согласия пэров короновать принцессу, коль скоро мы не знаем, дочь ли она короля или дочь конюшего.
Угрожающая тишина нависла над залом. Эд Бургундский побледнел. Советник Гийом де Мелло, приставленный к герцогу по настоянию герцогини Агнессы, зашептал ему что-то на ухо, но тот ничего не слышал. Всем показалось, что герцог вот-вот бросится на Гоше де Шатийона, который спокойно ждал атаки, напружив мускулы, выпятив грудь, сжав кулаки. Хотя коннетабль был лет на тридцать старше своего противника и ниже его на полголовы, он бесстрашно готовился к бою, который, пожалуй, даже принес бы ему победу. Но гнев герцога Бургундского обратился против Карла Валуа и развязал ему язык.
– Так зачем же вы, Карл, – завопил он, – зачем же вы в таком случае добивались руки второй моей сестры для вашего старшего сына, который, как я вижу, тоже находится здесь, а теперь порочите на всех перекрестках несчастную покойницу?
– Да бросьте, Эд! – возразил Валуа. – Будто для того, чтобы опорочить королеву Маргариту – прости, Господи, ее прегрешения, – требуется мое пособничество!
И, обратившись к Гоше де Шатийону, он вполголоса добавил:
– И надо же вам было упоминать мое имя!
– А вы, зять, – гремел Эд, адресуясь теперь уже к Филиппу Валуа, – неужели и вы одобряете все эти мерзости, которые здесь говорятся?
Но долговязый и скованный в движениях Филипп Валуа тщетно пытался со своего места поймать взгляд отца и прочесть в нем совет, поэтому он ограничился тем, что воздел к потолку обе руки жестом покорного бессилия и сказал:
– Надо признать, брат мой, что скандал был громкий!
Ассамблея загудела. В зале нарастал сердитый рокот голосов; одни сеньоры с пеной у рта настаивали на незаконном происхождении Жанны, другие доказывали, что она рождена от Людовика. Карл де ла Марш сидел бледный, понурив голову, боясь поднять глаза, с тем чувством неловкости, какую он испытывал всякий раз, когда при нем заходила речь об этой несчастной истории. «Маргарита умерла, Людовик умер, – думал он, – а моя супруга Бланка жива, и с меня по-прежнему не смыто клеймо бесчестия».
Граф Клермонский, о котором все успели позабыть, вдруг беспокойно оглядел залу.
– Вызываю вас на бой, мессиры! Вызываю вас всех! – закричал последний сын Людовика Святого, вскакивая с места.
– Подождите, отец мой, подождите немножко, сейчас мы с вами отправимся на турнир, – уговаривал его Людовик Бурбон и махнул рукой двум великанам-конюшим, приказывая им подойти поближе и приготовиться.
Робер Артуа торжествующе оглядывал присутствующих, которых ему, к великой его радости, удалось стравить друг с другом.
Эд Бургундский, не слушая советов Гийома де Мелло, напрасно старавшегося его образумить и направить герцогскую ярость по нужному руслу, снова завопил, глядя в упор на Карла Валуа:
– Я тоже надеюсь, Карл, что Господь Бог простит моей сестре Маргарите ее прегрешения, буде она их совершила, но я надеюсь также, что он не помилует ее убийц!
– Зря вы верите глупым россказням, Эд, – возразил Валуа. – Вы отлично знаете, что ваша сестра скончалась в темнице потому, что ее замучила совесть.
И он украдкой бросил взгляд в сторону Робера Артуа, желая убедиться, что тот не выдал себя неосторожным жестом или словом.
Теперь, когда граф Валуа и герцог Бургундский переругались не на живот, а на смерть и трудно было надеяться, что между ними воцарится доброе согласие, Филипп Пуатье протянул вперед обе руки, призывая присутствующих к спокойствию.
Но Эд не желал успокаиваться. Не затем он явился на ассамблею, о, отнюдь не затем!
– Достаточно я наслушался сегодня оскорблений нашей Бургундии, кузен мой, – заявил он. – Довожу до вашего сведения, что не признаю вашего права на регентство и подтверждаю перед всеми права моей племянницы Жанны!
Потом, жестом приказав бургундским баронам следовать за собой, герцог покинул залу.
– Мессиры, – проговорил граф Филипп Пуатье, – именно этого и хотели избежать наши легисты, откладывая на более поздний срок решение вопроса о наследственных правах принцесс, коль скоро таковое потребуется от Совета пэров. Ибо, если королева Клеменция даст стране наследника престола, все эти споры потеряют всякий смысл.
Робер Артуа по-прежнему стоял перед возвышением, уперев руки в бока.
– Итак, насколько я вас понял, кузен, – крикнул он, – освященные обычаем права женщин на наследование отныне отменяются. Поэтому я прошу вернуть мне мое графство, которое незаконно отошло к моей тетке Маго, а она, как известно, принадлежит к особам женского пола, что могут засвидетельствовать многие присутствующие здесь сеньоры. И коль скоро вы не намерены исправить совершенную несправедливость, ноги моей больше на ваших советах не будет.
С этими словами он направился к боковой двери, а за ним засеменила его матушка, гордясь своим сыном и не меньше гордясь собою, породившей на свет такого богатыря.
Графиня Маго махнула Филиппу рукой, и жест ее выражал: «Видите! Ну что я вам говорила!»
Робер, замешкавшись у порога, нагнулся к графу Клермонскому и, злобно усмехаясь, шепнул ему на ухо:
– В бой, кузен, в бой!
– Режьте веревки! Скликайте людей![14] – завопил граф Клермонский, вскакивая с кресла.
– Чтобы черт тебя взял со всеми потрохами, зловредный боров! – набросился Людовик Бурбон на Робера. – Потом обратился к своему отцу: – Побудьте пока с нами. Трубы еще не играли.
– Как же так? Почему не играли? Пусть играют. А то мы опоздаем, – залопотал граф Клермонский.
И он стал ждать зова трубы, рассеянно блуждая взором по зале, широко раскинув обе руки.
Людовик Бурбон, прихрамывая, подошел к Филиппу Пуатье и, понизив голос, посоветовал ему поторапливаться. Филипп утвердительно кивнул.
Бурбон вернулся к безумцу, взял его за руку и внушительно проговорил:
– А сейчас надо изъяснить свою верность, батюшка.
– Ах, верность? Хорошо!
Хромой, поддерживая безумца, подвел его к Филиппу.
– Мессиры, – начал Людовик Бурбон, – перед вами мой отец, самый старший из оставшихся в живых отпрысков Людовика Святого, и он полностью одобряет порядок престолонаследования, признает права мессира Филиппа как регента и приносит ему клятву в верности.
– Да, мессиры, да… – лопотал Робер Клермонский.
А Филипп с ужасом ждал, прислушиваясь к бормотанию дяди. «Сейчас он назовет меня „мадам“ и попросит у меня на счастье шарф».
Но граф Клермонский вдруг заговорил твердым, звучным голосом:
– Признаю вас, Филипп, и по праву наследования и как наиболее мудрого. Пусть благословит вас с небес пресвятая душа моего отца, пусть поможет вам сохранить мир в королевстве и защитить нашу святую веру!
По рядам прошел радостно-изумленный шепот. Что происходит в голове этого старца, который без всяких видимых причин то безумен, то полон здравого смысла, то смешон, то велик?
Старик, не торопясь, преклонил колена перед своим внучатым племянником, протянул ему обе руки исполненным благородства жестом, потом поднялся с колен, и когда регент заключил его в объятия, он отвернулся и в его огромных голубых глазах блеснула слеза.
Все присутствующие, не сговариваясь, поднялись с мест и ликующими криками приветствовали обоих принцев.
Филиппа признало регентом все французское королевство, за исключением одной провинции – Бургундии и за исключением одного человека – Робера Артуа.
Глава XI
Жених и невеста играют в кошки-мышки
Великие ассамблеи баронов являли сходство с теперешними международными конференциями по крайней мере в одном пункте. Участник ее, с шумом и треском покинувший зал заседания, протестуя против принятого решения, все же соглашался отобедать за одним столом со своими противниками при условии, если его хорошенько попросят. Именно так и поступил герцог Бургундский, к которому Филипп Пуатье отрядил гонца, дабы выразить свои сожаления по поводу утреннего инцидента, уверить в своей искренней привязанности и напомнить, что его ждут к обеду.
Пиршество было устроено в Венсеннском замке, потому что Филипп хотел до переезда туда королевы Клеменции хорошенько осмотреть ее будущее жилище, куда по его приказу свезли все необходимое для предстоящего пира. Весь двор отправился в Венсенн, и около пяти часов, другими словами между ранней и поздней вечернями, гости уже сидели за столами, составленными из досок, положенных на козлы и застланных белоснежными скатертями.
Присутствие Эда Бургундского лишь подчеркнуло отсутствие Робера Артуа.
– Мой сын, выйдя из зала, сразу же упал без чувств, до того он огорчился всем, что там происходило, – поясняла его матушка Бланка Бретонская.
– Вот как, Робер лишился чувств? – заметил Филипп Пуатье. – Надеюсь, он не очень разбился, упав с такой высоты. Впрочем, вы, как я вижу, не особенно встревожены, стало быть, и мне нечего волноваться.
Зато никто не удивился, не видя среди приглашенных графа Клермонского, которого сын после торжественной присяги спешно отправил домой. Гости наперебой подходили к графу Бурбону, выражая свое восхищение стариком, который произвел на всех такое прекрасное впечатление, и каждый сожалел, что недуг, кстати сказать, благородный недуг, коль скоро он был приобретен на поле брани, редко позволяет ему принимать участие в решении государственных дел.
Обед, таким образом, начался довольно мирно. Коннетабля с умыслом посадили подальше от герцога Бургундского; впрочем, сами враги старались не глядеть друг на друга. Валуа громогласно распространялся о своих добродетелях.
Но самое удивительное было, что здесь присутствовали дети, и при этом в таком количестве. Эд Бургундский, дав согласие явиться на торжество, оговорил, что придет лишь в том случае, если там будет присутствовать его племянница Жанна Наваррская, чтобы, так сказать, вознаградить ее за понесенное в Совете бесчестие; граф Пуатье привел трех своих дочек, граф Валуа – самых младших своих отпрысков от третьей жены, граф д’Эврё – дочку и сына, находившихся еще в том возрасте, когда играют в куклы, Вьеннский дофин – крошку Гига, жениха третьей дочки регента, а граф Бурбон – троих своих детей… Трудно было разобраться во всех этих именах: здесь кишели Изабеллы, Бланки, Карлы и Филиппы; когда кто-нибудь окликал: «Жанна», поворачивалось разом с полудюжины головенок.
Всем этим двоюродным братьям и сестрам суждено было впоследствии пережениться между собой ради политических комбинаций их папаш и мамаш, которые, в свою очередь, тоже вступали в брак с кровными родственниками. Сколько придется клянчить у папы римского всяческих поблажек, дабы с его святого соизволения попрать законы Божьи и ради территориальных интересов пренебречь здоровьем потомства! Сколько в королевской семье появится вновь и вновь хромых и безумных! Единственной разницей между потомками Адама и Капета было то, что Капетинги пока еще воздерживались от браков между родными братьями и сестрами.
Дофинчик и его нареченная, крошка Изабелла Пуатье, которую в скором времени будут именовать Изабеллой Французской, являли собой образец самого трогательного согласия. Ели они с одной тарелки; дофинчик выбирал для своей будущей супруги самые лакомые кусочки, вылавливая из рагу ломтики угря, щедро обмакивал их в соус, а затем силком совал в рот девочке и перемазал ей всю мордочку. Прочие малыши завидовали счастливцам, уже перешедшим на семейное положение; в доме регента малолетней чете отвели особые покои, приставили к ним слугу, конюшего, камеристок.
Зато Жанна Наваррская почти не прикасалась к еде. Присутствующие знали, чем объяснялось ее появление на пиру, а так как дети чутьем угадывают настроение родителей и заходят еще дальше в выражении своей неприязни, все многочисленные кузены и кузины сиротки Жанны не обращали на нее никакого внимания. К тому же Жанна была моложе всех, ей было только пять лет. С возрастом она стала еще больше походить на свою мать, Маргариту Наваррскую, – тот же выпуклый лоб, те же выступающие скулы, только цвет волос не унаследовала она от брюнетки-матери – Жанна была блондинка. Эта крошка, не знавшая ребяческих игр и жившая одна, среди слуг, в мрачных покоях Нельского отеля, никогда не видела такого огромного сборища, никогда не слышала таких громких криков; и теперь она восхищенно и боязливо поглядывала на эти груды мяса и дичи, на всю эту снедь, которую без передышки подносили слуги и ставили на длинные столы перед гостями, не жаловавшимися на отсутствие аппетита. Жанна чувствовала, что никто ее не любит; когда она обращалась к соседям с вопросом, те бесцеремонно отворачивались; несмотря на свой младенческий возраст, девочка о многом судила не по-детски здраво, поэтому она не переставая твердила про себя: «Мой батюшка был король, моя матушка была королева; но вот они умерли, и никто не хочет со мной говорить». Должно быть, на всю жизнь останется в ее памяти этот пир в Венсенне. И чем громче становились голоса, чем раскатистее звучал смех, тем печальнее глядела крошка Жанна, тоскливо озиравшая всех этих гигантов, уписывавших за обе щеки мясо. Людовик д’Эврё заметил со своего места, что девочка вот-вот расплачется, и крикнул сыну:
– Филипп, поухаживай за своей кузиной Жанной!
Маленький Филипп решил взять пример с дофинчика и сунул Жанне в рот кусок стерляди в апельсиновом соусе, но она терпеть не могла рыбы и выплюнула ее прямо на скатерть.
Согласно установленному церемониалу кравчие наливали вино подряд всем присутствующим, не считаясь с их возрастом; вскоре взрослые заметили, что всей этой детворе, одетой в парчу, будет плохо, и после шестой перемены отослали их поиграть в сад. С королевскими отпрысками, увы, бывает то же самое, что и с детыми простых смертных во время праздничных обедов: их лишают самых любимых блюд – леденцов, пирожного и десерта.
Как только гости встали из-за стола, Филипп Пуатье взял герцога Бургундского под руку и, отведя его в сторону, сказал, что хочет побеседовать без свидетелей.
– Давайте присядем в сторонке, кузен, нам подадут туда сладкое. И вы идите к нам, дядя, – добавил Филипп, обращаясь к Людовику д’Эврё, – и вы тоже, мессир де Мелло.
Филипп предложил троим мужчинам проследовать в смежную с залой небольшую гостиную, куда им подали подслащенное вино и пряности; и сразу же, не теряя времени, он обратился к герцогу Бургундскому со словами увещевания: клялся, что жаждет умиротворения, упирая главным образом на те преимущества, которые дает устав регентства.
– Сейчас в умах царит разброд, потому я и хочу отложить окончательное решение вопроса до совершеннолетия Жанны, – говорил он. – Ждать этого еще десять лет, а мы с вами, кузен, знаем, что за такой долгий срок все может перемениться и те, кто с пеной у рта отстаивает сейчас свое мнение, могут перейти в лучший из миров. Мне казалось, что я действую как раз вам на пользу, и вы, по-моему, не совсем поняли мои намерения. Коль скоро вы и Валуа не можете сейчас договориться между собой, так договоритесь же каждый в отдельности со мною.
Герцог Бургундский хмуро слушал речи Филиппа; был он недалекого ума и не без основания боялся, что его обведут вокруг пальца, как то бывало не раз. Герцогиня Агнесса, которую отнюдь не ослепляла материнская любовь, здраво оценивала умственные способности сына и, отправляя его в путь, надавала ему множество разумных советов:
– Берегись, как бы тебя не обошли. А главное, не говори, не подумав, а если ничего не придумаешь, так лучше помолчи, пусть говорит мессир де Мелло – он человек более сообразительный, чем ты.
Эд Бургундский, достигший тридцатипятилетнего возраста, облеченный герцогской властью и множеством почетных титулов, до сих пор жил в постоянном страхе перед своей матушкой и думал лишь о том, как бы не ударить в грязь лицом и оправдать перед ней свои поступки. Поэтому он не осмелился прямо ответить на предложения Филиппа.
– Моя матушка, герцогиня Агнесса, велела вручить вам письмо, где она пишет… Что написано в этом письме, мессир де Мелло?
– Мадам Агнесса просит, чтобы мадам Жанну Наваррскую поручили ее заботам, и она удивлена, ваше высочество, что до сих пор не получила от вас ответа.
– Но что я ей мог ответить, кузен? – возразил Филипп, по-прежнему обращаясь к Эду так, словно Мелло присутствовал при их беседе лишь в качестве толмача. – Такое решение может принять лишь регент. Только теперь я вправе ответить на ее просьбу. Откуда вы взяли, кузен, что я откажу? Полагаю, вы собираетесь увезти с собой вашу племянницу?
Герцог, приготовившийся было к длительным спорам, удивленно поглядел на мессира де Мелло, как бы говоря: «Оказывается, с этим человеком не так уж трудно договориться!»
– При том условии, кузен, – продолжал Пуатье, – при том условии, конечно, что Жанна не вступит в брак без моего согласия. Но это уж само собой разумеется; в ее замужестве заинтересована вся королевская фамилия, и вы не решитесь обвенчать без нашего согласия девицу, которая в один прекрасный день может стать королевой Франции.
Вторая половина фразы заставила Эда забыть ее начало. Эд и впрямь решил, что Филипп задумал короновать Жанну, если королева Клеменция не произведет на свет сына.
– Конечно, конечно, кузен, – произнес он, – в этом вопросе мы с вами вполне согласны.
– Итак, все недоразумения позади, и давайте сейчас, не откладывая, напишем соглашение, – предложил Филипп.
И, не дожидаясь ответа, он велел кликнуть Миля де Нуайе, который не имел соперников во всей Франции по части составления таких договоров.
– Ну-ка, мессир Миль, – обратился Филипп к вошедшему легисту, – запишите-ка нам на пергаменте: «Мы, Филипп, пэр Франции и граф де Пуатье, милостью Божию регент двух королевств, и наш возлюбленный кузен, могущественный и великий сеньор Эд Четвертый, пэр Франции и герцог Бургундский, клянемся на Святом Писании оказывать друг другу добрые услуги и поддерживать вечную дружбу». Это, конечно, только общая мысль, мессир Миль, так сказать, черновой набросок… «И во имя нашей дружбы, в коей мы поклялись, мы совместно решили, что мадам Жанна Наваррская…»
Гийом де Мелло потянул герцога за рукав, шепнул ему на ухо несколько слов, и тот понял, что сейчас его проведут.
– Э, нет, кузен, – закричал он, – матушка не велела мне признавать вас регентом.
Разговор зашел в тупик. Филипп соглашался отдать Жанну бабушке лишь при том условии, если герцог признает его регентом. Надеясь покончить дело миром, он пошел даже на то, что торжественно обещал оставить за Жанной все права на владения Наваррой, Шампанью и Бри. Но герцог стоял на своем. Сначала пускай решат по всей форме вопрос о ее правах на престол, тогда можно будет поговорить и о регентстве.
«Не будь здесь этой хитрой бестии Мелло, Эд обязательно уступил бы», – подумал граф Пуатье. С делано усталым видом он вытянул свои длинные ноги, потом скрестил их и задумчиво потер подбородок.
Людовик д’Эврё, наблюдавший за этой сценой, ждал ответа племянника, понимая, как трудно будет ему вывернуться. «Боюсь, что в Дижоне скоро забряцают оружием», – подумал дальновидный политик д’Эврё. Несколько раз он порывался прийти племяннику на помощь и сказать ему: «Ну ладно, уступим бургундцам в вопросе о престолонаследии!» – но не успел, Филипп живо обернулся к Эду:
– Послушайте, кузен, а сами вы не собираетесь вступить в брак?
Герцог Бургундский ошалело взглянул на говорившего, так как, будучи тугодумом, решил было, что Филипп прочит ему в невесты Жанну Наваррскую.
– Раз мы поклялись друг другу в верной дружбе, – продолжал Филипп так, словно были приняты все предложенные им пункты еще не составленного договора, – вы, дражайший кузен, стали тем самым надежной моей опорой, и я решил, в свою очередь, пойти вам навстречу и еще сильнее укрепить, к великому моему удовольствию, узы нашего родства. Согласны вы взять себе в жены мою старшую дочь Жанну?
Эд взглянул сначала на Мелло, потом на Людовика д’Эврё и наконец уставился на Миля де Нуайе, который почтительно дожидался конца разговора, держа наготове тростинку для письма.
– Но, кузен, сколько же ей лет? – осведомился он.
– Восемь, – ответил Филипп. Затем, выдержав многозначительную паузу, добавил: – Не исключена возможность, что Жанне достанется графство Бургундское, унаследованное ею от матери.
Эд вскинул голову, как конь, почуявший овес. С давних пор, еще со времен Роберта I, внука Гуго Капета, слияние двух Бургундий – графства и герцогства – было заветной мечтой наследных герцогов. Объединить оба двора – Дольский и Дижонский, владеть территорией от Оксера до Понтарлье и от Макона до Безансона, претендовать на власть во Франции, равно как и в Священной империи, ибо Бургундия была пфальцграфством, – возможно ли, что это чудо сбудется? Теперь, в сущности, бургундцы могут подумать о восстановлении под своей эгидой империи Карла Великого.
Людовик д’Эврё не мог не восхититься отважным шагом племянника: партия казалась безнадежно проигранной, и вдруг такой дерзкий удар! Но дядя понял, к чему клонит племянник: ведь в приданое дочери он отвел не свои земли, а земли тещи. Графине Маго дали графство Артуа в ущерб прямым интересам Робера Артуа, и дали лишь затем, чтобы она отказалась от графства Бургундского, а графство это получил Филипп в приданое за женой, чтобы можно было домогаться избрания в императоры. Теперь Филипп метит на французский престол, или, на худой конец, ему обеспечены десять лет регентства: графство Бургундское в таких условиях не слишком его интересует, лишь бы оно досталось вассалу, что и произошло.
– Не могу ли я увидеть вашу дочь? – решительно спросил Эд, не считавший нужным в данном случае запрашивать согласия и совета матушки.
– Вы ее только что видели, кузен, за обедом.
– Конечно видел, но не разглядел… То есть я хочу сказать, что не смотрел на нее как на свою нареченную.
Послали за Жанной, старшей дочкой Филиппа, которая играла в кошки-мышки со своими сестрами[15] и многочисленными кузенами и кузинами.
– Что им от меня надо? Оставьте меня в покое, я хочу играть! – крикнула девочка и побежала к конюшням вдогонку за дофинчиком.
– Вас зовет ваш батюшка.
Жанна успела догнать маленького Гига, с криком «Кошка!» хлопнула его по спине и, надувшись, пошла за камергером, который повел ее за руку.
Так, еще не отдышавшаяся, потная, растрепанная, в расшитом золотом, изрядно запылившемся платьице, и предстала она перед кузеном Эдом, перед своим женихом, который был старше невесты на целых двадцать семь лет. Худенькая девочка, ни хорошенькая, ни дурнушка, не могла даже подозревать, что сейчас решается ее судьба, неотделимая от судьбы французского престола… Бывает, поглядишь на малого ребенка и сразу видишь, каким он станет позже, а тут и видеть-то было нечего… Эд видел только Бургундию в сиянии мечты.
Кто спорит, графство вещь прекрасная; но, с другой стороны, вполне могут подсунуть в спешке жену-калеку. «Если у нее прямые ножки – соглашусь», – решил про себя Эд Бургундский. Уж кто-кто, а он имел все основания опасаться такого коварства: ведь сумели же они сами подсунуть Филиппу Валуа младшую сестру его и Маргариты Наваррской, у которой одна нога была короче другой[16]. Эта хромота сыграла не последнюю роль в теперешней взаимной ненависти Валуа и герцогов Бургундских. Поэтому требование Эда, чтобы девочка подняла юбочку, никого не удивило: он посмотрит, прямые у нее ножки или нет. Ножки оказались худенькими как палочки, ни икр ни ляжек – видно, пошла в отца. Зато ничего не скажешь – прямые.
– Вы правы, кузен, – заявил герцог. – По-моему, это хороший способ скрепить нашу дружбу.
– Вот видите! – сказал Пуатье. – Так к чему же нам ссориться? Отныне я буду называть вас зятем.
И обнял зятя, который на двенадцать лет был старше тестя.
– А теперь, дочь моя, поцелуйте вашего жениха, – обратился Филипп к Жанне.
– Ой, значит, теперь он мой жених! – воскликнула девочка.
И она горделиво выпрямила свой худенький стан.
– Как хорошо! – добавила она. – Мой жених гораздо выше, чем дофинчик.
«До чего же я разумно поступил, – думал тем временем Филипп, – что отдал в прошлом месяце дофину младшую дочку и не распорядился раньше времени судьбой Жанны, а следовательно, и графством!»
Пришлось герцогу Бургундскому поднять свою будущую супругу, и она запечатлела на его лице поцелуй, вернее, просто обслюнявила ему щеку. Как только он опустил свою нареченную на землю, она вихрем помчалась во двор, где играли дети, и гордо объявила:
– Я теперь невеста!
Игры разом прекратились.
– И жених у меня вовсе не такой малышка, как у тебя, – попрекнула она сестру, указывая на Гига. – Мой большой, как наш папа.
И, заметив крошку Жанну Наваррскую, которая хмуро стояла в стороне, невеста добавила:
– Теперь я буду твоя тетя.
– Почему тетя? – удивилась сиротка.
– Потому что выйду замуж за твоего дядю Эда.
Одна из младших дочерей графа Валуа, которой не было и семи лет, но которую чуть ли не с пеленок научили пересказывать все старшим, бросилась в замок и отыскала там своего батюшку. Карл Валуа сидел в задних покоях с Бланкой Бретонской и кое с кем из преданных ему сеньоров и вел с ними оживленную беседу, очевидно готовя новый комплот, но тут появилась дочка и пересказала все, о чем говорилось на заднем дворе. Карл вскочил, ударом ноги отбросил стул и, сбычившись, пошел в залу, где сидел регент.
– Ах, дорогой мой дядюшка, вас-то нам и недоставало! – воскликнул Филипп Пуатье. – Я как раз собирался послать за вами – хотел попросить вас быть свидетелем нашего договора.
И он протянул Карлу договор, только что составленный Милем де Нуайе: «…дабы совместно со всеми нашими сородичами скрепить нашей подписью условия, на коих мы пришли к полному согласию с дражайшим кузеном Бургундским».
Невеселая неделя выпала на долю бывшего императора Константинопольского. И что хуже всего, приходилось безропотно подчиняться. Вслед за ним свои подписи под соглашением поставили Людовик д’Эврё, Маго Артуа, дофин Вьеннский, Эме Савойский, Карл де ла Марш, Людовик Бурбон, Бланка Бретонская, Ги де Сен-Поль, Анри де Сюлли, Гийом д’Аркур, Ансо де Жуанвиль и коннетабль Гоше де Шатийон.
Поздние июльские сумерки неторопливо спускались на Венсенн. Трава и деревья еще хранили дневное тепло. Большинство гостей разъехалось по домам.
Регент не спеша прогуливался под столетними дубами в обществе самых близких, самых преданных ему людей – тех, что шли с ним от Лиона и кому он был обязан своей победой. Кто-то вспомнил о пресловутом дереве, под коим Людовик Святой творил суд, кто-то пошутил, что дерево так и не удалось обнаружить. Вдруг регент обратился к присутствующим:
– Мессиры, на сердце у меня отрадно и радостно: добрая моя супруга нынче произвела на свет сына.
Он вздохнул глубоко, вздохнул с наслаждением, даже с блаженством, как будто и впрямь воздух французского королевства принадлежал ему.
Филипп присел на мшистую кочку. Опершись спиной о ствол дерева, он молча любовался резным узором листвы, вырисовывавшимся на вечернем розовом небе, как вдруг к нему направился крупными шагами Гоше де Шатийон. Тень вновь омрачала чело коннетабля.
– Я принес вам, ваше высочество, дурную весть.
– Уже? Так скоро?! – спросил регент.
– Граф Робер только что отбыл в Артуа.
Часть вторая
ГРАФСТВО АРТУА И КОНКЛАВ
Глава I
Прибытие графа Робера
Десяток всадников, прискакавших из Дуллана, предводительствуемые гигантом в кроваво-красном кафтане, галопом промчались через поселок Букмезон и осадили коней там, где дорога круто уходит под гору. Внизу под ними лежала равнина, спускавшаяся уступами к горизонту, окаймленному синеватой бахромкой леса, вся в буковых рощицах, вся в горбатых пригорках, меж которых простирались нивы.
– Вот здесь начинаются земли графства Артуа, ваша светлость, – произнес один из всадников, Жак де Варенн, обращаясь к вожаку.
– Мое графство! Вот оно наконец, мое графство! Вот она, родная моя земля, по которой я не ступал целых четырнадцать лет! – проговорил гигант.
Над истомленными зноем полями нависла тяжкая тишина. Слышен был лишь прерывистый храп лошадей, не отдышавшихся от скачки, да густое жужжание шмелей, опьяненных жарой.
Робер Артуа спрыгнул с лошади, бросил поводья своему слуге Лорме, одним духом взлетел на придорожный откос, топча сапогами траву и цветы, и все так же молча пошел по полю. Его спутники не тронулись с места, предоставляя графу в одиночестве насладиться радостью минуты. А Робер тем временем шагал прямо через пшеницу, доходившую ему до бедер, раздвигая золотые тяжелые колосья. На ходу он ласкал их рукой – так гладят походя покорного коня или светлые кудри красотки.
– Моя земля, моя пшеница! – твердил он.
Вдруг он рухнул прямо на землю, растянулся среди колосьев во весь свой гигантский рост; обезумев от счастья, он катался по земле, прижимался к ее лону, как бы желая слиться с ней; он жадно хватал зубами колосья, жевал их и чувствовал на языке чудесный вкус раздавленного зерна, уже достигшего молочной спелости; он не замечал, что остья царапают ему губы. Он упивался лазурью небес, запахом сухой земли и колосьев и один ухитрился примять больше пшеницы, чем стадо кабанов. Наконец он поднялся на ноги, великолепный, хоть и в измятом кафтане, и направился к своим дорожным спутникам, потрясая охапкой колосьев.
– Лорме, – скомандовал он, – расстегни на мне кафтан и распусти кольчугу.
И когда слуга выполнил приказание, Робер засунул охапку колосьев под рубашку, прямо на голое тело.
– Клянусь Господом Богом, мессиры, – прогремел он, – пока мы не отвоюем обратно мое графство до последнего лужка, до последнего деревца, я не расстанусь с этими колосьями! А теперь в поход!
Он вскочил в седло и, сжав лошадиные бока ногами, поднял коня в галоп.
– Эй, Лорме, – кликнул он, стараясь перекричать свист ветра, – эй, Лорме, а знаешь, лошадиные копыта как-то звонче цокают по здешней земле, как по-твоему?
– Ваша правда, – отозвался этот убийца с чувствительной душой, слепо соглашавшийся с хозяином, за которым он ходил как за малым ребенком. – Да у вас кольчуга на сторону съехала, придержите-ка коня, я сейчас вам ее поправлю.
Так они проскакали еще немного. А там, где дорога внезапно обрывалась, перед Робером открылось наконец великолепное зрелище: внизу, на лугу, сверкал на солнце сомкнутый строй кирас, целая армия в тысячу восемьсот всадников, пришедших встретить своего сюзерена. Робер даже мечтать не мог, что по его зову подымется столько людей.
– Ну как, Варенн? Ты, я вижу, куманек, здорово потрудился! – восхищенно крикнул Робер.
Рыцари графства Артуа, узнав Робера, грянули во всю мощь своих глоток:
– Добро пожаловать, граф Робер! Многие лета нашему славному сеньору!
Самые нетерпеливые поскакали ему навстречу; со звоном сталкивались стальные наколенники, острия копий золотились на солнце, словно нива, раскинувшаяся рядом.
– А вот и Комон! Вот Суастр! Узнаю вас по гербам, друзья, – говорил Робер.
В открытые забрала виднелись лица всадников, хоть и смоченные потом, но сиявшие в предвкушении воинских забав. Большинство мелких дворянчиков явилось в старых доспехах, доставшихся им еще от отца, а то и от деда и наспех подогнанных по мерке своими силами у себя в замке. Ох и сотрут же себе к вечеру высокородные сеньоры кожу, покроются кровавыми струпьями! Недаром они предусмотрительно упаковали вместе с пожитками, которые вез за каждым оруженосец, горшочки с бальзамом, приготовленным руками заботливых жен, и разорванный на полосы холст для перевязки ран.
Все образчики воинских доспехов за целое столетие продефилировали перед Робером: тут были шлемы всех видов, шишаки всех фасонов, кольчуги и огромные мечи, сопровождавшие рыцарей еще в Крестовые походы. Провинциальные щеголи нацепили на шлем султаны из петушиных, фазаньих, а то и павлиньих перьев; кое у кого шлем увенчивался золотым драконом, а один сеньор даже украсил свой железный шлем изображением обнаженной женщины и, естественно, привлекал всеобщее внимание.
Все подновили свои щиты, и на них переливались всеми цветами радуги гербы, у кого попроще, у кого посложнее, в зависимости от древности рода, причем самые незатейливые гербы принадлежали самым родовитым сеньорам.
– Вот Сен-Венан, вот Лонгвиль, а это Недоншель, – представлял Роберу рыцарей Жан де Варенн.
– Ваш верноподданный, ваш верноподданный, – отзывался названный.
– Верноподданный Недоншель… верноподданный Бельянкур… верноподданный Пикиньи… – повторял Робер, проезжая перед строем.
А юношам, впервые готовящимся к бранному делу и вспыхивавшим от гордости, Робер посулил полное рыцарское вооружение, буде они сумеют показать себя в бою.
Потом он решил немедля назначить двух маршалов, как в настоящем королевском войске. Выбор его пал на сира де Опонлье, который не пожалел труда, собирая это крикливое воинство.
– А вторым я назначу… ну, вот тебя, Боваль, – объявил Робер. – У регента маршал Бомон, а у меня будет Боваль.
Мелкопоместные сеньоры, охочие до шуток и каламбуров, дружным ржанием приветствовали маршала Жана де Боваля, обязанного этой высокой чести своему имени.
– А теперь разрешите спросить, ваша светлость, – проговорил Жан де Варенн, – какую дорогу вы изволите выбрать? Может быть, мы сначала отправимся в Сен-Поль или же прямо в Аррас? Все графство Артуа в вашем распоряжении, выбирайте!
– А какая дорога ведет в Эден?
– Вот эта, ваша светлость, она проходит через Фреван.
– Так вот что, друзья, первым делом я хочу посетить замок своих отцов.
По рядам всадников прошел тревожный шепот. Зря это граф Робер сразу же после своего появления в Артуа намеревается скакать в Эден.
– Дело в том, ваша светлость, – промямлил Суастр, тот самый, у кого на шлеме красовалась обнаженная женщина, – дело в том, что вряд ли в замке вас ждет добрый прием.
– Что такое? Неужели там до сих пор сидит сир де Бросс, назначенный моим кузеном Сварливым?
– Нет, мы давно прогнали Жана де Бросса, но заодно чуточку погромили замок.
– Погромили? – повторил Робер. – Надеюсь, хоть не сожгли?
– Нет, ваша светлость, нет, стены остались целы.
– Ах, значит, вы его чуть разграбили, милейшие сеньоры? Что ж, если только разграбили, тогда молодцы! Все, что принадлежит Маго, прощелыге Маго, свинье Маго, Маго-шлюхе, – все ваше, мессиры, и я охотно делюсь с вами ее добром!
Ну как было не обожать столь великодушного сюзерена! Союзники снова грянули «ура» в честь своего славного графа Робера, и мятежное воинство тронулось по дороге в Эден.
Только к концу дня кавалькада достигла крепости графов Артуа с ее четырнадцатью башнями и с замком, занимавшим огромную площадь в двенадцать «мер», иными словами, около пяти гектаров.
Много кровавых трудов, много пота стоила окрестному мелкому люду, умученному непосильными податями, эта сказочная крепость, которая, как уверяли, воздвигнута ради того, чтобы защитить простолюдинов от бедствий войны! Одна война сменялась другой, но замок оказался для них неверным оплотом, и так как бои обычно шли вокруг него, то местное население предпочитало отсиживаться в своих лачугах, моля Господа Бога пронести этот смерч стороной.
Поэтому и не высыпал народ на улицы, чтобы приветствовать сеньора Робера. Жители, натерпевшиеся страха еще во время вчерашнего грабежа, попрятались по домам. Только самые трусливые вышли на порог и крикнули что-то вслед проезжавшей кавалькаде, но крик получился какой-то жидкий.
Подступы к замку являли собой малоприглядное зрелище: королевский гарнизон, аккуратно развешанный на зубцах стены, уже порядком попахивал. У больших ворот, так называемых Цыплячьих ворот, был спущен подъемный мост. Внутренность двора носила страшные следы набега: из кладовых струйкой вытекало вино, так как вчера перебили все чаны; повсюду валялась дохлая птица; в коровниках надрывно мычали недоеные коровы, а на кирпичах, которыми был вымощен внутренний двор – неслыханная по тем временам роскошь, – была начертана вся история вчерашней бойни: о ней рассказывали широкие пятна уже успевшей высохнуть крови.
Жилище семейства Артуа насчитывало пятьдесят покоев, и ни один не пощадили славные союзники Робера. Все, что не удалось вынести или вывезти, все, что не годилось для украшения их замков, было разбито и разломано на месте.
Исчез из часовни огромный червленый крест, равно как и статуя Людовика Святого, в которой был заключен обломок пречистой кости и несколько королевских волосков. Исчезла золотая дарохранительница, которую присвоил себе Ферри де Пикиньи и которая потом отыскалась у одного парижского лавочника, так как этот сеньор перепродал ему святую реликвию. Расхитили библиотеку, насчитывавшую дюжины томов, украли шахматы из яшмы и халцедона. А платья, пеньюары, белье графини Маго мелкопоместные дворянчики торжественно преподнесли в дар своим возлюбленным и ждали ночи, когда их горячо отблагодарят за великодушный дар. Даже из кухни унесли все запасы перца, имбиря, шафрана и корицы…[17]
Под ногами хрустели осколки посуды, шелестели обрывки парчи; повсюду валялись балдахины, поломанная мебель, сорванные гобелены. Вдохновители грабежа не без смущения плелись вслед за Робером, но при каждом новом открытии гигант начинал хохотать так громко и искренне, что они мало-помалу приободрились.
В гербовом зале по приказу хозяйки вдоль стен водрузили каменные статуи, изображавшие всех графов и графинь Артуа, начиная с прародителей и кончая самой Маго. Хотя трудно было отличить одного каменного предка от другого, общий вид зала получился внушительным.
– Вот тут, ваша светлость, – проговорил Пикиньи, у которого совесть и без того была нечиста, – вот тут мы ничего не тронули.
– И зря, куманек, – возразил Робер. – Среди этих каменных истуканов есть такие, что не очень-то мне по нутру. Лорме, палицу!
Вооружившись тяжелой палицей, которую поспешил подать Лорме, Робер трижды описал круг над головой и с размаху опустил ее на лик графини Маго. Каменная громада покачнулась на цоколе, а голова, слетев с плеч, разбилась о плиты пола.
– Пускай с нее живой вот так покатится голова и пускай все мои союзники ее окропят! – провозгласил Робер.
Тому, кто любит крушить, стоит только начать; привычная тяжесть палицы ласкала руку гиганта в пурпурном одеянии.
– Ах, моя тетушка-шлюха, ведь вы лишили меня графства Артуа лишь потому, что тот, кто произвел меня на свет…
И он одним ударом смахнул с плеч голову родного отца, графа Филиппа.
– …имел глупость помереть раньше, чем вот этот…
И он обезглавил заодно и своего деда – графа Робера II.
– …и мне придется жить среди каменных болванов, изготовленных по вашему приказу ради возвеличения собственной персоны, на что вы не имеете никакого права! Вон моих предков, долой! Мы начнем все заново и не на ворованные денежки!
Стены дрожали, осколки камня усыпали весь пол. Бароны молчали, у них даже дух перехватило перед невиданным еще размахом ярости, далеко превосходившей их в искусстве разгромов. Ну не сладко ли покориться такому вождю!
Обезглавив весь свой род, граф Робер III швырнул палицу в окно, откуда со звоном вылетели стекла, и блаженно потянулся.
– Теперь, друзья, можно и поговорить на свободе… Мессиры, славные мои соратники и верноподданные, я требую, чтобы все города, превотства, сеньории, которые мы освободим из-под ига Маго и всех ее чертовых Ирсонов, составили список своих претензий против ее правления и чтобы были подробно перечислены все ее злодеяния, после чего мы перешлем их жалобы прямо в руки ее зятька, мессира Ворота на Запоре… ибо, где бы сей сеньор ни появлялся, он первым делом запирает все – будь то город, конклав, казна… в собственные руки мессира Слепуши, нашего обожаемого сеньора Филиппа Кривого[18], объявившего себя регентом, ради коего у нас четырнадцать лет назад отобрали наше графство, чтобы он жирел на бургундских хлебах! Так пусть же подохнет, зверюга, пусть удавится собственными кишками!
Коротышка Жерар Кьере, кляузник и крючкотвор, тот самый, что представительствовал перед покойным королем Людовиком Сварливым за баронов графства Артуа, взбунтовавшихся против Маго, взял слово:
– Есть тут одна зацепочка, ваша светлость. Можно не только Артуа, но и все королевство взбудоражить: пожалуй, регенту любопытно будет узнать, почему его брат, Людовик Десятый, отдал Богу душу.
– Что за черт, неужто ты, Жерар, думаешь то же самое, что и мне приходило в голову? Неужто у тебя есть доказательства, что моя достопочтенная тетушка приложила к этому руку?
– Доказательства, ваша светлость? Легко сказать, доказательства! Зато подозрения есть, и вполне основательные, свидетели тоже имеются. Я знаю в Аррасе одну даму, зовется она Изабелла Ферьенн, и сын у нее есть – Жан, так вот оба они чернокнижники и торгуют разными волшебными зельями, а имела с ними дело некая девица Ирсон, по имени Беатриса…
– Ах эта! Эту я вам рано или поздно выдам на утеху! – подхватил Робер. – С первого взгляда видно, лакомый кусок, ох и лакомый!
– Мать и сын Ферьенн продали ей для мадам Маго яду, чтобы травить оленей, а было это за две недели до кончины Людовика. То, что годно для оленей, сгодится и для короля.
Бароны веселым кудахтаньем одобрили эту незамысловатую шутку.
– Так или иначе, яд для рогатых, – уточнил Робер. – Упокой, Господи, душу моего рогача-кузена!
Кудахтанье стало громче.
– А все это подтверждается тем, мессир Робер, – продолжал Кьере, – что в прошлом году мадам Ферьенн похвалялась, что изготовила зелье и что мессир Филипп, которого вы величаете Кривым, выпив его, снова полюбил свою супругу мадам Жанну, дочь Маго…
– Такую же шлюху, как и ее матушка, и вы, бароны, тоже хороши: не могли придушить эту гадину, когда она прошлой осенью попалась вам в руки, – прервал его Робер. – Подайте мне мадам Ферьенн, подайте мне ее сынка! Как прибудем в Аррас, потрудитесь сразу же их схватить. А теперь давайте закусим, после трудов праведных у меня разыгрался аппетит. Пусть заколют самого большого быка, какой только найдется в хлеву, и пусть зажарят его целиком; пусть выловят из пруда всех карпов Маго и пусть подадут вино, которое вы еще не успели выпить.
А через два часа, когда день уже начал клониться к закату, вся честная компания была мертвецки пьяна. Робер отрядил своего Лорме, которого не брал хмель, с надежным эскортом в город – пускай обшарят все дома и доставят сюда девушек, чтобы бароны могли позабавиться. В поисках требуемого товара Лорме со стражниками не особенно церемонились и стаскивали с постелей всех женщин подряд – будь то невинная девица или же честная мать семейства. И вскоре Лорме пригнал к замку ревущую от страха толпу женщин в одних ночных рубашках. В разгромленных покоях графини Маго начался безудержный шабаш. Визг женщин лишь еще больше распалял высокородных рыцарей, которые бросались в атаку на своих жертв, словно перед ними было воинство неверных, старались опередить друг друга в ловкости и по трое тащили в разные стороны свою добычу. Робер выбрал для себя самые лакомые кусочки и уволок девиц за волосы, даже не потрудившись снять кольчугу. И так как весил он более двухсот фунтов, несчастные даже кричать не могли и только задыхались. А тем временем Суастр, потеряв где-то свой великолепный шлем, стоял в уголке, согнувшись вдвое, прижав к груди руки, и отдавал обратно пищу без передышки, как водосточная труба во время грозы.
Потом доблестные вояки мирно захрапели; и один человек мог бы без помех перерезать нынче ночью всю знать графства Артуа.
На следующее утро достославная рать, еле волоча с перепоя ноги, чувствуя во рту горечь, а в голове шум, тронулась на Аррас, где Робер решил устроить свою резиденцию. Один лишь он был свеж, как только что пойманная щука, чем окончательно покорил свою армию. По дороге то и дело устраивали привалы, так как в окрестностях Маго владела еще и другими замками, при виде которых бароны приободрились.
Но когда в День святой Магдалины Робер Артуа прибыл в Аррас, мадам Ферьенн обнаружить не удалось – она как в воду канула.
Глава II
Папский ломбардец
Тем временем в Лионе кардиналы по-прежнему сидели взаперти. Они надеялись, что регент устанет и сдастся; пленение их длилось уже месяц. Семьсот лучников графа Форе все так же зорко охраняли церковь и доминиканский монастырь; и хотя графу Савелли, главе конклава, в знак уважения оставили ключи от храма Божьего, ключи эти оказались ни к чему – замурованную дверь все равно не отопрешь.
Кардиналы с каждым днем все смелее нарушали заповеди папы Григория и не испытывали при этом ни малейших угрызений совести, коль скоро их силой загнали сюда. И каждый день они заявляли об этом графу Форе, когда тот просовывал в отверстие для подачи пищи голову, увенчанную шлемом. На что граф тоже каждый день отвечал, что он свято чтит закон конклава. Этот диалог грозил затянуться до бесконечности.
Кардиналы, коим велено было жить вместе, постепенно расселились; хотя церковь и была достаточно велика, но под сводами нефа ютилась сотня человек, и уже через несколько дней их жизнь превратилась в ад, тем паче что спать приходилось прямо на каменных плитах, на тоненькой соломенной подстилке. Да и зловоние, наполнившее церковь с первого же дня заточения кардиналов, мало подходило к торжественной церемонии избрания папы. Поэтому прелаты, недолго думая, захватили монастырь, сообщавшийся с церковью и находившийся в той же ограде. Вытеснив монахов, святые отцы по трое поселились в кельях, что тоже было не очень удобно. Их приближенные силой заняли общую спальню, а капелланы облюбовали себе странноприимный дом, благо странников за ограду не пускали.
Правда, обещанная угроза – урезать в случае неповиновения и без того скудный паек – не была приведена в исполнение, не то конклав превратился бы в сборище скелетов. По приказу кардиналов им доставляли с воли кое-какие лакомства, предназначенные, по их словам, для аббата. Тайна переговоров нарушалась то и дело: ежедневно конклав получал и посылал письма, засунутые в печеный хлеб или между пустыми блюдами. Час, отведенный для обеда, превращался в час писания и чтения писем, поэтому послания, с помощью которых святые отцы рассчитывали привести к согласию весь христианский мир, были сплошь испещрены жирными пятнами.
О всех этих попустительствах Форе сообщал регенту, а тот отвечал, что пусть все так и остается. «Чем больше они натворят ошибок, – говорил Филипп Пуатье, – тем строже мы с них взыщем, когда будет на то наша воля. Что касается посланий, пропускайте их с умыслом, только старайтесь всякий раз, как представится случай, прочесть их, чтобы я мог знать содержание».
Таким образом стало известно, что на папский престол были выдвинуты четыре кандидата, тут же отвергнутые конклавом; сначала назвали Арно Нувеля, бывшего аббата Фонфруадского, о котором Жан де Форе сообщил Филиппу, что не считает сего кардинала «особо горячим приверженцем французского королевства»; потом провалились кандидатуры Гийома де Мандагу, кардинала Пренестра, Арно де Пелагрю и Беранже Фредоля старшего. Гасконцы и провансальцы взаимно проваливали друг друга. Вслед за тем стало известно, что от грозного кардинала Каэтани отвернулся кое-кто из итальянской партии, даже его кузен Стефанески, до того опротивел он всем своими низкими интригами и клеветой, нелепость которой бросалась в глаза.
Разве не он предположил – правда в шутку, но ведь всем известно, что означает в таких устах шутка, – вызвать дьявола, и пускай-де он назначит папу, раз Господь Бог не желает проявить свою волю.
На что Дюэз, пришепетывая по обыкновению, возразил:
– Не впервые, Франческо, ох не впервые сатана воцарится среди нас!
Когда Каэтани требовал себе свечу, то, по общему мнению, отнюдь не затем, чтобы она освещала его келью, а чтобы с помощью воска совершать заклятие.
Раньше, живя врозь, кардиналы, случалось, спорили, отстаивая свои доктрины, престиж и интересы, а теперь, прожив месяц бок о бок в неустройстве и тесноте, они возненавидели друг друга по личным соображениям, возненавидели почти физически. Многие опустились, перестали следить за собой, ни разу не побрились в течение месяца, не могли побороть бренной своей плоти. Теперь кандидат в папы в поисках сторонников не прибегал к посулам, не обещал ни бенефиций, ни денег, но делил свою скудную порцию пищи с обжорой, что было строжайше запрещено. Шепотом один доносил другому:
– Камерлинг опять съел три порции – претенденты в папы его подкармливают.
Если благодаря всем этим махинациям кардинальские желудки пришли в относительное равновесие, то не так легко оказалось жить в полном целомудрии, к чему святые отцы не имели привычки, и это обстоятельство окончательно их озлобило. Среди провансальцев ходила незамысловатая шутка:
– Монсеньор д’Ош страдает от отсутствия жареных птиц, а их святейшества Колонна – от отсутствия девиц.
Ибо братья Колонна, гиганты, рожденные скорее для лат, чем для сутаны, начали уже гоняться по монастырским коридорам за молодыми дворянчиками и сулили им отпущение грехов.
Вспоминались старые обиды, то и дело слышались сердитые возгласы:
– Если бы вы не канонизировали Целестина… если бы вы не отреклись от Бонифация… если бы вы не согласились переехать из Рима… если бы вы не осудили тамплиеров…
Святые отцы упрекали друг друга в недостаточной защите церкви, в тщеславии и продажности. Послушать этих кардиналов, так ни один из них не был достоин не только сесть на папский престол, но даже занять место деревенского викария.
Один лишь монсеньор Дюэз, казалось, не замечал ни неудобств, ни интриг, ни злословия. За последние два года он столько намутил среди своих коллег, что сейчас ему не было нужды ни во что вмешиваться, ибо посеянные им дурные семена произрастали и без его помощи. А так как он всегда страдал отсутствием аппетита, ему вполне хватало скудного пайка. По собственной воле поселился он в келье вместе с двумя нормандскими кардиналами, тяготевшими к провансальской партии, – с Никола де Фреовиллем, бывшим исповедником Филиппа Красивого, и Мишелем дю Беком, которые были не на виду и к тому же слишком слабы, чтобы сколотить собственную партию. Их не опасались, и никто не усматривал в их совместном пребывании с Дюэзом какого-либо заговора. Впрочем, Дюэз мало виделся со своими сожителями. В определенные часы он прогуливался в ограде монастыря, обычно опершись на руку Гуччо, который не скупился на поучения.
– Идите тише, монсеньор! Вы же видите, что я едва за вами поспеваю, у меня нога не сгибается после несчастья в Марселе, когда я упал с корабля, на котором прибыла во Францию королева Клеменция… Насколько я могу судить по разговорам, чем слабее вы будете казаться с виду, тем сильнее шансы на ваше избрание.
– Верно, верно, неглупо сказано, – отвечал Дюэз, старательно сутулясь и волоча ноги, как и подобает семидесятидвухлетнему старцу.
Все остальное время он читал или писал. Он раздобыл то, что было для него важнее всего на свете: книги, свечу и пергамент. Когда его звали кардиналы, собиравшиеся посовещаться на хорах, он делал вид, что с неохотой отрывается от книг, с трудом добирался до своего места, с наслаждением слушал, как его коллеги язвят и клянут друг друга, и кротко шептал:
– Я молю, молю Господа, братья, дабы он помог нам выбрать наидостойнейшего.
Знавшие его ранее кардиналы находили, что он сильно изменился за последнее время. Он казался преисполненным христианских добродетелей, усердно умерщвлял плоть и являл всем пример благожелательности и милосердия. Когда ему говорили об этом, он, досадливо махнув рукой, отвечал обычным своим полушепотом:
– Смерть не за горами… Пора к ней готовиться…
Он едва прикасался к пище, и по приказу Дюэза его почти полную миску относили по очереди кардиналам; желая оправдать это нарушение правил, он ссылался на свое слабое здоровье. Гуччо то и дело являлся с дарами к камерлингу, который жирел, как бык на откорме, и говорил ему:
– Монсеньор Дюэз просил вам передать вот это. Он видел вас нынче утром и считает, что вы похудели.
Гуччо было легче, чем остальным девяноста шести узникам, общаться с волей; ему сразу же удалось связаться с представителем банка Толомеи в Лионе. Именно этим путем уходили не только те письма, которые сам Гуччо слал дяде, но и более секретные послания Дюэза, адресованные регенту. Эти послания миновало печальное соседство с жирной посудой; их переправляли в книгах, необходимых кардиналу для его благочестивых трудов.
Дюэз и впрямь не имел иного поверенного, кроме юного ломбардца, чье хитроумие он ценил с каждым днем все больше. Их судьбы были нерасторжимо связаны, ибо если Дюэз мечтал прямо из этой церкви, раскаленной июльским солнцем, попасть на папский престол, то Гуччо не терпелось вырваться отсюда как можно скорее, заручившись высоким покровительством, чтобы помочь своей милой. Впрочем, в последнее время тревоги Гуччо немного улеглись: Толомеи сообщил ему, что заботится о Мари, как и подобает родному дяде.
В самом начале последней недели июля, когда Дюэз убедился, что его коллеги совсем выбились из сил, истомлены жарой и окончательно перегрызлись, он решил разыграть комедию, к которой готовился уже давно и которую тщательно разработал с помощью Гуччо.
– Ну как, научился я волочить ногу? Видно по моему лицу, что я сижу на хлебе и воде? Достаточно ли у меня скверный вид? – допытывался он у случайно попавшего ему в служки Гуччо. – Достаточно ли мои собратья надоели друг другу и можно ли, воспользовавшись их состоянием, добиться нужного нам решения?
– Думаю, что так, монсеньор, думаю, что они уже вполне созрели.
– Ну-ну, дружок, пойдите и поработайте хорошенько языком, а я прилягу и, боюсь, больше не встану…
Гуччо тут же принялся за дело, распространяя среди кардинальских служителей слух о том, что монсеньор Дюэз сильно ослабел, видимо, серьезно занемог и, принимая в расчет его почтенный возраст, вряд ли дождется конца конклава.
Назавтра Дюэз не явился на обычное сборище, и кардиналы шепотом передавали друг другу распространенную Гуччо весть как неопровержимую истину.
А еще через день кардинал Орсини после жестокой перепалки с братьями Колонна встретил в коридоре Гуччо и спросил его, правда ли, что монсеньор Дюэз так ослабел.
– Сущая правда. Вы же видите, я себе с горя места не нахожу, – ответил Гуччо. – Известно ли вам, что добрый мой владыка даже читать не может? А это означает, что недолго ему осталось жить.
И добавил с наивно-дерзким видом, какой умел напускать на себя в случае надобности:
– Будь я на вашем месте, монсеньор, я бы знал, что мне делать. Избрал бы папой Дюэза. Ведь вас тогда немедленно отсюда выпустят. И после его кончины, а ждать ее, повторяю, недолго, выберете себе кого-нибудь другого, кто вам больше по душе. Воспользуйтесь этим, а то через неделю будет уже поздно.
В тот же вечер Гуччо заметил, что Наполеон Орсини приватно беседует с кардиналом Стефанески, своим родичем по материнской линии, с Альбертини де Прато и Гийомом де Лонжи, то есть с итальянскими сторонниками Дюэза. А наутро вышеупомянутые кардиналы держались уже сплоченной группой; к ним присоединился испанец Лука Фиески, сводный брат Хайме II, короля Арагонского, и Арно де Пелагрю, глава гасконской партии; Гуччо, проходя мимо, услышал чей-то вопрос:
– Е se non muore?[19]
– Peccato…[20] Но если он умрет завтра, нам здесь еще полгода сидеть.
Не теряя времени, Гуччо отправил дядюшке письмо и посоветовал ему скупить все векселя Жака Дюэза, выданные компании Барди и хранившиеся в Лионском отделении банка. «Вам, несомненно, удастся приобрести их за полцены, ибо должник считается при смерти и кредитор, конечно, сочтет вас безумцем. Скупайте их по любой цене за сотню, дело, повторяю, верное, не будь я ваш племянник». Он даже посоветовал Толомеи как можно скорее прибыть в Лион.
Двадцать девятого июля граф де Форе официально вручил кардиналу-камерлингу послание от регента. Даже Жак Дюэз решил подняться с одра и присутствовать при чтении; правда, в собор его почти внесли на руках.
Послание оказалось грозным. Граф де Пуатье подробно перечислял все прегрешения кардиналов против устава папы Григория. Напомнил о своем обещании разобрать крышу собора. Стыдил святых отцов за раздоры и предлагал им, если они не в силах прийти к соглашению, вручить тиару самому старшему по возрасту. А самым старшим как раз и был Жак Дюэз.
Но, услышав совет регента, Жак Дюэз расслабленно, как умирающий, махнул рукой и еле слышно проговорил:
– Самого достойного, братья, самого достойного! На что вам нужен пастырь, которому не под силу направлять паству, который и сам-то себя направить не может, чье место не здесь, а на небесах, если Господь пожелает меня призвать к себе?
Он велел отнести себя в келью, лег на постель и повернулся к стене. Хорошо, что Гуччо успел изучить нрав своего кардинала и один мог догадаться, что плечи Дюэза сотрясает не предсмертная икота, а смех.
На следующий день Дюэзу полегчало: слишком затянувшаяся комедия слабости могла пробудить подозрение. Но когда прибыло послание от Неаполитанского короля, который поддерживал предложение регента, на старика напал такой кашель, что вчуже страшно становилось; видно, и впрямь он был плох, если ухитрился в такую жару схватить простуду.
Однако надежда еще тлела в кардинальских душах, и торг продолжался, беспощадный, бесконечный. Вряд ли из двадцати четырех кардиналов нашелся хоть один, который, как ни малы были его шансы на избрание, не подумал пусть на минуту: «А почему бы и не меня?»
Среди приезжих, наводнивших Лион в надежде на близкое завершение дела, утвердилось мнение, что все эти установления чересчур далеки от совершенства – все они стоят друг друга, недостатки их порождены человеческим тщеславием; система избрания папы на престол святого Петра ничуть не лучше порядка наследования престола французского.
А тут еще усилил строгости граф де Форе. По его приказу осматривали еду, которую давали теперь уже только раз в день, послания, адресованные кардиналам, конфисковывали, их письма швыряли обратно в окошко.
Пятого августа Наполеону Орсини удалось склонить на сторону Дюэза самого Каэтани, грозу конклава, а также кое-кого из гасконской партии. Провансальцы потирали руки, предвкушая победу.
А шестого августа подсчитали, что монсеньор Дюэз может рассчитывать на восемнадцать голосов, то есть получить на два голоса больше, чем требовалось для пресловутого большинства, которого в течение двух лет и трех месяцев не мог собрать ни один из претендентов. Оставшиеся в меньшинстве раскольники, поняв, что избрание произойдет без их помощи, даже вопреки их воле, и справедливо опасаясь кары за свое упорство, поспешили признать высокие христианские добродетели монсеньора Дюэза и изъявили согласие голосовать за него.
Голосование назначили на понедельник – седьмое августа 1316 года. Выбрали четырех кардиналов для подсчета голосов. Появился и сам Дюэз, которого несли Гуччо и второй кардинальский служка.
– Прямо перышко, весу в нем совсем нет, – шептал Гуччо кардиналам, собравшимся посмотреть на шествие и почтительно расступавшимся перед Дюэзом, из чего нетрудно было заключить, что выбор их уже сделан.
– На все воля Твоя, Господи, Твоя воля, – прошелестел Дюэз, беря в руки бумагу, где ему предстояло написать имя кандидата.
А через несколько минут Дюэз был единогласно избран папой, и двадцать три бывших его соперника устроили ему шумную овацию.
Досаждал же он избравшим его кардиналам еще целых восемнадцать лет!
Гуччо бросился было, чтобы помочь подняться хилому старику, ставшему отныне главой христианского мира.
– Нет, нет, сын мой, не надо, – запротестовал Дюэз. – Попытаюсь ходить без посторонней помощи. Лишь бы Господь Бог укрепил меня.
Те, кто поглупее, поверили, что совершилось чудо, а все прочие поняли, что их обвели вокруг пальца.
Кардинал-камерлинг тем временем приказал сжечь в камине все документы, связанные с голосованием, и белый дымок известил мир об избрании нового главы католической церкви. И сразу же застучали кирки, разбивая каменную кладку, преграждавшую главный выход. Но граф де Форе был человек осмотрительный; как только каменщики пробили достаточно большое отверстие, он первым проскользнул в амбразуру.
– Да, да, сын мой, избрали именно меня, – бросил ему Дюэз, ковыляя к дверям.
Каменщики разобрали кладку; в освобожденные от камней окна хлынуло солнце – впервые за сорок дней пребывания конклава в церкви Святого Иакова.
Огромная толпа собралась на паперти; простой люд, лионские горожане, судьи, сеньоры и наблюдатели иностранных дворов как по команде опустились на колени. Какой-то толстый человек с оливково-смуглым лицом и крепко зажмуренным левым глазом сумел пробиться внутрь церкви сразу же вслед за графом де Форе. Схватив край папского одеяния, он почтительно поднес его к губам, и на его седую голову пало первое благословение того, кто отныне стал зваться папой Иоанном XXII.
– Zio Spinello![21] – крикнул Гуччо, вглядываясь в коленопреклоненного толстяка.
– Ах, так это ваш дядя! Я очень полюбил вашего племянника, сын мой, – проговорил Дюэз и сделал банкиру знак, чтобы тот поднялся с колен. – Он верно служил мне, и я намерен оставить его при себе. Но обнимите же его, обнимите скорее!
Гуччо бросился на шею Толомеи.
– Я выкупил все, как ты мне сказал, платил по шесть за десять, – шепнул дядя на ухо племяннику, пока Дюэз благословлял толпу. – Этот папа должен нам не одну тысячу ливров. Bel lavoro, figlio mio![22] Ты мой настоящий племянник по крови!
Но не у одних только кардиналов вытянулись с досады лица; какой-то человек, стоявший позади Толомеи, тоже не мог сдержать досадливого жеста – это был сеньор Боккаччо, главный приказчик Барди.
– Эх, знал бы я, что ты тут замешан, mascalzonе[23], – обратился он к Гуччо, – ни за что бы не продал!
– А Мари? Где Мари? – тревожно допытывался Гуччо.
– Успокойся, твоя Мари чувствует себя превосходно. Она столь же красива, сколь ты лукав, и если крошечный ломбардец, который пока что находится у нее в утробе, унаследует ваши качества, он наверняка пробьет себе дорогу! Иди, иди скорее, мальчик! Слышишь, святой отец тебя кличет.
Глава III
Плата за преступление
Регент Филипп решил присутствовать при церемонии возведения на престол папы, который был собственной его креатурой, и таким образом явить себя всему свету как ревностного защитника христианства.
– Потрудился я для него немало, – говорил Филипп. – Теперь пускай он по справедливости поможет мне упрочить мое правление. Я обязательно поеду в Лион на миропомазание.
Но из графства Артуа по-прежнему шли тревожные вести. Робер, не встречая сопротивления, взял Аррас, Авен, Терруан – словом, продолжал прибирать к рукам все графство. Из Парижа его тайно поддерживал граф Валуа.
Регент не изменил своей прежней тактике окружения, подсказанной ему не так разумом, как его природными склонностями; он сразу же взялся обрабатывать прилегавшие к Артуа области, боясь, что мятеж перекинется туда. Пикардийским баронам он направил послание, в котором говорилось об узах верности, связывающих их с французским престолом, и весьма любезно, но недвусмысленно намекалось, что регент не потерпит ни малейшего нарушения верноподданнического долга; вслед за тем во все пикардийские превотства прибыли французские войска и стража для поддержания порядка. Фламандцам, которые все еще язвительно подтрунивали над «грязевым походом» Сварливого, хотя с тех пор прошло больше года, этим самым фламандцам Филипп предложил новый мирный договор на весьма выгодных для них условиях.
– Раз уж началась такая сумятица, лучше потерять малое, но спасти остальное, – говорил он своим советникам.
Хотя зять графа Фландрского, Жан де Фьенн, был одним из верных приспешников Робера Артуа, суверен Фландрии, почуяв, что вряд ли представится еще столь же благоприятный случай, согласился на переговоры и, таким образом, не стал вмешиваться в дела соседнего графства.
Словом, Филипп запер ворота Артуа. И тогда послал Гоше де Шатийона к вожакам мятежников поторговаться с ними и уверить их в доброжелательности графини Маго.
– Поймите меня хорошенько, Гоше, не вздумайте объясняться с Робером, – наставлял Филипп своего коннетабля, – а то он решит, что мы тем самым признаем его права. Мнения своего мы не изменили – Робер лишен этих земель, коль скоро такова была воля моего отца. Вас посылают в Артуа с единственной целью – уладить раздоры графини с ее вассалами, что, по нашему мнению, ничуть Робера не касается. Делайте вид, что просто его не замечаете.
– Говоря начистоту, сир, – произнес коннетабль, – вы желаете, чтобы полностью восторжествовала ваша теща?
– Отнюдь нет, Гоше, отнюдь нет, если она злоупотребила своими правами, а я думаю, что так оно и есть. Дело в том, что наша мадам Маго натура властная и считает, что любой человек рожден на свет божий с единственной целью служить ей, отдавать ей все до последнего лиарда и до последней капли пота! Я хочу мира, – продолжал регент, – и именно поэтому пусть каждому воздастся по заслугам. Нам известно, что богатые горожане держат руку графини, потому что горожане всегда идут против знати, а знать встала на сторону Робера, чтобы подкрепить свои претензии. Последите за тем, насколько просьбы обоснованны, и постарайтесь их удовлетворить, не ущемляя, конечно, интересов короны; и главное – приложите все силы, чтобы отторгнуть баронов от нашего смутьяна-кузена, докажите им, что они добьются большего, положившись на нашу справедливость, нежели от него, прибегая к насилию.
– Вы, сир, на редкость рассудительный человек, поистине рассудительный! – проговорил коннетабль. – Не думал я, что мне на старости лет доведется служить такому мудрому владыке, и служить с радостью, а ведь вы втрое меня моложе.
Одновременно регент обратился к папе через графа де Форе с просьбой отложить церемонию восхождения на папский престол. Как ни хотелось Дюэзу поскорее освятить свое избрание, он любезно согласился подождать две недели.
Но прошло две недели, а дела в Артуа были еще далеки от завершения, да и договор с фламандцами мог быть подписан не раньше первого сентября. Поэтому Филипп снова попросил Дюэза об отсрочке, на сей раз через посредство вьеннского дофина. Но Дюэз, к великому удивлению регента, выказал неожиданную твердость духа и ответил чуть ли не грубо: церемония, мол, назначается на пятое сентября, и это уж бесповоротно.
Вновь избранный папа настаивал именно на этой дате по весьма веским в его глазах причинам, которые, впрочем, предпочитал держать в тайне, да и догадаться о них было трудно. А дело заключалось в том, что в 1300 году, именно пятого сентября, его посвятили в епископы города Фрежюса; именно в первую неделю сентября 1309 года короновался покровитель Дюэза – король Роберт Неаполитанский; и именно четвертого сентября 1310 года увенчался успехом маневр Дюэза, когда он, подделав королевскую подпись, добился для себя епископского кресла в Авиньоне.
Новый папа умел ладить с небесными светилами и знал, когда движение солнца благоприятно его собственному восхождению.
«Ежели его высочеству, регенту Франции и Наварры, столь любезному нашему сердцу, – велел передать он Филиппу, – государственные заботы препятствуют находиться вместе с нами в сей высокоторжественный день, мы душевно скорбим, но раз уже нам нечего бояться, что ему предстоит совершить столь дальний путь, мы возложим на себя тиару в городе Авиньоне».
Филипп Пуатье скрепил договор с фламандцами утром первого сентября. А пятого на заре он прибыл в Лион в сопровождении графа Валуа и графа де ла Марша, боясь оставить их без присмотра в Париже, а также в сопровождении Людовика д’Эврё.
– Вы, племянник, совсем загнали нас, мчались сломя голову, – сказал Валуа, вступив на лионскую землю.
Прибывшие едва успели переодеться в особые одежды, приготовленные для церемонии и заранее заказанные для них казначеем Жоффруа де Флери. Регенту принесли мантию персикового цвета, подбитую беличьими животиками в количестве двадцати шести штук. Карл Валуа, Людовик д’Эврё, Карл де ла Марш и Филипп Валуа, тоже приглашенный на празднество, получили в подарок плащи, богато подбитые мехом.
Празднично разубранный Лион кишел народом, собравшимся поглядеть на торжественное шествие.
Жак Дюэз прибыл в храм Святого Иоанна верхом на коне, а впереди него прогарцевал мимо коленопреклоненных толп сам регент Франции. Над городом стоял оглушительный колокольный звон. Папского коня вели под уздцы граф д’Эврё и граф де ла Марш. Французская монархия тесно замкнула папство в свое кольцо. Сзади шествовали кардиналы в красных шапках, завязанных тесьмой под подбородок и надетых поверх скуфеек. Епископские митры сияли на солнце. Сам кардинал Орсини, потомок римских патрициев, возложил тиару на чело Жака Дюэза, сына простого горожанина из Кагора.
Гуччо, успевший занять в соборе удобное место, восхищался своим господином. Сухонький, узкоплечий старичок с острым подбородком, который еще месяц назад готовился, по всеобщему мнению, отдать Богу душу, без малейшего усилия нес на себе тяжелые атрибуты папской власти. Сказочно пышные обряды этой многочасовой церемонии, возвышавшей простого кардинала над всеми прочими священнослужителями, превращавшие его в живой символ божества, – все это, помимо воли, оказало на Дюэза свое воздействие: черты лица, осанка приобрели несвойственную ему внушительность и величавость, и выражение это проступило еще явственнее к концу литургии. Однако, когда Дюэза обули в папские туфли, он не мог удержать легкой улыбки.
«Scarpinelli! Мне дали кличку scarpinelli – кардинал-туфельщик, – подумал он. – Распространяли слухи, что я сын башмачника. А теперь я сам буду ходить в туфлях… Господи! Нечего мне больше желать. Только бы умело повести дела!»
Он и доказал свое умение вести дела – в тот же день по просьбе папы регент пожаловал его брату, Пьеру Дюэзу, дворянство, а сам он собирался уже собственной волей назначить пятерых своих племянников кардиналами и выполнил свое намерение в течение двух ближайших лет.
Акт о пожаловании дворянства, продиктованный лично Филиппом Пуатье по окончании церемонии, если и имел целью отдать долг уважения наместнику святого Петра в лице родного брата папы, одновременно свидетельствовал об удивительных умонастроениях юного регента. «Фамильное достояние, накопленное богатство и все прочие дары фортуны, – писал он, – играют ничтожно малую роль в совокупности моральных качеств и в достохвальных деяниях человеческих; все это переходит достойным, равно как и недостойным, заслуженно, а равно и незаслуженно лишь игрою случая… Зато каждый есть детище собственных своих деяний и личных заслуг, и не имеет значения, откуда мы пришли, если даже мы знаем, от кого мы произошли…»
Но регент не для того проделал столь длинный путь и выказал в отношении нового папы так много внимания, чтобы уехать с пустыми руками, не получив ничего взамен. Между этими двумя людьми, которых разделяли целые полвека («Вы, ваше высочество, восход, а я, увы, закат!» – любил повторять Дюэз Филиппу), с первой же встречи установилась какая-то тайная близость и общность замыслов. Иоанн XXII не забыл тех обещаний, которые давал Жак Дюэз, а регент – тех, которые давал граф Пуатье. Как только регент завел разговор о церковных бенефициях, первый аннуитет от которых должен был поступить в королевскую казну, новый папа тут же сообщил, что документы ждут лишь подписи. Но прежде чем были приложены печати, Филипп успел приватно побеседовать с Карлом Валуа.
– Нет ли у вас ко мне каких-нибудь претензий, дядюшка? – спросил он.
– Конечно нет, племянник, – ответил бывший император Константинопольский.
Единственный способ сказать человеку в лицо, что у тебя к нему одна лишь претензия – зачем он вообще существует на свете!
– В таком случае, дядюшка, если вы не имеете оснований на меня жаловаться, зачем же вы вредите мне? Я заверил вас, когда вы вручали мне ключи от казны, что не спрошу отчета, и сдержал свое обещание. Вы же клялись мне в преданности и верности, а слова своего не держите и оказываете помощь Роберу Артуа.
Валуа возмущенно махнул рукой.
– Боюсь, что вы просчитаетесь, дядя, – продолжал Филипп, – Робер обойдется вам слишком дорого. У Робера гроша за душой нет; единственный его доход – это деньги, которые ему выплачивает казна, а я распорядился не выплачивать ему больше ничего. Поэтому теперь он будет осаждать вас просьбами о помощи. А где вы сами возьмете нужные средства, поскольку финансы королевства уже не в ваших руках? Да не дуйтесь вы, не краснейте, а главное, воздержитесь от грубых слов, о которых вы сами пожалеете, так как я пекусь о вашем же благе. Дайте мне обещание не слишком поддерживать Робера, а я со своей стороны попрошу святого отца, чтобы аннаты епископств Валуа и Мэн шли прямо вам, минуя казну.
Сердце графа Валуа терзали ненависть и алчность.
– А какова сумма этих аннатов? – спросил он.
– От десяти до тринадцати тысяч ливров в год, дядюшка; возьмите в расчет, что в последние годы царствования моего отца и во все время царствования Людовика бенефиции вообще не взимались.
Для Карла Валуа, не вылезавшего из долгов, привыкшего к королевскому образу жизни и посулившего непомерно огромное приданое за своими дочерьми, для которых он мечтал о самых выгодных партиях, десять – тринадцать тысяч ливров ежегодного дохода если и не разрешали окончательно финансовых затруднений, то, во всяком случае, давали временную передышку.
– Вы, племянник, как я вижу, человек добрый и понимаете мои нужды, – ответил Карл Валуа.
Получив от Гоше де Шатийона добрые вести, Филипп, не торопясь, возвращался в Париж, делая небольшие переходы, улаживал по дороге всевозможные дела и наконец, прежде чем въехать в столицу, заглянул в Бенсен к королеве Клеменции, чтобы передать ей благословение нового папы.
– Как я счастлива, – воскликнула королева, – что наш дорогой Дюэз взял себе имя Иоанн, ведь то же имя я выбрала своему ребенку. Я дала обет назвать его Иоанном еще на корабле, по дороге во Францию, когда разразилась страшная буря.
Клеменцию по-прежнему не интересовали вопросы власти. Всеми помыслами ее владел покойный супруг и будущее материнство со всеми его заботами. Пребывание в Венсенне благотворно сказалось на состоянии Клеменции: она похорошела, к ней вернулись прежние краски, и сейчас, раздобрев на седьмом месяце, она чувствовала себя совсем здоровой, что нередко бывает к концу тяжелой беременности.
– Неподходящее имя для французских королей, – заметил Филипп. – В нашем роду никогда не было Иоаннов.
– Но, брат мой, я говорю вам, что дала обет.
– Что ж, придется уважить ваше желание… Если родится мальчик, он будет зваться Иоанн Первый.
Прибыв во дворец Сите, Филипп направился в покои своей супруги Жанны, которая, сияя счастьем, нянчилась с крошкой Луи-Филиппом, кричавшим, как и подобает кричать в двухмесячном возрасте.
Но графиня Маго, услышав о возвращении зятя, как фурия примчалась во дворец, засучивая на ходу рукава.
– Ох, сынок, пока вы отсутствовали, меня предали! Известно вам, что натворил в Артуа ваш плут Гоше?
– Гоше вовсе не плут, а коннетабль Франции, матушка, и еще недавно вы не считали его плутом. Так что же он наделал?
– Он отступился от меня! – вопила Маго. – Осудил во всем. Ваши посланцы снюхались, как воры на ярмарке, с моими вассалами, посмели потребовать, чтобы я не возвращалась в Артуа… Слышите, это мне, Маго, запрещают возвращаться в мое же собственное графство… прежде чем я подпишу этот проклятый мирный договор, который я в прошлом декабре отказалась подписать, как ни понуждал меня к этому покойный Людовик. Больше того, они требуют, чтобы я вернула какие-то подати, которые я, по их мнению, неправильно взимала.
– Все это кажется мне вполне справедливым. Мои посланцы строго выполняют мои распоряжения, – спокойно отозвался Филипп.
От удивления Маго даже замолчала и застыла на месте с открытым ртом, выпучив глаза. Но, оправившись от первого потрясения, завопила еще громче:
– Ах, справедливо! Значит, по-вашему, справедливо грабить мои замки, вешать мою стражу, топтать мои нивы?! Значит, это вы так распорядились, значит, вы поддерживаете моих врагов! Ваши распоряжения! Вот уж действительно заплатили мне за все добро, которое я для вас сделала!
На ее лбу вздулась толстая синяя жила, и Филипп подумал, что вечером его теще придется отворить кровь.
– Не знаю, матушка, что вы такое для меня сделали, если не считать того, что отдали мне свою дочь, – возразил он, – и почему я должен терпеть, что вы наносите ущерб моим подданным и ради собственной выгоды ставите под угрозу мир в королевстве.
Маго не сразу нашлась что ответить, ярость боролась в ее душе с благоразумием. Но, услышав из уст зятя слова «мои подданные», чисто королевские слова, она забыла все.
– А убить твоего братца, – крикнула она, наступая на Филиппа, – это, по-твоему, ничего не значит?
Десять недель она хранила про себя тайну и выдала ее сейчас в неразумном порыве гнева.
Филипп не отпрянул, не крикнул от ужаса, он только бросился закрывать двери и близоруко оглядывался, боясь обнаружить нежелательного свидетеля, который мог их слышать. Затем запер все замки, вынул ключи и засунул их за пояс. Маго вздрогнула от страха, а когда она увидела медленно приближавшегося к ней Филиппа, увидела его лицо, она совсем перетрусила.
– Стало быть, это вы, – проговорил он негромко, – стало быть, то, о чем шушукаются по всей Франции, правда?
Но Маго была не из тех, кто сдается без боя.
– А как, по-вашему, все это произошло, сын мой? И кому, по-вашему, вы обязаны честью быть регентом, а возможно, рано или поздно и королем? Ну-ну, не прикидывайтесь простачком! Ваш брат отобрал у меня Артуа; Карл Валуа настраивал его против меня; а вы, вы сидели в Лионе, выбирали папу. Подумаешь, нужен мне папа! Не смотрите на меня как блаженненький и не вздумайте уверять, что не одобряете моего поступка! Ничуть вы не любили Людовика и, конечно, рады, что вам досталось после него еще тепленькое местечко! А все благодаря мне, все потому, что я чуточку, совсем чуточку приправила его драже. Но вот уж чего я никак не ожидала – что вы окажетесь еще хуже Людовика!
Филипп опустился в кресло, скрестил на груди свои длинные руки и задумался.
«Рано или поздно, это все равно бы произошло, – подумала Маго. – В каком-то отношении это даже лучше; теперь он у меня в руках».
– Жанна знает? – вдруг спросил Филипп.
– Ничего не знает. Это не женское дело.
– А кто знает, кроме вас?
– Беатриса, моя придворная дама.
– И этого уже много, – отозвался Филипп.
– Ох, не трогайте ее! – вскричала Маго. – Она из могущественной семьи.
– О да, как раз из той семьи, по чьей вине вас так обожают в Артуа! А кроме Беатрисы? Кто вам дал… эту приправу, как вы изволили выразиться?
– Одна колдунья из Арраса, я ее в глаза не видела, а Беатриса ее знает. Я велела нарочно сказать, что хочу избавиться от оленей, которые портят мой парк, и действительно мы их немало потравили.
– Следовало бы найти эту женщину, – заметил Филипп.
– Поняли ли вы наконец, – продолжала Маго, – что теперь вы не можете от меня отступиться? Как только люди увидят, что вы лишили меня своего покровительства, враги мои осмелеют и начнут клеветать…
– Злословить, матушка, злословить… – уточнил Филипп.
– И если меня обвинят, то – да было бы вам известно – вся тяжесть обвинения падет на вас, люди скажут, что я действовала в ваших интересах, если не по вашему прямому наущению.
– Знаю, матушка, знаю; я как раз об этом и думал.
– Помните, Филипп, ради вас я рисковала загубить свою душу. Так что не будьте неблагодарным.
Филипп даже зашелся от гнева, что случалось с ним весьма редко.
– Нет, это уж слишком, матушка! Вы теперь потребуете, чтобы я вам ноги целовал за то, что вы отравили моего брата! Если бы я знал, что регентство достанется мне такой ценой, я никогда, слышите, никогда не согласился бы. Я отвергаю убийство; никого не следует убивать ради достижения своей цели; к такому средству прибегают плохие политики, и я приказываю вам более не прибегать к нему, пока я ваш сюзерен.
В первое мгновение он чуть было не поддался благородному порыву: немедленно собрать Совет пэров, разоблачить преступление, потребовать достойной кары… Маго, угадавшая по выражению лица Филиппа ход его мыслей, пережила скверную минуту. Но Филипп никогда не следовал своим первым побуждениям, даже самым благим. Поступить так – значит бросить тень не только на свою жену, но и на самого себя. Да и графиня Маго способна возвести на него любой поклеп, лишь бы обелить себя, лишь бы загубить его, не вставшего на ее защиту. Найдется немало желающих воспользоваться удобным случаем и пересмотреть вопрос о регентстве и престолонаследовании. А Филипп успел уже немало сделать ради Франции и мечтал сделать еще больше; он не вправе лишиться власти. В конце концов, брат его, Людовик, был скверным королем, да и убийцей к тому же… Возможно, такова воля провидения, воздавшего убийце за убийство и передавшего Францию в более достойные руки.
– Бог вам судья, матушка, Бог вам судья, – произнес он. – Мне хотелось бы только, чтобы адское пламя по вашей милости не коснулось нас еще при жизни. Приходится расплачиваться за ваше преступление, и поскольку я не могу бросить вас в темницу, я и впрямь вынужден стать вам поддержкой… Искусно вы сумели все подстроить. Послезавтра мессир Гоше получит от меня новые распоряжения. Не скрою от вас, что даю их с тяжелой душой.
Маго бросилась было на шею зятю. Но он отстранил ее.
– И запомните хорошенько, – сказал он, – отныне все кушанья, прежде чем поступят ко мне на стол, будут пробоваться трижды, и если я почувствую хоть малейшие желудочные колики, часы вашей жизни будет нетрудно сосчитать. Так что молитесь за мое здоровье.
Маго склонила чело.
– Я так верно буду служить вам, сын мой, – произнесла она, – что рано или поздно вы вернете мне свою любовь.
Глава IV
«Коль скоро нас вынуждают воевать…»
Никто, и в первую очередь Гоше де Шатийон, не мог понять, почему Филипп Пуатье так круто изменил свою политику в отношении графства Артуа. Регент внезапно объявил своих собственных посланцев неправомочными, а подготовленное ими соглашение неприемлемым и потребовал составить новое, которое более благоприятствовало бы графине. Последствия не замедлили сказаться. Переговоры были прерваны, и участники их, представлявшие умеренную часть знати графства Артуа, сразу же присоединились к стану мятежников. Трудно описать их негодование; коннетабль их предал, провел; отныне единственное их оружие – сила.
Граф Робер ликовал.
– Ну что, разве не предупреждал я вас, что с этими мошенниками нельзя вести переговоры? – говорил он всем и каждому.
Собрав свое воинство, он снова двинул его на Аррас.
Гоше, прибывший для переговоров с горсткой людей, едва успел улизнуть из Арраса через Перонские ворота, когда Робер торжественно, под звуки труб, с развернутыми знаменами, вступил в свою столицу через ворота Сент-Омер. Войди он на четверть часа раньше, быть бы коннетаблю Франции в плену. Произошло все это двадцать второго сентября. В тот же день Робер отправил своей тетке Маго следующее послание:
Высокочтимой, высокороднейшей даме Маго Артуа, графине Бургундской от Робера Артуа, шевалье. Так как вы препятствовали осуществлению моих законных прав в графстве Артуа, что много мне вредило и тяжелым камнем на душе лежит, каковое положение терпеть более я не намерен, сим довожу до вашего сведения, что отныне буду сам вершить все дела и надеюсь возвратить себе все свое добро, как только успею.
Робер не был силен в эпистолярном искусстве; дипломатические выверты и тонкости были не по его части, и он весьма гордился своим посланием, полностью выражавшим то, что он хотел сказать.
В Париж коннетабль Франции явился туча тучей и не замедлил высказать графу Филиппу все, что накипело у него на душе. Перед регентом он не чувствовал ни малейшего стеснения – он знал его с пеленок; Гоше прямо так и сказал Филиппу и добавил, что негоже подобным образом обращаться с верным слугой и преданным родственником, который целых двадцать лет командует французской армией. Где это видано, посылать человека заключать договор на одних условиях, а потом менять их!
– До сих пор, ваше высочество, я слыл человеком честным и раз уж давал кому слово, то каждый знал, что сдержу его. А по вашей милости я очутился в роли предателя и плута. Когда я поддерживал вас как будущего регента, я надеялся обнаружить в вас хоть какие-то черты моего покойного государя, вашего батюшки, тем паче что до этого вы не раз делом доказывали, что пошли в него. А теперь я вижу, что жестоко заблуждался. Неужели вы до такой степени попали под влияние женщины, что меняете мнения, как перчатки?
Филипп старался успокоить коннетабля, уверяя его, что поначалу плохо разобрался в делах и дал неправильные указания. Все равно бесполезно идти на мировую со знатью графства Артуа, пока Робер не сложит оружия. Робер представляет собой вечную угрозу для государства и для всей королевской фамилии, ибо бесчестит ее. Разве не он первый посеял смуту, разве не он распространяет клеветнический слух, что Маго отравила Людовика?
Гоше пожал плечами.
– Но кто же поверит такой ерунде? – вскричал он в сердцах.
– Не вы, Гоше, конечно, не вы, – заметил Филипп, – но многие прислушиваются к клевете с удовольствием, лишь бы нам навредить, а завтра они скажут, что я, что вы тоже причастны к этой кончине, которую хотят обставить таинственными обстоятельствами. Но ничего, Робер сделал ложный шаг, чего, впрочем, я и ждал. Посмотрите, что он пишет Маго…
Филипп протянул коннетаблю письмо от двадцать второго сентября.
– В этом письме, – продолжал Филипп, – он отказывается признавать решение, вынесенное парламентом по настоянию моего отца еще в тысяча триста девятом году. До сих пор он поддерживал врагов графини, а сейчас он бунтует уже против законов королевства. Придется вам снова отправиться в Артуа.
– Нет уж, увольте, ваше высочество, – воскликнул Гоше. – Слишком я там осрамился. Улепетывал из Арраса, как старый кабан от гончих, даже помочиться и то не успел. Нет уж, сделайте милость, найдите себе другого, пусть он и улаживает такие дела.
Филипп поднес сплетенные пальцы к губам. «Если бы ты только, Гоше, знал, – думал он, – как мне больно тебя обманывать! Но скажи я тебе всю правду, ты бы еще больше стал меня презирать!» И он повторил:
– Вы поедете в Артуа, Гоше, из любви ко мне и потому что я вас об этом прошу. Возьмите с собой вашего зятя, мессира Миля, и на этот раз достаточно вооруженных людей, а также горожан и затребуйте подкрепление из Пикардии; Роберу объявите, что ему следует предстать перед парламентом и дать отчет в своих действиях. Одновременно поддержите деньгами и вооруженными людьми тех горожан, которые остались нам верны. А если Робер не подчинится, я сумею привести его к повиновению иным способом… Правитель – такой же человек, как и все прочие, – продолжал Филипп, взяв Гоше за плечи, – он может поначалу сделать ошибку, но самая большая ошибка – упорствовать в своей неправоте. Ремеслу правителя учатся, как любому другому ремеслу, и я пока еще учусь. Простите меня за то, что я поставил вас в неловкое положение.
Ничто так не трогает человека в летах, как откровенное признание юноши в своей неопытности, особенно когда этот юноша стоит много выше вас на иерархической лестнице. Слеза увлажнила глаза Гоше, полуприкрытые морщинистыми, как у черепахи, веками.
– Ах да, я и забыл! – воскликнул Филипп. – Я решил, что вы будете опекуном будущего ребенка королевы Клеменции… нашего короля, если Бог пошлет мальчика, и вторым крестным отцом после меня[24].
– Ваше высочество, ваше высочество!.. – растроганно лопотал Гоше.
И он бросился обнимать регента, словно вина за неудачу в Артуа падала только на него, Гоше.
– А насчет крестной матери, – продолжал Филипп, – мы решили с самой королевой, что крестить будет графиня Маго, и это положит конец всем слухам.
Через неделю коннетабль снова отбыл в Артуа.
Как и следовало ожидать, Робер отказался повиноваться регенту и продолжал бесчинствовать вместе со своей вооруженной ордой. Но в октябре счастье изменило ему. Если Робер был великолепным воином, он был скверным стратегом: свои набеги совершал без системы и плана, сегодня бросал людей на север, завтра – на юг, словом, куда ему подсказывало вдохновение. Первый рейтар среди рейтаров, первый кондотьер среди кондотьеров, он был скорее создан для подчиненной роли, как военная сила, направляемая свыше, чем для роли командира, что и доказал пятнадцать лет спустя, когда сражался на стороне Англии против Франции. В графстве Артуа, которое он считал своей родной вотчиной, Робер распоясался, как на вражеской территории, и вел опасную, дикую, лихорадочную жизнь, что вполне отвечало его вкусам. Он наслаждался тем, что при его приближении все трепещет, но не замечал, что сеет вокруг себя ненависть. Слишком много повешенных на первом попавшемся суку, слишком много обезглавленных и зарытых живьем в землю под радостное ржание его приспешников, слишком много испорченных девушек, на чьей нежной коже сохранились царапины от медных кольчуг, слишком много пожаров отмечало его победоносный путь. Матери, желая утихомирить расхныкавшееся дитя, грозили позвать его светлость Робера, но как только он появлялся поблизости, они хватали своих ребятишек и бежали прятаться в соседний лес.
Городские ворота забаррикадировали; ремесленники, наученные примером фландрских коммун, точили втихомолку ножи, а старшины поддерживали связь с эмиссарами Гоше. Робер любил бой в открытом поле и презирал осадную войну. Жители Сент-Омера или Кале запирали ворота перед его носом, а он пожимал плечами и грозился:
– Вот вернусь, и все вы у меня передóхнете!
И шел сражаться дальше.
Но с деньгами становилось все труднее. Валуа не отвечал на просьбы Робера, и лишь изредка от него приходили послания, содержавшие изъявление родственных чувств и советы образумиться. Даже Толомеи, дражайший банкир Толомеи, молчал. Сам он куда-то уехал, а служащим никаких распоряжений не дал… папа и тот вмешался в распри; в своем послании, адресованном лично Роберу, а также кое-кому из баронов Артуа, святой отец напоминал им об их долге…
Как-то утром, в конце октября, регент на Совете заявил собравшимся с невозмутимым спокойствием, как и всегда, когда принимал важное решение:
– Наш кузен Робер Артуа позволил себе слишком долго пренебрегать нашей волей. Коль скоро он вынуждает нас воевать, мы подымем против Артуа орифламму в Сен-Дени в последний день октября, и так как мессир Гоше в отлучке, войско, которое я поведу сам, будет находиться под командованием нашего дяди…
Взгляды всех присутствующих обратились к Карлу Валуа, но Филипп продолжал:
– …нашего дяди, его высочества д’Эврё. Нам было бы весьма желательно поручить командование его высочеству Валуа, который, кстати сказать, не раз доказывал свои таланты военачальника, но он, к сожалению, должен уехать в Мэнские владения, чтобы получить церковные аннаты.
– Благодарю вас, племянник, – ответил Валуа, – вы знаете, что я люблю Робера, и, хотя не одобряю этот мятеж, который, на мой взгляд, не что иное, как глупое упрямство, мне было бы неприятно сражаться с ним.
Армия, собранная регентом для похода на Артуа, отнюдь не напоминала то непомерно разбухшее войско, которое шестнадцать месяцев назад, по вине покойного Людовика, увязло во фландрской грязи. Войско, направлявшееся в Артуа, состояло из регулярных частей и из рекрутов, завербованных в королевских владениях. Жалованье было повышено: тридцать су в день дворянину, имевшему право распустить знамя, пятнадцать су коннику, три су пехотинцу. Были призваны не только знать, но и мелкопоместные дворяне. Два маршала – Жан де Корбей и Жан де Бомон, по прозвищу Выгребай Назад, он же сеньор графства Клиши, – собирали войска. Арбалетчики Пьера Галара были готовы к походу. Жоффруа Кокатри уже две недели как получил секретные указания относительно средств передвижения и поставок.
Тридцатого октября Филипп Пуатье взял орифламму в часовне Сен-Дени. Четвертого ноября он был уже в Амьене и послал оттуда второго камергера Робера де Гамаша с эскортом конюших передать своему непокорному кузену последние увещевания.
Глава V
Войско регента берет пленного
На опустевших глинистых полях догнивали сероватые кучи соломы, оставшиеся от далекой уже теперь жатвы. Тяжелые темные тучи медленно плыли по осеннему небу, и отсюда, с этой равнины, казалось, что там, за дальним ее краем, кончается белый свет. Налетавший порывами пронзительный ветер приносил с собой горьковатый привкус дыма.
Перед Букмезоном, перед тем самым поселком, где три месяца назад граф Робер вступил на землю Артуа, стояла теперь армия регента, построенная в боевом порядке, и вымпелы королевского дома трепетали на верхушках копий на протяжении целого полулье.
Филипп Пуатье, окруженный военачальниками, держался в нескольких шагах от проезжей дороги. Он сидел с обнаженной головой, сложив руки в железных перчатках на луке седла. Конюший держал его шлем.
– Значит, он уверил тебя, что именно сюда приедет с повинной? – обратился регент к Роберу де Гамашу, возвратившемуся после переговоров с графом Артуа.
– Да, ваше высочество, – подтвердил второй камергер. – Он сам выбрал место… «В поле, возле межевого столба с крестом» – так он мне сказал. И уверял, что будет к концу мессы.
– А ты точно знаешь, что поблизости нет другого столба с крестом? Ведь он способен сыграть плохую шутку: будет ждать где-нибудь в другом месте и заявит, что нас там не было… Скажи, ты действительно веришь, что он прибудет?
– Верю, ваше высочество, он ведь заколебался. Я сообщил ему численность вашего войска, довел до сведения, что коннетабль занял фландрские рубежи и города Севера и что, таким образом, граф Робер зажат в тиски и даже бежать ему некуда. И еще я вручил графу Роберу послание от Карла Валуа, который советует ему сдаться без боя, так как исход дела предрешен, и пишет, что вы сильно гневаетесь на графа Артуа и, если возьметесь за оружие, ему, пожалуй, не сносить головы. Вот это-то его особенно удручает.
Регент пригнул свой длинный торс к лошадиной холке. Нет, решительно все эти военные доспехи не для него; тяжело таскать на себе двадцать фунтов железа, которое давит на плечи, не дает расправить спину.
– Тогда он уединился со своими баронами, – продолжал Гамаш, – но что они там говорили, мне неизвестно. Однако думаю, что кое-кто из них не прочь его предать, а другие умоляют не покидать их на произвол судьбы. Наконец он вышел ко мне, сообщил свое решение, которое я в точности вам передал, и заверил меня, что питает к его высочеству регенту всяческое уважение и поэтому ни в чем не смеет его ослушаться.
Но Филипп Пуатье не очень этому верил. Эта неизвестно откуда взявшаяся покорность беспокоила его, он опасался ловушки. Близоруко щурясь, он оглядел печальный край, лежавший перед ним.
– Место выбрано неплохо, нас ничего не стоит окружить и напасть с тылу, пока мы торчим здесь и ждем его! Корбей, Бомон! – обратился Филипп к своим маршалам. – Пошлите несколько человек на разведку, пусть проверят фланги, прикажите проехать по долинам: пусть удостоверятся, что ни там, ни на дорогах, ни в нашем тылу не скрывается враг. И когда на той колокольне, сзади нас, пробьет час, – добавил он, обращаясь к Людовику д’Эврё, – а Робера не будет, мы двинемся вперед.
Но через несколько минут по рядам прокатился крик:
– Вот он! Вот он сам!
Регент снова прищурил глаза, но ничего не увидел.
– Прямо против вас, ваше высочество, – кричали ему. – Смотрите вправо по холке коня, вон он на гребне холма едет на вас.
Робер Артуа прибыл на свидание с регентом без своего воинства, без конюшего, даже без слуги. Его огромный, под стать всаднику, жеребец шел шагом, и среди пустынной местности гигант Робер казался еще массивнее, чем всегда. Его богатырский силуэт четко вырисовывался на фоне неба, и чудилось, будто этот великан в алом бархате пронзает своим копьем тучи.
– Да он просто издевается над вами, ваше высочество! Нет, вы только посмотрите, едет – и хоть бы что!
– Пускай себе издевается, пускай! – проговорил Филипп Пуатье.
Люди, посланные на разведку, донесли, что в окрестностях все спокойно.
– А я думал, что он ожесточится еще больше, когда поймет, что положение его безнадежно, – задумчиво проговорил регент.
Любой другой на месте Филиппа, желая сделать красивый жест, поехал бы навстречу Роберу тоже без конюших и слуг. Но Филипп Пуатье видел свое достоинство в ином и отнюдь не собирался соперничать в рыцарстве, раз явился сюда не как рыцарь, а как государь. Поэтому он ждал, не трогаясь с места, пока Робер Артуа, запыхавшийся, забрызганный, подъедет к нему.
Вся армия затаила дух, и мертвую тишину нарушало лишь позвякивание удил.
Вдруг гигант швырнул свое копье на землю. Регент проследил глазами полет копья, упавшего на скирду, и не сказал ни слова.
Робер отцепил от седла свой шлем и тяжелую шпагу и обеими руками кинул их вслед за копьем на землю.
Регент по-прежнему молчал; он ни разу не поднял глаз на Робера; он не сводил взгляда с валявшегося на земле оружия, будто ждал еще чего-то.
Робер Артуа наконец спешился, шагнул вперед и, содрогаясь каждой жилкой от гнева, преклонил одно колено, стараясь поймать взгляд регента.
– Добрый кузен мой! – вскричал он, широко раскинув руки.
Но Филипп прервал его.
– Вы не голодны, кузен? – спросил он.
И так как Робер ждал трагической сцены обмена благородными речами, рукопожатиями, ждал, что его подымут с колен, вслед за чем наступит примирение, он застыл от неожиданности. А Филипп продолжал:
– Тогда садитесь в седло и поспешим в Амьен, где я продиктую вам свои условия мира. Поедете рядом со мной, а закусим по дороге… Эрон! Гамаш! Подберите оружие нашего кузена.
Но Робер Артуа медлил и, стоя возле коня, оглядывался вокруг.
– Вы что-нибудь ищете? – спросил, не выдержав, регент.
– Нет, ничего я не ищу, Филипп. Просто смотрю на поле, чтобы запомнить его навсегда, – ответил Робер.
И он положил ладонь себе на грудь, на то место, где под кольчугой висел бархатный мешочек, в котором хранились, как священная реликвия, сорванные здесь летним днем колосья, уже полуистлевшие сейчас колоски. Надменная улыбка тронула его губы.