Египтянин бесплатное чтение
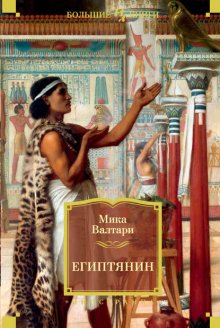
Mika Waltari
SINUHE EGYPTILAINEN
© В. Н. Богачев (наследник), перевод, 1993
© Л. А. Виролайнен (наследник), перевод, 1993
© Е. В. Каменская, перевод, 1993
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019
Издательство Иностранка®
Часть первая
Свиток первый. Тростниковая лодочка
1
Я, Синухе, сын Сенмута и жены его Кипы, пишу это. Не во славу богов страны Кемет, ибо боги мне постыли. Не во славу фараонов, ибо деяния их мне опротивели. Я пишу это лишь для себя самого: не уповая на благосклонность богов, не ожидая милости от царей, не из страха и не в надежде на будущее. За долгую жизнь, полную испытаний и утрат, я понял, что вера в бессмертие столь же наивна, как вера в богов и правителей, и пустые страхи больше меня не мучают. Лишь для себя самого пишу я это и тем, думаю, отличаюсь от всех, кто писал до меня или будет это делать после меня.
Ибо все, что начертано до меня, – начертано во имя богов или людей. Фараоны ведь тоже люди: их желания и ненависть, их боль и отчаяние подобны нашим. Сколько бы их ни причисляли к сонму богов, они ничем не отличаются от нас. Они властны срывать свой гнев и освобождаться от страха, но от страстей и разочарований их не в силах оградить никакое могущество. Итак, все, что писалось до меня, делалось либо по приказу царей, либо в надежде умилостивить богов или заставить людей поверить в то, чего не было. А если и было, то совсем иначе, ибо роль приказавшего восславить себя, его участие в описанных событиях – всегда больше или меньше истинной роли. Вот почему я говорю, что со времен седой древности все делалось во имя богов или людей.
Все в мире повторяется, все неизменно под солнцем, сколь бы ни менялись одеяния людей и их слова. Но раз неизменен сам человек, неизменным будет и то, что напишут после меня. Люди бегут от правды, тогда как вокруг лжи они роятся, словно мухи над медовой лепешкой, и даже если они сидят в куче навоза, сброшенного на перекрестке улиц, слова сказочника для них благоуханны.
Мне же, Синухе, старому и во всем разочарованному сыну Сенмута, ложь опостылела. Поэтому я пишу лишь о тех событиях, которые видел собственными глазами или в правдивости рассказов о которых уверен. Этим я отличаюсь от всех, кто жил до меня и будет жить после. Ибо человек, выводящий слова на папирусе, а тем более тот, кто приказывает высечь имя свое и деяния свои на камне, надеется, что слова эти будут прочитаны потомками и имя его и мудрость его прославятся в веках. А в том, что поведаю я, не будет ничего достойного славы, деяния мои не стоят похвал, а мудрость так горька, что никого не порадует. Дети, упражняясь в рисовании иероглифов, не напишут моих слов на глиняных табличках, мои слова не позаимствует тот, кто захочет похвалиться чужой мудростью. Начиная свой рассказ, я отрекаюсь от надежды быть когда-либо прочитанным или понятым.
Человек в своей жестокости страшнее и бесчувственнее крокодила, живущего в реке. Его тщеславие взвивается легче пыли. Брось его в реку – он выплывет, обсохнет – и будет прежним. Погрузи его в горе и отчаяние, и если он поднимется, то останется таким же, как был. Много перемен я, Синухе, видел на своем веку, но все опять идет по-прежнему, хотя и находятся люди, которые утверждают, будто бы произошло нечто такое, чего еще никогда не бывало. Но это лишь пустые слова.
Я, Синухе, видел, как сын убивал отца своего на улице. Видел, как бедные поднялись против богатых и боги восстали против богов. Видел, как человек, который прежде пил вина из золотых чаш, склонялся в нищете, чтобы ладонью зачерпнуть речной воды. Те, кто взвешивал золото на весах, – попрошайничали на улицах, а жены их продавали себя неграм за маленькую медяшку, чтобы купить хлеба детям.
Но то же бывало и раньше. И во времена мудрейших фараонов под роскошным балдахином мог лежать человек, которому прежде приходилось спать на глиняном полу. Тогда тоже приходили чужеземцы и разбивали головы детей о пороги домов, связывали и угоняли в рабство женщин, одетых в царский лен, а мужей, построивших себе богатые могилы, закалывали и тела их швыряли в реку.
Итак, ничего нового не случилось на моих глазах.
Но я, Синухе, пишу это для себя и ради себя самого, ибо знание разъедает мое сердце, как щелок, и я лишился всякой радости в жизни. Начинаю я эту книгу в третий год моего изгнания, на краю пустыни, у подножия гор, там, где древние фараоны брали камень для своих изваяний, на берегу Восточного моря, по которому корабли плывут в страну Пунт. Пишу я это, потому что вино горит у меня в горле, а ласки женщин уже не веселят меня и ни сад мой, ни пруд, полный рыбы, уже не радуют глаз. Холодными ночами в зимнее время черная девушка согревает мою постель, но нет мне радости от нее. Я прогнал певцов, звуки цитр и флейт раздражают мой слух. Вот почему я пишу это, я, Синухе, которому ни к чему богатство и золотые чаши, мирра, черное дерево и слоновая кость.
Ибо все это есть и ничто не отнято у меня. По-прежнему боятся рабы моей палки и стражники склоняют предо мной голову, опуская руки до колен. Но предел шагов моих измерен, и ни один корабль не посмеет пристать к берегу, окаймленному белым прибоем. Поэтому я, Синухе, никогда больше не вдохну запах черной земли весенней ночью, и потому я пишу это.
И все-таки мое имя было однажды записано в Золотую книгу фараона, и я жил в Золотом дворце царей, на правом берегу реки. Мое слово весило больше, чем слово владык страны Кемет. Знатные вельможи присылали мне подарки, и золотые цепи обвивали мою шею. У меня было все, к чему стремятся люди, но я желал большего. Поэтому и оказался здесь. Я изгнан из Фив в шестой год правления фараона Хоремхеба, и меня бы забили до смерти, как собаку, посмей я вернуться, меня бы расплющили камнями, как лягушку, посмей я только шаг ступить за пределы отведенного мне пространства. Это приказ царя, который был когда-то моим другом.
Но чего еще можно ожидать от низкородного, который велел выскоблить имена царей из списка властителей страны и заставил писцов внести в царский перечень своих родителей, сделав их знатными посмертно! Я видел его коронацию, видел, как на его голову возложили красную и белую короны. Через шесть лет, считая с того дня, он отправил меня в изгнание. Но по счету его писцов это произошло на двадцать второй год его правления. Так не ложь ли все, что писалось и пишется?
Того, кто жил правдой, я презирал за слабость и ужасался бедствиям, в которые он вверг страну Кемет ради своей правды. И вот ныне его отмщение мне: я сам хочу жить правдой, хотя и не ради его бога, а ради себя. Правда – острый нож, правда – открытая рана в человеке, правда – едкая щелочь, растравляющая сердце. Оттого мужчина в пору молодости и силы своей бежит от правды в дома увеселений, ослепляет себя трудом и деятельностью, поездками и развлечениями, властью и строительством. Но настает день, когда правда пронзает его насквозь, и уж нет ему больше радости, он одинок, одинок среди людей, и боги не спасут его от одиночества. Это пишу я, Синухе, хорошо зная, что дела мои дурны, а пути – кривы, но не извлечет из них урока тот, кто прочтет все это. Посему я лишь для себя и ради себя пишу это. Пускай другие отмывают свои грехи святой водой Амона, я же, Синухе, очищаюсь, описывая дела мои. Пусть другие взвешивают ложь сердец своих на весах Осириса, я же, Синухе, взвешиваю свое сердце на острие тростникового пера.
Но прежде чем начать, я должен излить свои жалобы, ибо так стонет от горя мое почерневшее сердце изгнанника.
Кто хоть раз испил воды Нила, будет с тоскою стремиться к нему. Кто некогда родился в Фивах, начнет, тоскуя, стремиться обратно, ибо нет на земле города, равного Фивам. Кто родился в маленьком проулке, будет скучать и тянуться в этот проулок; из кедрового дворца он будет рваться назад в глиняный домик, среди благоухающей мирры и тончайших притираний он станет тосковать по дымку кизяка в очаге и чаду поджариваемой рыбы.
Все мои золотые сосуды я бы отдал за глиняный горшок, лишь бы еще раз ступить ногой на мягкую землю страны Кемет. Мои льняные одежды я бы променял на кожаный передник раба, побуревший от пота и зноя, чтобы хоть раз еще услышать шелест речного камыша, овеваемого весенним ветерком.
Нил разливается, города, как драгоценные камни, выступают из зеленой воды, ласточки прилетают, журавли бродят по мелководью, а меня нет. Почему я не ласточка, почему не журавль с сильными крыльями, чтобы полететь мимо стражников обратно в страну Кемет?
Я бы свил гнездо свое среди расписных колонн Амона, где обелиски пламенеют золотом, а к небу возносятся курения и жирный дым жертвоприношений. Я бы свил гнездо на крыше глиняной хижины в квартале бедных. Быки тянут плуги, ремесленники склеивают листы папируса, торговцы кричат, расхваливая свой товар, жук-скарабей катит навозный шар по каменной мостовой.
Светла была вода моей юности, сладко было мое безумие. Горько и кисло вино старости, и самый сдобный медовый хлеб не заменит черствой корки моей бедности. Поверните вспять, годы, теките навстречу, ушедшие вёсны, плыви, Амон, по небу с запада на восток, чтобы вернуть мою молодость. Ни слова не изменю, ни от одного поступка не отрекусь. О тонкая тростинка, о гладкий папирус, дайте мне снова пережить мои суетные дела, безумие моей молодости.
Это написал Синухе, изгнанник, беднейший из всех бедняков страны Кемет.
2
Сенмут, которого я называл отцом, был лекарем бедных в Фивах. Кипа, которую я называл матерью, была его женой. У них не было детей. Я попал к ним только в дни их старости. В простоте своей они называли меня даром богов, не подозревая, сколько зла принесет им этот дар. Мать моя Кипа назвала меня Синухе, потому что она любила сказки, а я, как ей представлялось, прибыл к ней, убегая от опасностей, подобно тому как сказочный Синухе[1], услыхав нечаянно в шатре фараона страшную тайну, бежал, скрывался, претерпевая всяческие превратности, скитаясь долгие годы по чужим странам.
Но это был только невинный лепет, невинный, как ее детская душа. Она ведь искренне хотела, чтобы ни опасности, ни превратности судьбы меня не коснулись. Вот почему она нарекла меня Синухе. Однако жрецы Амона говорили, что имя человека есть знамение. И потому, думала она, мое имя навлекло на меня опасности и приключения, завело в дальние страны, посвятило в страшные тайны царей и их жен, ревностно охраняемые смертью. Наконец, мое имя сделало меня беглецом и изгнанником. Но сколь же наивно думать, будто имя может иметь какое-то значение для судьбы человека. То же самое произошло бы со мной, будь мое имя Кепру, или Кафран, или Мосе, так я полагаю. И все же нельзя отрицать, что Синухе стал изгнанником, тогда как Хеб, Сын сокола, короновался под именем Хоремхеб красной и белой коронами как владыка Нижнего и Верхнего Египта. Так что о знаменательности имени пусть каждый думает что хочет. Можно верить в то или в другое, любая вера дает утешение.
Я родился во время правления великого фараона Аменхотепа III, в тот самый год, когда родился и тот, который хотел жить правдой, чье имя не положено больше поминать, ибо оно проклято, хотя тогда этого, конечно, никто не мог предугадать. Поэтому во дворце было великое ликование по случаю его рождения, и царь принес многочисленные жертвы Амону в большом храме, построенном по его же велению, и народ радовался и веселился, не зная, что ожидает его впереди. Божественная супруга фараона Тейе долго и безуспешно ждала сына, хотя она была Божественной супругой уже целых двадцать два года и ее имя было высечено рядом с царским именем в храмах и на изваяниях. Поэтому тот, чье имя нельзя упоминать, был с величайшей торжественностью провозглашен наследником царской власти, едва только жрецы успели совершить обрезание.
Но он родился лишь весной, во время сева, я же, Синухе, появился на свет еще осенью, в самое половодье. День моего рождения неведом, ибо я плыл по течению Нила в маленькой тростниковой лодочке, обмазанной снаружи густым черным варом, и моя мать Кипа нашла меня в прибрежных камышах, почти у самого порога своего дома, так высоко тогда поднялась вода. Ласточки уже прилетели и щебетали над моей головой, но сам я молчал, и она подумала, что я мертв. Она внесла меня в дом, согрела у жаровни и вдувала дыхание мне в рот, пока я не начал тихонько плакать.
Отец мой Сенмут вернулся после визитов к больным, неся двух уток и лукошко муки. Он услышал мой писк и решил, что мать моя Кипа завела котенка, и стал бранить ее. Но мать моя сказала: «Это не котенок, а мальчик! Радуйся, муж мой Сенмут, у нас родился сын».
Отец мой рассердился и сказал, что она спятила, но Кипа показала ему меня, и моя беспомощность тронула сердце отца. Так они усыновили меня и даже уверили соседей, что я родился у Кипы. Это уж ей так хотелось, из тщеславия, и я не знаю, многие ли ей поверили. Но тростниковую лодочку, в которой я приплыл, Кипа сохранила и повесила в комнате над кроватью. Отец мой взял лучший из своих медных сосудов и отнес в храм, чтобы меня записали в книгу родившихся как его собственного сына, рожденного Кипой. Только обрезание он совершил сам, так как был лекарем и опасался жреческих ножей, которые оставляли долго гноившиеся раны. Впрочем, может быть, он сделал это из экономии, поскольку, будучи лекарем бедных, жил отнюдь не богато.
Всего этого я, правда, не помню, но мать и отец подробно рассказывали мне об этом, столько раз повторяя одни и те же слова, что я верю им и не знаю причины, почему бы им не верить. В детстве я считал их своими настоящими родителями, и ничто не омрачало той светлой поры. Правду они поведали мне позже, когда остригли мои детские кудри и я стал юношей. Они поступили так, потому что боялись и почитали богов, и отец мой не хотел, чтобы ложь омрачила всю мою жизнь.
Кто я и откуда, кто были мои настоящие родители – этого я, в сущности, никогда не знал, но ныне у меня есть на этот счет соображения, о которых я расскажу позже, хотя это всего лишь мои собственные домыслы.
Известно, однако, что я был не единственным младенцем, пущенным вниз по течению в просмоленной тростниковой лодочке. Фивы были большим городом, с храмами и дворцами, вокруг которых без числа лепились глиняные хижины бедняков. При великих фараонах Египет подчинил своему владычеству многие страны, а вместе с величием и богатством менялись нравы. В Фивы отовсюду понаехали чужеземные купцы и ремесленники, все они строили там храмы своим богам, но сколь велики были роскошь, богатство и блеск в храмах и дворцах, столь же велика была бедность за их стенами. Многие бедняки бросали детей на милость судьбы, но и богатые женщины, чьи мужья часто бывали в отъезде, отправляли обличительное свидетельство своей супружеской неверности в тростниковой лодочке вниз по реке. Как знать, возможно, меня бросила жена корабельщика, изменившая мужу с сирийским торговцем. А может, я был сыном чужеземцев, поскольку мне не сделали обрезания. Когда мои детские кудри были острижены и мать моя Кипа спрятала их в маленький деревянный сундучок, рядом с моими первыми сандалиями, я долго разглядывал тростниковую лодочку, которую она мне показала. Ее стебли высохли, пожелтели и закоптились от дыма жаровни. Они были связаны между собой узлами, которыми птицеловы вяжут свои сети. Но ничего о моих родителях лодочка поведать не могла. Так я получил первую рану в сердце.
3
Когда приходит старость, память, словно птица, стремится назад, к дням детства. На склоне дней детство в моих воспоминаниях сияет светом ясного неба, будто все тогда было лучше и красивее, нежели во времена нынешние. И тут, кажется, нет различия между бедным и богатым, ибо нет на свете такого бедняка, который в детстве своем не видел бы проблесков света и радости, когда он вспоминает об этом на старости лет.
Отец мой Сенмут жил в шумном, бедном квартале, вверх по течению от храма. Невдалеке от его дома была пристань с большими каменными причалами, у которых разгружались плавающие по Нилу корабли. На узких улочках находилось много пивных и винных лавчонок, стояли дома увеселений, куда в своих носилках нередко наведывались и состоятельные мужья из центра города.
По соседству с нами жили сборщики налогов, младшие офицеры, шкиперы и двое-трое жрецов пятого ранга. Как и мой отец, это были наиболее почтенные жители квартала бедняков. Они составляли здесь высшее сословие, возвышаясь над прочим людом, подобно тому как каменная стена возвышается над поверхностью воды.
Дом наш был велик и просторен по сравнению с глиняными хижинами бедноты, стены которых тянулись унылыми рядами вдоль узких улочек. Перед нашим домом был даже садик в несколько шагов, где росла посаженная моим отцом тутовая смоковница. Кусты акации отделяли сад от улицы, а водоемом служил выложенный камнем бассейн. Правда, вода попадала в него только во время разлива. В доме было четыре комнаты, в одной из которых моя мать готовила пищу. Обедали мы на террасе, через нее же проходили и посетители на прием к отцу. Два раза в неделю к нам являлась уборщица, потому что моя мать любила чистоту. Раз в неделю прибегала прачка и забирала нашу одежду в стирку, к себе, на берег реки.
Посреди бедного, беспокойного, все более заполняемого пришлым людом квартала, развращенность которого открылась мне, лишь когда я вырос и стал юношей, мой отец и все наши соседи хранили традиции и старые, честные обычаи. В то время как обычаи были в пренебрежении уже и в самом городе, среди богатых и знати, он и люди его класса по-прежнему с нерушимой твердостью представляли старый Египет – с почитанием богов, чистосердечностью и бескорыстием. Как будто противопоставляя себя своему кварталу и людям, с которыми им приходилось иметь дело, они старались всем своим поведением и образом жизни подчеркнуть свою обособленность.
Но зачем я рассказываю о том, что понял лишь позднее? Не лучше ли вспомнить шершавый ствол смоковницы и шелест ее листьев, когда я лежал в тени, отдыхая от палящего зноя? Почему бы не вспомнить мою лучшую игрушку, деревянного крокодила, которого я таскал на веревочке по вымощенной камнями улице; он следовал за мной, разевая красную пасть, хлопая челюстями, а соседские ребятишки сбегались и глядели на него с изумлением. Много медовых конфеток, много блестящих камней и медных проволочек получил я, позволяя другим детям поводить его и поиграть с ним. Такие игрушки бывали лишь в семьях вельмож, но мой отец получил ее от царского столяра за то, что компрессами избавил от нарыва, мешавшего тому сидеть.
По утрам мать водила меня на овощной рынок. Правда, ей не нужно было делать много покупок, но она могла потратить водяную меру времени на то, чтобы выбрать пучок лука, а на приобретение пары сандалий у нее уходило предобеденное время целой недели. Из ее разговоров можно было заключить, что она богата и желает иметь все самое лучшее, и если она не покупает всего, что мне нравится, то лишь ради того, чтобы приучить меня к бережливости. Так она говорила. «Не тот богат, кто имеет золото и серебро, а тот, кто довольствуется малым», – внушала она мне, но ее бедные старые глаза с восхищением глядели на пестрые шерстяные ткани из Сидона и Вавилонии, тонкие и легкие как пух. Ее загорелые, огрубевшие от работы руки, словно лаская, трогали украшения из слоновой кости и страусовых перьев. Все это мишура, ненужные вещи, уверяла она меня и, наверное, себя тоже. Но моя детская душа восставала против этих поучений, и мне очень хотелось бы иметь мартышку, которая обнимала за шею своего владельца, или яркую разноцветную птицу, которая выкрикивала сирийские и египетские слова. И я бы ничего не имел против золотых цепочек и золотых сандалий. Лишь много позднее я понял, что моя старенькая бедняжка Кипа ни чуточки бы не возражала жить в богатстве.
Но поскольку она была всего лишь женой бедного врача, то находила удовлетворение своим мечтам в сказках. Вечерами, перед сном, она рассказывала мне вполголоса все сказки, какие знала: о Синухе и о моряке, потерпевшем кораблекрушение и возвратившемся домой от змеиного царя с несметными богатствами[2], о богах и колдунах, о заклинателях и о древних фараонах. Отец мой часто ворчал и говорил, что напрасно она забивает мне голову глупостями и всяким вздором, но вечером, как только отец начинал храпеть, мать продолжала свои истории и сама наслаждалась ими не меньше, чем я. Помню, как сейчас, те знойно-горячие летние вечера, когда постель обжигала голое тело и сон не шел, как сейчас, слышу ее тихий, баюкающий голос, и мне опять так спокойно. Родная мать едва ли могла быть мне лучшей и более нежной матерью, чем простая, суеверная Кипа, у которой слепые и увечные нищие сказочники всегда могли надеяться на хороший обед.
Сказки увлекали мой ум, но их противоположностью была улица, гнездилище мух, – улица, пресыщенная множеством запахов и зловоний. Бывало, с пристани повеет волнующим ароматом кедра или душистой смолы. Или знатная женщина выглянет из своих носилок, чтоб крикнуть на мальчишек, и обронит капельку благовонного масла. По вечерам, когда золотая барка Амона клонила свой путь к горам запада, над всеми террасами и глиняными хижинами поднимался чад от поджариваемой в масле рыбы, смешанный с запахом свежего хлеба. Этот запах бедной окраины Фив запал мне в душу с детства, и я никогда его не забуду.
Во время обеда на террасе я получал и первые уроки из уст моего отца. Усталой походкой приходил он с улицы через сад или появлялся из своей приемной комнаты, с резкими запахами лекарств и мазей на одежде. Мама сливала ему воду на руки, и мы садились обедать, а мама подавала еду. Случалось, по улице в это время проносилась шумная ватага пьяных моряков. Они горланили песни, и колотили палками в стены домов, и останавливались по нужде под нашими кустами акации. Как осторожный человек, мой отец ничего не говорил, пока они не проходили мимо. Лишь после этого он поучительно произносил:
– Только несчастный невежественный негр или грязный сириец справляет нужду на улице. Египтянин делает это в стенах дома.
Или он замечал:
– Вино – дар богов, радующий сердце, если пить в меру. Одна чаша никому не во вред, от двух язык делается болтливым, но кто принимается за целый кувшин, тот проснется в уличной канаве ограбленный и избитый.
Случалось, до нашей веранды долетал запах душистых масел, когда мимо дома неспешной походкой проплывала красивая женщина, завернутая в прозрачную ткань, с ярко накрашенными щеками, губами, бровями, с влажным блеском в глазах. Такого я никогда не видел у других женщин. Я смотрел на нее как завороженный, а отец говорил:
– Берегись женщины, которая скажет тебе «красивый мальчик» и поманит за собой, ибо ее сердце – силок и западня, а ее объятия жгут хуже огня.
Неудивительно, что после таких наставлений я в своем детском простодушии с ужасом смотрел на винные кувшины и на красавиц: и те и другие были наделены опасным очарованием, как все страшное и пугающее.
Отец уже с малых лет позволял мне быть при нем во время приема больных. Он показывал свои инструменты, ножи, лекарственные снадобья, рассказывая, как ими надо пользоваться. Пока он осматривал больного, я стоял рядом и подавал то миску с водой, то повязки, то мази или вино. Мать моя не выносила вида ран и нарывов и удивлялась моему детскому интересу к болезням. Ребенок не может понять боли и страдания, пока сам этого не испытает. Вскрытие нарыва казалось мне увлекательным делом, и я с гордостью рассказывал другим ребятам обо всем виденном, чтобы они относились ко мне с должным почтением. Если приходил новый больной, я внимательно следил за тем, как отец осматривал и выслушивал его, запоминая все вопросы. В заключение отец говорил: «Болезнь излечима» или «Я не берусь помочь». В иных же случаях он не брался лечить, а писал несколько строчек на полоске папируса и отсылал больного с этим в Дом Жизни, находящийся при храме. Когда такой больной уходил, отец обычно вздыхал и, качая головой, говорил: «Бедняга!»
Не все нуждавшиеся в помощи моего отца были бедняками. К нему на перевязку приносили женщин из домов увеселений, одетых в тончайший лен, порой приходили капитаны сирийских кораблей с флюсом или зубной болью. Поэтому я не удивился, когда к отцу на прием однажды явилась жена торговца пряностями, вся в драгоценностях и в воротнике из самоцветов. Пока отец внимательно ее обследовал, она вздыхала и охала, жалуясь на многочисленные недуги. Я был ужасно разочарован, когда отец, закончив осмотр, взял листок и принялся писать, а я-то надеялся, что он сможет вылечить эту больную и получит в благодарность богатые подарки, множество вкусных вещей. Я печально вздохнул, покачал головой и тихо прошептал: «Бедняга!»
Больная испуганно вздрогнула и с ужасом взглянула на отца. Но он переписывал какие-то старинные письмена из ветхого свитка, потом налил в мисочку масла и вина и, опустив в эту смесь листок, полоскал его, пока все чернила не растворились в вине, затем он перелил жидкость в глиняную баночку и дал жене торговца пряностями, наказав принимать лекарство, как только начнутся боли в голове или в животе. После ухода женщины я устремил на отца вопрошающий взгляд. Он замялся, кашлянув несколько раз, и сказал:
– Во многих случаях болезнь излечивается с помощью чернил, которыми были написаны могучие заклинания.
Больше он мне ничего не сказал, а немного погодя пробормотал про себя: «Во всяком случае, лекарство больному не повредит».
Когда мне исполнилось семь лет, я получил отроческую набедренную повязку и мама повела меня в храм, где совершалось жертвоприношение. Храм Амона в Фивах был тогда величайшим храмом Египта. От храма богини Луны и священного озера к нему через весь город тянулась аллея, которую обрамляли изваянные из камня овцеголовые сфинксы. Храм со всеми относящимися к нему строениями был обнесен мощной, как крепость, кирпичной стеной и представлял собой как бы город в городе. На вершине высоких, как горы, пилонов развевались яркие разноцветные флаги, и колоссальные статуи фараонов стояли на страже по обе стороны медных ворот, охраняя вход на территорию храма.
Мы прошли через ворота, и продавцы Книг мертвых[3] бросились к моей матери, хватая за руки, и то шептали на ухо, то громко кричали, предлагая сделать покупку. Мать повела меня к мастерским столяров, где были выставлены статуэтки рабов и слуг, которые, повинуясь заклинанию жрецов, будут отвечать в потустороннем мире за своего владельца и работать так, что ему и пальцем пошевелить не придется. Но зачем я рассказываю о том, что всем известно, ведь все опять вернулось к прежнему, и лишь сердце человеческое не изменилось… Моя мать уплатила требуемую мзду за то, чтобы присутствовать при жертвоприношении. И я увидел, как тучные жрецы, в белых одеждах, с лоснящимися от масла бритыми головами, ловко, одним махом, закололи и разрубили на части быка, между рогами которого на плетенной из камыша косице висела печать, удостоверяющая, что животное без изъяна и не имеет ни единого черного волоска. Человек двести принимали участие в церемонии, но жрецы не обращали на них внимания и преспокойно переговаривались между собой о своих делах. Я же разглядывал таинственные изображения на стене храма и пришел в совершенное изумление от его громадных колонн. Мне непонятно было волнение матери – когда мы возвращались домой, у нее на глазах стояли слезы. Дома она сняла с меня детские туфли, и я получил новые сандалии, которые были неудобны и натирали ноги, пока я не привык к ним.
Когда я пожаловался на это, отец мой добродушно рассмеялся и сказал, что отрок из хорошей семьи не может теперь ходить по городу босиком, настолько изменились времена. Он рассказал, что еще на памяти его деда даже большие начальники могли повесить сандалии на шею и пойти босиком. Нравы тогда были проще и здоровее; женщине достаточно было узкой туники без рукавов, а теперь каждая пекущаяся о своем достоинстве женщина требует широких платьев и ярких, расцвеченных воротников. Раньше все бы смеялись над мужчиной, попробуй он надеть крахмальный плиссированный передник и широкие рукава. Поистине, дедушка не узнал бы Фив, если бы встал из могилы и посмотрел на город, вряд ли он даже понял бы повседневную речь, столько в наш язык проникло сирийских названий и слов. Каждый старается нынче употреблять побольше иноземных слов, воображая, будто становится от этого более знатным. Так говорил мой отец.
Но после трапезы отец стал серьезен, положил мне на голову свою большую умелую руку и с робкой нежностью потрепал мягкий мальчишеский вихор у правого виска.
– Тебе уже семь лет, Синухе, – сказал он, – пора решать, кем ты хочешь быть.
– Воином, – ответил я сразу же и не мог понять, отчего его доброе лицо выразило разочарование, ведь самыми лучшими для мальчишек на улице были военные игры.
Я видел, как воины боролись и учились владеть оружием на площадке перед казармой, я видел боевые колесницы, проносившиеся за город, на учения, в крылатом трепете султанов и грохоте колес. Ведь не могло быть ничего доблестнее и почетнее профессии воина. И потом, воину не надо уметь писать, что было для меня самым важным доводом, поскольку старшие мальчики рассказывали ужасные истории о том, как трудно научиться искусству письма и как больно учителя дерут за волосы, если нечаянно уронишь глиняную табличку или тростниковое перо сломается в неумелых руках.
Мой отец, вероятно, был не особенно талантлив смолоду, иначе он добился бы в жизни большего, а не остался простым врачевателем бедных. Но он добросовестно трудился, не причиняя больным вреда, и с годами у него накопился большой опыт. Он уже знал, как я самолюбив и упрям, и потому ничего не сказал о моем решении.
Но немного погодя он попросил у моей матери чашу, пошел в свою рабочую комнату и наполнил сосуд дешевым вином из большой амфоры. «Пойдем, Синухе», – сказал он и повел меня к берегу. Я следовал за ним в недоумении. Выйдя на пристань, он остановился против ладьи, у которой гнули спины потные носильщики, выгружая зашитые в ковры товары. Солнце клонилось к горам запада, но грузчики все работали, пыхтя и обливаясь по́том. Начальник подгонял их плетью, а под навесом спокойно сидел писец и тростниковым пером записывал для памяти каждый перенесенный тюк.
– Хотел бы ты стать таким, как они? – спросил отец.
Вопрос показался мне глупым, и я не стал отвечать, а только с удивлением покосился на отца, ибо уподобиться грузчикам, конечно же, никто не хочет.
– Они работают с самого утра и до позднего вечера, – сказал отец мой Сенмут. – Их кожа обгорела и затвердела, как крокодилья шкура, их ладони огрубели, как лапы крокодила. Только с наступлением темноты они разбредутся по своим жалким глиняным хижинам, и пища их – кусок хлеба, луковица и глоток кислого кваса. Такова жизнь носильщика. Такова же и жизнь землепашца. Таков удел тех, кто работает своими руками. Ты, надо полагать, не завидуешь им?
Я замотал головой и поглядел на отца с недоумением. Я ведь хотел стать воином, а вовсе не носильщиком или роющимся в земле пахарем, поливщиком полей или пастухом.
– Они никогда не смогут изменить своей участи, – продолжал отец серьезно. – После смерти тела их в лучшем случае засолят и зароют в песок. Их не ждет бессмертие и блаженная участь тех, кто еще при жизни может построить себе прочную могилу и оплатить бальзамирование своего тела, чтобы оно и в смерти сохранилось навечно. А отчего это, знаешь ли ты, Синухе?
Я смотрел на Город мертвых[4], где заходящее солнце окрасило в пурпур белые гробницы фараонов, и у меня задрожал подбородок, ибо я уже знал, к чему отец клонит.
– Оттого, что они не умеют писать, – сказал он серьезно. – Ни в жизни, ни в смерти не преуспеет тот, кто не умеет писать.
Он задумчиво поднял перед собой сосуд с вином, оглянулся, словно опасаясь, что Кипа подсматривает за нами из-за угла, потом отхлебнул глоток, вытер губы и, взяв меня за руку, повел дальше. Я следовал за ним с тяжелым сердцем, но с твердой решимостью стать воином.
– Отец, – сказал я, шагая с ним в ногу, – жизнь воинов приятна. Они живут в казарме и получают хорошую пищу, по вечерам они пьют вино в домах увеселений, и женщины смотрят на них благосклонно. Лучшие из них носят на шее золотые цепочки, хотя они и не умеют писать. Из военных походов они привозят добычу и рабов; почему же мне не стать воином?
Но отец ничего не ответил, а только ускорил шаг. Неподалеку от большой свалки, где на нас налетели тучи гудящих мух, он наклонился и заглянул в низенькую глиняную хижину.
– Интеб, друг мой, ты здесь? – позвал он, и из лачуги выбрался, кое-как ковыляя и опираясь на палку, изъеденный вшами старик, в заскорузлой от грязи набедренной повязке и без правой руки, обрубленной почти по плечо.
Высохшее от старости лицо его густо покрывали морщины, и у него совсем не было зубов.
– Неужели, неужели это сам Интеб? – шепотом спросил я у отца, с ужасом глядя на старика.
Потому что Интеб был известный герой. Он сражался в сирийских походах при Тутмосе III, величайшем из фараонов, и о нем, его подвигах и полученных им от фараона наградах, ходили легенды.
Старик поднял руку для приветствия, как делают воины, и мой отец протянул ему сосуд с вином. Они сели на землю, потому что у старика не было даже скамейки перед хижиной. Интеб трясущейся рукой поднес сосуд к губам и жадно стал пить вино, стараясь не пролить ни капли.
– Сын мой Синухе хочет стать воином, – сказал отец с усмешкой. – Я привел его к тебе, Интеб, ты единственный живой герой великих войн, и ты должен рассказать ему о доблестной жизни и подвигах воина.
– Во имя Сета, Ваала и всех злых сил! – хрипло воскликнул старик, потом громко засмеялся и уставился на меня близорукими глазами. – Неужто парень спятил?
Его беззубый рот, потухшие глаза, болтающаяся култышка и морщинистая грудь были так страшны, что я спрятался за спину отца, вцепившись в его рукав.
– Парень, парень! – сказал Интеб и скривился. – Если бы мне дали по глотку вина за каждый горестный миг, когда я проклинал мою жизнь и жалкую судьбу, сделавшую меня воином, я мог бы наполнить вином озеро, которое фараон, говорят, сделал на потеху своей женке. Правда, сам-то я его не видел, ведь у меня нет средств на то, чтобы заплатить лодочнику и переправиться на тот берег реки, но не сомневаюсь, что озеро наполнилось бы до краев, да еще осталось бы столько вина, что целой армии хватило бы мертвецки упиться.
Он снова стал жадно пить.
– Но, – сказал я дрогнувшим голосом, – ведь ремесло воина самое почетное из всех профессий.
– Почет и слава, – сказал герой армии Тутмоса, – это дерьмо, простое дерьмо, способное прокормить лишь мух. Я на своем веку много врал о войне и геройстве, чтобы простаки, которые слушали разинув рот, угощали меня вином, но твой отец – почтенный человек, и я не хочу его обманывать. Поэтому я скажу тебе, парень, что профессия воина самая что ни на есть последняя и жалкая.
Вино немного разгладило морщины на его лице, и старческие глаза загорелись мрачным огнем. Вдруг он встал и единственной рукой схватил себя за горло.
– Смотри, парень! – воскликнул он. – Эту тощую шею когда-то украшали пять золотых цепочек. Сам фараон собственноручно надел их на меня. Кто может сосчитать отрубленные руки врагов, которые я сложил перед его шатром? Кто первым взобрался на стену Кадеша? Кто, как разъяренный слон, сеял смерть и смятение во вражеских рядах? Это я, Интеб, герой! Но кто теперь меня за это возблагодарит? Золото мое пошло бродить по свету, рабы, добытые на войне, разбежались или поумирали. Правая рука моя осталась в стране Митанни, и быть бы мне уже давно уличным нищим, если бы не добрые люди, которые время от времени приносят немного сушеной рыбы да пива за то, что я рассказываю их детям правду о войне. Я, Интеб, великий герой, но ты погляди на меня, сынок. Молодость моя осталась в пустыне, где я познал голод, болезни и тяжкий труд. Там высохло мясо на моих костях, там задубела моя кожа, там ожесточилось сердце. И что хуже всего, в безводных пустынях пересохли язык и глотка, и я заразился вечной жаждой, как всякий воин, кому посчастливилось вернуться живым из походов в далекие страны. Поэтому жизнь моя стала как теснина загробного мира с тех пор, как я потерял руку. И я не хочу даже поминать о боли, ранах и страданиях, причиненных мясниками-хирургами. Они ведь сперва отпилят руку, затем обваривают култышку в кипящем масле, это твой отец прекрасно знает. Да будет благословенно имя твое, Сенмут, справедливый и добрый, но вино кончилось.
Старик замолчал, отдышался, сел на землю и, уныло покачав головой, перевернул глиняную кружку вверх дном. Дикий огонь в глазах его погас, и передо мной опять был старый, несчастный человек.
– Но воину не надо уметь писать, – робко прошептал я.
– Хм… – произнес Интеб и бросил взгляд на моего отца.
Отец быстро снял одно медное кольцо с запястья и протянул старику. Тот громко закричал, и тут же прибежал грязный мальчишка, взял кольцо и кружку и отправился в кабачок за вином.
– Не покупай лучшего! – крикнул Интеб ему вдогонку. – Возьми хоть кислого, его дадут больше! – Он опять обратил ко мне задумчивый взгляд. – Ты прав, – сказал он, – солдату не нужно уметь писать. Он должен лишь уметь сражаться. Если бы он умел писать, он был бы начальником и командовал солдатами, даже самыми доблестными, и посылал бы других в бой впереди себя. Потому что любой грамотный годится на то, чтобы командовать, но даже начальником сотни не назначат того, кто не умеет царапать тростниковым пером по папирусу. Что проку в золотых цепях и почетных знаках, если командует тот, у кого в руке тростниковое перо? Но так было, и так будет всегда. Поэтому, сынок, если хочешь командовать воинами и управлять ими, научись прежде писать. Тогда украшенные золотыми цепями будут повиноваться и кланяться тебе и рабы понесут тебя на поле боя в носилках.
Грязный мальчишка вернулся с кувшином и кружкой, полными вина. Лицо старика озарилось радостью.
– Отец твой Сенмут – хороший человек, – сказал он любезно. – Он умеет писать и лечил меня в дни моей силы и счастья, когда я, заливаясь вином, повсюду начал видеть крокодилов и бегемотов. Он славный муж, хоть всего лишь лекарь и ему не под силу натянуть тетиву лука. Спасибо ему!
Я с ужасом смотрел на целый кувшин вина, за который Интеб явно хотел приняться, и начал нетерпеливо дергать отца за широкий, испачканный снадобьями рукав, ибо мне было страшно, что из-за этого вина мы скоро проснемся избитыми в какой-нибудь уличной канаве. Отец мой Сенмут с грустью посмотрел на кувшин, тихо вздохнул и, повернувшись, повел меня прочь. Интеб дребезжащим старческим голосом запел сирийскую походную песню, а голый, черный от загара мальчишка слушал и смеялся.
В тот вечер я, Синухе, похоронил мечту о воинской карьере и уже не сопротивлялся, когда на следующий день отец и мать повели меня в школу.
4
У отца, разумеется, не было средств на то, чтобы определить меня в большую школу при храме, – в таких школах учились сыновья знати, богачей и жрецов высшего чина. Моим учителем стал старый жрец Онех, живший от нас всего лишь через две улицы; он занимался с нами у себя дома на ветхой, покосившейся террасе. Его учениками были дети ремесленников, торговцев, портовых надсмотрщиков и младших офицеров, чьей честолюбивой мечтой была карьера писца. Онех в свое время служил складским учетчиком в храме, так что он вполне мог дать начальные навыки письма детям, которые впоследствии должны будут учитывать, сколько принято и отпущено товаров, мер зерна, голов скота, или выписывать счета за продовольствие для солдат. В Фивах, этом огромном городе, были десятки и сотни таких маленьких школ. Учение стоило дешево, потому что ученики должны были лишь содержать старого Онеха. Сын угольщика приносил древесный уголь для его жаровни, сын ткача снабжал его одеждой, сын зерноторговца обеспечивал мукой, а мой отец лечил от множества старческих недугов, давал облегчающие боли снадобья – настои трав, которые надо было пить с вином.
Благодаря этой зависимости Онех был нестрогим учителем. Если кто-нибудь из нас засыпал над письменной дощечкой, то вместо наказания розгами отделывался тем, что на следующий день притаскивал старику какой-нибудь лакомый кусок. Иногда сын зерноторговца приносил из дому кувшин пива. В такие дни мы внимательно слушали нашего учителя, потому что старый Онех увлеченно рассказывал удивительные истории и приключения в загробном мире и сказки о небесной Мут, о создателе всего – Птахе и о других богах, которых он знал. Мы хихикали, думая, что ловко провели его, так, что он на весь день позабыл трудные уроки и нудные письменные упражнения. Лишь гораздо позднее я понял, что старый Онех был более мудрым и тонким учителем, чем нам казалось. В сказаниях, оживляемых его по-детски чистым воображением, был известный расчет. Таким образом он учил нас нравственным законам древнего Египта. Всякое зло не останется безнаказанным. В свое время пред высоким троном Осириса будет без снисхождения взвешено сердце каждого человека, и тот, чьи злые дела выявятся на весах бога с головой шакала, будет брошен на съедение Амт, а Амт – это крокодил и бегемот в одном лице, но страшнее их обоих.
Он рассказывал также о мрачном боге с лицом, обращенным назад, ужасном перевозчике через реку в загробное царство. Без его помощи ни один умерший не попадет в край вечного покоя. Он гребет, всегда глядя назад, а не вперед, как земные лодочники на Ниле. Онех заставил нас вытвердить наизусть слова заклинаний, с помощью которых можно уговорить и задобрить Глядящего вспять. Мы многократно переписывали эти обращения, а он терпеливо, с мягкой настойчивостью поправлял наши ошибки. Тем самым он хотел нам внушить, что малейшая ошибка может сделать невозможной счастливую жизнь в Стране Заката, а если мы дадим Глядящему вспять неграмотное письмо, то на веки вечные останемся бродячими тенями на пустынном берегу мрачной, темной реки или, того хуже, попадем в страшные пропасти подземного царства.
Несколько лет я ходил в школу Онеха. Отец считал, что нельзя насильно навязать человеку профессию, если к ней не лежит душа, и, если бы я не проявил способностей, он не стал бы делать из меня писца. Правда, тогда я этого еще не знал.
Самым интересным моим товарищем в школе Онеха был Тутмес. Старше меня на два года, он с малых лет привык обращаться с лошадьми и знал приемы борьбы. Его отец командовал группой боевых колесниц, носил знак своей власти – кнут с вплетенными в него медными проволоками и мечтал сделать из сына великого полководца, для чего и послал его учиться письму. Но его славное имя Тутмес не стало вещим предзнаменованием вопреки надеждам отца. Ибо, поступив в школу, он забросил метание дротиков и конные упражнения. Письменные знаки давались ему легко, и, пока остальные ребята корпели до изнеможения над своими дощечками, он рисовал что в голову взбредет – боевые колесницы, вздыбленных коней, сражающихся воинов. Он принес в школу глину и совершенно преобразил пивной кувшин, оживляя Онеховы сказки. Он изобразил уморительнейшую Амт, неуклюже разинувшую пасть, чтобы проглотить маленького, сгорбленного, лысого старичка с обвисшим брюшком, – в последней фигуре нетрудно было узнать Онеха. Но Онех не рассердился. Да и никто не мог сердиться на Тутмеса. У него было простое, широкое крестьянское лицо и толстые, короткие ноги, но в его глазах всегда горели веселые искорки, а его ловкие руки искусно лепили из глины всевозможных животных и птиц, доставлявших нам истинную радость.
Во время учебы со мной произошло чудо. Это случилось внезапно, так что я и сейчас еще вспоминаю тот миг как откровение. Был ласковый весенний день, в воздухе звенели птичьи голоса, и аисты хлопотливо чинили гнезда на крышах домов. Вода уже сошла, и земля вспыхнула свежей зеленью. На огородах высаживали рассаду. Такой день звал к увлекательным приключениям, и мы никак не могли усидеть спокойно на рассохшейся террасе Онеха, из стен которой вываливались кирпичи. Я рассеянно выводил нудные буквы, которые высекают на камне, а рядом с ними сокращенные скорописные знаки. Как вдруг какое-то уже забытое слово Онеха будто сдвинуло что-то во мне и разом оживило написанное. Из картинки возникало слово, от слова отделялся слог, слог становился буквой. Соединяя друг с другом картинки-буквы, можно было получать новые слова – живые, странные слова, которые уже не имели ничего общего с картинками. Картинка понятна даже простому поливщику полей, но две картинки, поставленные рядом, может понять только грамотный. Мне думается, каждый, кто учился искусству письма и научился читать, испытал нечто подобное тому, о чем я говорю. Для меня это было событием более волнующим и увлекательным, чем украденное из корзины торговца гранатовое яблоко, более сладким, чем сушеный финик, и столь же желанным, словно вода для жаждущего.
С тех пор меня больше не нужно было уговаривать. С тех пор я впитывал науку Онеха, как сухая земля – воду разлившегося Нила. Я быстро научился писать. Понемногу я научился также читать написанное другими. На третий год я мог уже читать вслух старые потрепанные свитки, чтобы другие писали под диктовку разные поучительные истории.
В то же время я заметил, что я не такой, как остальные. Лицо у меня было у́же, кожа светлее, сложение более хрупкое, чем у соседских мальчишек. Я походил больше на детей знати, чем на людей, среди которых жил, и, будь у меня такие же одежды, вряд ли кто-нибудь смог бы отличить меня от тех мальчиков, которые разъезжали по улицам в носилках или гуляли, сопровождаемые рабами. Это вызывало насмешки. Сын зерноторговца попытался было обхватить мою шею руками и сказал, что я девочка, так что я был вынужден пырнуть его чертилкой. Близость его была мне неприятна, потому что от него дурно пахло. Я искал общества Тутмеса, но он никогда до меня и рукой не дотрагивался.
Однажды Тутмес робко предложил: «Если бы ты посидел передо мной вот так, я бы тебя вылепил».
Я привел его в наш дом, и во дворе перед смоковницей он вылепил из глины изображение, похожее на меня, и палочкой вычертил на сырой глине мое имя. Мать моя Кипа вынесла нам пирожков, но, увидев изображение, ужасно испугалась и сказала, что это колдовство. А отец сказал, что из Тутмеса может выйти царский художник, если он пойдет учиться в храмовую школу. И я в шутку поклонился Тутмесу, опустив руки до колен, так, как приветствуют знатных. Глаза Тутмеса заблестели, но он сказал со вздохом, что этому не бывать, так как его отец требует, чтобы он теперь же вернулся в воинский дом и готовился к поступлению в школу младших командиров боевых колесниц. Ведь для будущего военачальника он уже умеет писать достаточно хорошо и быстро. Отец мой ушел, Кипа долго еще ворчала на кухне, но мы с Тутмесом уплетали пирожки, такие вкусные и жирные, и нам было хорошо.
Тогда я еще был счастлив.
5
И вот настал день, когда отец мой оделся в лучшие, только что выстиранные одежды, на шею надел вышитый Кипой воротник и отправился в большой храм Амона, хотя в тайне сердца он и не любил жрецов. Но без их помощи и вмешательства ничего не совершалось в Фивах и во всей земле Египетской. Жрецы вершили суд и объявляли приговоры, так что дерзкий человек мог даже царский приговор обжаловать в храме в надежде получить оправдание. В руках жрецов находилось все обучение высшим профессиям. Жрецы предсказывали время разлива Нила и величину будущего урожая, таким образом определяя налоги по всей стране. Но зачем я это объясняю, ведь все опять вернулось к прежним порядкам и ничто не изменилось.
Думаю, отцу было нелегко пойти на поклон к жрецам. Он прожил жизнь, врачуя в квартале бедных, и отвык от храма и Дома Жизни. Теперь ему пришлось, подобно другим малосостоятельным родителям, стоять в очереди перед канцелярией храма и ждать, когда верховный жрец соблаговолит принять их. Я, как сейчас, вижу их перед собой, всех этих бедных отцов, одетых как на праздник и терпеливо сидящих во дворе храма с честолюбивой мечтой устроить своим сыновьям лучшую жизнь, чем та, что выпала на долю им самим. Многие из них приехали в Фивы издалека, плыли на лодках по реке, с запасом провизии на дорогу, истратились на подношения привратникам и писцам, чтобы попасть на прием к златокнижному, умащенному дорогими благовонными маслами жрецу. Он брезгливо морщится от их запаха, он говорит с ними резко, неприветливо. Однако Амону требуются новые служители. По мере того как растут его богатства и могущество, он привлекает на службу все больше и больше грамотных. И все же каждый отец считает за божескую милость, если ему удается устроить сына в храм, хотя на самом-то деле именно он приносит бесценный дар храму, отдавая туда свое дитя.
Моему отцу очень повезло, ибо, прождав полдня, он увидел проходившего мимо своего старого соученика Птахора, который к тому времени стал уже царским трепанатором черепов. Отец осмелился обратиться к нему, и тот обещал посетить нас собственной персоной, дабы взглянуть на меня.
К назначенному дню отец раздобыл гуся и лучшего вина. Кипа пекла хлеб и бранилась. Блаженный запах гусиного сала разносился из нашей кухни, так что нищие и слепые собрались на улице перед нашим домом, пытаясь петь и играть, чтобы получить свою долю на пиру, пока наконец Кипа не вышла с бранью и не раздала им по куску хлеба с гусиным жиром, только так их можно было спровадить. Тутмес и я подмели хорошенько улицу перед нашим домом, потому что отец посоветовал Тутмесу быть поблизости на тот случай, если бы наш гость – все может статься – вдруг захотел поговорить и с ним. Мы были еще мальчишки, но, когда отец зажег на террасе курильницу и дымок благовоний заклубился над нею, мы ощутили себя словно в храме. Я стерег кувшин с ароматной водой и отгонял мух от чистого льняного полотенца, которое Кипа приготовила для своей могилы, но теперь его достали из сундука, чтобы дать вытереть руки Птахору.
Нам пришлось ждать долго. Солнце село, и в воздухе повеяло прохладой. Курильница на террасе догорела, и гусь грустно шипел в яме-жаровне. Я проголодался, а у Кипы, моей матери, лицо вытянулось и застыло. Мой отец ничего не говорил, но с наступлением темноты не стал зажигать светильники. Мы все сидели на террасе, и нам не хотелось видеть друг друга. Тогда я узнал, как много горя и разочарований богатые и высокопоставленные могут небрежно причинить малым и бедным.
Но вот, когда уже иссякла надежда, в конце улицы показалось пламя факелов. Мой отец вскочил и бегом бросился на кухню, чтобы скорее зажечь обе масляные лампы. Я весь дрожал, прижимая к груди большой кувшин с водой. Тутмес стоял рядом, учащенно дыша прямо в ухо.
Царский трепанатор Птахор прибыл в простых носилках, которые несли двое рабов-негров. Впереди шел с факелом толстый слуга, явно пьяный. С радостными возгласами Птахор поднялся с носилок, приветствуя моего отца, а тот склонился перед ним, опустив руки до колен. Птахор положил руки на плечи отца, то ли желая показать, что такая торжественность ни к чему, то ли просто чтоб опереться. Так, держась за плечи отца, он пнул ногой слугу, несшего факел, и велел ему лечь под смоковницей да проспаться немного, чтобы хмель прошел. Негры бросили носилки под акациями и уселись на землю, не дожидаясь приказаний.
Опираясь на плечо отца, Птахор поднялся на террасу. Я слил ему воды на руки, хоть он и возражал, и подал ему льняное полотенце. Но он попросил меня вытереть ему руки, раз уж я их облил водой, а когда я исполнил это, он дружески меня поблагодарил и сказал, что я красивый мальчик. Отец усадил его на почетное место, на стул со спинкой, взятый взаймы у торговца пряностями. Он сел и поглядывал вокруг маленькими любопытными глазками. Некоторое время все молчали. Потом он кашлянул, как бы извиняясь, и попросил чего-нибудь – промочить горло с дороги. Отец обрадовался и налил ему вина. Птахор опасливо понюхал и пригубил, но затем осушил чашу до дна с видимым удовольствием и облегченно вздохнул.
Это был пожилой мужчина маленького роста, с выбритой наголо головой и кривыми ногами, дряблой грудью и животом, висевшим под тонкой тканью одежды. Его воротник был украшен драгоценными камнями, но засален, как и вся его одежда. От него пахло вином, по́том и мазями.
Кипа подала пряные булочки, крошечных рыбешек в масле, фрукты и жареного гуся. Он поел из вежливости, хотя, очевидно, приехал к нам после сытного обеда. Пробовал всего понемножку и каждое кушанье хвалил, к большому удовольствию Кипы. По его просьбе я отнес еды и пива неграм, но они ответили на мою любезность лишь скверными словами да вопросом: долго ли старик думает там сидеть? Слуга тяжело храпел под смоковницей, и у меня не было желания его будить.
Вечер получился довольно сумбурный, потому что и отец мой сильно захмелел, я никогда еще не видел, чтоб он столько выпил. Так что под конец Кипа уже сидела на кухне, схватившись за голову обеими руками и покачиваясь всем телом взад и вперед. Опорожнив кувшин покупного вина, они стали пить то, что было у отца для приготовления лекарств, а когда и с ним было покончено, пошло в ход обычное пиво, так как Птахор заявил, что он не привередлив.
Они вспоминали, как учились вместе в Доме Жизни, рассказывали анекдоты о своих учителях и обнявшись ходили по террасе, шатаясь и поддерживая друг друга. Птахор рассказывал о том, чего он добился как царский трепанатор черепов, уверяя, что это самая что ни на есть распоследняя для врача роль и она скорее подходит для Дома Смерти, чем для Дома Жизни. Но он ведь всегда был ленив, что мой отец, добрейший Сенмут, конечно же, прекрасно помнит, вот и выбрал для изучения череп, так как, по его мнению, это самое простое в человеке, не считая зубов, глаз, горла и ушей, которые требуют своих специалистов.
– Но, – сказал он, – будь у меня больше мужества, я бы стал обычным честным лекарем и давал бы людям жизнь, тогда как теперь мне суждено приносить смерть, если родственникам надоедает ухаживать за стариками или неизлечимыми больными. Лучше бы я приносил жизнь, как ты, друг мой Сенмут. Наверно, я был бы беднее, но вел бы более честную и трезвую жизнь, чем сейчас.
– Не верьте ему, мальчики, – сказал мой отец, потому что Тутмес тоже сидел с нами и держал в руке маленькую чашу вина. – Я горжусь тем, что могу назвать своим другом царского трепанатора черепов Птахора, крупнейшего во всем Египте знатока своего дела. Разве могу я забыть его удивительные вскрытия, которые столько раз спасали жизнь знатным и безродным и вызывали всеобщее изумление? Он выпускал наружу злых духов, которые доводили человека до безумия, и удалял их круглые яички из мозга больных. Исцеленные не знали, как и отблагодарить его, присылали золото, драгоценные ожерелья и кубки.
– Но еще больше дарили мне благодарные родственники, – сказал прерывающимся голосом Птахор. – Ибо если одного из десяти, одного из пятидесяти, нет, скажем, одного из ста я случайно вылечу, то уж остальным даю верную смерть. Слышал ли ты хоть об одном фараоне, который бы прожил более трех дней после вскрытия черепа? Нет, ко мне, с моим кремневым сверлом, отсылают лишь неизлечимых и безумных, и тем скорее, чем они богаче и знатней. Моя рука освобождает их от страданий, а наследникам раздает состояния, имения, скот и золото, моя рука возводит фараонов на престол. Поэтому они меня боятся, и никто не дерзает мне возражать, ведь я знаю слишком много. Но чем больше знаешь, тем больше печали в сердце, поэтому я несчастный человек.
Птахор прослезился и вытер нос льняным саваном Кипы.
– Ты беден, но честен, Сенмут, – продолжал он, всхлипнув. – Вот за что я люблю тебя, ибо я-то богат, но порочен. Гадок я, точно жидкая лепешка, оставленная быком на дороге.
Он снял с себя воротник, сверкавший драгоценными камнями, и надел на шею моему отцу. Потом они стали петь песни, в которых я не понимал и половины слов, но Тутмес слушал их с интересом и сказал, что даже в казарме он не слыхал более смачных песенок. Кипа на кухне начала громко плакать, а один из негров, сидевших под акациями, подошел, взял Птахора на руки и хотел отнести его в носилки, потому что давно пора было спать. Но Птахор закричал: «Караул!» – и стал уверять, что негр его убьет. От моего отца было мало проку, но мы с Тутмесом кинулись на негра с палками, и он убежал, страшно ругаясь, забрав с собой товарища и носилки.
Тогда Птахор вылил себе на голову кувшин пива, попросил масла, чтобы умастить лицо, и вдруг захотел искупаться в нашем водоеме. Тутмес шепнул мне, что надо уложить стариков спать, и вскоре мой отец и царский трепанатор повалились в обнимку на брачное ложе Кипы, бормоча заплетающимися языками уверения в вечной дружбе, пока сон не наложил печать на их уста.
Кипа плакала. И рвала на себе волосы, посыпая голову пеплом из очага. Меня тревожила мысль, что скажут соседи, потому что шум и песни разносились далеко в ночной тишине. Но Тутмес был совершенно спокоен и сказал, что видывал и похуже, когда в казарме или в доме его отца собирались воины и вспоминали былые времена и походы в Сирию и в страну Куш. Он уверял, что нам повезло, вечер прошел на редкость мирно, старики не послали в дом увеселений за музыкантами и девицами. Ему удалось успокоить Кипу, и мы, прибрав как могли следы пиршества, отправились спать. Слуга Птахора громко храпел под смоковницей. Тутмес лег рядом со мной, обнял рукой за шею и стал рассказывать о девицах, потому что он тоже выпил вина. Но я был моложе его на два года, так что мне было неинтересно, и я скоро уснул.
Рано утром я проснулся, услыхав какой-то стук и возню в спальне. Когда я заглянул туда, отец крепко спал и воротник Птахора по-прежнему был на нем, а Птахор сидел на полу, обхватив голову руками, и жалобно спрашивал: «Где я?»
Я приветствовал его почтительным поклоном и сказал, что он все еще находится в доме Сенмута, лекаря бедняков, в районе порта. Это его успокоило, и он попросил у меня – ради Амона – пива. Я напомнил ему, что он вылил на себя целый кувшин этого напитка, что видно по его платью. Тогда он встал, распрямился, важно нахмурил брови и вышел из комнаты. Я слил ему воды на руки, и он, охая, попросил меня полить на голову. Тутмес принес кувшин кислого молока и соленую рыбу. Перекусив, Птахор опять повеселел, подошел к слуге, спавшему под смоковницей, и начал колотить его палкой, пока тот не вскочил спросонья, весь измятый, в траве и в пыли.
– Грязная свинья! – сказал Птахор. – Так-то ты печешься о своем господине, освещая ему путь факелом? Где мои носилки? Где мое чистое платье? Прочь с глаз моих, жалкий вор!
– Я вор и свинья моего господина, – сказал слуга покорно. – Что прикажешь, мой владыка?
Птахор отдал ему распоряжения, и слуга отправился на поиски носилок. Птахор уселся поудобнее под смоковницей и, прислонясь спиной к ее стволу, прочел стихотворение, в котором говорилось об утре, о лотосах и о царице, купающейся в реке, и еще рассказывал много такого, что мальчики охотно слушают. Кипа тоже проснулась, разожгла огонь и пошла за отцом в спальню. К нам во двор доносился ее голос, и когда наконец отец показался на пороге, переодетый в чистое, вид у него был очень печальный.
– У тебя красивый сын, – сказал Птахор. – У него осанка царевича, а глаза нежны, как у газели.
Но хотя я был еще молод, я все же понимал, что он так говорит лишь для того, чтобы мы забыли, как он вел себя вчера вечером. Затем он спросил:
– А что твой сын умеет? Так ли открыты глаза его души, как глаза плоти?
Тогда я принес письменную доску, и Тутмес тоже принес свою. Устремив рассеянный взгляд на вершину смоковницы, царский трепанатор продиктовал мне небольшое стихотворение, которое я и сейчас еще помню. Вот оно:
- Радуйся, юноша, молодости своей,
- ибо у старости в горле сухой песок,
- а набальзамированное тело не смеется
- во тьме своей могилы.
Я старался как мог и записал его сначала по памяти обычным письмом, затем изобразил в картинках, а в конце написал слова «старость», «песок», «тело» и «могила» всевозможными способами – и словами, и скорописными знаками. После чего я показал ему мою письменную доску, и он не нашел ни одной ошибки. Я знал, что отец гордится мною.
– Ну а другой юноша? – спросил Птахор и протянул руку к доске Тутмеса.
Тутмес сидел в стороне и рисовал на доске картинки. Он колебался, прежде чем показать свою доску, но его глаза смеялись. Когда мы склонились над доской, то увидели, что он нарисовал, как Птахор надевает свое оплечье на голову моему отцу и как поливает себя пивом, а на третьем рисунке Птахор и мой отец пели в обнимку, и это выглядело так забавно, что прямо-таки видно было воочию, какую песню они поют. Меня разбирал смех, но я сдержался, потому что боялся рассердить Птахора. Тутмес, надо сказать, ничуть не польстил ему. На рисунке он был такой же маленький и лысый, с такими же кривыми ногами и отвислым животом, как и в жизни.
Долго Птахор молчал, остро поглядывая то на рисунки, то на Тутмеса. Тутмес немного испугался и встал на цыпочки. Наконец Птахор спросил:
– Что ты хочешь за свою доску, сынок? Я куплю ее.
Но Тутмес покраснел и сказал:
– Моя письменная доска не продается. Другу я бы ее подарил.
Птахор улыбнулся и сказал:
– Хорошо, значит, будем друзьями и доска моя.
Потом он еще раз внимательно посмотрел на доску, усмехнулся и разбил ее вдребезги о камень. Все ахнули, а Тутмес смутился и попросил прощения, если Птахор обиделся.
– Могу ли я сердиться на воду, в которой вижу свое отражение? – спросил Птахор с теплотой в голосе. – Но глаз и рука рисовальщика – это сильнее, чем вода. Поэтому я знаю теперь, как выглядел вчера, и не хочу, чтобы кто-нибудь видел меня таким. Вот почему я разбил доску, но я признаю тебя художником.
Тутмес даже подпрыгнул от радости.
Затем Птахор обратился к моему отцу и, указывая на меня, торжественно произнес старинную формулу врача, приступающего к лечению:
– Я берусь его поправить.
И, указав на Тутмеса, сказал:
– Сделаю, что могу.
Оба они рассмеялись, очень довольные. Отец положил руку мне на голову и спросил:
– Синухе, сын мой, хотел бы ты стать лекарем, как я?
Слезы набежали мне на глаза и к горлу подступил комок, так что я не мог ничего сказать, а только кивнул в ответ. Я оглядывался кругом, и двор был мне мил, и смоковница была мне мила, и выложенный камнем водоем был мне мил.
– Сын мой, Синухе, – сказал отец, – хотел бы ты стать целителем гораздо искуснее и лучше меня, владыкой жизни и смерти, в руки которого человек любого звания и положения вверяет с надеждой свою жизнь?
– Не таким, как он, и не таким, как я, – сказал Птахор, и его спина распрямилась, а взгляд стал мудрым и острым, – но настоящим врачом. Ибо всех выше настоящий врач. Перед ним и фараон гол, и самый богатый равен бедному.
– Конечно, я бы хотел стать настоящим врачом, – промолвил я робко, так как был еще мальчик и ничего не смыслил в жизни, не знал, что старость всегда старается сохранить свои мечты и разочарования, переложив их на молодых.
А Тутмесу Птахор показал золотой браслет у себя на запястье и молвил:
– Читай!
Тутмес разобрал по складам выгравированные там иероглифы и, замявшись, прочел:
– «Хочу испить полную чашу!»
– Не усмехайся, постреленок, – сказал Птахор с упреком. – Тут речь не о вине. А если хочешь стать художником, ты должен требовать свою чашу сполна. В настоящем художнике людям является сам Птах, творец и созидатель всего сущего. Художник – это не просто вода или зеркало, а нечто большее. Правда, искусство часто бывает льстивой водой и лживым зеркалом, но все-таки художник – это больше чем гладь воды. Требуй свою чашу сполна, сынок, и не довольствуйся тем, что тебе скажут, а больше верь своему ясному глазу.
После этого он пообещал, что вскоре меня вызовут для поступления учеником в Дом Жизни и что он постарается, если только возможно, устроить Тутмеса в художественную школу при храме Птаха.
– Но, мальчики, – продолжал он, – слушайте внимательно, что я скажу, и сразу же забудьте это, во всяком случае забудьте, что это сказал вам царский трепанатор. Теперь вы попадете в руки жрецов, а Синухе в свое время и сам будет посвящен в жреческий сан, так же как твой отец и я посвящены и получили звание жрецов низшего ранга, потому что никто не имеет права заниматься врачеванием без звания жреца. Но когда вы попадете в храм, к жрецам, будьте недоверчивы, как шакалы, и хитры, как змеи, чтобы не потерять себя и не стать слепцами. Но с виду будьте кротки, как голуби, ибо раскрывать себя можно только по достижении цели. Помните это.
Через некоторое время явился слуга Птахора с наемными носилками и чистым платьем для хозяина. Его собственные носилки рабы заложили в ближайшем доме увеселений и сами все еще спали там. Птахор дал слуге распоряжение выкупить носилки и рабов, простился с нами, заверил моего отца в неизменной дружбе и отправился к себе в аристократическую часть города.
Так я попал в Дом Жизни при великом храме Амона. На следующий день Птахор, царский трепанатор, прислал Кипе в подарок священного скарабея, вырезанного из драгоценного камня, чтобы Кипа могла носить его после смерти, в могиле, под льняными пеленами, на сердце своем. И он не мог бы доставить моей матери большей радости, так что Кипа простила ему все и перестала выговаривать моему отцу Сенмуту за пролитое вино.
Свиток второй. Дом Жизни
1
В те времена жрецы Амона в Фивах держали в своих руках право на всякое образование, и невозможно было выучиться, чтобы занять сколько-нибудь высокую должность, не получив у жрецов аттестации. Каждому понятно, что Дом Жизни и Дом Смерти по самой природе своей с незапамятных времен находились в ведении храма и помещались внутри стен его, так же как и собственно богословская школа, где готовили жрецов высших степеней. Все давно привыкли к тому, что даже математиков и астрономов тоже обучали жрецы, но, когда они взяли под свою власть торговые и законоведческие школы, в кругах образованных людей стали высказываться опасения, что жрецы вмешиваются в дела, подведомственные скорее фараону и управлению податей. Правда, посвящения в жрецы для торговцев и чиновников формально не требовалось, но поскольку под властью Амона находилась по меньшей мере пятая часть всей земли Египта и в торговле и во всех областях жизни влияние жрецов было исключительно велико, то всякий, кто желал выдвинуться в торговле или на государственной службе, поступал разумно, сдавая также экзамены на сан жреца низшей степени и принося клятву быть покорным служителям Амона.
Самой большой, разумеется, была школа законоведения, так как она давала обеспеченное положение и возможность продвинуться на любой службе, связанной со сбором налогов. Маленькая группа астрономов и математиков жила особой, погруженной в свои науки жизнью, глубоко презирая выскочек, устремлявшихся по коммерческому счету и землемерию. Но совершенно отдельно, особняком, окруженные стенами, стояли на территории храма Дом Жизни и Дом Смерти, и к тем, кто там учился, все остальные ученики храма испытывали смешанное со страхом почтение.
Прежде чем ступить ногой в Дом Жизни, мне пришлось пройти курс и выдержать экзамен по богословию на звание жреца низшей степени. На это ушло три года, так как в это же время я вместе с отцом посещал больных и учился у него на практике, набираясь опыта для моей будущей работы. Жил я дома, проводил время как и раньше, но каждый день мне надо было присутствовать на каких-нибудь занятиях. Экзамен жреца низшей степени желающие обучаться законоведению часто сдавали за несколько недель, если у них были высокие друзья и покровители. Сюда входило, помимо начал письма, чтения и счета, лишь знание наизусть священных текстов и умение бегло читать с листа разные предания о царе всех богов Амоне. Но целью этого беглого чтения и заучивания наизусть было в конечном счете подавление в учениках естественной потребности мыслить самостоятельно и выработка привычки слепо доверять значению заучиваемых текстов. Лишь тот, кто полностью покорился власти Амона, мог быть допущен к посвящению в первый жреческий сан. Я не знаю, как раз от разу редеющая и стареющая группа обучалась дальше для экзаменов на третью, четвертую и пятую степень, ибо у жрецов высших степеней были свои, свято охраняемые тайные действа. Уже, например, от жреца второй степени требовалось умение превращать на глазах толпы свою палку в змею. Они учились и другим подобным фокусам, тренируясь и упражняясь на площадях перед храмом. Они умели толковать сны и видения, учеба их включала непременные посты и всенощные бдения. Но достоверно обо всем этом и о конечных целях обучения никто ничего не знал, кроме жрецов, которые сами прошли все ступени. Жрецы второй степени еще, бывало, кое-что выбалтывали, но жрецы высших степеней, насколько я знаю, никогда не раскрывали непосвященным тайны богов.
Я познакомился с храмом, и его величие и безмерное богатство произвели на мой детский ум глубокое впечатление. Незабываемое зрелище являл собой народ, толпившийся с утра до позднего вечера на подходах к храму, в его преддвериях и залах. Люди всех сословий, языков и рас стекались отовсюду, чтобы почтить Амона, чтобы вымолить успех себе, своему предприятию и родным или принести Амону дары, которые он заслужил, охраняя имущество, здоровье и коммерческие затеи. У меня глаза устали от вида сокровищ, драгоценных сосудов, резных изделий из слоновой кости и черного дерева. Нос пресытился запахами благовонных курений и дорогих ароматных смол. Уши устали от разноязыкого говора и чтения священных текстов, которых народ уже не понимал. Величие Амона обрушилось на меня с такой сокрушающей силой, что меня по ночам стали мучить кошмары и я стонал в беспамятстве.
Все готовящиеся к экзамену на первую жреческую степень были разделены по группам в зависимости от того, какие экзамены им предстояли в дальнейшем. Мы, будущие ученики Дома Жизни, составили отдельную группу, но никого из близких друзей и товарищей я в ней не нашел. Я крепко запомнил мудрое предупреждение Птахора, и замкнулся в себе, покорно исполняя любое приказание, и прикидывался дурачком, когда другие отпускали шуточки и по-мальчишески богохульствовали. В нашей группе были сыновья врачевателей высокопоставленных лиц. Их отцы ценили свои визиты и лечение на вес золота. Были и дети простых деревенских лекарей, они старались скрыть свою робость и старательно зубрили уроки. Были ребята из низов, наделенные природной жаждой знаний и стремящиеся во что бы то ни стало порвать со своим сословием и ремеслом родителей, но с них взыскивали особенно строго и требовали больше, чем от остальных, потому что жрецы относились подозрительно ко всякому, кто не желает довольствоваться тем, что есть.
Осторожность пошла мне на пользу, ибо вскоре я заметил, что у жрецов были свои шпионы и доносчики среди нас. Высказанные вслух сомнение или насмешка быстро доходили до сведения жрецов, виновного вызывали на допрос и наказывали. Некоторым ребятам пришлось вынести наказание палками, а были и такие, которых выгнали из храма, и двери Дома Жизни не только в Фивах, но и по всей земле Египетской закрылись перед ними навсегда. Если у них было достаточно упорства и силы, они могли где-нибудь в покоренных землях стать помощниками гарнизонных лекарей, отрезающих раненые руки и ноги, или начать новую жизнь в стране Куш или в Сирии, поскольку слава египетских врачей разошлась по всему миру. Но большинству из них суждено было покатиться вниз и остаться ничтожными писцами, если они успели к тому времени выучиться писать.
Умение писать и читать дало мне значительное преимущество перед многими, в том числе и старшими товарищами. Я считал себя уже вполне зрелым для вступления в Дом Жизни, но мое посвящение все откладывалось, и я не смел спросить, чем вызвана задержка, ибо это расценивалось как дух своеволия и непокорности Амону. Я тратил время впустую, переписывая тексты из Книги мертвых, которая продавалась у входа в храм. В душе я бунтовал, и на меня находила тоска. Уже многие бездарные товарищи мои приступили к занятиям в Доме Жизни. Но, пожалуй, я все-таки получил у отца лучшую подготовку, чем они. Впоследствии я понял, что жрецы видели меня насквозь, угадывали мою непокорность и сомнения и потому испытывали.
Моя тоска росла, сны были беспокойны, и часто по вечерам я искал уединения на берегу Нила: смотрел, как заходит солнце и вспыхивают звезды. У меня было такое чувство, словно я болен. Смех девушек на улице раздражал и злил меня. Мне хотелось чего-то неизвестного, и ядовитый мед сказок и стихов сочился мне в душу, расслабляя сердце и вызывая слезы, когда я бывал один. Отец поглядывал на меня и чему-то про себя улыбался, а Кипа начала с еще большим жаром, чем прежде, рассказывать истории о коварных женщинах, которые, пока их мужья в отъезде, зазывали красивых юношей, чтоб веселиться с ними.
Наконец мне объявили, что пришла моя очередь бодрствовать в храме. Мне предстояло, не покидая территории, неделю жить во внутренних покоях. Я должен был очиститься и поститься, и мой отец поспешил обрезать мои мальчишеские кудри, созвав соседей на пиршество, чтобы отпраздновать день моего совершеннолетия. С этого дня меня считали взрослым, поскольку я уже созрел для принятия жреческого сана, как ни мало значила эта процедура в действительности.
Кипа постаралась от души, но медовые лепешки мне казались невкусными, и веселье соседей, их грубоватые шутки и смачные остроты не развлекали меня. Вечером, после ухода гостей, мое уныние передалось также Сенмуту и Кипе. Сенмут стал рассказывать историю моего появления в их доме, Кипа помогала ему, а я разглядывал висевшую над их ложем тростниковую лодочку. Ее почерневшие, изломанные стебли заставили болезненно сжаться мое сердце. Настоящих отца и матери, думал я, у меня нет в целом мире. Я один под звездами в этом большом городе. Может быть, я лишь жалкий чужеземец в стране Кемет. Может быть, мое происхождение – постыдная тайна?
У меня была рана в сердце, когда я шел в храм, неся под мышкой чистую одежду для посвящения, которую заботливо собрала мне любящая Кипа.
2
Нас было двадцать пять – юношей и мужчин постарше, готовящихся к посвящению. После омовения в храмовом озере нас наголо обрили, и мы переоделись в грубые одежды. Жрец, который руководил нами, оказался не слишком придирчивым. По старинному обычаю он мог бы подвергнуть нас всевозможным унизительным процедурам, но среди нас были знатные юноши и уже сдавшие свой экзамен практиканты-законники, взрослые мужчины, которым надо было стать служителями Амона, чтобы обеспечить себе карьеру.
У них с собой было много всякой снеди, они напоили жреца вином, и несколько человек убежали на ночь в дома увеселений, так как посвящение было для них лишь формальностью. Я же не спал, чувствуя в сердце рану, и грустные мысли одолевали меня. Я довольствовался куском хлеба и чашкой воды, как того требовал обычай, и, полный надежд и мрачных сомнений, ждал, что произойдет.
Я был еще очень молод, и мне ужасно хотелось верить. Рассказывали, что при посвящении Амон является и говорит с каждым новоприведенным, и для меня было бы огромным облегчением, если бы я смог, забыв себя самого, постичь скрытый смысл всего сущего. Но перед врачом и фараон гол. Сопровождая отца, я еще мальчиком видел болезни и смерть, и взгляд мой стал острее, и видел я больше, чем мои сверстники. Для врача ничто не может быть слишком свято, и он не склоняется ни перед чем, кроме смерти, – так учил мой отец. Поэтому я был полон всяческих сомнений, и все, что я увидел за три года в храме, усиливало их.
Но, думал я, возможно, за занавесью, скрывающей святая святых, есть что-то, чего я не знаю. Может быть, Амон явится мне и даст покой моему сердцу.
Все это я думал, блуждая без цели по коридору храма, открытого для мирян, разглядывая красочные изображения и читая священные письмена, в которых сообщалось, какие несметные дары привозили фараоны Амону после каждой войны, отдавая богу часть добычи. Навстречу мне шла красивая женщина, одетая в тончайший лен, так что ее груди и бедра просвечивали сквозь ткань. Она была стройная, тоненькая, ее губы, щеки и брови были накрашены, и она смотрела на меня с любопытством и без смущения.
– Как твое имя, красивый юноша? – спросила она, глядя зелеными глазами на мою серую накидку, которая указывала, что я готовлюсь к посвящению.
– Синухе, – ответил я в замешательстве, не смея смотреть ей в глаза.
Но она была так красива и так непривычно пахло масло, выступившее капельками на ее лбу, что мне захотелось, чтоб она попросила меня быть ее проводником в храме. Миряне часто обращались с такой просьбой к ученикам храма.
– Синухе, – сказала она, в раздумье вглядываясь в меня. – Стало быть, ты сразу испугаешься и убежишь, если тебе поверить тайну.
Она имела в виду сказку о приключениях Синухе – этой сказкой меня дразнили еще в школе. Это задело меня, поэтому я выпрямился и взглянул ей прямо в глаза. Взор ее был так необычен, и любопытен, и ясен, что лицо мое обдало жаром.
– Чего же мне пугаться? – сказал я. – Будущий врач не боится никаких тайн.
– Ах! – произнесла она с улыбкой. – Цыпленок уже пищит, не успев вылупиться из скорлупы. Но нет ли среди твоих товарищей молодого человека по имени Метуфер? Он сын царского строителя.
Именно Метуфер поил жреца вином и подарил ему по случаю посвящения золотой браслет. Что-то меня больно кольнуло, но я сказал, что знаю такого, и предложил позвать его. Я подумал, что женщина, возможно, его сестра или родственница. При этом от души у меня отлегло, и я смело взглянул ей в глаза и улыбнулся.
– Но как же я его позову, ведь я не знаю твоего имени и не могу сказать, кто его спрашивает? – отважился я спросить.
– Он знает, – сказала женщина, нетерпеливо постукивая по каменному полу украшенной самоцветными камнями сандалией, так что я невольно посмотрел на ее маленькие ножки, которых не запятнала дорожная пыль и на которых ярко алели покрытые лаком красивые ноготки. – Он прекрасно знает, кто его спрашивает. Может быть, он мне кое-что должен. Может, мой муж в отъезде и я жду, чтобы он утешил меня в моем горе.
При мысли, что она замужняя женщина, у меня стало опять тяжело на сердце, но я смело сказал:
– Хорошо, незнакомка! Я пойду и приведу его. Я скажу, что его зовет женщина, моложе и прекраснее самой богини Луны. И он будет знать, кто ты, ибо наверняка всякий, кто хоть раз видел тебя, никогда не сможет тебя забыть.
Испугавшись своей смелости, я повернулся, чтоб уйти, но она коснулась моей руки и сказала задумчиво:
– Как ты спешишь! Погоди немного, пожалуй, нам с тобой еще есть о чем поговорить наедине.
Она опять посмотрела на меня так, что сердце растаяло в груди моей и внутри образовалась пустота. Затем она протянула руку, унизанную перстнями и браслетами, коснулась моего темени и проговорила:
– Не холодно ли голове, когда так обрили мальчишеские кудри? – И вдруг добавила нежно: – Ты правда так думаешь? Я, по-твоему, в самом деле красива? Посмотри на меня получше.
Я смотрел на нее, и ее платье было из царского льна, и она была прекрасна в глазах моих, прекраснее всех женщин, когда-либо виденных мною, да она и не пыталась скрыть свою красоту. Я смотрел на нее, забыв о ране в сердце моем, забыв об Амоне и о Доме Жизни, и ее близость обжигала меня как огонь.
– Ты не отвечаешь, – проговорила она печально. – И не надо отвечать, – видно, я, по-твоему, старая и безобразная женщина, от которой нет радости твоим красивым глазам. Что ж, иди за Метуфером – так ты избавишься от меня.
Но я не уходил и сказать ничего не мог, хотя прекрасно понимал, что она смеется надо мной. Между гигантскими колоннами храма был полумрак. Ее глаза блестели при слабом свете, струящемся сквозь далекую каменную решетку, и никто нас не видел.
– Пожалуй, тебе и не нужно ходить за ним, – сказала женщина и улыбнулась. – Пожалуй, будет довольно, если ты меня потешишь и повеселишься со мной, так как у меня нет никого, кто бы меня порадовал.
Тогда я вспомнил, что́ Кипа рассказывала о женщинах, которые зазывают красивых юношей повеселиться с ними. Это вспомнилось так внезапно, что я в ужасе попятился.
– Ну разве я не угадала, что Синухе испугается, – сказала женщина и сделала шаг ко мне.
Но я в смятении поднял руку, отстраняясь от нее, и сказал:
– Я знаю, кто ты. Твой муж уехал, твое сердце – коварная ловушка, а объятия жгут хуже огня.
Хоть я и говорил так, но был не в силах сдвинуться с места и бежать прочь.
Она смутилась немного, но затем опять улыбнулась и подошла ко мне совсем близко.
– Ты так думаешь? – сказала она тихо. – Но это же неправда. Мои объятия вовсе не жгут как огонь, напротив, они, говорят, очень приятны. Попробуй сам!
Она взяла мою безвольную руку и приложила к своей груди, и я ощутил ее прелесть сквозь тонкую ткань, и дрожь охватила меня, и щеки мои пылали.
– И все-таки ты не веришь, – проговорила она разочарованно. – Это полотно мешает, наверно, погоди, я отодвину его в сторону.
Она раздвинула свои одежды и провела моей ладонью по обнаженной груди, так что я чувствовал биение ее сердца и прохладную мягкость груди.
– Приди, Синухе! – прошептала она. – Мы выпьем вина и повеселимся вместе.
– Я не могу покинуть пределы храма, – проговорил я в отчаянии, страстно желая ее, и боясь, точно смерти, и стыдясь своей трусости. – Я должен оставаться чистым до посвящения, иначе меня выгонят из храма и никогда не допустят в Дом Жизни. О, пощади меня!
Я говорил это, зная, что пойду за нею, если она еще раз позовет меня. Но она была опытная женщина и понимала мое смятение. В раздумье она огляделась вокруг. Мы были все еще одни, но где-то поблизости ходили люди и какой-то жрец громко рассказывал группе приезжих о достопримечательностях храма, обещая за несколько медных колец показать еще новые чудеса.
– Ты очень робок, юноша! Знатные и богатые предлагали мне украшения и золото, чтобы я пригласила их повеселиться со мной. Но ты желаешь остаться чистым, Синухе.
– Ты, наверно, хочешь, чтобы я позвал Метуфера, – сказал я в отчаянии, ибо знал, что Метуфер не колеблясь удрал бы на ночь из храма, махнув рукой на все. Он мог это себе позволить, так как отец его был царским строителем, но я готов был убить его за это.
– Кажется, я уже не хочу, чтобы ты звал Метуфера, – сказала женщина, шаловливо заглядывая мне в глаза. – Кажется, я хочу, чтобы мы расстались друзьями, Синухе. Поэтому я тоже назову тебе мое имя. Меня зовут Нефернефернефер, потому что меня считают красивой, и каждый, кто произносит мое имя единожды, не может не повторить его еще и еще раз. А еще принято, чтоб друзья при расставании делали друг другу подарки на память. Поэтому я прошу тебя, подари мне что-нибудь.
Тут я вновь почувствовал свою бедность, так как мне нечего было дать ей, ни малейшего колечка, ни медяшки, хотя медных украшений я бы, разумеется, не посмел ей предложить.
– Дай же мне подарок, который оживит мое сердце, – сказала она и, приподняв пальцем мой подбородок, приблизила ко мне свое лицо, так что я слышал на губах ее дыхание.
Когда я понял, чего она хочет, я коснулся губами ее нежных, мягких губ. Она вздохнула легко и сказала:
– Спасибо, это чудный подарок, Синухе. Я его никогда не забуду. Но ты, верно, чужеземец, прибывший из дальних стран, так как целовать ты еще не умеешь. Иначе как же возможно, чтоб до сих пор тебя еще не научили этому искусству, хотя твои мальчишеские кудри уже обриты.
Она сняла с большого пальца перстень, золотой и серебряный, с большим гладким зеленым камнем, и вложила его мне в руку:
– Пусть это будет мой подарок, чтобы ты не забывал меня, Синухе. Когда ты будешь посвящен и принят в Дом Жизни, ты сможешь выгравировать на этом камне свою печать, чтобы стать вровень с богатыми и знатными. Но помни: этот камень потому такой зеленый, что меня зовут Нефернефернефер и глаза мои зелены, как Нил знойным летом.
– Я не могу взять твой перстень, Нефер, – сказал я и повторил: – Нефернефер. – И повторение имени доставило мне невыразимую радость. – Я и так никогда тебя не забуду.
– Глупенький, бери перстень, коль скоро я так хочу. Держи его ради моей прихоти, ибо он еще принесет мне когда-нибудь большие проценты. – Она погрозила мне своим изящным тоненьким пальчиком, и глаза ее лукаво смеялись. – И помни: всегда берегись женщин, чьи объятия жгут хуже огня.
Она повернулась, чтоб уйти, и не разрешила мне проводить ее. Из дверей храма я видел, как во дворе она садилась в богато украшенные носилки. Слуга, бегущий впереди, бросился с криком расчищать ей дорогу, люди расступались перед нею и останавливались и перешептывались, глядя вслед удаляющимся носилкам. А меня охватило такое чувство пустоты, словно я падал в темную бездну головой вниз.
Несколько дней спустя Метуфер увидел перстень, схватил меня за руку и смотрел, не веря глазам своим.
– О, все сорок праведных павианов Осириса! – воскликнул он. – Нефернефернефер, не так ли? Вот уж на тебя бы не подумал.
Он смотрел на меня чуть ли не с почтением, хотя жрец заставлял меня подметать полы и выполнять разную черную работу в храме, поскольку я не подносил ему подарков.
Я ненавидел Метуфера так страстно и горько, как только может ненавидеть неискушенный юноша. Как мне хотелось спросить у него что-нибудь о Нефер, но я не унизился до расспросов и скрыл тайну в сердце моем, ибо ложь слаще правды и мечта ярче земной действительности. Я вглядывался в зеленый камень на пальце, вспоминал ее глаза и прохладную грудь, и мне казалось, будто я все еще вдыхаю аромат ее масел. Я не мог оторваться от нее, ее мягкие губы всё касались моих губ и утешали меня, потому что к тому времени произошли большие события, – и вера моя рухнула.
А я все думал о ней, лицо мое пылало, и я шептал: «Сестра моя!» И слово было как ласка на устах моих, ибо от седой древности это означало и будет означать во веки веков: «Возлюбленная моя!»
3
Но я расскажу еще, как мне явился Амон.
На четвертую ночь была моя очередь охранять покой Амона. Нас было семеро: Мата, Мосе, Бек, Синуфер, Нефру, Ахмосе и я, Синухе, сын Сенмута. Мосе и Бек тоже собирались поступить в Дом Жизни, так что их я знал раньше, а остальные были мне незнакомы.
Все мы были настроены серьезно и без усмешки слушали жреца – да забудется имя его! – когда он проводил нас в закрытую дверь храма. Амон проплыл на своей золотой ладье и скрылся за горами запада, стража протрубила в серебряные трубы, и врата храма затворились. Я был слаб от поста и волнения. Жрец, который сопровождал нас, досыта поел мяса жертвенных животных, фруктов и сладких хлебцев, масло текло по его лицу, и щеки раскраснелись от вина. Посмеиваясь про себя, он поднял завесу и дал нам увидеть святая святых. В нише, вырубленной из огромной каменной глыбы, стоял Амон. Драгоценные каменья на его головном уборе и оплечье сверкали при свете священных ламп красными, зелеными и синими огнями, словно живые глаза. Нам надлежало под руководством жреца умастить его благовонными маслами и одеть в новое облачение, ибо каждое утро ему требовались новые одежды. Я уже видел его раньше, когда его выносили в золотой лодке в преддверие храма, во время весенних празднеств, и люди бросались ниц перед ним. Я видел его во время наивысшего половодья, когда он на корабле из кедра плыл по священному озеру. Но тогда я видел его лишь издалека, и его пурпурные одежды никогда не производили на меня такого ошеломляющего впечатления, как теперь, при свете ламп, в нерушимой тишине святилища. В пурпур одевались только боги, и у меня было такое чувство при взгляде на его высокий лик, словно каменные плиты навалились мне на грудь и я задыхаюсь.
– Бодрствуйте и молитесь, – сказал жрец, хватаясь за край завесы, так как нетвердо держался на ногах. – Может быть, он позовет вас, он нередко является ожидающим посвящения, призывает их по имени, говорит с ними, если они этого достойны. – Тут он отпустил занавес и быстро сделал руками священные знаки, даже не поклонившись и не коснувшись руками коленей.
Потом он ушел, и мы семеро остались одни перед святыней. От каменных плит пола тянуло холодом по нашим босым ногам. Но стоило только жрецу уйти, как Мосе вынул спрятанную под накидкой лампу, а Ахмосе преспокойно вошел в святая святых и зажег ее от священного огня Амона, так что мы оказались со светом.
– Дураки мы были бы сидеть впотьмах! – сказал Мосе, и нам стало легче, хотя, наверно, мы все немного побаивались.
Ахмосе достал хлеб и мясо, а Мата и Нефру стали играть на каменном полу в кости, сопровождая каждый бросок такими громкими выкриками, что стены гудели. Ахмосе, наевшись, завернулся в свою накидку и улегся спать, выругав сперва жесткие камни. Немного погодя Синуфер и Нефру тоже легли с ним рядом, ведь втроем было теплее.
Но я был молод и бодрствовал, хотя прекрасно знал, что жрец, получив от Метуфера кувшин вина, позвал его и двух других знатных посвящаемых в свою келью и не придет проверять нас. Мата начал рассказывать о храме львиноголовой Сехмет, где божественная дочь Амона являлась царям-полководцам и обнимала их. Этот храм находился за храмом Амона, но теперь он не был в почете. Десятки лет фараон не заглядывал туда, и трава проросла меж каменных плит в преддверии храма. Но Мата сказал, что не возражал бы провести там ночь, обнимая нагое тело богини; а Нефру подкидывал на ладони кости, зевал и ругал себя за то, что не сообразил захватить с собой вина. Затем они оба заснули, и я остался единственным бодрствующим.
Ночь была долгой, и, пока другие спали, душа моя исполнилась глубоким благоговением и верой.
Сохранив себя в чистоте и выполнив все древние требования, я мог надеяться, что Амон явится мне. Я повторял его священные имена и прислушивался к каждому шороху, но храм был пуст и холоден. Под утро завеса святилища стала колыхаться от сквозняка, но больше ничего не произошло. Когда свет начал проникать внутрь храма, я погасил лампу и, глубоко разочарованный, разбудил товарищей.
Воины затрубили в трубы, стража сменилась на стенах, и из преддверий донесся тихий шум, словно плеск воды, гонимой ветром, поэтому мы узнали, что настал день и в храме началась работа. Наконец пришел и жрец, он очень спешил, и с ним, к моему удивлению, пришел Метуфер. От них обоих несло винным перегаром. Они держались за руки, жрец размахивал ключами от божественных покоев и повторял с помощью Метуфера священные числа, прежде чем приветствовать нас.
– Посвящаемые Мата, Мосе, Бек, Синуфер, Нефру, Ахмосе и Синухе! – возгласил жрец. – Воистину ли вы бодрствовали и молились, как велено, чтобы удостоиться посвящения?
– Воистину бодрствовали и молились, – отвечали мы в один голос.
– Являлся ли вам Амон согласно обещанию? – вопрошал жрец и, рыгнув, окидывал нас блуждающим взором.
Мы переглянулись в замешательстве. Наконец Мосе нерешительно сказал:
– Он явился согласно обещанию.
Друг за другом товарищи мои твердили:
– Он явился.
И последним сказал Ахмосе, проникновенно и твердо:
– Воистину он явился!
При этом он смотрел жрецу прямо в глаза. Но я не мог вымолвить ни слова, и как будто чья-то жесткая рука сдавила мое сердце, ибо то, что они все говорили, было, по-моему, богохульством.
Метуфер нагло заявил:
– Я тоже бодрствовал и молился, чтобы удостоиться посвящения, так как не могу оставаться здесь еще на ночь, у меня есть другие дела. Мне тоже явился Амон, жрец может подтвердить, его фигура напоминала большой винный кувшин, и он высказал много премудростей, которых я не смею передавать вам, но его слова были упоительны, как вино на устах моих, так что я жаждал слышать их все больше и больше, до самого утра.
Тогда Мосе набрался смелости и сказал:
– Мне он явился в облике своего сына Хора, он сел, как сокол, мне на плечо и сказал: «Будь благословен, Мосе, да будет благословенна семья твоя, да будет благословен труд твой, а придет время – ты будешь сидеть в доме с двумя дверями и повелевать многочисленными слугами». Так он сказал.
Тут и другие посвящаемые поспешили рассказать, что им сказал Амон, и они с жаром говорили наперебой, а жрец слушал, посмеиваясь, и удовлетворенно кивал. Не знаю, рассказывали они свои сны или просто врали. Только я один стоял как сирота и молчал.
Наконец жрец обратился ко мне, насупил свои бритые брови и молвил строго:
– А ты, Синухе, ты недостоин посвящения? Неужели небесный Амон не явился тебе в каком-нибудь обличье? Не видел ли ты его хотя бы маленькой мышкой, ибо нет числа образам, в которых он может являться.
Под вопросом было мое поступление в Дом Жизни, поэтому я собрался с духом и сказал:
– Рано утром я видел, как вдруг заколыхалась священная завеса, но больше ничего не случилось, и Амон не говорил со мной.
Все прыснули со смеху, а Метуфер так развеселился, что хлопнул себя по коленям и сказал жрецу:
– Он глуп. – И, дернув жреца за рукав, запятнанный вином, он стал шептать ему что-то, косясь на меня.
Жрец опять строго поглядел на меня и сказал:
– Если ты не слышал голоса Амона, я не могу допустить тебя к посвящению. Но это дело еще поправимо, ибо я все же хочу верить, что ты честный юноша и намерения твои добрые.
Сказав это, он прошел в святилище и скрылся из виду. Метуфер подошел ко мне вплотную и, видя несчастное выражение моего лица, дружески улыбнулся и сказал:
– Не бойся.
Но в следующий миг мы все задрожали, потому что в полумраке храма вдруг раздался сверхъестественный голос, непохожий на человеческие голоса, и он доносился отовсюду, с потолка, из стен, гудел между колоннами, так что мы вертели головой из стороны в сторону, пытаясь понять, откуда исходит голос. А голос громыхал:
– Синухе, соня, где же ты? Предстань сейчас же пред лицом моим и поклонись мне, ибо мне некогда ждать тебя целый день.
Метуфер отдернул завесу, втолкнул меня в святая святых и, пригибая мою голову, заставил встать на колени и склониться до земли, как должно приветствовать богов и фараонов. Но я тут же поднял голову и увидел, что все святилище озарилось ярким светом и голос исходил из уст Амона, он возглашал:
– Синухе, Синухе, экая ты свинья! Ты что же, пьян был, что проспал, когда я звал тебя? Следовало бы в наказание окунуть тебя в грязь и кормить илом до конца дней, но по молодости твоей я тебя прощаю, хоть ты глуп, ленив и грязен, ибо я милую каждого, кто в меня верит, но других я низвергну в пропасть.
Еще много такого обрушивал на меня голос с бранью и проклятиями. Но я уже всего не помню и не хочу вспоминать – так это было унизительно и горько, потому что когда я прислушался получше, то различил в раскатах сверхъестественного голоса голос жреца, и это так потрясло и ужаснуло меня, что больше я ничего не слышал. Я все лежал перед изваянием Амона, хотя голос умолк. Потом вышел жрец и поднял меня пинком, а товарищи мои стали поспешно вносить благовонные курения и масла, косметику и пурпурные одежды.
Обязанности каждого были распределены заранее, я вспомнил, что было поручено мне, побежал за сосудом со святой водой и святыми полотенцами, чтобы умыть божественный лик, а также руки и ноги Амона. Но, возвратясь, я увидел, как жрец плевал в лицо бога и вытирал его своим грязным рукавом. Затем Мосе и Нефру накрасили ему губы, щеки и брови. Метуфер умастил его лик, а заодно мазнул святым маслом лоснящуюся рожу жреца и свою тоже. Наконец изваяние раздели, обмыли, обсушили, умастили и стали вновь обряжать. Надели на него пурпурную плиссированную юбку, повязали передником, на плечи повесили накидку и руки просунули в рукава.
Когда все это было совершено, жрец собрал использованные одежды, а также полотенца и воду для омовения и отнес в хранилище, потому что все это резалось на мелкие кусочки и ежедневно продавалось в преддверии храма богатым паломникам, а воду продавали как целебное средство для лечения экзем и сыпей. Освободившись, мы наконец вышли во двор, на солнце, и тут меня вытошнило.
Как пусто было у меня в животе, так же пусто было на сердце и в голове, ибо больше я уже не верил в богов. Но по истечении недели голову мою смазали маслом, я произнес жреческую клятву, получил свидетельство и был посвящен в жрецы Амона. Свидетельство было скреплено печатью великого храма Амона, в нем значилось мое имя, и это давало мне право вступления в Дом Жизни.
Так мы – Мосе, Бек и я – вошли в Дом Жизни. Двери его открылись для нас, и мое имя вписали в Книгу жизни, так же как до меня в нее было вписано имя моего отца Сенмута, а еще раньше – имя его отца. Но я уже не был счастлив.
4
В Доме Жизни великого храма Амона учением, как считалось, руководили царские целители – каждый по своей части. Но мы их видели редко – у них был широкий круг пользователей, они получали драгоценные подарки за лечение богатых людей и жили за городом, в больших домах. Но когда в Доме Жизни появлялся больной, чья болезнь ставила постоянных врачей в тупик и они не решались лечить ее по своему разумению, тогда приходил царский целитель этого недуга и показывал своим ученикам присущее ему искусство. Таким образом, даже самый бедный больной мог воспользоваться услугами царского врача, во славу Амона.
Ибо в Доме Жизни с больных брали плату, соответствующую их состоянию, и многие имели свидетельства от городского лекаря, удостоверяющие, что он не в силах помочь их страданиям. А самые бедные приходили прямо в Дом Жизни, и с них не брали никакой платы. Это было прекрасно и справедливо, но все же я бы не хотел оказаться бедным больным, потому что на бедняках практиковались неопытные и ученики пользовали их ради учебы, им не давали болеутоляющих лекарств, им приходилось терпеть щипцы, нож и огонь. Поэтому в передних покоях Дома Жизни, где принимали самых бедных, часто слышались вопли и стоны.
Целителю надо учиться и упражняться долгое время, даже при наличии таланта. Мы должны были пройти науку о лекарствах и знать растения, научиться собирать их в нужное время, сушить и делать настои, потому что врач должен уметь приготовить лекарство в случае необходимости. Мы роптали против этого, и я в том числе, потому что в Доме Жизни можно было получить, выписав рецепт, любые известные снадобья в готовом виде, смешанные как надо и разделенные на дозы для приема. Но впоследствии эта наука принесла мне большую пользу, о чем я еще расскажу.
Нам надо было изучить строение тела и название всех его частей, а также работу каждого органа и его значение. Надо было научиться владеть ножом и зубными щипцами, но прежде всего надо было приучить свои руки распознавать болезни человека как в полостях тела, так и сквозь кожу. Также и по глазам учились мы читать болезнь. Мы должны были уметь принять роды в таких случаях, когда повитуха уже не могла помочь. Мы должны были уметь причинить боль и унять ее при необходимости. Нас учили отличать маленькие недуги от больших, душевные страдания от телесных. Нам приходилось отсеивать правду от лжи в рассказах и жалобах, доходить до сути, умело задавая нужные вопросы.
Понятно поэтому, что чем дальше я продвигался в моем учении, тем глубже чувствовал, как мало знаю. Так, оказывается, что врач выучивается лишь тогда, когда смиренно осознает, что в действительности не знает ничего. Этого, однако, не следует говорить непосвященным, ибо самое важное, чтобы больной верил врачу и полагался на его умение. Это – основа всякого лечения, на этом все строится. Врач не имеет права ошибаться, ибо иначе он теряет свой авторитет и подрывает авторитет всех врачей. В богатых домах, куда после визита одного целителя приглашают еще двух или трех для совета в сложных случаях, собратья по профессии скорее покроют ошибку первого врача, чем станут разоблачать ее на позор всей своей касты. Поэтому-то говорят, что врачи вместе хоронят своих больных.
Но всего этого я еще не знал тогда, вступая в Дом Жизни, преисполненный почтения и веря, что найду там всю земную мудрость и доброту. Первые недели в Доме Жизни были особенно тяжелы, ибо поступивший новичок делается слугой всех остальных и даже самый последний из низших служителей стоит выше его и помыкает им. Первым делом ученик должен научиться чистоте, и нет такой грязной работы, которую его не заставляли бы исполнять, так что он болеет от отвращения, пока в конце концов не привыкнет. Но вскоре он уж и спросонья знает, что нож лишь тогда чист, когда очищен огнем, а одежда лишь тогда чиста, когда выварена в воде со щелоком.
Однако все, что относится к врачебному искусству, описано в других книгах, и я не стану больше в это вдаваться. Зато я расскажу о том, что касается меня самого, что я сам видел и о чем другие не писали.
По истечении долгого испытательного срока настал день, когда я, совершив священный обряд очищения, был одет во все белое и получил разрешение практиковать в приемном покое. Я учился рвать зубы у сильных мужчин, перевязывать раны, вскрывать нарывы и накладывать лубки на переломы. Все это было не ново для меня, и с помощью отцовской науки я успевал хорошо и вскоре стал учителем и наставником своих товарищей. Я начал получать подарки как врач и велел выгравировать свое имя на зеленом камне, который дала мне Нефернефернефер, чтобы скреплять рецепты собственной печатью.
Мне давали все более и более трудные задания и разрешили дежурить в залах, где лежали неизлечимые больные, и я мог наблюдать, как знаменитые врачи проводили лечение и делали труднейшие операции, от которых десять больных умирали, а один выживал. И я увидел, что для врачей смерть обычное дело, а для больных она часто желанный друг, так что сплошь и рядом лицо человека после смерти бывает счастливее, чем в горькие дни его жизни.
И все же я был слеп и глух, пока не пришел день прозрения, так же как в отрочестве, когда изображения, слова и буквы вдруг ожили для меня. Однажды глаза мои открылись, и я проснулся как ото сна и с радостным трепетом сердца спросил: почему? И вопрос этот был для меня крепче тростника Тота и сильнее надписей, высеченных на камне.
Это случилось так. У одной женщины не было детей, и она считала себя бесплодной, поскольку ей исполнилось уже сорок лет. Но у нее прекратились месячные, она встревожилась и пришла в Дом Жизни, опасаясь, что злой дух вошел в нее и отравил ее тело. Как велено в таких случаях, я взял зерна и посадил их в землю. Часть зерен я полил водой Нила, остальные же полил водой из тела женщины. Землю с посевом я выставил на солнце и велел женщине вернуться через несколько дней. К ее возвращению я увидел, что зерна, политые одной водой, дали малые побеги, другие же дали пышные всходы. Стало быть, оправдывалось то, что написано, и я, сам тому изумляясь, сказал женщине:
– Радуйся, жена, ибо благодатный Амон в своем милосердии благословил чрево твое и ты родишь дитя, как другие благословенные жены.
Бедная женщина заплакала от радости и дала мне в подарок серебряный браслет со своей руки, весивший два дебена, ибо она уже давно потеряла надежду. Но, едва поверив, она спросила:
– Будет ли это мальчик?
Она, по-видимому, думала, что я знаю все. Набравшись смелости, я посмотрел ей в глаза и сказал:
– Это будет мальчик.
Ибо шансы были равные, а мне в ту пору везло в игре. Женщина обрадовалась еще больше и, сняв с другой руки, дала мне второй серебряный браслет такого же веса.
Но когда она ушла, я спросил себя: как это возможно, что ячменное зерно знает то, чего ни один врач не может исследовать и узнать, пока не обнаружатся признаки беременности? Я собрался с духом и спросил учителя, почему так, но он взглянул на меня как на помешанного и сказал лишь, что так написано. Но для меня это не было ответом на вопрос. Я вновь набрался смелости и спросил у царского врачевателя в доме рожениц, почему так. Он сказал:
– Амон – царь всех богов. Его глаз видит в утробе женщины, принявшей семя. Если он позволяет зачатию совершиться, так почему бы он не позволил ячменному зерну дать пышный росток в земле, которая полита водой от тела зачавшей женщины? – Он посмотрел на меня как на глупца, но это вовсе не было ответом на мой вопрос.
Тогда глаза мои открылись, и я увидел, что врачи Дома Жизни знают лишь то, что написано в папирусах и что привычно, но ничего больше. Ибо если я спрашивал, почему мокнущую рану надо прижигать, а простую рану лечить мазью и повязками и почему плесень и паутина излечивают нагноения, мне отвечали, что так делали испокон веков. Точно так же и пользующийся целительным ножом имеет право делать только сто восемьдесят две операции, и он делает их в меру опытности и умения лучше или хуже, быстрее или медленнее, более-менее безболезненно или причиняя излишнюю боль, но ничего больше он делать не может, потому что эти операции описаны и показаны на рисунках в старинных книгах, а других раньше не делали.
Бывало, что люди худели, лица их становились белыми, но врач не мог определить у них какой-либо болезни или повреждения. Случалось, однако, что они поправлялись и выздоравливали, если им, за большую цену, давали есть сырую печень жертвенных животных. Но почему так получалось – нельзя было спрашивать. Бывало, что у людей болел живот и горело лицо. Им давали слабительные и болеутоляющие лекарства, но одни выздоравливали, а другие умирали, и врач не мог заранее сказать, кто вылечится, а у кого живот раздуется так, что он умрет. Почему же один выздоравливает, а другой умирает – никто не спрашивал и спрашивать не смел.
Вскоре я понял, что слишком много задавал вопросов, так как на меня стали смотреть косо, и пришедшие после меня оказались впереди и повелевали мною. Тогда я снял с себя белую одежду, очистился и вышел вон из Дома Жизни. И у меня было с собой два серебряных браслета общим весом в четыре дебена.
5
Но, очутившись средь бела дня за стенами храма, впервые за много лет, я широко раскрыл глаза и увидел, что за время, пока я работал и учился, Фивы переменились. Я почувствовал это, проходя по Аллее овнов и пересекая площадь, ибо во всем ощущалось беспокойство, и одежда людей стала дороже и роскошнее, так что при виде плиссированных юбок и париков уже невозможно было различить, где мужчина, где женщина. Из винных лавок и домов увеселений доносилась шумная сирийская музыка, все чаще звучала на улицах иностранная речь, и все бесцеремоннее держались среди египтян сирийцы и богатые негры. Богатству и величию Египта не было предела, уже несколько столетий враг не вступал в его города, и мужчины, когда-либо испытавшие войну, успели состариться. Но давало ли все это больше радости людям, я не знаю, ибо взгляды их беспокойно блуждали, все куда-то спешили и ждали чего-то, явно недовольные нынешним днем.
Я бродил по улицам Фив, я был одинок, и сердце мое переполняли печаль и раздражение. Я пришел домой и увидел, что отец мой Сенмут состарился, спина его сгорбилась и он уже не различает букв на папирусе. И мать моя Кипа состарилась, она с трудом ходила по комнате, тяжело дышала и говорила уже только о своей могиле. Потому что отец на свои сбережения купил для них обоих могилу в Городе мертвых на западном берегу реки. Я видел ее, это была опрятная могила, построенная из сырых кирпичей, с обычными изображениями и надписями на стенах. По сторонам и вокруг нее находились сто и тысяча таких же могил, которые жрецы Амона продавали по дорогой цене честным и бережливым людям, желающим обрести бессмертие. И я, на радость матери, переписал для них Книгу мертвых, для захоронения вместе с ними, чтобы они не сбились с пути в далеком загробном странствии. Я переписал ее чисто, без ошибок, так что получилась отличная Книга мертвых, хоть в ней и не было цветных рисунков, как в тех, что продавались на книжном дворе в храме Амона.
Моя мать подала мне еду, а отец расспрашивал об учебе, но больше нам уже нечего было сказать друг другу, и дом был мне чужой, и улица была чужая, и люди на улице чужие, поэтому сердце мое становилось все печальнее, пока я не вспомнил о храме Птаха и о Тутмесе, моем друге, который должен был стать художником. Тогда я подумал: «У меня в кармане четыре дебена серебра. Пойду-ка я проведаю моего друга Тутмеса, чтобы вместе порадоваться и повеселить себя вином, поскольку на свои вопросы я все равно никогда не получу ответа».
Я простился с родителями, сказав, что мне надо возвращаться в Дом Жизни, и, разыскав перед заходом солнца храм Птаха, узнал у привратника, как пройти в школу художников, вошел и попросил позвать ученика Тутмеса. И тогда только услышал, что его давно выгнали из школы. Ученики, руки которых были в глине, плевались, произнося его имя. Но один из них сказал:
– Если тебе нужен Тутмес, то его, скорее всего, можно найти в пивной или в доме увеселений.
Другой сказал:
– Если услышишь, что кто-то богохульствует, то знай, что Тутмес наверняка близко.
А третий сказал:
– Где драка, где расшибают лбы и сворачивают скулы, там ты найдешь своего друга Тутмеса.
Они плевали на землю передо мной, потому что я назвался другом Тутмеса, но делали это для своего учителя, и как только он отвернулся, они посоветовали мне заглянуть в винную лавку «Сирийский кувшин».
Я нашел эту лавку. Она находилась на границе между кварталом бедных и кварталом знати, и над дверью была надпись, прославляющая разные вина. Внутри стены были расписаны веселыми картинками, на которых павианы ласкали танцовщиц и козы играли на флейтах. На полу сидели художники и старательно рисовали, а какой-то старик грустно смотрел на пустую кружку, стоявшую перед ним.
– Синухе, клянусь глиняной табличкой! – воскликнул некто и, воздев в изумлении руки, поднялся мне навстречу.
Я узнал Тутмеса, хотя на нем была грязная, рваная наплечная накидка, глаза были красны, а на лбу вздулась огромная шишка. Он похудел и словно постарел, а в уголках рта появились складки, хотя он был еще молод. Но во взгляде его жила заразительная смелость и веселье. Когда он смотрел на меня, то наклонил голову так, что мы коснулись друг друга щеками, и я почувствовал, что мы по-прежнему друзья.
– Сердце мое полно печали, и все кругом суета, – сказал я. – И вот я разыскал тебя, чтобы вместе порадовать наши сердца вином, потому что никто не отвечает мне, когда я спрашиваю «почему?».
Тутмес поднял кверху свой передник, показывая, что ему нечем заплатить.
– У меня на запястьях четыре дебена серебра, – сказал я гордо.
Но Тутмес показал на мою голову, которую я держал гладко выбритой, ибо хотел, чтобы люди знали, что я жрец первой степени, а больше мне нечем было гордиться. Но теперь я пожалел, что не отрастил волосы, и с досадой сказал:
– Я врач, а не жрец. Кажется, у входа написано, что здесь подают и привозное вино. Попробуем, хорошо ли оно.
Тут я зазвенел браслетами, и хозяин быстро подбежал и опустил передо мною руки до колен.
– У меня есть в подвале вина из Сидона и Библа, сладостные, как мирра. Они в закрытых амфорах, и печати на них еще не сломаны, – сказал он. – Можно подать смешанные вина в пестрых кубках. Они пьянят, как улыбка девушки, и радуют сердце.
Он перечислял еще много вин, не переводя дыхания, так что я растерялся и вопросительно посмотрел на Тутмеса, который и заказал для нас смешанного вина; раб слил нам воды на руки и поставил на низенький столик перед нами миску жареных семян лотоса. Хозяин принес расписные чаши. Тутмес поднял свою и, пролив немного вина, воскликнул:
– Божественному лепщику! Чума возьми художественную школу и ее учителей.
И он перечислил поименно самых ненавистных.
Я тоже поднял свою чашу и пролил каплю вина на пол.
– Во имя Амона, – сказал я, – чтоб треснула его лодка, чтоб лопнули животы его жрецов, и чума забери невежественных учителей Дома Жизни.
Но я сказал это шепотом, оглядываясь по сторонам, чтобы посторонние не услышали моих слов.
– Не бойся, – молвил Тутмес. – В этом кабаке столько раз били Амоновых наушников, что им надоело подслушивать. Попавшие сюда все равно конченые люди. Я не смог бы теперь заработать даже на хлеб и пиво, если б не додумался рисовать сказки с картинками для детей богатых.
Он показал мне свиток с картинками, которые рисовал до моего прихода, и я не мог удержаться от смеха, потому что там была нарисована крепость, которую оборонял от нашествия мышей трясущийся в страхе кот. И еще он нарисовал бегемота, поющего на верхушке дерева, и голубя, с трудом взбирающегося на дерево по приставной лестнице.
Тутмес поглядывал на меня, усмехаясь своими карими глазами. Он продолжал крутить свиток, и мне стало уже не до смеха, потому что на следующей картинке маленький лысый жрец вел великого фараона в храм – на веревке, как жертвенное животное. Еще он показал мне картинку, на которой маленький фараон кланялся статуе Амона. Я вопросительно взглянул на него, а он кивнул и сказал:
– А разве не так? И родители тоже смеются над моими нелепыми картинками. И впрямь ведь смешно, что мышь нападает на кошку, а жрец ведет фараона. Лишь более догадливых это наводит на разные мысли. Но я надеюсь, что мне хватит хлеба и пива, пока жрецы не пошлют своих стражников исколотить меня палками до смерти где-нибудь в темном переулке. Такое уже бывало.
И мы снова пили вино, но на сердце у меня не стало легче.
– Неужели нельзя спросить «почему?», – проговорил я.
– Конечно нельзя, – ответил Тутмес. – У человека, который дерзнет спрашивать «почему?», не будет ни дома, ни крова, ни пристанища на земле Кемет. Ты ведь знаешь: все должно оставаться неизменным. Я трепетал от радости и гордости, когда меня приняли в художественную школу. Ты помнишь, Синухе? Я был словно жаждущий, припавший к источнику, словно голодный, дорвавшийся до хлеба, и узнал много полезного: я научился держать в руке перо и кисть, работать резцом, лепить модель из воска; прежде чем взяться за камень, я узнал, как камень шлифуют, как соединяют разноцветные камни и как расписывают алебастр. Но когда во мне родилось страстное желание облечь свои грезы в зримые формы, передо мной встала стена и мне пришлось месить глину для других. Ибо превыше всего в искусстве, как и в начертании букв, стоит шаблон, и тот, кто от него отступит, будет проклят. Испокон веков установлено, как художник должен работать, как изображать стоящего человека и как сидящего, и кто отступает от этого, тот не допускается в храмы, у него отнимают камень и резец. О Синухе, друг мой, и я спрашивал «почему?». Слишком много раз спрашивал «почему?», оттого и сижу я здесь с шишками на голове.
Мы пили вино, и на сердце у меня становилось легче, как будто нарыв в нем вскрыли, потому что теперь я был уже не один. И Тутмес сказал:
– Синухе, друг мой, мы родились в неудачное время. Все движется и изменяет форму, как глина на гончарном круге. Меняется одежда, слова и обычаи, и люди больше не верят в богов, хотя еще боятся их. Синухе, друг мой, может быть, мы родились перед концом света, потому что мир уже стар, ведь тысяча и две тысячи лет прошло с тех пор, как построены пирамиды. Когда я думаю об этом, мне хочется опустить голову на руки и плакать как дитя.
Но он не плакал, потому что мы пили смешанное вино из расписных чаш, и хозяин «Сирийского кувшина» все подливал нам, кланяясь каждый раз и опуская руки до колен. Сердце мое стало легким, стремительным, как ласточка у небесного порога, и мне хотелось громко читать стихи и обнимать весь мир.
– Пойдем в дом увеселений, – сказал Тутмес со смехом. – Послушаем музыку, посмотрим на танцующих девушек, порадуем свои сердца, чтобы не спрашивать больше «почему?» и не требовать свою чашу сполна.
Я дал хозяину один браслет в уплату и попросил обращаться с ним осторожно, так как он еще влажен от мочи беременной женщины. Эта мысль очень развеселила меня, и хозяин тоже смеялся от души и дал мне сдачу – целую кучу клейменого серебра, так что я смог немного дать и рабу. Он поклонился до земли, а хозяин проводил нас и просил меня не забывать «Сирийский кувшин». Он сказал также, что знает многих молодых девиц веселого нрава, которые охотно познакомятся со мной, если я приду к ним с кувшином вина из его лавки. Но Тутмес сказал, что с этими сирийскими девицами спал еще его дедушка, так что их скорее можно назвать бабушками, чем сестрами. На такой шутливый лад настроило нас вино.
Мы шли по улицам, солнце давно уже село, и я по-новому увидел Фивы, этот город, где ночь превращали в день. Перед увеселительными заведениями пылали факелы и на каждом столбе горели на столбах светильники. Рабы бежали с носилками, крики впереди бегущих смешивались с долетающей из домов музыкой и пьяными голосами. Из винной лавки страны Куш раздавался оглушительный грохот; мы заглянули туда и увидели негров, колотивших руками и палками по барабанам. С ними состязалась примитивная сирийская музыка, она с непривычки резала слух, но своим навязчивым ритмом распаляла кровь.
Я еще никогда не заходил в дом увеселений и поэтому немного побаивался, но Тутмес привел меня в заведение под названием «Кошка и виноград». Это был маленький опрятный домик, устланный мягкими коврами и освещенный красивым желтым светом; там играли флейты и цитры; молодые и, по-моему, очень красивые девушки отбивали такт своими выкрашенными в красный цвет ладошками. Когда кончилась музыка, они подсели к нам и попросили угостить их вином, так как у них горлышки пересохли, точно солома. Музыка заиграла снова, и две обнаженные танцовщицы исполнили сложный, требующий большого умения танец, за которым я наблюдал с большим интересом. Как врач, я привык видеть обнаженные тела молодых женщин, но у тех груди не вздрагивали и животы и бедра не двигались так соблазнительно, как здесь, у этих.
Однако музыка опять навеяла на меня грусть, и я затосковал сам не знаю о чем. Красивая девушка взяла мою руку, прижалась ко мне плечом и сказала, что у меня глаза мудреца. Все же глаза ее не были зелеными, как Нил в разгаре лета, и одета она была не в царский лен, хотя грудь ее оставалась открытой. Поэтому я пил вино и не смотрел девушке в глаза, мне совсем не хотелось называть ее сестрой и просить повеселиться со мной. Так что последнее, что мне оставила память об этом доме, был злобный пинок здоровенного негра ногой в зад и разбитый от падения с крыльца лоб. Случилось именно то, что предсказывала Кипа. Я лежал на улице без единой медяшки в кармане, в разорванной накидке и с огромной шишкой на голове, пока Тутмес не поднял меня и не отвел на пристань, где я смог умыться и утолить жажду водой Нила.
В то утро я возвратился в Дом Жизни весь разбитый, с гудящей от похмелья головой и с ноющей шишкой на лбу, в разодранной грязной накидке и без малейшего желания спрашивать «почему?». У меня было дежурство в отделении ушных болезней и глухоты, так что я быстро очистился, надел белое врачебное платье и отправился туда. Но мой учитель и наставник встретил меня в коридоре, взглянул мне в лицо и обрушил на меня поток упреков, о которых я давно читал в книгах и знал наизусть.
– Что выйдет из тебя, – восклицал он, – когда ты шляешься по ночам и пьешь вино, не зная меры? Что выйдет из тебя, если ты проводишь время в домах увеселений и колотишь палкой по горшкам, пугая людей? Что выйдет из тебя, если ты ввязываешься в уличные драки и удираешь от стражи?
Но, исполнив таким образом свой долг, он усмехнулся и вздохнул с облегчением, отвел меня в комнату и дал выпить лекарство, предназначенное для очищения желудка. Я почувствовал себя лучше и понял, что вино и даже дома увеселений не возбраняются, лишь бы только я перестал спрашивать «почему?».
6
Так я распалил жаром Фив свою кровь и стал любить ночь больше дня, колеблющееся пламя факелов – больше солнечного света, сирийскую музыку – больше жалобных стонов больных, шепот красивых девушек – больше старинных папирусов. Но никто не сказал мне худого слова, поскольку я выполнял свои обязанности в Доме Жизни, выдерживал все экзамены и не терял твердость руки. Все это считалось нормальным в жизни посвященных, и редко кто из учеников имел средства, чтобы обзавестись своим домом, жениться до окончания учебы. Поэтому учителя дали мне понять, что лучше пообтесать себе рога, облегчить свою плоть и дать сердцу отраду. Но я еще не касался женщин, хотя и воображал, будто знаю, что их объятия жгут как огонь.
Время было тревожное, великий фараон хворал. Я видел иссохшее лицо правителя, когда его, украшенного золотом и драгоценными камнями, неподвижного, как изваяние бога, и склонившего голову под тяжестью двойной короны, внесли в храм во время осеннего празднества. Он болел, и снадобья царских врачевателей уже не могли исцелить его. Ходили слухи, что время его миновало и скоро наследник сменит его на троне фараонов. Но престолонаследник был еще юноша, как я.
В храме Амона совершались жертвоприношения, но Амон был бессилен помочь своему божественному сыну, хотя Аменхотеп III построил величайший храм, каких не было во все времена. Говорили даже, что фараон разгневался на египетских богов и послал гонца в Нахарину, к своему тестю, царю митаннийскому, с просьбой прислать чудотворную Иштар Ниневийскую, чтобы она исцелила его. Но это было таким посрамлением Амона, что в храме и в Доме Жизни говорилось об этом лишь шепотом.
Статуя Иштар прибыла в Фивы, и я увидел, как бородатые жрецы в плотных шерстяных балахонах несли ее через весь город, обливаясь по́том, под звуки медных труб и дробь маленьких барабанов. Но чужеземные боги не смогли помочь фараону, к радости жрецов Амона, и, когда начался разлив реки, во дворец вызвали царского трепанатора.
Пока я был в Доме Жизни, я ни разу не видел Птахора, поскольку вскрытия черепа делались редко и мне за время учебы еще не доводилось присутствовать при специальных операциях. Теперь Птахора спешно принесли в Дом Жизни из его загородного дома. Он сразу направился в особую комнату для очищения, и я постарался быть поближе к нему. Он был все такой же лысый, на лице у него прибавилось морщин, а щеки печально свисали по обе стороны недовольного старческого рта. Он узнал меня, улыбнулся и сказал: «Это ты, Синухе? Ты уже делаешь успехи, сын Сенмута?» Он подал мне ларец черного дерева, в котором хранил свои инструменты, и велел сопровождать его. Я, конечно, не заслужил такой чести, которой мог бы позавидовать любой царский врачеватель, и постарался оправдать доверие.
– Я должен проверить твердость руки, – сказал Птахор. – Вскроем сначала здесь два-три черепа и посмотрим, как пойдет дело.
У него слезились глаза и немного дрожали руки. Мы прошли в палату, где лежали неизлечимые больные, парализованные, с травмами головы. Птахор осмотрел нескольких человек и выбрал одного старика, для которого смерть была избавлением, и могучего раба, который потерял дар речи и не мог шевелить ни рукой, ни ногой после того, как в уличной драке ему разбили камнем голову. Им дали дурманящее питье, отнесли в операционную и очистили. Свои инструменты Птахор сам вымыл и очистил огнем.
Моей задачей было обрить головы больных с помощью тончайшей бритвы. Потом гладко выбритую поверхность головы очистили и вымыли еще раз, кожу натерли обезболивающей мазью, и Птахор приступил к своему делу. Сначала он разрезал кожу на голове старика и отвернул ее в обе стороны, не обращая внимания на обильное кровотечение. Затем он ловко просверлил оголенную кость полым сверлом и вынул отделившийся кусочек. Старик начал задыхаться, и лицо его посинело.
– Я не вижу в его голове никакого изъяна, – сказал Птахор, вставил на место выпиленный кусочек, несколькими стежками зашил кожу и забинтовал голову, после чего старик испустил дух. – Мои руки немного дрожат, – сказал Птахор. – Принесли бы мне чашечку вина, кто здесь помоложе.
За операцией наблюдали несколько учителей Дома Жизни и целая группа учеников, готовящихся в трепанаторы. Выпив вина, Птахор перешел к рабу, который был привязан в сидячем положении и свирепо вращал глазами, несмотря на наркотическое питье. Птахор велел привязать его еще крепче, а голову притянуть к подставке, которую не смог бы пошатнуть и великан. Птахор вскрыл кожу на его голове и на этот раз постарался избежать крови. Сосуды по краям разреза прижигали и кровотечение останавливали с помощью лекарства. Этим занимались другие врачи, так как Птахор не хотел утомлять свои руки. Правда, в Доме Жизни был и специальный служитель, неученый человек, который одним своим присутствием останавливал кровотечение за несколько секунд, но Птахор хотел сделать показательную операцию и при этом берег силы для фараона.
Очистив поверхность черепа, Птахор показал всем место, где кость была вдавлена внутрь. Пользуясь сверлом, пилой и щипцами, он вырезал кусок черепной коробки величиной с ладонь, и все смогли увидеть, что между белыми складками мозга образовался сгусток вытекшей крови. Чрезвычайно осторожно, по капельке, он удалил всю кровь и вынул из мозга осколочек кости. Операция длилась очень долго, каждый ученик успел присмотреться к работе трепанатора и запомнить, как выглядит живой мозг. Потом Птахор закрыл отверстие очищенной в огне серебряной пластинкой, которую тем временем изготовили точно по форме вырезанной из черепа кости, и закрепил ее маленькими кнопками. Зашив кожный покров и наложив повязку, он сказал: «Разбудите его». Ибо больной давно уже потерял сознание.
Раба отвязали от кресла, влили ему в горло вина и поднесли к носу резко пахнущее снадобье. Не прошло и минуты, как он вдруг сел и выругался. Это было просто чудо, и я бы не поверил, если бы не видел сам, ведь до операции этот человек не мог ни говорить, ни шевелиться. Однако на сей раз мне не надо было спрашивать почему, поскольку Птахор сам объяснил, что вдавленная кость и кровоизлияние на поверхности мозга вызвали эти видимые симптомы.
– Если он не помрет в течение трех дней, значит выздоровеет, – сказал Птахор, – и через две недели будет уже в силах поколотить того, кто проломил ему череп. Я думаю, он не умрет.
Затем он тепло поблагодарил всех, кто помогал ему, упомянули и меня, хотя я всего лишь подавал инструменты по его знаку. Но я и не подозревал, с какой целью он поручил мне эту роль, ибо, передав мне эбеновый ларец, он выбрал меня своим помощником во дворец фараона. Ведь я подавал ему инструменты при двух операциях и таким образом стал знатоком более полезным при трепанации черепа, чем царские врачи. Но я не понимал этого и потому совершенно растерялся, когда он сказал:
– Пожалуй, теперь мы сможем взяться за царственный череп. Ты готов, Синухе?
Так я, в моей простой накидке, уселся рядом с Птахором в царские носилки. Униматель крови пристроился на оглобле; рабы фараона помчали нас к пристани и бежали так ровно, что носилки совсем не качались. У причала уже ждал царский корабль, на котором были отборные гребцы, и, когда они заработали веслами, корабль словно полетел по воде. С царской пристани нас так же быстро понесли в Золотой дворец, и я не удивился этой спешке, ибо по улицам Фив маршировали солдаты, ворота были закрыты и купцы переносили свои товары на склады, запирая двери и оконные ставни. Все это говорило мне, что великий фараон должен вскоре умереть.
Свиток третий. Фиванская горячка
1
Огромная толпа собралась у стен Золотого дворца: тут были и знатные, и низкородные, и даже у запретного берега теснились деревянные барки богатых и тростниковые лодчонки бедняков. Когда мы приблизились, по толпе пронесся ропот, подобный шуму далекого водопада; из уст в уста передавалось известие о том, что прибыл царский трепанатор. Тогда люди горестно воздевали руки к небу, плач и стенания, предшествуя нам, неслись во дворец, ибо все знали, что после операции ни один фараон не прожил и трех дней.
От лилейных ворот нас доставили в царские покои, знатные придворные кланялись нам до земли, ибо мы несли смерть. Для очищения была временно оборудована комната. Обменявшись несколькими словами с личным врачом фараона, Птахор поднял руки в знак скорби и равнодушно прошел церемонию очищения. Через анфиладу чудесных царских покоев священный огонь пронесли следом за нами в царскую спальню.
Под золотым балдахином лежал великий фараон. По углам ложа, которое поддерживали львы, стояли охраняющие его боги. Фараон лежал без сознания, лишенный всех знаков власти; распухшее немощное тело его было обнажено, старческая голова на дряблой шее свесилась набок, слышался тяжелый хрип, и с уголка бессильного рта, пузырясь, стекала слюна. Теперь я не отличил бы его от старика, который умирал в приемной Дома Жизни: о, как бренна и тени подобна земная власть и слава!
Лишь на настенных росписях все еще мчали его в царственной колеснице украшенные султанами кони, его могучая рука натягивала лук и львы, пронзенные стрелами, умирали под его ногами. Стены спальни сверкали пурпуром, золотом и лазурью, на полу плавали рыбы, дикие утки взлетали на шумных крыльях, а стебли тростника гнулись от ветра.
Мы склонились до земли перед умирающим фараоном, и каждый, кто видел смерть, знал, что все искусство Птахора напрасно. Но во все времена череп фараона вскрывали, прибегая к этому как к последнему средству, следовательно, и на сей раз это должно было совершиться, и мы принялись за дело. Я раскрыл эбеновый ларец, еще раз очистил огнем все ножи, сверла и щипцы и подал Птахору священный кремневый нож. Личный врач уже выбрил голову и темя умирающего, очистил поверхность кожи, и Птахор велел унимателю крови сесть на постель и крепко держать голову фараона.
Тогда Божественная супруга фараона Тейе подошла к ложу. До сих пор она стояла в стороне, воздев руки в знак печали, неподвижная, как изваяние богини. Позади нее стояли молодой престолонаследник Аменхотеп и его сестра Бакетамон, но я не смел поднять глаза, чтобы взглянуть на них. Теперь же, когда возникло замешательство, я узнал их по изображениям, находившимся в храме. Престолонаследник был моих лет, но выше меня ростом. Он высоко держал голову, выставив длинный подбородок и плотно зажмурив глаза. Члены его были болезненно тонки, веки и щеки вздрагивали. У принцессы Бакетамон было красивое, благородное лицо и удлиненные миндалевидные глаза. Ее губы и щеки были накрашены и платье было из царского льна, так что тело ее просвечивало сквозь него, как тела богинь. Но значительнее их обоих была Божественная супруга Тейе, хотя и маленького роста, и старчески располневшая. У нее была очень темная кожа и широкие, выдающиеся скулы. Говорили, что она происходит из простой крестьянской семьи и в ней есть негритянская кровь, но по этому поводу я ничего не скажу, поскольку слышал это от других. Знаю только, что ее родители не имели титулов. У нее были умные глаза, взгляд бесстрашный и острый, и осанка выражала властность. Стоило ей сделать движение рукой и взглянуть на унимателя крови, и он, казалось, превратился в пыль под ее широкими смуглыми ногами. Понятно, ведь это был низкородный погонщик быков, не умевший ни писать, ни читать. Он стоял согнувшись, опустив бессильно руки, разинув рот, и лицо его выражало тупое упрямство. Никакого таланта или ума в нем не было, но была способность останавливать кровотечение только своим присутствием – способность, ради которой его оторвали от плуга и быков и сделали платным служителем в храме. Несмотря на все очистительные процедуры, вокруг него всегда витал неистребимый запах навоза, и он сам не мог объяснить, в чем, собственно, состоит его способность и откуда она взялась. Тут не было умения, не было даже тренированной воли. Это просто было в нем, как драгоценный камень может оказаться в куче щебня, и этой способности нельзя приобрести ни учением, ни какими-либо упражнениями.
– Я не позволю, чтобы он коснулся божества, – сказала Тейе. – Я подержу голову бога, если так нужно.
Птахор пытался возражать и сказал, что операция будет кровавой и неприятной. Но Божественная супруга фараона села на край ложа и, бережно приподняв голову умирающего мужа, прижала к своей груди, не обращая внимания на капавшую ей на руки слюну.
– Он мой, – сказала царица, – и пусть никто другой не прикасается к нему. Пусть из моих объятий он перейдет в Страну смерти.
– Да вступит он, бог, в ладью Солнца, отца своего, и да плывет прямо в Страну блаженных, – сказал Птахор и разрезал кремневым ножом скальп царя. – От Солнца рожденный, да возвратится он к Солнцу, и да прославят имя его все народы во веки веков. О Сет и все злые духи, что же там медлит униматель крови?
Он умышленно говорил всякую всячину, не имеющую значения, – это могло бы отвлечь мысли Божественной супруги от самой операции; так опытный врач всегда разговаривает с больным, причиняя ему боль. Но в конце концов он прикрикнул на унимателя крови (который стоял, прислонясь к дверной притолоке, и сонно щурил глаза), потому что кровь начала потихоньку течь из головы фараона и полилась на грудь царицы, отчего та содрогнулась и лицо ее сделалось изжелта-серым. Униматель крови спохватился, оторвавшись от своих мыслей. Возможно, он задумался о своих быках и оросительных канавах. Но теперь он вспомнил, зачем его сюда позвали, подошел ближе и, медленно поднимая руки, устремил взгляд на фараона. Кровотечение тотчас прекратилось, и я промыл и очистил рану.
– Простите, моя госпожа, – сказал Птахор и взял из моих рук сверло. – Конечно же, он отправится к Солнцу, прямо к отцу своему, в золотой ладье, да благословит его Амон!
Говоря так, он быстрыми, искусными движениями вращал сверло между ладонями, так что оно с хрустом врезалось в кость. Но тут вдруг престолонаследник раскрыл глаза, шагнул вперед и проговорил:
– Не Амон, а Ра-Хорахти, являющийся в виде Атона, благословит его.
Я поднял руки в знак почтения, хотя и не знал, о чем он говорит, ибо кто же может знать весь сонм богов Египта? Уж во всяком случае не посвященный жрец Амона, уставший ломать голову над его святыми троицами и девятицами.
– Ну да, Атон, совершенно верно, – бормотал Птахор примирительно. – Конечно же Атон. Как это я оговорился? – Он снова взял кремневый нож и молоток с рукояткой черного дерева и, легонько постукивая, начал отделять кость. – В самом деле, я ведь помню, что он в божественной мудрости своей построил храм Атону. Кажется, это было вскоре после рождения принца, не так ли, прекрасная Тейе? Ну вот, теперь уже осталось совсем немного, еще минуточку… – Он беспокойно поглядывал на наследника, который стоял возле ложа со стиснутыми кулаками и судорожно подергивающимся лицом. – По правде говоря, сейчас неплохо выпить немножко вина, это укрепит мою руку, да и принцу тоже было бы не вредно. А в завершение такого дела, право, стоило бы распечатать царский кувшин. Оп!
Тут я подал ему щипцы, и он ловко выхватил надпиленный кусочек кости, только хруст раздался.
– Посвети-ка, Синухе.
Птахор вздохнул, так как главное было позади. Я тоже вздохнул, инстинктивно, и то же чувство облегчения как будто передалось лежавшему в беспамятстве фараону, члены его шевельнулись и обмякли, дыхание замедлилось, он погрузился в еще более глубокое забытье. При ярком свете Птахор внимательно разглядывал мозг фараона, открывшийся глазам в отверстии черепной коробки. Мозговое вещество было синевато-серое и вздрагивало.
– Гм… – произнес Птахор в раздумье. – Мы свое дело сделали. Пусть его Атон позаботится об остальном, ибо это уже во власти богов, а не людей.
Легко и осторожно он положил выпиленный кусочек кости на прежнее место, замазал щель клеем, натянул обратно отвернутую кожу и наложил повязку. Божественная супруга фараона опустила голову на резную подставку из дорогого дерева и подняла глаза на Птахора. Кровь запеклась на ее одежде, но она не обращала на это внимания. Птахор спокойно встретил ее бесстрашный взгляд и, не кланяясь, твердо сказал:
– Он доживет до рассвета, если его бог позволит.
Затем он поднял руки в знак печали, и я сделал то же. Но когда Птахор поднял руки, чтобы выразить сочувствие, я уже не посмел следовать его примеру, ибо кто же я такой, чтобы жалеть царственных особ. Очистив в огне инструменты, я уложил их на место в эбеновый ящик Птахора.
– Тебе будут вручены большие дары, – сказала Божественная супруга фараона и жестом разрешила нам удалиться.
Для нас был накрыт стол в одном из царских залов, и при виде кувшинов с вином, выстроенных вдоль стены, Птахор повеселел. Он внимательно прочел надписи на печатях и велел откупорить один кувшин. Рабы полили нам воды на руки. Я спросил, как Птахор осмелился столь непочтительно разговаривать с царственной супругой и наследником?
– Правда, фараон и при жизни бог, – сказал Птахор и осклабился, отчего стал еще более похож на старого павиана. – Правда, в его честь возводят храмы, ему приносят жертвы в самых отдаленных уголках земли, но, как врач, ты видел, что фараон лишь человек, смертный и нам подобный. И царица всего лишь человек, со всеми свойствами женщины. Мои речи не более чем жужжание мухи в ушах царствующих, и, если бы я жужжал, как жужжат все прочие мухи вокруг них, они не приклонили бы ко мне свое ухо. А так они говорят: Птахор странный, но честный человек. Простим ему его чудачества ради его старости и добрых намерений. И они помнят меня, приглашают и награждают богатыми дарами. Запомни и ты, если хочешь, чтобы владыка услышал твои слова, говори с ним не так, как другие, обращайся к нему как к себе подобному. Тогда он либо услышит твои слова, либо тебя прогонят палками, но и в том и в другом случае он тебя запомнит. А это великое дело.
Птахор выпил вина и оживился. Униматель крови, позабыв сонливую угрюмость, пихал в рот медовое мясо и приговаривал:
– Тут уж мы не в глиняной халупе.
Он тоже пил вино, пил, словно это простое пиво, так что вскоре глаза его заблестели, а лицо стало красным. Он все повторял:
– Нет, это уж не то что в глиняной халупе, нет, брат!
Слуга слил воду ему на руки, и он плескался так, что брызги летели по всей земле. Птахор добродушно поглядел на него и посоветовал сходить посмотреть царские конюшни, коль скоро представилась такая возможность, потому что покинуть пределы дворца нам нельзя будет до тех пор, пока фараон не испустит дух или не выздоровеет. Такой был обычай. И если фараон умрет, то нас казнят.
Униматель крови впал в уныние. Но потом все же нашел утешение в мысли, что, во всяком случае, умрет не в глиняной хижине, и отправился осматривать фараоновы конюшни. Слуге, который пошел проводить его, Птахор сказал, что лучше всего уложить его спать в конюшне, чтобы он почувствовал себя как дома.
Когда мы остались вдвоем, я решился спросить Птахора об Атоне, так как я в самом деле не знал, что Аменхотеп III построил в Фивах храм, посвященный этому богу. Птахор рассказал, что Ра-Хорахти был родовым богом Аменхотепов, потому что величайший из великих царей Тутмос I видел сон в пустыне возле Сфинкса: этот бог явился и предсказал, что он будет увенчан короной обоих Египтов, хотя в то время у Тутмоса не было, по-видимому, никакой возможности добиться власти – слишком много было других наследников. Действительно, Птахор сам в дни своей юности совершил поездку к пирамидам, и собственными глазами видел храм между лапами Сфинкса, построенный в честь этого события, и в храме видел роспись, в которой фараон рассказывал о своем видении. С тех пор царский род чтил Ра-Хорахти, бога, который жил в Гелиополе, в Низовье, и являлся в виде Атона. Этот Атон был очень древний бог, древнее Амона, но пребывал в забвении до тех пор, пока Тейе, Божественная супруга фараона, не родила сына после поездки в Гелиополь, где она молилась Атону. В честь рождения наследника в Фивах построили храм Атона, хотя его, собственно, никто не посещал, кроме членов царской семьи. Атона представлял там бык, несущий на рогах солнце, и еще там был изображен Хор в виде сокола.
– Согласно этому, наследник престола является божественным сыном Атона, – сказал Птахор и выпил вина. – Ведь царственная супруга получила знамение в храме Ра-Хорахти и вслед за тем родила сына. Еще она привезла оттуда одного весьма властолюбивого жреца, к которому очень привязалась. Его имя Эйе. И он устроил свою жену кормилицей престолонаследника. У него есть дочь по имени Нефертити, вскормленная той же грудью, что и наследник престола, она выросла во дворце вместе с принцем как его сестра. Так что можешь себе представить, что тут будет. – Птахор выпил еще вина и глубоко вздохнул. – Ах, нет старику ничего милее, чем пить вино и болтать о делах, которые его не касаются. О сын мой, Синухе, знал бы ты, как много тайн скрыто за лбом старого трепанатора, и, возможно, там кроются и высочайшие царские тайны. Многие дивятся, почему в женских покоях дворца мальчики никогда не рождаются живыми, ибо это противоречит всем законам медицины. И он, который теперь лежит с продырявленным черепом, отнюдь не плевал в кубки, когда был силен и радовался жизни. Он был великий охотник и на своем веку сразил тысячу львов и пятьсот диких буйволов, а вот скольких юных девушек сразил он на своем ложе под сенью царственного балдахина, вряд ли смог бы сосчитать даже смотритель гарема. Но сын у него лишь один – от царственной Тейе.
Мне стало не по себе от выпитого вина, и я вздыхал, глядя на зеленый камень своего перстня. Но Птахор продолжал беспощадно:
– Свою супругу он нашел во время одной из охотничьих поездок. Говорят, что Тейе занималась ловлей птиц в камышах Нила, но царь возвысил ее за мудрость, окружил почетом ее бедных родителей, а их могилы наполнил самыми драгоценными дарами. И Тейе ничего не имела против его развлечений, коль скоро женщины гарема не рожали мальчиков. Тут ей благоволило самое поразительное счастье, в это невозможно поверить, но все происходило именно так. Однако если он, который лежит на одре, держал в руке своей изогнутый жезл и бич, то его Божественная супруга придерживала эту руку. Когда фараон из государственных соображений женился на дочери митаннийского царя, чтобы на веки веков покончить с войнами в Нахарине – стране, где реки текут кверху, – Тейе сумела уверить его, что у принцессы козье копыто в том месте, к которому стремится желание мужчины, и что от нее пахнет козой. Так, по крайней мере, рассказывали, и эта принцесса впоследствии сошла с ума.
Птахор покосился на меня, огляделся кругом и поспешно проговорил:
– Но ты, Синухе, никогда не верь подобным россказням, ибо это сплетни злоречивых людей, все же знают доброту и мудрость Божественной супруги фараона, известно и ее умение отыскивать и собирать вокруг себя и вокруг трона способных, талантливых людей. Это правда.
Птахор вылил капельку вина из своей чаши на пол и благочестиво поднял глаза к потолку. Потом оглянулся по сторонам и вдруг прыснул со смеху.
– Здравствуй, носитель мушиной хлопушки! – воскликнул он. – Ты ли это? Ну, садись и выпей немножко со мною. Мы ведь целую вечность не встречались.
Я вскочил и поклонился до земли, потому что нас почтил своим присутствием сам носитель символов царской власти и хранитель царской печати. Он пришел один, и его старческое лицо было искажено горем, слезы текли по щекам – это были искренние слезы печали, ибо он плакал и о фараоне, и о самом себе. На меня он даже не взглянул, так как вельможа не должен замечать низших, они словно воздух вокруг него: таков обычай. Он сел, выронив из рук жезл и бич, вздохнул и сказал сердито:
– За чудачество тебе многое прощается, трепанатор, но и тебе не подобает смеяться в доме печали и стенаний. – И он вопросительно посмотрел на Птахора.
– До утра, – молвил Птахор. – Но коль скоро мы тут не в глиняной хижине, как сказал некогда один мудрый человек, то следовало бы и тебе выпить с нами чашу вина, ибо вино прилично пить и в горе и в радости. Но почему ты один и бродишь как тень, друг мой? Почему слуги и вельможи не кишат вокруг тебя, как мухи у медового пирога?
Хранитель печати утер слезы и грустно улыбнулся.
– Власть как тростинка в руках людей, – сказал он. – Тростинка сломается, но умная птица вовремя перепорхнет и устроится на кончике другого стебля. Поэтому я, пожалуй, выпью с тобой, Птахор, хоть это не в моих обычаях. Ибо ты прав, вино лечит печальное сердце.
– Неужели так скоро? – спросил Птахор.
Хранитель печати развел руками, выражая свое бессилие.
– Меня не пустили даже к одру умирающего господина моего, – проговорил он. – Клянусь Амоном, неблагодарность – вот плата за все. Великая царица взяла себе печать фараона, и стража слушает лишь ее приказы. При ней неотлучно ложный жрец, а наследник престола смотрит на все как теленок, которого ведут на веревочке куда захотят.
– Кстати, о жрецах, – сказал Птахор, наливая вино хранителю печати, потому что все слуги исчезли, как только он появился. – Я сейчас рассказывал моему другу Синухе, как в юности однажды побывал у пирамид и, подобно другим путникам, выцарапал свое имя на лапе Большого сфинкса, чтобы увековечить себя таким образом.
Хранитель печати посмотрел из вежливости в мою сторону, но не увидел меня.
– Тьфу, Атон, – буркнул он презрительно и тут же благочестиво сложил руки в знак Амона. – Владыка уже много лет не заглядывал в храм Атона, уж и петли ворот заржавели. Ведь позвал же он чужеземного бога, чтоб исцелил его. Это тоже была прихоть. – Он опять взглянул на меня и теперь, наверно, увидел, так как поспешил добавить: – Богам позволительны их прихоти, ибо прихотлива сама природа богов.
– И все же наследник престола говорит об Атоне, – заметил Птахор.
– Наследник престола! – бросил хранитель печати с презрением. – Наследник престола – больной безумец! Попомните мое слово: не успеет фараон отбыть в Дом Смерти, как царица привяжет себе бороду, опояшется львиным хвостом, наденет царский головной убор и сядет вершить суд. Разумеется, ее подстрекает жрец. Но вы тоже можете передать, что царица должна заключить союз с Амоном, если она собирается править Египтом. – Он выпил вина, и его глаза оттаяли и увлажнились. – Воистину боги прихотливы. Амону я приносил жертву за жертвой, его верховного жреца почитал как отца родного, как верховный строитель я заполнил его храмами всю землю Египетскую, но разве что Сет со всеми его злыми духами благодарит меня за это. – Он выпил вина и заплакал. – Я только старый пес, – всхлипывал он, – старый пес, старый, облезлый пес. О, я был скамеечкой под ногами моего царя, и он ласково втаптывал мою голову в пыль перед собою. – Он выпил вина, бросил золотую плеть на пол и стал рвать на себе дорогую одежду. – Суета сует, – сказал он, – но у меня есть могила, дорого обставленная, и этого они не могут у меня отнять. Моего вечного покоя и места по правую руку от моего царя они не могут у меня отнять, хоть я только старый, облезлый пес. – Он опустил голову на руки и горько заплакал.
Птахор стал гладить его по голове, чтобы успокоить, привычно ощупывая бугры черепа.
– У тебя любопытная голова, – сказал он. – Из любви к искусству я мог бы вскрыть ее бесплатно.
Хранитель печати выдернул голову из его рук и поднял к нему испуганное лицо. Птахор сделал вид, что неверно понял его, и сказал заискивая:
– Правда, совершенно бесплатно, не требуя никаких подарков, потому что у тебя интересный череп.
Хранитель печати резко встал, держась за край стола, вне себя от бешенства, но Птахор держал его руку и упорно продолжал уговаривать:
– Это минутное дело. У меня легкая рука. И ты завтра же сможешь последовать за своим господином в Страну Заката.
– Ты издеваешься, – сказал хранитель печати. Он снова стал важным и поднял с пола свой бич. – Ты не веришь в Амона, – сказал он и наклонился немного, чтоб опереться на стол. – Это дурно, очень дурно, но я прощаю тебя за твое чудачество, поскольку теперь я лишен карающей власти.
Он удалился, волоча в левой руке бич и изогнутый жезл, и его спина выражала усталость и печаль. Как только он ушел, к нам опять вернулись слуги. Они слили нам воды на руки и умастили дорогими маслами.
– Веди меня, Синухе, ибо я уже стар и ноги мои слабы, – сказал Птахор.
Я вывел его на свежий воздух. Ночь упала на землю, и на востоке алым заревом раскинулись отсветы фиванских огней.
Выпитое вино кружило голову, цветы благоухали в саду, и звезды дрожали в небе, и я вновь ощутил в крови жгучий жар Фив.
– Птахор, я жажду любви, когда в ночном небе полыхает зарево фиванских огней.
– Любви не существует, – решительно возразил Птахор. – Мужчина тоскует, если у него нет женщины, чтоб спать с ней. Но когда он ложится с женщиной и спит с ней, он начинает тосковать еще больше. Так было, и так будет всегда.
– Почему? – спросил я.
– Этого не знают даже боги, – сказал Птахор. – И не говори мне о любви, или я просверлю тебе череп. Я сделаю это бесплатно, не требуя никаких подарков, ибо тем самым избавлю тебя от многих страданий.
Тогда я решил исполнить обязанности раба, взял Птахора в охапку и отнес в отведенную нам комнату. Он был такой маленький и старый, что я даже не задохнулся, пока нес его. Я опустил его на ложе, укрыл мягкими шкурами, так как ночь была холодна, и он, тщетно пытаясь найти рядом с собой кувшин вина, вскоре заснул. Я снова вышел в сад, на цветущую террасу, потому что был молод, а молодому не спится в ночь смерти царя.
Издали, словно шум ветра в камышах, доносились негромкие голоса людей, собравшихся провести ночь у стен дворца.
2
Алое зарево фиванских огней окрасило восточный небосклон, в воздухе струились ароматы цветов, я сидел на террасе, тоскуя о глазах, зеленых, словно Нил под жгучими лучами солнца, когда вдруг услышал чьи-то шаги.
Я не мог разглядеть, кто ко мне приближается – мужчина или женщина, ибо месяц, плывущий по небу, был еще молод, а звезды сияли тускло. Кто-то подошел и заглянул мне в лицо. Я шевельнулся и услышал по-детски звонкий, но властный голос:
– Это ты, Одинокий?
По голосу и очертаниям хрупкой фигуры я узнал в говорящем наследника и, не смея вымолвить ни слова, упал перед ним ниц. А он досадливо пнул меня ногой и сказал:
– К чему эти глупости? Нас же никто не видит, зачем ты мне кланяешься? Сбереги свои поклоны для моего создателя, ибо он единственный бог, а все остальные – только разные лики его. Тебе это известно? – Не ожидая ответа, он с минуту подумал и продолжал: – Все остальные, кроме Амона. Амон – это ложный бог.
Я в ужасе всплеснул руками и, желая показать, как меня страшат такие речи, охнул.
– Перестань! – сказал он. – Я видел, как ты стоял рядом с моим отцом и подавал Птахору нож и молоток. Я назвал тебя Одиноким. А Птахора моя мать прозвала Старым Павианом. Если вам предстоит умереть, вы получите эти имена прежде, чем покинете дворец. Но твое имя придумал я.
Слыша от него такие речи, я решил, что он и в самом деле болен и безумен, но вспомнил, что Птахор тоже говорил, будто нас ожидает смерть, если умрет фараон, и униматель крови поверил этому. Волосы на моей голове зашевелились, и я предостерегающе поднял руку, ибо не хотел этого слышать.
Наследник лихорадочно дышал, стоя рядом со мной, руки его двигались, он что-то бормотал.
– Меня терзает беспокойство. Мне хочется уйти. Я знаю, мне явится мой бог, и страшусь этого. Побудь со мной, Одинокий. Бог своей мощью согнет мое тело, и языку моему станет больно, когда я увижу его.
Я содрогнулся и подумал, что он, несомненно, болен и бредит. Но он бросил повелительно:
– Иди!
И я последовал за ним.
Мы спустились с террасы, прошли мимо царского озера, и из-за каменных дворцовых стен до наших ушей, словно рокот моря, донесся сдержанный говор опечаленного народа. Мы миновали конюшни и собачьи будки и, не остановленные стражей, вышли из ворот, которыми пользовались слуги. Птахор предупредил меня, что до самой смерти фараона нам не положено покидать дворцовые владения, поэтому мне стало страшно, но я не мог противиться наследнику.
Тело юноши в одной лишь набедренной повязке было напряжено, он шел быстрым, скользящим шагом, я едва поспевал за ним. Месяц освещал его бледную кожу, тонкие ноги и широкие, словно у женщины, бедра. Я видел его торчащие уши и измученное страстью лицо. Казалось, он видит что-то недоступное другим. Когда мы дошли до берега, он сказал:
– Возьмем лодку. Я должен идти на восток, навстречу своему богу.
Он сел в первую попавшуюся тростниковую лодку, я последовал за ним, и мы принялись грести поперек течения. Хотя мы совершили кражу, нас никто не остановил. Ночь была беспокойная, по реке сновали лодки, небо перед нами все ярче окрашивалось отблеском фиванских огней. Достигнув другого берега, наследник, не оглядываясь, пошел вперед, словно уже не раз проделывал этот путь. Полный страха, я двинулся за ним. Несмотря на поздний час, многие горожане были на ногах, и стражи не окликнули нас, ибо Фивы уже знали, что фараон умрет этой ночью.
Поспешая за наследником, я изумлялся выносливости его слабого тела и тому, как он изнуряет себя. Хотя ночь была очень холодна, даже у меня по спине струился пот. Положение звезд изменилось, месяц уже склонялся к горизонту, а наследник все продолжал путь. Фивы остались позади, из долины мы поднялись в нетронутую пустыню и увидели на фоне неба три черные горы – хранительницы Фив. Я раздумывал, где и как достать носилки, чтобы вернуться, потому что знал: ему уже не хватит сил на обратный путь.
Наконец, тяжело дыша, он опустился на песок и сказал испуганно:
– Держи меня, Синухе, ибо руки мои дрожат и сердце колотится. Минута близка, мир пуст, и нет в нем никого, кроме тебя и меня. Хотя ты не можешь сопровождать меня туда, куда я иду, я все-таки не хочу оставаться один.
Я взял его за руки и почувствовал, как содрогается все его тело, а кожа покрыта холодным потом. Мир вокруг нас был пуст, где-то вдали, предвещая смерть, завыл шакал. Звезды медленно бледнели, воздух стал мертвенно-серым.
Вдруг юноша вырвал свои руки из моих, встал и поднял лицо к горам, навстречу восходу.
– Бог приближается, – сказал он тихо, его искаженное лицо благоговейно разгладилось. – Бог приближается! – повторил он громче и, обращаясь к пустыне, воскликнул: – Бог приближается!
Тут все вокруг нас вдруг озарилось, горы вспыхнули золотом – солнце встало. Тогда он пронзительно вскрикнул, рухнул на землю и потерял сознание. Тело его конвульсивно подергивалось, губы кривились, ноги судорожно взметали песок. Подобный вопль я уже не раз слышал во дворе Дома Жизни и поэтому не испугался, хорошо зная, что в этих случаях следует делать.
У меня не было деревянного брусочка, чтобы втиснуть его между зубами наследника, но я оторвал кусок от своей набедренной повязки, сложил его в несколько раз, просунул ему в рот и принялся растирать мышцы. Я знал, что, очнувшись, он почувствует себя разбитым, и оглядывался в поисках помощи, но Фивы остались далеко позади, а вокруг не было никакого жилья.
В эту минуту мимо меня с криком пролетел сокол. Он выпорхнул прямо из пылающих лучей солнца и сделал круг высоко над нами. Потом снова опустился и, казалось, собрался сесть на лоб наследника. Я так растерялся, что невольно сделал священный знак Амона. Может быть, принц, возвещая о боге, имел в виду Хора и бог явился нам в облике сокола? Наследник застонал, я склонился над ним. Подняв голову, я увидел, что сокол принял обличье человека. Передо мной в лучах восходящего солнца стоял красивый богоподобный юноша. В руках он держал копье и был облачен в одежду, какую носят бедняки. Хотя я и не принял его за бога, я все-таки упал перед ним ниц.
– Что случилось? – спросил он на диалекте Нижнего Египта, указывая на наследника. – Этот юноша болен?
Мне стало стыдно, и я поднялся на колени, приветствуя его как обычного человека.
– Если ты грабитель, – сказал я, – многим ты от нас не поживишься, но со мной больной мальчик, и боги, надеюсь, вознаградят тебя, если ты нам поможешь.
Он издал соколиный клик, откуда-то с высоты на его плечо, словно камень, упал сокол. Я вновь подумал, что надо поостеречься: вдруг это все-таки бог, пусть даже из самых малых. Поэтому я заговорил с ним почтительно и вежливо спросил, кто он, откуда и куда держит путь.
– Я сын сокола Хоремхеб, – сказал он горделиво. – Мои родители всего лишь сыровары, но в день, когда я появился на свет, мне было предсказано, что я стану великим. Сокол летел, указывая мне путь, и я оказался здесь, так как не нашел ночлега в городе. Едва только спускается ночь, фиванцы пугаются человека с копьем. Но я хочу наняться в войска к фараону, ибо рассказывают, что фараон болен и, наверно, нуждается в крепких руках для защиты своего могущества.
Тело его было сильным, как у молодого льва, глаза бросали взгляды, острые, как разящие стрелы. Я с завистью подумал, что найдется немало женщин, которые скажут ему: «Красивый юноша, не хочешь ли ты развлечь меня в моем одиночестве?»
Тут раздался жалобный стон наследника, он попытался ощупать свое лицо, ноги его задергались. Я вынул у него изо рта тряпку и пожалел, что нет воды, которая освежила бы его. Хоремхеб посмотрел на него с холодным любопытством и спросил:
– Он что, умирает?
– Нет, – отвечал я раздраженно. – Он болен священной болезнью.
Хоремхеб взглянул на меня и сжал копье.
– Ты не смеешь презирать меня, хотя я беден и хожу пешком, – сказал он. – Я сносно пишу и читаю, я стану повелителем! Так что за бог вселился в него?
В народе считается, что устами припадочного говорит бог, – поэтому он и задал такой вопрос.
– У него свой, особый бог, – ответил я. – Я думаю, что он немного безумен. Когда он придет в себя, ты, надеюсь, поможешь мне отнести его в город. Там мы найдем носилки, в которых я доставлю его домой.
– Ему холодно, – сказал Хоремхеб, сбросил с себя плащ и накинул его на наследника. – Утра в Фивах холодные, а меня греет собственная кровь. К тому же я знаю многих богов и мог бы назвать тебе немало таких, которые были ко мне благосклонны. Но сам я поклоняюсь Хору. Этот мальчик, наверное, из богатой семьи – его кожа бела и нежна, а руки не знали труда. Но кто ты?
Он говорил много и быстро, и в горячности его слов угадывались мытарства, которые пришлось перенести сыну бедняка, проделавшему длинный путь в Фивы и испытавшему на этом пути враждебность и унижения.
– Я врачеватель, – сказал я ему. – Кроме того, мне присвоен сан младшего жреца в фиванском храме Амона.
– Ты, наверно, привел его в пустыню, чтоб вылечить, – решил Хоремхеб. – Но тебе следовало одеть его потеплее. Только не думай, – добавил он вежливо, – что я хочу выразить сомнение в твоем искусстве целителя.
Холодный красный песок искрился под лучами восходящего солнца, наконечник копья Хоремхеба пылал огнем, и сокол, крича, кружил вокруг его головы. Наследник сел, зубы его стучали, он слабо стонал и растерянно оглядывался.
– Я его видел, – сказал он. – Мгновение длилось как столетие, у меня не было возраста, а он простер над моей головой тысячу благословляющих рук, и в каждой руке был знак бессмертия. Как же мне после этого не верить?
– Надеюсь, ты не поранил язык? – спросил я озабоченно. – Я пытался уберечь тебя от этого, но у меня не было деревяшки.
Однако голос мой для него был подобен жужжанию мухи. Посмотрев на Хоремхеба, он улыбнулся в замешательстве, взгляд его прояснился, и он стал красив.
– Тебя послал Атон, Единственный? – спросил он неуверенно.
– Сокол летел передо мной, и я следовал за своим соколом. Поэтому я здесь. Остальное мне неведомо.
Но наследник увидел в его руках копье и нахмурился.
– У тебя копье, – сказал он укоризненно.
Хоремхеб потряс копьем.
– Его ствол из прямого дерева, – сказал он. – А выкованный из меди наконечник жаждет испить крови врагов фараона. Мое копье страдает от жажды, его зовут Смертоносным.
– Не надо крови, – покачал головой наследник. – Кровь ужасает Атона. Нет ничего страшнее текущей крови.
Хотя я видел, что наследник крепко зажмурил глаза, когда Птахор вскрывал череп фараона, я тогда еще не знал, что принц – один из тех людей, которые так страдают при виде крови, что теряют сознание.
– Кровь очищает народы и делает их сильнее, – сказал Хоремхеб. – Боги здоровеют от крови. Пока на земле будут войны, кровь должна литься.
– Войн никогда больше не будет, – возразил наследник.
– Парень не в своем уме, – усмехнулся Хоремхеб. – Войны всегда были и будут, народы должны мериться силами, чтобы выжить.
– Все народы – его дети, как все языки и цвета кожи, как Черная земля и Красная земля, – сказал наследник, глядя на солнце. – Я построю в его честь храмы во всех странах, разошлю символы жизни владыкам всех земель, ибо я видел его, им рожден и к нему возвращаюсь.
– Он сумасшедший, – решил Хоремхеб, обращаясь ко мне, и сочувственно покачал головой. – Теперь я понимаю, что ему нужен целитель.
– Ему только что явился его бог, – сказал я серьезно, предостерегая Хоремхеба, потому что он мне уже полюбился. – Священная болезнь позволила ему узреть бога, и мы не вправе судить, что он ему поведал. Каждый познает бога по своей вере.
– Я верю в мое копье и в моего сокола, – сказал Хоремхеб.
Но наследник воздел руки, приветствуя солнце, и его лицо снова стало вдохновенным, словно он видел иной мир, а не тот, который лежал перед нами.
Дав ему время помолиться, мы повели его в город, и он не сопротивлялся. Припадок так измучил его, что, еле переставляя ноги, он стонал и пошатывался. Под конец пути мы несли его на скрещенных руках, и сокол летел перед нами.
Достигнув края засеянного поля, куда доходили оросительные каналы, мы увидели ожидающие нас царские носилки. Носильщики сидели на земле, а навстречу нам поднялся рослый человек с бритой головой и мрачно-красивым темным лицом. Я опустил перед ним руки к коленям, ибо догадался, что это жрец Эйе из храма Ра-Хорахти, о котором мне рассказывал Птахор. Но он не обратил на меня внимания. Он бросился на землю перед наследником и приветствовал в нем властителя. Так я понял, что фараон Аменхотеп III скончался. После этого рабы устремились помогать новому фараону. Его омыли, растерли члены, умастили благовониями, облачили в царский лен и надели на голову царский убор.
Пока это происходило, Эйе спрашивал меня:
– Встретил ли он своего бога, Синухе?
– Он встретил его, – ответил я. – Но я оберегал его, чтобы с ним не случилось ничего плохого. Откуда тебе известно мое имя?
Он улыбнулся и ответил:
– До тех пор пока не пробьет мой час, моя обязанность – знать все, что происходит во дворце. Я знаю твое имя и знаю, что ты врачеватель. Поэтому я был спокоен, что ты о нем позаботишься. Я знаю также, что ты жрец Амона и принес ему клятву. – Это он сказал с подчеркнутой угрозой, но я раскинул руки и спросил:
– Какое это имеет значение?
– Ты поступил правильно, – успокоил он меня, – и не должен об этом жалеть. Знай только, что он становится беспокоен, когда бог приближается к нему. Ничто не может его тогда удержать, и он не позволяет слугам за ним следовать. Но вы всю ночь были вне опасности, и ничто вам не угрожало. Носилки, как видишь, ожидают его. А этот копьеносец? – Он указал на Хоремхеба, который с соколом на плече стоял в сторонке, сжимая свое копье. – Может быть, было бы лучше, чтобы он умер, ибо тайны фараонов не предназначены чужим глазам.
– Он накрыл фараона своим плащом, когда стало холодно, – сказал я. – Он готов направить свое копье на врагов фараона. Я думаю, жрец Эйе, что живой он будет для тебя полезнее, чем мертвый.
Тогда Эйе небрежно бросил ему золотой браслет со своего запястья и сказал:
– Разрешаю тебе прийти в Золотой дворец приветствовать меня, копьеносец.
Но Хоремхеб дал золотому браслету упасть в песок у своих ног и гневно посмотрел на Эйе:
– Я подчиняюсь лишь приказу фараона. Если не ошибаюсь – это он сидит тут в царственном уборе. Сокол привел меня к нему, и этого знаменья мне довольно.
Эйе не рассердился.
– Золото дорого, оно всегда пригодится, – сказал он, наклонился, поднял браслет и снова надел его на запястье. – Поклонись же своему фараону, но, чтобы следовать за ним, копье тебе придется оставить.
Наследник подошел к нам. Он был бледен и утомлен, но его лицо, к моей радости, пылало воодушевлением.
– Следуйте за мной! – сказал он. – Следуйте все за мной по новому пути, ибо мне открылась истина.
Мы пошли за ним к носилкам, хотя Хоремхеб ворчал про себя:
– Истина – в копье.
Но он согласился передать свое копье стражнику, бегущему впереди, и, когда носилки двинулись, мы сели на ручки.
Носильщики пустились бегом, возле пристани наготове стояла лодка, и мы как уходили из дворца, так и вернулись в него, не привлекая ничьего внимания, хотя народ толпился вокруг дворцовых стен.
Мы вошли в покои наследника, он показал нам большие критские кувшины, поверхность которых была расписана словно живыми рыбами и зверями. Мне хотелось, чтобы их увидел Тутмес, ведь они свидетельствовали о том, что искусство может быть не только таким, как египетское. Усталый, но уже успокоенный, юный фараон говорил совершенно разумно и держался с нами как простой ровесник, не требуя преувеличенной почтительности или знаков преклонения. Потом нам объявили, что Божественная царица-мать идет склонить колени перед новым фараоном, и он попрощался с нами, пообещав, что не забудет о нас. Выйдя, Хоремхеб растерянно посмотрел на меня.
– Я обеспокоен, – сказал он. – Мне некуда идти.
– Оставайся здесь, – посоветовал я. – Он обещал помнить о тебе, поэтому лучше быть поблизости, боги забывчивы.
– Зачем мне оставаться среди этих мух, – проворчал Хоремхеб, указывая на придворных, которые, жужжа, сновали возле дверей, ведущих в покои наследника. – Нет, у меня серьезная причина для беспокойства, – продолжал он мрачно. – Что станет с Египтом, если фараон страшится крови и считает, что все народы, языки и цвета кожи равны? Я родился воином, разум воина говорит мне, что для войска это предвещает беды. Я, во всяком случае, пойду за своим копьем. Оно осталось у впередибегущего.
Мы расстались, я сказал ему, что, если ему понадобится друг, он может поискать меня в Доме Жизни.
Птахор, недовольный, с воспаленными глазами, ожидал меня в нашей комнате.
– Тебя не было на рассвете дня при последнем вздохе фараона, – сказал он с упреком. – Тебя не было, а я спал, так что ни один из нас не увидел, как душа фараона птицей вылетела из его носа и взмыла к солнцу, чему было множество свидетелей. Я тоже с удовольствием посмотрел бы на это, потому что очень люблю подобные чудеса, но никто не разбудил меня. С какой девицей ты проспал эту ночь?
Я рассказал ему, что произошло, и он воздел руки в изумлении.
– Да хранит нас Амон! – произнес он. – Значит, новый фараон безумен.
– Не думаю, – возразил я, ибо сердце мое расположилось к юноше, которого я оберегал и который был со мною приветлив. – Он посвятил себя новому богу. Когда он сам разберется в своих чувствах, в стране Кемет, наверное, произойдут чудеса.
– Да сохранит от этого нас Амон! – с ужасом воскликнул Птахор. – Лучше налей мне вина, моя глотка суха, как дорожная пыль.
Слуга привел из конюшни унимателя крови, который захлебываясь рассказывал, что лошади фараона пьют из медных корыт, а их стойла украшены росписями и цветными каменьями.
– Но быков я не видел, – сказал он печально. – Боюсь, что у фараона вообще нет быков. Зато я видел много удивительных снов, пока спал на соломе. Я видел, как Синухе ведет на заклание белого коня, и видел свою покойную мать, будто она, живая, в Стране Заката хлопочет по хозяйству на кухне.
– Этот сон легко объяснить, – усмехнулся Птахор. – Белая лошадь – ты, а твоя мать готовит тебе праздничный ужин, чтобы встретить тебя в чертогах смерти, ибо, если я не очень ошибаюсь, скоро нам, всем троим, предстоит умереть.
Униматель крови смирился с этой мыслью.
– Я думаю, что в Стране Заката есть большие красивые быки, – решил он, – ведь пока моя мать говорила со мной и предостерегала меня, чтобы я не пачкал одежду, я услышал раздававшееся где-то поблизости мычание стада. Но от этих звуков я проснулся и почувствовал, как урчит у меня в животе и как намокла моя набедренная повязка. Это из-за вина. Я ведь не привык пить вино.
Он говорил еще много всяческих глупостей, пока нас не отвели в Дом Правосудия, где старый хранитель печати сидел в кресле, а перед ним лежали сорок кожаных свитков, на которых были начертаны законы. Нас окружили вооруженные стражники так, чтобы мы не смогли убежать, и хранитель печати, развернув свитки, прочитал законы, по которым нам предстояло умереть, так как фараон не пришел в себя после вскрытия черепа. Я смотрел на Птахора, но он только улыбнулся, когда появился палач с мечом.
– Пусть начнут с унимателя крови, – сказал Птахор. – Он спешит больше нас, его мать в Стране Заката уже варит ему гороховую кашу.
Униматель крови дружески попрощался с нами, совершил ритуальные знаки в честь Амона и покорно встал на колени перед кожаными свитками. Палач поднял меч, взмахнул им над головой осужденного, так что в воздухе раздался свист, но вдруг задержал удар, и кончик меча только слегка коснулся шеи унимателя крови. Однако тот все-таки упал, и мы подумали, что он потерял сознание от страха, ибо на шее его не появилось ни малейшей ранки.
Когда подошла моя очередь, я без страха опустился на колени, палач улыбнулся мне и, не желая меня пугать, только чуть притронулся мечом к моей шее. Птахор счел себя таким низкорослым, что даже не встал на колени. Палач взмахнул мечом и над его шеей.
Так мы умерли, приговор был исполнен, а нам дали новые имена, вырезанные на тяжелых золотых браслетах. На браслете Птахора значилось: «Тот, который похож на павиана», а на моем: «Тот, который одинок». После этого Птахору отмерили в золоте его врачебное вознаграждение. Меня тоже одарили золотом, нас облачили в новые одежды, и я впервые в жизни обрядился в складчатую юбку из царского льна и тяжелый воротник, украшенный серебром и драгоценными каменьями.
Слуги хотели поднять с земли унимателя крови, чтобы привести его в чувство, но он был мертв словно камень. Я это видел собственными глазами и могу подтвердить, что все так и было. Почему он умер – этого мне не понять, разве только потому, что верил в смертный приговор. Несмотря на глупость, он обладал способностью останавливать кровь, а такой человек не похож на других.
В дни всенародного траура по фараону весть о странной смерти унимателя крови широко распространилась, и те, кто об этом прослышал, не могли сдержать оглушительного смеха. Они хлопали себя руками по коленям и хохотали, потому что этот случай был и в самом деле очень потешным.
Меня тоже сочли официально умершим, и после этого я не мог подписать ни одного документа, не прибавив к имени Синухе слова «Тот, который одинок». Во дворце меня уже никто не называл прежним именем.
3
Когда я, в новом одеянии и с золотыми браслетами на запястьях, вернулся в Дом Жизни, мои учителя поклонились мне, опустив руки к коленям. Но я все-таки был лишь учеником, и мне предстояло написать точный, с подробностями, отчет о трепанации черепа и смерти фараона, скрепив его своей подписью. Я потратил на это изложение много времени и закончил его описанием того, как душа вылетела из носа фараона в образе птицы и взмыла прямо к солнцу. У меня настойчиво спрашивали, не пришел ли фараон в сознание перед кончиной и не выдохнул ли: «Да будет благословен Амон!», как утверждали многие другие свидетели. Напрягши память, я решил подтвердить и это показание, и мне приятно было слышать, как в преддверии храмов мое сообщение ежедневно читалось народу в течение тех семидесяти дней, пока тело фараона готовили в Доме Смерти к вечной жизни. Во время этого траура все дома увеселений, кабаки и пивные в Фивах были закрыты, так что купить вина и послушать музыку можно было, только войдя в них с черного хода.
Но по прошествии семидесяти дней мне объявили, что я признан закончившим учебу врачевателем и могу начинать лечение больных в любой части города. Если же я захочу продолжить свое обучение в какой-нибудь отдельной области медицины, стать, например, зубным или ушным целителем, родовспомогателем, костоправом, мастером врачующего ножа либо избрать любую другую из четырнадцати специальностей, которым обучают в Доме Жизни лучшие врачи, то мне достаточно только сказать, какая наука мне больше по душе. Это свидетельствовало об особой милости и доказывало щедрость Амона к своим служителям.
Я был молод, наука Дома Жизни больше не привлекала меня. Я заразился угаром Фив, хотел стать богатым и знаменитым и воспользоваться временем, пока людям еще знакомо имя Синухе, Того, который одинок. У меня имелось золото, я купил себе небольшой дом возле богатого квартала города, обставил его соответственно своим средствам и купил раба, который, правда, был худ и одноглаз, но пригоден для исполнения своих обязанностей. Его звали Каптах, и он утверждал, что его одноглазость послужит моей выгоде, так как он станет рассказывать ожидающим своей очереди больным, что я купил его совсем незрячего, но вылечил ему один глаз.
Я велел разрисовать стены приемной, где должны были дожидаться больные. На одной стене мудрый Имхотеп, бог врачевания, обучал меня – Синухе. Я стоял перед ним – крошечный, как и положено, но под картиной была подпись: «Самый умный и способный из моих учеников – Синухе, сын Сенмута, Тот, который одинок». На другой я приносил жертвы Амону, чтобы воздать положенное ему и чтобы мне доверяли больные. А на третьей великий фараон в облике птицы глядел на меня с неба и его слуги отмеряли мне золото и облачали меня в новые одежды.
Эти фрески я заказал Тутмесу, хотя он не считался официальным художником и имя его не было вписано в книгу храма Птаха. Но он был моим другом и сделал росписи необычайно мастерски, по старинному обычаю. Применив пурпур и охру, которые стоят недорого, он добился того, что люди, увидевшие эти изображения, всплескивали руками от изумления и говорили: «Поистине Синухе, сын Сенмута, Тот, который одинок, внушает доверие и искусно врачует своих больных».
Когда все было готово, я стал ждать больных и увечных, чтобы лечить их. Я сидел и ждал долго, но больные не приходили. С наступлением вечера я отправился в кабачок и усладил сердце свое вином, так как у меня еще оставалось немного золота и серебра от фараоновых щедрот. Я был молод, считал себя искусным врачевателем, и будущее меня не страшило. Поэтому я вкушал вино вместе с Тутмесом и вел с ним громкую беседу о делах обоих царств, ибо в эти дни все люди на рынках, перед лавочками торговцев, в кабачках и домах увеселений только об этом и говорили.
Случилось то, что и предсказывал хранитель печати. Когда тело старого фараона было подготовлено для вечной жизни и доставлено в усыпальницу заповедной Долины царей, а двери усыпальницы запечатаны царской печатью, на трон поднялась Божественная царица-мать, держа в руках жезл и бич. На подбородке у нее, как подобает фараону, висела борода, а стан опоясывал львиный хвост. Наследник не был еще коронован, и народу объявили, что он хочет очиститься и помолиться богам, прежде чем вступит в управление страной.
Но когда Божественная царица-мать изгнала старого хранителя печати и возвысила безвестного жреца Эйе, поставив его по правую от себя руку, так что он поднялся выше всех знатных людей Египта, сел в Доме Правосудия перед сорока кожаными свитками законов и начал повелевать сборщиками податей и царскими строителями, тогда весь храм Амона зажужжал, словно улей, повсюду стали появляться недобрые предзнаменования, и боги перестали принимать царские жертвоприношения. Людям снились странные сны, по-разному толкуемые жрецами. Ветры меняли направление вопреки всем законам природы, так что в Египте два дня подряд шел дождь, и товары, хранящиеся на складах у пристани, вымокли и испортились, а груды зерна сгнили. Некоторые озера в окрестностях Фив наполнились кровью вместо воды, и целые толпы ходили на них смотреть. Но люди еще не боялись всего этого, поскольку такое уже не раз случалось, когда жрецы начинали гневаться.
В эту пору было много волнений и пустых разговоров, но порядок в стране сохранялся, потому что наемники фараона – египтяне, сирийцы, негры и сарданы, жившие в казармах, – получали от царицы-матери щедрые подарки, а офицерам бросали с дворцового балкона золотые цепочки и ордена. И ничто не угрожало могуществу Египта – в Сирии за порядком следили гарнизоны; Библом, Симирой, Сидоном и Газой управляли наместники, которые были воспитаны в Золотом дворце, провели свое детство у ног фараона и оплакивали его кончину, словно утрату собственного отца, а царице-матери писали послания, в которых называли себя пылью под ее ногами.
Но в земле Куш, на нубийской границе, после смерти фараона все время шли войны – негры словно хотели испытать долготерпение нового правителя. Поэтому наместник страны Куш – Божественный повелитель южных провинций, едва прослышав о кончине фараона, двинул на них свои отряды, перешел границу, сжег много селений и вернулся с добычей: скотом, рабами, львиными хвостами и страусовыми перьями. Дороги в землю Куш снова стали безопасны, и все разбойные племена принялись громко оплакивать смерть фараона, увидев, как их предводители висят на пограничных укреплениях вниз головой.
На островах тоже печалились и оплакивали смерть фараона. И царь Вавилона, и царь хеттов, расстроенные его кончиной, слали царице-матери глиняные дощечки и просили золота, дабы поставить в своих храмах изображения фараона, поскольку он был для них словно отец и брат.
Но царь страны Митанни, именуемой также Нахариной, послал свою дочь в жены будущему фараону, как это сделал до него его отец и как было условлено с богоравным фараоном еще до его смерти. Тадухипа – так звали принцессу – прибыла в Фивы со слугами, рабами и ослами, которые везли на себе много добра. Ей едва исполнилось шесть лет, и наследник взял ее в жены, ибо Митанни была стеной между богатой Сирией и северными странами и охраняла караванные пути из Двуречья до самого моря. Таким образом, жрецы храма небесной дочери Амона, львиноголовой Сехмет, утратили радость, и петли в воротах этого храма заржавели.
Обо всем этом Тутмес и я говорили громко, услаждая сердца вином, слушая сирийскую музыку и глядя на танцующих девушек.
В моей крови горел пламень Фив, и каждое утро одноглазый слуга подходил к моей постели, склонялся передо мной, опустив руки к коленям, подавал мне хлеб с соленой рыбой и наполнял мою чашу пивом. Я приводил себя в порядок, садился ожидать больных, принимал их, выслушивал их сетования и лечил.
Но я отнюдь не разбогател, потому что больные приходили ко мне редко, а те, кто приходил, были бедны, так что лучше было помочь им сразу, не расходуя на них дорогие лекарства, которые никогда не приносят вреда. Я удалял зубы, делал перевязки и прижигал раны, облегчал желудочные боли и сбивал жар. Ко мне являлись также женщины, которые просили излечить их от бесплодия, дерзко смотрели мне в глаза и скидывали с себя одежды. Но я советовал им идти в храм Амона и просить совета у жрецов. Спрятав лица, прибегали ко мне матери и просили спасти их дочерей, которые понесли от моряков или чужеземных воинов, однако я не мог им помочь, потому что они не были достаточно богаты, чтобы возместить мои потери, если бы имя мое было стерто из списков Дома Жизни и я был бы изгнан из Фив. Для женщин же, которые просили вернуть им прежнюю красоту, я готовил безвредные бальзамы. А женщинам, сетующим на леность и холодность мужей, давал лечебные ягоды, которые они могли тайком растворять в вине, подаваемом мужьям, и они часто возвращались ко мне с дарами, какие были им по средствам. Но случалось, что иные из них являлись жаловаться, что мужья их воспылали к другим женщинам. Тут я был бессилен помочь, ибо врачеватель может возбудить желание, заставить мужчину называть женщину сестрой и одарять ее ласками, но на какую женщину он обратит свое желание – этого врач предугадать не может. Я, однако, думал, что муж, скорее всего, обратится к собственной жене, ибо она находится ближе любой другой, и обычно это оказывалось именно так, поскольку мне часто приносили подарки и только изредка приходили с жалобами.
Иногда матери приносили ко мне детей, и если матери были исхудавшими, а дети вялыми, с глазами, изъеденными мухами, я посылал своего раба Каптаха покупать мясо и фрукты, чтобы раздать им. Но таким образом мое богатство не приумножалось, а на следующий день у моего дома стояло уже пять или десять матерей с детьми, и, так как я не мог всем помочь, я велел рабу запирать перед ними дверь и отсылать в храм, где в дни больших жертвоприношений беднякам раздавали мясо, потому что жрецы были не в силах всё съесть.
Мое имя было прочитано перед храмом в семидесятый день, и я думал, что такая известность доставит мне много богатых больных, но ошибся. К моему дому действительно являлись иногда незнакомцы, доставляемые в носилках, но их привлекала моя репутация помощника трепанатора, и они предлагали мне богатые дары, если я вскрою череп тому, кто стоит между ними и крупным наследством. В таких случаях я советовал им обратиться к царскому трепанатору Птахору. А если ко мне приносили больных, жизнь которых была лишь мучением, и я видел, что они неизлечимы, я отсылал их в Дом Жизни, где им могли облегчить страдания.
На улицах Фив каждую ночь горели светильники и фонари, так что небо рдело над городом, а в кабачках и домах увеселений звучала музыка. Я хотел услаждать вином свое сердце, ибо оно больше не радовалось, средства истощались, и мне невольно приходилось брать деньги взаймы у храма под залог своего дома, чтобы порядочно одеваться и покупать вино.
4
Снова наступило половодье, вода поднялась до самых стен храма, а когда она спала, земля брызнула зеленью, птицы стали вить гнезда, лотосы расцвели в водах и кусты акаций разлили в воздухе аромат. В один из таких дней ко мне пришел Хоремхеб. Он был одет в царский лен, на шее у него висела золотая цепь, а в руке он держал плетку – знак высшего воинского чина. Но копья у него больше не было. Я воздел руки, выражая радость оттого, что вижу его, и он тоже поднял руки, улыбаясь мне.
– Я пришел к тебе за советом, Синухе, Тот, который одинок, – произнес он.
– Не понимаю, – отвечал я ему. – Ты крепок как бык и отважен словно лев. Вряд ли я могу помочь тебе как врачеватель.
– Я прошу у тебя совета не как у врачевателя, а как у друга, – сказал он и сел.
Мой одноглазый слуга Каптах налил ему на руки воды для омовения, я угостил лепешками, которые прислала мне моя мать Кипа, и дорогим привозным вином, ибо сердце мое было радо видеть его.
– Ты поднялся в чести, – сказал я. – У тебя высший воинский чин, и женщины, наверное, улыбаются тебе.
Но Хоремхеб мрачно процедил:
– Все это – дерьмо!
Потом, разгорячившись так, что лицо его запылало, он начал жаловаться:
– Дворец полон мух, они меня совсем засидели. Улицы Фив тверды и ранят мои ноги, а сандалии натирают мне пальцы. – Он сбросил сандалии и потер ноги. – Я служу в личной охране, – продолжал он, – но в этой охране состоят вместе со мной и считаются старшими офицерами десятилетние мальчишки, у которых еще не срезаны кудри, и они дразнят меня и смеются надо мной по причине своего высокородства. Они не способны натянуть тетиву, а их мечи – это игрушки, украшенные золотом и серебром, ими можно резать только жаркое, а не проливать кровь врага. Они ездят на воинских колесницах, не умея соблюдать порядок, запутываются в собственных вожжах и цепляются колесами за соседнюю колесницу. А простые воины хлещут вино, спят с дворцовыми служанками и не слушают приказов.
Он сердито позвенел золотой цепью и продолжал:
– Какое значение имеют цепь и знаки отличия, если они не добыты в бою, а брошены под ноги фараоном! Царица-мать привязала бороду к своему подбородку и львиный хвост к заду, но как воин может почитать в женщине правителя? Знаю, знаю. – Он поднял руку, видя, что я хочу напомнить ему о великой царице, которая направила корабли в Пунт[5]. – Все должно быть так, как испокон веков. Но при великих фараонах воинов не презирали, как нынче. Теперь фиванцы считают воинскую службу самой презренной из всех, недаром они закрывают перед воином свои двери. Я зря теряю время. Трачу свою молодость и силы, обучаясь военному искусству у людей, которые, заслышав боевой клич негров, убежали бы с воплями ужаса. Они потеряли бы сознание от страха, если бы стрела, пущенная из пустыни, просвистела над их ухом. Они спрятались бы под юбки своих матерей, услышав стук колесниц. Мой сокол свидетель: искусство воина совершенствуется только на войне и только в звоне оружия становится ясно, на что пригоден мужчина. Поэтому я собираюсь уйти.
При этих словах он так хлестнул плетью, что чаши упали со стола и Каптах выскочил на улицу, крича от страха.
– И все-таки ты, наверное, болен, друг мой Хоремхеб, – сказал я. – Глаза твои блестят, словно у тебя жар, и ты весь покрыт по́том.
– Разве я не мужчина? – крикнул он, вставая, и стукнул себя кулаком в грудь. – Я могу обеими руками поднять по могучему рабу и столкнуть их лбами. Я могу носить тяжелые тюки, как это приходится делать воину, пробежать огромный путь, не задохнувшись, я не боюсь ни голода, ни жажды, ни зноя пустыни. Но все это они считают чем-то постыдным, и женщины из Золотого дворца восхищаются только юнцами, которым не приходится брить бороду. Им нравятся мужчины, которые прячутся под солнечными зонтами, красят губы и чирикают, словно птицы на ветке, бросая при этом нежные взгляды. Меня презирают, потому что я силен и солнце окрасило мою кожу загаром, а руки мои – руки труженика.
Он умолк и долго сидел, уставившись перед собой.
– Ты одинок, Синухе, – сказал он, переводя остановившийся взгляд на вино. – Я тоже одинок, более одинок, чем все другие, потому что угадываю будущее и знаю, что создан стать повелителем народов и понадоблюсь однажды обоим царствам, но у меня больше нет сил на такое одиночество, ибо сердце мое сжигают огненные искры, и горло мое свело, и я больше не сплю по ночам.
Я был врачом, я знал многое о мужчинах и женщинах и поэтому сказал:
– Она, наверное, замужем и муж строго ее охраняет?
Хоремхеб взглянул на меня, и глаза его так злобно сверкнули, что я торопливо поднял с полу чашу и налил ее до краев. Он успокоился, коснулся рукой своей груди и шеи и сказал:
– Я должен уйти из Фив, иначе я задохнусь здесь от дерьма и эти мухи меня совсем засидят. – Но потом посмотрел на меня и смиренно добавил: – Синухе, ты врачеватель. Дай мне лекарство, которое одолело бы мою любовь.
– Это нетрудно, – ответил я. – Я могу дать тебе целебные ягоды, их надо растворить в вине, и они укрепят тебя, сделают страстным, как павиан, и женщины будут закатывать глаза и стонать в твоих объятиях. Это легко сделать, если хочешь.
– Нет, нет, – сказал он. – Ты не так меня понял. Сил мне достаточно. Я хочу снадобье, которое излечит меня от моего безумия. Я хочу лекарство, которое успокоит мое сердце и сделает его подобным камню.
– Такого лекарства нет, – сказал я. – Достаточно одной улыбки, одного взгляда зеленых глаз – и вся наука врачевания бессильна. Я сам это знаю. Но мудрецы говорят, что одно зло изгоняется другим. Правда ли это – не знаю, но догадываюсь, что второе зло может быть еще хуже первого.
– Что ты имеешь в виду? – спросил он сердито. – Мне надоели слова, которые можно повернуть и так и этак.
– Ты должен найти другую женщину, которая изгонит из твоего сердца прежнюю, – пояснил я. – Только это я и хотел сказать. В Фивах полно красивых соблазнительниц, они красят лица и одеваются в тончайший лен. Среди них, наверное, найдется такая, которая с удовольствием развлечет тебя. Ведь ты молод, силен и строен, ты носишь золотую цепь. Я вообще не понимаю, что отделяет тебя от той, к которой направлено твое вожделение? Может быть, она замужем? Но ведь даже самая высокая стена не способна препятствовать любви, а хитрость женщины, если ее влечет к мужчине, одолевает любые преграды. Об этом свидетельствуют сказки обоих царств. Говорят также, что верность женщины подобна ветру. Ее страсть остается прежней, но меняет направление. А еще говорят, что ласка женщины словно воск. Она тает от жара. Женщина не выносит позора неверности, но смеется над обманутым. Так было, и так всегда будет.
– Она не замужем, – раздраженно сказал Хоремхеб. – Ты напрасно говоришь о верности, о нежности и позоре. Она даже не замечает меня, хотя я все время у нее на глазах. Она не опирается на мою руку, если я протягиваю ее, чтобы подсадить в носилки. Может быть, она считает меня грязным, так как солнце сожгло мою кожу до черноты?
– Значит, она из высокородных? – спросил я.
– Бесполезно говорить о ней, – отрезал Хоремхеб. – Она прекраснее луны и звезд и дальше от меня, чем луна и звезды. Мне воистину легче схватить в объятия луну, чем ее. Поэтому я должен ее забыть. Поэтому я должен покинуть Фивы, иначе я умру.
– Я надеюсь, твоя страсть не вспыхнула к Божественной царице, – сказал я в шутку, чтобы рассмешить его. – Она кажется мне слишком старой и толстой для молодого мужчины.
– У нее есть ее жрец, – с презрением отмахнулся Хоремхеб. – Я думаю, они предавались бесчестью еще при жизни фараона.
Но я предостерегающе поднял руку и сказал:
– Воистину ты испил яда из многих отравленных колодцев по дороге в Фивы.
Хоремхеб заговорил снова:
– Та, к которой направлены мои желания, красит свои губы и щеки кармином, глаза ее миндалевидны, и никто еще не притронулся к ее телу под царским льном. Имя ее Бакетамон, и в жилах ее течет кровь фараонов, так что теперь ты все знаешь о моем безумии, Синухе. Но если ты об этом кому-нибудь расскажешь или даже словом намекнешь мне самому, я приду и убью тебя, где бы ты ни был, вложу твою голову между твоих же ног и заброшу тело на стену. Даже имя ее никогда не упоминай при мне, ибо тогда я и в самом деле тебя убью.
Я пришел в ужас – ведь это действительно немыслимо, чтобы безродный человек осмелился бросать взгляд на дочь фараона и жаждать ее сердцем. Поэтому я сказал:
– Ни один смертный не может к ней прикоснуться, а если кто-то на ней женится, то это будет только ее брат, наследник, который усадит ее рядом с собой как Божественную супругу. Так должно произойти, я прочел это в глазах принцессы возле ложа умирающего фараона – она не видела никого другого, кроме своего брата. Я смотрел на нее со страхом, потому что это женщина, тело которой не согреет ни одного мужчину, а в ее миндалевидных глазах я прочел пустоту и смерть. Поэтому я тоже скажу тебе: «Уходи, Хоремхеб, друг мой, ибо Фивы не для тебя».
Но Хоремхеб нетерпеливо перебил:
– Я все это знаю отлично и даже лучше тебя, так что твои слова для моих ушей как жужжание мухи. Лучше вернемся к тому, что ты только что говорил о другом зле, ибо сердце мое переполнено и, испив вина, я хотел бы, чтобы мне улыбалась любая женщина. Но ее одежда должна быть из царского льна, на голове у нее должен быть парик, а губы и щеки – карминно-красные, и я не возжелаю ее, если ее глаза не будут миндалевидными, как месяц на небе.
Я улыбнулся и с облегчением сказал:
– Теперь твои речи разумны. Подумаем вместе, по-дружески, как тебе лучше поступить. Много ли у тебя золота?
Хоремхеб посмотрел на меня надменно:
– Я не унижусь до того, чтобы взвешивать свое золото, ведь золото – это грязь под ногами. Но на шее у меня цепь, а на руках браслеты. Этого достаточно?
– Может быть, золото и не понадобится, – решил я. – Пожалуй, будет умнее, если ты ограничишься улыбкой, ибо женщины, которые облачаются в царский лен, прихотливы, и твоя улыбка может распалить кого-нибудь из них. Разве во дворце нет таких? Зачем тебе тратить зря золото, которое может еще пригодиться?
– Плевать мне на дворец! Но я знаю другое место. В нашей охране есть некий Кефта, критянин, которому я однажды дал пинка, когда он высмеял меня, так что теперь он стал меня уважать. Он предложил мне пойти с ним сегодня на званый вечер, где соберутся высокородные. Этот дом стоит возле какого-то храма, посвященного богине с кошачьей головой, не помню ее имени, потому что не собирался туда идти.
– Ты имеешь в виду Баст, – сказал я. – Я знаю этот храм и думаю, что место для твоего намерения подходящее, – легкомысленные женщины любят поклоняться кошачьей голове и приносят ей жертвы, когда находят себе богатых любовников.
– Но я не пойду туда, если ты не пойдешь со мной, Синухе, – проговорил Хоремхеб смущенно. – Я простолюдин, я умею раздавать пинки и размахивать плеткой, но не знаю, как ведут себя в Фивах, и вообще не умею держаться с женщинами. Ты человек ученый и родился в Фивах. Поэтому ты должен пойти со мной, Синухе.
Я был уже немного пьян, его слова польстили мне, и я не захотел признаваться, что знаю женщин так же мало, как он. Под воздействием выпитого я послал Каптаха за носилками и сторговался с носильщиками о цене, пока Хоремхеб допивал вино, желая пробудить отвагу в сердце.
Носильщики донесли нас до храма Баст, и, увидя, что перед домом, куда мы направлялись, горят светильники и факелы, стали громко требовать прибавки к цене, и обиженно замолчали только после того, как Хоремхеб пару раз вытянул их плеткой. Возле ворот храма стояли молодые женщины, улыбались нам и приглашали принести жертвы вместе с ними, но они не были одеты в царский лен, на них не было париков, и мы ими пренебрегли.
Мы вступили в дом, и никто не удивился нашему приходу, а веселые служанки полили нам на руки воду для омовения, и аромат горячих яств, притираний и цветов встретил нас еще на террасе. Рабы надели на нас венки из цветов, и мы оказались в зале, ибо вино пробудило в нас отвагу.
Но, войдя, я не увидел ничего вокруг, кроме женщины, которая вышла нам навстречу. Она была в одеянии из царского льна, и тело ее, подобно телам богинь, просвечивало сквозь него. На голове у нее был тяжелый синий парик, на шее, руках и щиколотках сверкали красные украшения, уголки глаз были подчернены, а под глазами лежали зеленые тени. Но зеленее любой зелени были ее глаза, подобные Нилу под знойным солнцем, так что сердце мое утонуло в них, потому что это была Нефернефернефер, которую я однажды встретил в колоннаде храма Амона. Она не узнала меня и смотрела на нас вопросительно, улыбаясь Хоремхебу, который поднял свою плетку, приветствуя ее. И юноша по имени Кефта, критянин, увидев Хоремхеба, подбежал к нему, спотыкаясь о скамеечки, и обнял его, называя своим другом. Но меня не заметил никто, и я мог без помехи любоваться сестрой своего сердца. Она была старше, чем мне вспоминалось, и глаза ее больше не улыбались, но были жестки, как зеленые камни. Они оставались холодными, хотя губы улыбались, и взгляд ее прежде всего остановился на золотой цепи, украшающей шею Хоремхеба. Несмотря на это, я почувствовал слабость в ногах.
В зале находились и другие гости, стены его были расписаны лучшими художниками, а потолок поддерживали колонны в форме лилий. Замужние и незамужние женщины, одетые в тончайший лен, в париках и со множеством украшений, смеялись, перекидываясь словами с окружавшими их мужчинами, молодыми и старыми, красивыми и безобразными, тоже увешанными золотом, с воротниками, расшитыми драгоценными каменьями.
Все кричали и смеялись, на полу валялись кувшины и чаши из-под вина, пестрели затоптанные цветы, а инструменты сирийских музыкантов звенели так, что разговоров не было слышно. Все опьянели, какую-то женщину вырвало, и служанки не успели поднести ей посуду, так что она перепачкала свои одежды, и все смеялись над ней.
Кефта, критянин, обнял и меня, вымазав мне лицо своими притираниями, и назвал своим другом. А Нефернефернефер посмотрела на меня и сказала:
– Синухе… Я знала когда-то одного Синухе. Он тоже собирался стать врачевателем.
– Я тот самый Синухе, – вымолвил я, глядя ей в глаза, и тело мое пронзила дрожь.
– Нет, ты не тот Синухе, – возразила она и сделала отрицающий жест. – Синухе, которого я знала, был юн, и глаза его были ясны, как глаза газели. А ты уже мужчина, у тебя повадки мужчины и на переносице две морщинки, и лицо твое не так гладко, как у него.
Я показал ей перстень с зеленым камнем на моем пальце, но она с недоумением покачала головой:
– В дом мой пришел грабитель. Ты, наверное, убил того Синухе, глядя на которого радовалось мое сердце. Ты и вправду убил его и украл у него перстень, который я дала ему в память о нашей дружбе, сняв его со своего большого пальца. Ты украл и его имя, и нет больше Синухе, который мне понравился.
И она подняла руку, выражая свою печаль. Сердце мое залилось горечью, и все тело охватила слабость. Я снял с пальца кольцо и протянул ей:
– Тогда возьми свое кольцо обратно. Я уйду, чтобы не мешать твоему веселью, ибо не хочу быть тебе помехой.
Но она сказала:
– Не уходи!
Она легко опустила свою руку на мою, как когда-то, и еще раз слабым голосом повторила:
– Не уходи!
Едва она это сделала, как я понял, что ее объятие обожгло бы меня сильнее огня и что никогда больше я не смогу быть счастлив без нее. Но служанки налили нам вина, мы выпили, чтобы подбодрить наши сердца, и никогда прежде вино не казалось мне столь сладким.
Женщина, которой стало плохо, ополоснула рот и выпила вина. Потом она сбросила с себя запачканное платье, сняла парик и, оставшись совсем обнаженной, сжала руками груди, велев служанкам лить между ними вино, предлагала испить из ее ладоней каждому, кто пожелает. Пошатываясь, она ходила по залу и громко смеялась. Она была молода, красива, озорна, она остановилась и возле Хоремхеба и предложила ему вина, текущего у нее между грудей. Хоремхеб наклонился и стал пить, а когда он вновь поднял голову, лицо его потемнело, он посмотрел в глаза женщине, взял в ладони ее обнаженную голову и поцеловал.
Все смеялись, но женщина вдруг смутилась и потребовала чистое платье. Служанки облачили ее, она надела на голову парик, села рядом с Хоремхебом и не стала больше пить вина.
Сирийские музыканты заиграли, я почувствовал во всем теле знойный пламень Фив и понял, что создан для жизни в мире, обреченном закату, но для меня все стало безразлично, лишь бы сидеть рядом с сестрой моего сердца, глядеть в зелень ее глаз и любоваться пурпурными устами.
5
– Это твой дом? – спросил я у нее, когда она села рядом со мной, разглядывая меня холодными зелеными глазами.
– Это мой дом, – ответила она, – а гости – мои гости, они приходят каждый вечер, потому что я не хочу быть одна.
– Ты, наверное, очень богата, – сказал я, падая духом оттого, что не могу ей в этом соответствовать.
Но она засмеялась в ответ, словно речам ребенка, и шаловливо ответила словами сказки:
– Я жрица, а не презренная женщина. Чего ты от меня хочешь?
Я не понял смысла ее слов.
– А Метуфер? – спросил я, желая знать все, как ни мучительно мне было это услышать.
Она поглядела на меня внимательно, чуть нахмурив нарисованные брови.
– Разве ты не знаешь, что Метуфер умер? – спросила она. – Метуфер умер, потому что растратил деньги, которые фараон дал его отцу для строения храмов. Метуфер умер, а его отец уже не царский строитель. Разве ты этого не знаешь?
– Если это правда, – сказал я, улыбаясь, – я почти уверен, что его покарал Амон, потому что он нанес оскорбление этому божеству.
И я рассказал, как жрец и Метуфер плевали в лицо статуе Амона и мыли ее своею слюной, а себя умащали священными притираниями бога. Она тоже улыбалась, но глаза ее оставались холодными, и она смотрела куда-то вдаль. Вдруг она сказала:
– Почему ты не пришел ко мне тогда, Синухе? Если бы ты искал меня, то нашел бы. Ты поступил дурно, отправившись с моим перстнем не ко мне, а к другим женщинам.
– Я был еще мальчик и, пожалуй, боялся тебя, – сказал я. – Но в моих снах, Нефернефернефер, ты была моей сестрой, и я еще не познал ни одной женщины, потому что надеялся когда-нибудь встретить тебя.
Она недоверчиво улыбнулась.
– Я думаю, ты лжешь, – сказала она, – я ведь в твоих глазах, наверное, старая и некрасивая, тебе забавно смеяться надо мной и говорить мне неправду.
Она смотрела на меня, а глаза ее, как прежде, светились радостью, она вдруг помолодела, стала такой же, как тогда, и сердце мое чуть не выпрыгнуло из груди.
– Я хочу быть честен с тобой. Это правда, что я никогда не знал женщины, но, может быть, неправда, что ждал только тебя. Мимо меня прошло много женщин, молодых и старых, красивых и безобразных, умных и глупых, но я смотрел на них только глазами врачевателя, и ни одна из них не зажгла моего сердца, а почему это так – я не знаю.
И еще я добавил:
– Я мог бы сказать, что в этом повинен камень, который я получил от тебя в знак дружбы, и что, сама того не ведая, ты опутала меня чарами. Или, быть может, меня околдовало прикосновение твоих мягких уст. Но это не объяснение. И если ты тысячекратно спросишь меня: почему? – ответить тебе я не сумею.
– Может быть, ты в детстве упал с воза и напоролся на оглоблю и это сделало тебя печальным и одиноким? – засмеялась она и чуть тронула меня рукой так, как еще ни одна женщина меня не касалась.
Мне не пришлось ей отвечать – она сама поняла, что это неправда, поэтому быстро отдернула руку и шепнула:
– Давай выпьем вместе вина, чтобы нам стало весело. Может быть, я и в самом деле еще повеселюсь с тобой, Синухе.
Мы выпили.
Хоремхеб обвил стан сидящей рядом с ним женщины, называя ее сестрой, а женщина улыбалась, прикрывала ему рот рукой и говорила, что не любит глупостей, о которых пожалеет на следующее утро. Но Хоремхеб встал, держа чашу вина в руках, и крикнул:
– Клянусь своим соколом и всеми богами обоих Египтов! Я никогда не жалею о сделанном, а с этого дня буду смотреть только вперед, никогда не оглядываясь. И хотя я не могу перечислить всех богов по именам, пусть они все слышат мою клятву.
Он снял с шеи золотую цепь и хотел повесить ее на шею женщины, но она отвела его руку и сердито сказала:
– Я порядочная женщина, а не уличная девка.
Потом она встала, разгневанная, и пошла к выходу, но в дверях незаметно для других поманила Хоремхеба, он последовал за ней, и я в этот вечер больше не видел ни его, ни ее.
Их исчезновения никто не заметил: было уже поздно и гостям пришла пора расходиться. Но все продолжали пить вино, слонялись пошатываясь, спотыкаясь о скамеечки и тряся отобранными у музыкантов погремушками. Опьяневшие гости обнимались, называя друг друга братьями и друзьями, а минуту спустя затевали драки и кричали: «Свинья!», «Кастрат!». Женщины бесстыдно снимали парики и предлагали мужчинам ласкать их голые макушки, ибо с тех пор, как богатые и знатные женщины начали брить головы, никакая другая ласка не распаляла так мужчин. Некоторые из них подходили также к Нефернефернефер, но она отстраняла их, а я, невзирая на их знатность и положение, наступал им на ноги, когда они, совсем опьянев, становились нахальными.
Я тоже был пьян, но не от вина, а от близости Нефернефернефер и прикосновений ее руки. Когда она подала знак служанкам, они стали гасить огни, уносить столы и скамеечки, подбирать растоптанные цветы и венки; рабы отнесли в носилки гостей, уснувших возле винных кувшинов. Поэтому я спросил ее:
– Мне, наверное тоже пора уходить? – Но слова жгли меня, как соль жжет раны, ибо невозможно было утратить ее и каждое мгновение без нее становилось бессмысленным.
– Куда ты собираешься идти? – спросила она с притворным удивлением.
– Пойду коротать ночь возле твоего дома, – ответил я. – Пойду по всем фиванским храмам приносить жертвы богам, чтобы возблагодарить их за то, что встретил тебя, ибо, увидев тебя, я снова поверил в богов. Пойду срывать цветы с деревьев, чтобы разбросать их на твоем пути, когда выйдешь из дому. Пойду покупать мирру, чтобы смазать петли твоих ворот.
Но она сказала, улыбаясь:
– У меня есть и цветы, и мирра. Будет лучше, если ты не уйдешь; возбужденный вином, ты можешь пойти к другой женщине, а этого бы я не хотела.
Ее слова привели меня в такой восторг, что я едва не схватил ее в объятия, но она отстранила меня:
– Нет! Мои служанки увидят, а я не хочу этого, хотя я и живу одна, я уважаемая женщина. Но раз ты был честен со мной, я тоже буду с тобой честна. Мы повременим с тем, ради чего ты пришел, а я отведу тебя в сад и расскажу тебе сказку.
Мы вышли в освещенный луной сад, где благоухали мирты и акации, а лотосы закрылись на ночь в водоеме, края которого были выложены пестрыми камнями. Служанки слили нам на руки воды для омовения, принесли жаркое из гуся и фрукты в меду, а Нефернефернефер сказала:
– Ешь и веселись со мной, Синухе.
Но горло мое высохло от страсти, и я не мог есть. Она глядела на меня, шаловливо улыбаясь, ела с аппетитом, и всякий раз, как она взглядывала на меня, в глазах ее отражалась луна. Поев, сказала:
– Я обещала рассказать тебе сказку и расскажу ее, ведь до утра еще много времени, а мне не хочется спать. Это сказка о Сатни-Хаэмуасе[6] и о Табубе – жрице богини Баст.
– Я слышал эту сказку, – сказал я, не в силах подавить свое нетерпение. – Я слышал ее много раз, сестра. Иди ко мне, чтобы я мог заключить тебя в объятия, и ты уснешь, положив голову на мою руку. Иди ко мне, сестра моя, ибо тело мое изболелось от желания, а если ты не придешь, я разобью лицо свое о камни и закричу от страсти.
Но она коснулась меня, говоря при этом:
– Молчи, молчи, Синухе! Ты слишком горяч и пугаешь меня. Я расскажу тебе сказку, чтобы ты успокоился. Слушай. Случилось так, что Сатни-Хаэмуас искал в храме книгу Тота и увидел Табубу, жрицу богини Баст. Совсем потеряв голову, он послал своего слугу предложить ей десять дебенов золота, чтобы она согласилась повеселиться с ним часок. Но Табуба сказала: «Я жрица, а не женщина для увеселений. Если твой господин на самом деле желает того, о чем говорит, пусть сам приходит в мой дом, где нас никто не увидит, чтобы мне не нужно было вести себя подобно уличной девке». Сатни безмерно обрадовался этим словам и поспешил в дом Табубы. Она встретила его словами «Добро пожаловать!» и угостила вином. Насладившись им, Сатни хотел предаться тому, ради чего пришел, но Табуба остановила его: «Ты обязательно попадешь во владения, которые уже принадлежат тебе, но я жрица, а не какая-нибудь презренная женщина. Если ты в самом деле желаешь того, о чем говоришь, ты должен отдать мне все свое имущество и деньги, дом и землю – все, что у тебя есть». Сатни посмотрел на нее и послал за писцом, знающим законы, тот составил распоряжение, в котором Сатни передавал Табубе все, чем владел. Тогда Табуба встала, оделась в царский лен, сквозь который ее тело просвечивало, как тело богини, и повесила на себя все украшения. Но когда Сатни хотел приступить к желанному, Табуба отстранила его и сказала: «Ты совсем скоро попадешь во владения, которые уже принадлежат тебе. Но я жрица, а не какая-нибудь достойная презрения женщина, поэтому ты должен изгнать из своего дома жену, дабы мне не пришлось опасаться, что ты снова обратишь к ней свое сердце». Сатни посмотрел на нее и послал слуг прогнать жену из дому. Тогда Табуба сказала: «Иди в мои покои и ложись на мое ложе – ты получишь свою награду». Сатни, счастливый, бросился в ее комнату и опустился на ее ложе, ожидая награды, но тут вошла служанка и сказала: «Твои дети пришли, они плачут у ворот и зовут свою мать». Сатни сделал вид, что не слышит, желая наконец предаться тому, ради чего пришел. Тогда Табуба сказала: «Я жрица, а не какая-нибудь падшая женщина. Поэтому мне подумалось, что твои дети, может быть, станут тягаться с моими детьми о наследстве. Чтобы этого не случилось, ты должен позволить мне убить твоих детей». Сатни позволил ей это сделать и выбросить тела детей из окна на съедение собакам и кошкам. Наслаждаясь вином с Табубой, он слышал, как собаки и кошки дерутся между собой из-за их мяса.
Тут я прервал Нефернефернефер, сердце у меня сжалось, как в детстве, когда я слышал эту сказку, и я сказал:
– Это – всего лишь сон. Опустившись на ложе Табубы, Сатни услышал, как она вскрикнула, и проснулся в жару, словно вышел из горячей печи, хотя на нем не было ни нитки. Все оказалось сном, который наслал на него Неферкаптах, – о нем есть другая сказка.
Но Нефернефернефер спокойно возразила:
– Сатни видел сон и проснулся, но многие другие просыпаются уже в Доме Смерти. Я должна тебе сказать, Синухе, что я тоже жрица, а не какая-нибудь презренная женщина. Меня тоже могли бы звать Табубой.
Когда она смотрела на меня, в ее глазах отражалась луна, и я не поверил ей. Поэтому я снова потянулся ее обнять, но она отстранила меня и спросила:
– А ты знаешь, почему Баст, богиню любви, изображают в образе кошки?
– Мне безразличны все кошки и боги, – ответил я, ловя ее в объятия, а на глазах у меня дрожали слезы страсти.
Но она отстранила мои руки:
– Скоро ты сможешь коснуться моего тела, сможешь положить руки на мою грудь и лоно, если это тебя успокоит, но сначала тебе следует выслушать меня и узнать, что женщина и ее страсть подобны кошке с мягкими лапками и хищными когтями, которые безжалостно вонзаются в сердце. Женщина поистине похожа на кошку, ибо ей, как и кошке, доставляет наслаждение мучить свою жертву и ранить ее коготками, ей тоже никогда не надоедает эта игра. Только вконец измучив добычу, кошка пожирает ее и отправляется на поиски новой. Я все это рассказываю тебе потому, что хочу быть честной с тобой и ни в коем случае не хотела бы сделать тебе ничего плохого… Ни в коем случае не хотела бы сделать тебе ничего плохого, – повторила она и рассеянно подняла мою руку, положила ее на свою грудь, а вторую на лоно, так что я задрожал и слезы потекли по моим щекам.
Но она тут же оттолкнула мои руки и сказала:
– Меня зовут Табуба, и раз ты это знаешь, уходи от меня и никогда не возвращайся, чтобы я не причинила тебе зла. А если не уйдешь, то не вини меня ни в одном из своих несчастий.
Она подождала, чтобы я ушел, но я остался. Тогда она легко вздохнула, будто ей надоела эта игра:
– Пусть будет так! Придется дать тебе то, за чем ты пришел. Но не будь слишком горяч, ибо я так устала, что боюсь уснуть, оказавшись в постели.
Она повела меня в покои. Ее ложе было из слоновой кости и черного дерева, она сняла свои одежды и открыла мне объятия. Мне казалось, что все мое тело – и сердце, и все мое существо – превратилось в пепел. Но скоро она стала зевать и сказала:
– Я и в самом деле устала и верю, что ты действительно не знал любви: ты очень неловок и не умеешь доставить мне удовольствие. Но юноша, который впервые приходит к женщине, приносит ей бесценную жертву. Поэтому я не прошу у тебя никакого другого дара. А теперь иди и дай мне поспать, ведь ты уже получил то, за чем пришел.
Когда я попытался вновь приласкать ее, она отстранила меня и услала прочь, так что мне пришлось отправиться домой. Но тело мое горело, все во мне бурлило, и я понял, что никогда не смогу ее забыть.
6
На следующий день я велел своему рабу Каптаху отослать домой всех больных, явившихся на прием, и посоветовать им поискать другого врача. Сам я сходил к брадобрею, помылся, оделся, умастил свое тело благовониями и только собрался идти к Нефернефернефер, как пришел Хоремхеб и задержал меня.
– Друг мой Синухе! – сказал он. – Всё – дерьмо.
– Я спешу, – заметил я нетерпеливо. – Иди к моему слуге, он даст тебе соленой рыбы и холодного пива из глиняного кувшина.
Я направился было к двери, но Хоремхеб схватил меня за руку, и, так как он был сильнее, мне пришлось вернуться, чтобы выслушать его жалобы. Он жевал соленую рыбу, прихлебывая пиво, и говорил:
– Женщина, с которой я вчера ушел, была со мной ласкова, но вряд ли она могла предложить мне больше, чем самая дешевая рабыня. – Он задумался на минуту. – Правда, тело ее было мягким и кожа белой, и мне спьяну было приятно слышать, как она верещит под моим напором, но стоило ли все это таких трудов? К тому же она замужняя женщина, а ее муж в отъезде, но, когда он возвратится, мне, наверное, придется убить его, а то он сам убьет меня.
– Этого не нужно делать, – сказал я. – Это не принято в Фивах. Если ты когда-нибудь увидишь рядом с ней ее мужа, можешь ему поклониться, опустив руки к коленям. После этого он угостит тебя вином и напьется пьян, и тогда ты сможешь повеселиться с его женой в его собственной постели. Так было, и так будет – оба останутся довольны: жена – тобой, а муж – тем, что жена позволила ему напиться, не ругая его и не наставляя, как обычно делают жены.
– Ее муж тощий, лысый и скупой – так она мне сказала, – продолжал Хоремхеб, прихлебывая пиво. – Я отдал ей свою золотую цепь, потому что золото для меня словно пыль под ногами, оно не имеет цены, если не добыто в бою. Она в ответ подарила мне свой парик, ведь мы оба были здорово пьяны, и теперь я не знаю, что с ним делать.
Тут Хоремхеб вытащил из-за пазухи парик и начал подкидывать его в руках. Блестящие волосы были искусно выкрашены в зеленый цвет.
– Единственное, что меня огорчает, – это то, что спьяну я забыл свою плетку под ее кроватью, и воины теперь не приветствуют меня на улице. Как ты думаешь, нельзя ли на рынке обменять парик на воинскую плетку, я ведь вряд ли соберусь еще раз повидаться с ней, какой бы мягкой она ни была.
Я сказал, что это возможно, и снова напомнил, что спешу. Но Хоремхеб и не подумал уходить. Он пожаловался, что у него во рту привкус ила и что ему омерзителен запах женщины, который сохранили его руки. Он обнюхал также меня и решил, что я тоже, наверное, провел ночь с женщиной, потому что пахну притираниями. Я сказал, что был у брадобрея, ибо мне показалось оскорбительным ставить Нефернефернефер рядом с его женщиной. У меня было чувство, что со мной случилось нечто совсем иное, чем с ним, и все мое существо оплели невидимые золотые нити. Я, пожалуй, был прав, потому что важно, наверное, не то, что человек делает, а то, что чувствует его сердце тогда, когда он делает это.
– Ты помнишь клятву, которую я принес? – спросил Хоремхеб. – Я действительно очень много выпил, но вино прояснило для меня многие вещи, о которых я думал. Я понял, что все те, кто кичится своим богатством и знатностью, – это всего лишь мухи, кружащиеся надо мной. Может быть, и принцесса Бакетамон, та, которую я люблю, тоже кичливая муха по сравнению со мной. Единственное, что имеет значение, – это власть. А без оружия нет власти. Так что мой сокол не ошибся, сделав меня воином.
– Власть не у тех, кто сражается, – сказал я, – а у тех, кто посылает воинов сражаться за них.
– Я не дурак, – сказал Хоремхеб. – Но тот, кто сидит в высоком кресле и воображает себя повелителем, может быть, на самом деле никем и не повелевает, ибо настоящей властью тайно владеют совсем другие люди. Я думаю, что коллегия жрецов Амона имеет большую власть в Египте и что у того жреца, который сидит по правую руку царицы-матери, сейчас в руках огромная сила. Но если бы кто-то собрал войска, заставил их выполнять свои приказы и повел на войну, именно этот человек оказался бы истинным властителем.
– И все-таки ты глуп, – возразил я, – ибо воин должен принести клятву верности фараону. А фараон всегда выше всех.
– Ты прав, – согласился Хоремхеб, – воин должен быть предан высшему лицу, на этом держится вся воинская дисциплина, без верности нет армии. Простых людей верности учит плетка, но если военачальник не верен, то и его подчиненные не верны – вот в чем беда. И все-таки я собираюсь остаться в Фивах, пока не пробьет мой час. Переспав с женщиной, я стал гораздо спокойнее, и, хотя по-прежнему люблю недостижимую, любовь в моем сердце так улеглась, что она мучает меня не больше обычных болей в желудке. Поэтому я благодарен тебе, друг мой Синухе, за добрые советы, и, если тебе когда-нибудь потребуется совет или помощь, ты найдешь меня в Золотом дворце.
Наконец он ушел на рынок менять зеленый парик на плетку старшего офицера, а я нанял носилки, поскольку не хотел пачкать ноги и одежду уличной пылью, и велел носильщикам поскорее примчать меня к дому Нефернефернефер. Мой одноглазый слуга Каптах озабоченно глядел мне вслед и качал головой, так как я еще никогда не покидал своей рабочей комнаты среди дня, и он боялся, что, раз я пренебрегаю больными, их подношения иссякнут. Но у меня в голове была одна-единственная мысль, и тело мое горело словно в огне, хотя этот огонь был нежным.
Служанка впустила меня и провела в комнату Нефернефернефер. Она как раз прихорашивалась перед зеркалом и посмотрела на меня холодными, словно зеленый камень, глазами.
– Чего ты хочешь, Синухе? – спросила она. – Твое присутствие вызывает во мне досаду.
– Ты хорошо знаешь, чего я хочу, – сказал я и попытался ее обнять, помня о том, как добра она была ночью.
Но она резко меня отстранила.
– Ты глуп и мешаешь мне, – раздраженно проговорила она. – Разве ты не видишь, что я должна привести себя в порядок? В Фивы прибыл купец из Сидона, у которого есть найденная в гробнице диадема царицы. Сегодня вечером кто-то подарит ее мне – я уже давно мечтаю о таком украшении, какого нет ни у кого. Для этого я должна подкрасить свое лицо и омыться благовониями.
Она без стеснения разделась и позволила служанке умастить душистыми маслами все ее тело. Я глядел на ее красоту, и сердце мое поднялось к горлу, а ладони вспотели.
– Чего ты медлишь, Синухе? – спросила она, продолжая беспечно лежать в постели, когда рабыня скрылась. – Почему ты не уходишь? Я должна одеться.
И тут страсть меня одолела, я бросился к ней, но она отстранила меня так искусно, что я ничего не мог с ней поделать, и заплакал от бессильного вожделения. Наконец я сказал:
– Будь у меня деньги, я купил бы тебе диадему, ты это хорошо знаешь. И я не хочу, чтобы кто-то другой касался тебя. Лучше я умру.
– В самом деле? – легко сказала Нефернефернефер, чуть прикрыв глаза. – Ты в самом деле не хочешь, чтобы кто-нибудь другой ласкал меня? А если бы я пожертвовала тебе этот день? Если бы я пила и ела и веселилась с тобой, Синухе, если бы я сделала это сегодня, ибо о завтрашнем дне никому не ведомо? Что бы ты дал мне за это?
Она закинула руки за голову и потянулась в кровати так, что ее шелковистый живот провалился, и на всем теле не было ни волосинки – ни на голове, ни в других местах, где они обычно растут.
– Что бы ты дал мне? – повторила она, снова потягиваясь и глядя на меня.
– Мне нечего тебе дать, – отвечал я, осматривая ее покои, где ложе было из слоновой кости и черного дерева, пол – из ляпис-лазури, а вазы – из золота. – У меня на самом деле нет ничего такого, что я мог бы тебе подарить, – сказал я, чувствуя слабость в ногах и собираясь повернуться, чтобы уйти.
Но она задержала меня.
– Мне жаль тебя, Синухе, – сказала она беспечно, снова мягко потягиваясь. – Ты и в самом деле не отдашь мне лучшее свое достояние, хотя, вспоминая об этом, я понимаю, что его ценность сильно преувеличивается. Но у тебя есть дом, мебель, вещи и инструменты, необходимые врачу. Ты, пожалуй, не совсем беден.
Я задрожал с ног до головы, но сказал:
– Это все твое, Нефернефернефер, если ты только пожелаешь. Все будет твое, если повеселишься со мной сегодня. Правда, все это недорогое, но дом оборудован для целителя, и какой-нибудь ученик из Дома Жизни может дать за него неплохую цену, если у его родителей есть средства.
– Ты думаешь? – спросила она, повернувшись ко мне обнаженной спиной, и стала оглядывать себя в зеркало, проводя пальцами по черным черточкам бровей. – Будь по-твоему. Позови писца, пусть он составит дарственную, чтобы я смогла перевести на свое имя все, чем ты владеешь. Ибо, хотя я живу одна, я не какая-нибудь презренная женщина и должна заботиться о своем будущем, если ты бросишь меня, Синухе.
Я не отрывал глаз от ее обнаженной спины, и язык у меня прилип к гортани, а сердце забилось так бешено, что я торопливо ушел и разыскал ученого писца, который быстро составил все нужные документы и отнес их на хранение в архив фараона. Когда я вернулся, Нефернефернефер была одета в царский лен, на голове у нее был парик, красный, словно золото, на шее, запястьях и лодыжках звенели невиданные украшения, а у дверей ее дома стояли дорогие носилки.
Я отдал ей расписку ученого писца и сказал:
– Все, что у меня есть, теперь принадлежит тебе, Нефернефернефер, все твое, и даже платье на мне – тоже. Давай сегодня вместе пить, есть и веселиться, ибо завтрашний день никому неведом.
Она взяла расписку, небрежно сунула ее в шкатулку эбенового дерева и сказала:
– Я очень огорчена, Синухе, но у меня только что начались месячные недомогания, и ты не сможешь сегодня войти в меня, как мне хотелось бы. Будет лучше, если ты уйдешь и оставишь меня, чтобы я могла очиститься как положено, потому что у меня болит живот и голова тяжелая. Приходи в какой-нибудь другой день – и тогда ты получишь то, чего желаешь.
Я смотрел на нее, не в силах что-либо сказать, и в груди у меня была смерть.
Она пришла в раздражение, топнула ногой и прикрикнула:
– Уходи, мне некогда!
Когда я попытался обнять ее, она сказала:
– Не размажь краски на моем лице.
Я ушел домой и привел в порядок свои вещи, чтобы все было готово к приходу нового хозяина. Одноглазый мой раб следовал за мной по пятам и качал головой, пока его присутствие не стало меня раздражать. И я сказал гневно:
– Не ходи за мной, я уже больше не твой хозяин, тобой будет владеть другой. Когда он явится, слушайся его и не кради у него так много, как у меня, так как его палка может оказаться крепче моей.
Тогда он поклонился мне до земли, воздел руки в глубокой печали, горько заплакал и сказал:
– Не отсылай меня от себя, господин мой, ведь мое старое сердце привязалось к тебе, и оно разорвется от горя, если ты отошлешь меня прочь. Я всегда был предан тебе, хотя ты очень молод и легковерен, а когда я крал у тебя, я честно соблюдал твои интересы и подсчитывал, сколько можно украсть. В часы полуденного зноя я бегал по улице, выкрикивая твое имя и славя искусство твоего врачевания, хотя слуги других целителей били меня палками и швыряли в меня навозными лепешками.
Сердце мое саднило и во рту было горько, когда я смотрел на него, но я все-таки был растроган и коснулся его плеча:
– Встань, Каптах!
В купчей его имя значилось «Каптах», хотя я никогда не называл его по имени, чтобы он не возгордился и не вообразил себя моим ровней. Поэтому, зовя его, я всегда кричал: «раб», «дурак», «бездельник» или «вор».
Услышав из моих уст свое имя, он заплакал горше прежнего, коснулся лбом моих ног и рук и поставил мою ногу на свою голову, пока я не рассердился, не пнул его и не велел встать.
– Твои вопли уже ничему не помогут, – сказал я. – Но знай, что я продал тебя другому совсем не со зла, я был доволен твоей службой, хотя часто ты нагло выражал свое раздражение, хлопая дверью или гремя посудой, если что-нибудь было не по тебе. Я не сержусь на тебя и за то, что ты крал у меня, ибо это – право раба. Так было, и так всегда будет. Но мне невольно пришлось отдать тебя, поскольку больше мне нечего было отдать. Я отдал также дом и все свое имущество; даже одежда, в которую я облачен, не принадлежит теперь мне. И вопли твои бесполезны.
Тогда Каптах встал, почесал голову и сказал:
– Это скверный день. – Мрачно помолчав, он добавил: – Ты великий врачеватель, Синухе, хотя ты еще молод, но весь мир перед тобой открыт. Поэтому лучше, если я соберу все более ценные вещи и мы с тобой убежим ночью, во мраке, и спрячемся на каком-нибудь корабле, где кормчий не слишком бдителен, и отправимся вниз по течению. В обоих Египтах много городов, и, если законники, отыскивающие твой след, узнают тебя или если я буду обнаружен в списках беглых рабов, мы сможем отправиться в красные страны, где вино прозрачно и женщины веселы. В Митанни и Вавилонии, где реки текут вспять, очень чтят египетских врачевателей, так что ты сможешь разбогатеть, а я стану слугой уважаемого господина. Поторопись же, господин мой, чтобы мы успели собрать твои вещи до наступления тьмы. – И он стал дергать меня за край одежды.
– Каптах, Каптах! – сказал я. – Не мешай мне своими глупостями, ибо на сердце у меня смертельный мрак и тело мое уже не принадлежит мне. Меня связали цепями, которые не видны, но которые прочнее медных. Я не могу убежать – каждое мгновение, проведенное вдали от Фив, было бы для меня мучительнее огненной печи.
Мой слуга сел на пол, потому что ноги его были усеяны болезненными мозолями, которые я время от времени у него удалял. Он сказал:
– Видно, Амон покинул нас, и это неудивительно, ведь ты так редко приносил ему дары. И хотя я всегда жертвовал ему пятую часть того, что крал у тебя, в благодарность за то, что мне достался такой молодой и добрый хозяин, он бросил и меня. Что же делать? Значит, надо сменить бога и поскорее вознести жертвы новому богу, – может быть, он отведет от нас зло и возвратит благополучие.
– Не говори глупостей! – сказал я, уже сожалея, что назвал его по имени, раз он сразу так осмелел. – Твои речи для меня не больше жужжания мухи, и ты забываешь, что у нас уже нет ничего, что мы могли бы принести в жертву, – все, чем мы владели, принадлежит теперь другому.
– Это мужчина или женщина? – спросил Каптах, обнаруживая любопытство.
– Женщина, – ответил я – ведь мне ни к чему было таиться от него.
Услышав это, он вновь завопил и стал рвать на себе волосы:
– Лучше бы мне никогда не родиться на этот свет! Лучше бы мать задушила меня пуповиной в час моего рождения! Ибо нет для раба горшей беды, чем служить бессердечной женщине, а она, конечно, бессердечная, раз так с тобой поступила. Она с утра до вечера станет гонять меня на моих больных ногах, колоть меня булавками и бить палкой по моей старой спине, пока я не закричу и не заплачу. Так будет со мной, хотя я молился Амону и воздавал ему жертвы в благодарность за то, что он сделал меня слугой молодого, неопытного хозяина.
– Она вовсе не бессердечна, – возразил я, ибо дошел уже до такого безумства, что мне хотелось говорить о Нефернефернефер даже с рабом, поскольку у меня не было другого собеседника, которому я мог бы открыть свое сердце. – Обнаженная, в постели, она прекраснее луны, ее тело гладко от дорогих притираний, и глаза ее зелены, как Нил под палящим солнцем. Ты будешь достоин зависти и счастлив, Каптах, если тебе придется жить вблизи нее и дышать воздухом, которым дышит она.
– Она, конечно, продаст меня в носильщики тяжестей или в каменоломни, так что легкие мои слипнутся, из-под ногтей брызнет кровь, и я умру в грязи, как забитый осел.
В глубине сердца я понимал, что он, может быть, говорит правду, ведь в доме Нефернефернефер вряд ли найдется место и пища для такого, как он. Из моих глаз тоже полились слезы, но я не знал – оплакиваю ли я его или самого себя. Увидев это, Каптах немедленно умолк и испуганно посмотрел на меня. А я закрыл лицо руками, не обращая внимания на то, что мои слезы видит раб. Каптах коснулся моей головы широкой ладонью и печально сказал:
– Это все моя вина, раз я не смог уберечь своего господина. Но я ведь не знал, что он был невинен и чист, как платье, которое еще ни разу не стиралось, – иначе я не могу объяснить того, что случилось. Я, правда, очень удивлялся, почему мой хозяин, возвращаясь ночью из кабачка, никогда не посылает меня за девушкой, которая разделила бы с ним ложе. И женщины, которых я направлял к тебе, чтобы они раздевались перед тобой и заставляли тебя повеселиться с ними, уходили от тебя недовольными и называли меня крысой или навозником. А ведь среди них были довольно молодые и даже красивые. Но все мои заботы были напрасны, а я, дурак, радовался в душе, думая, что ты, может быть, никогда не приведешь в свой дом жену, которая била бы меня по голове и плескала мне кипяток на ноги, поссорившись с тобой. Глупец я безмозглый! Стоит бросить в камышовую хижину первую головешку, как хижина сгорает дотла.
И еще он сказал:
– Почему ты в неопытности своей не спросил у меня совета, господин мой? Ведь я много видел и много знаю, хотя ты обо этом не догадываешься. Я когда-то тоже спал с женщинами и уверяю тебя, что хлеб и пиво и набитый желудок лучше лона самой прекрасной из них. Ох, господин мой, когда мужчина идет к женщине, он должен брать с собой палку, иначе она завладеет им и опутает его цепями, которые врезаются в тело, как тонкая нить, и натирают сердце, как камешек в сандалии натирает ногу. Клянусь Амоном, лучше было бы, господин мой, чтобы ты приводил на ночь девушек, тогда мы избавились бы от всего этого. Ты напрасно тратил время в кабачках и в домах увеселений, если женщина превратила тебя в раба.
Он наговорил еще много другого, пока голос его не стал в моих ушах подобен жужжанию мухи. Наконец он успокоился, приготовил мне еду и принес воды для омовения рук, но я не в силах был есть, потому что тело мое горело словно в огне, и, когда наступил вечер, я не мог думать ни о чем другом, кроме единственного желания.
Каптах поел с аппетитом, выпил до дна кувшин пива и запел печальные песни, он рвал на себе волосы и посыпал себя пеплом, пока не уснул.
Но я не мог спать – так беспокойно было мое тело. Поэтому я отправился бродить в темноте, стал кружить возле храма Баст и видел, что перед домом Нефернефернефер горят факелы, а из носилок выходят веселые гости и входят в ее дом. Но я не осмеливался явиться к ней, помня о ее запрете. Поэтому я кружил возле храма Баст, и мысли мои были как ядовитые змеи, которые больно жалят. Девушки дергали меня за рукава, и смеялись, и шептали мне что-то во тьме, пока я наконец не измучился так, что последовал за одной из них. Она попросила у меня подарок, я отдал ей последнюю медяшку и пошел за ней к стене храма, где она легла на землю, раскинув одежды и раскрыв мне свое тело. Но я не смог взять ее, хотя и желал этого, а земля возле стен пахла мочой, и девушка шла за мной, проклиная меня и плюя мне вслед.
Я возвратился домой истерзанный, словно меня отхлестали плетьми, но постель моя была подобна раскаленной печи, и я стонал во сне. Утром я почистился, оделся и умастил лицо благовониями, собираясь к Нефернефернефер, ибо я чувствовал, что умру, если не увижу ее и не притронусь к ее руке. Глаза Каптаха были красны от слез и от пива, он скреб свою усыпанную пеплом голову и бросился передо мной на пол, надеясь не пустить меня. Но я рассердился и наступил на него ногой, чтоб выйти, хотя мне лучше было бы не уходить.
Свиток четвертый. Нефернефернефер
1
Я отправился к Нефернефернефер, едва дождавшись утра, но она еще спала, и служанки ее тоже спали, а за то, что я их разбудил, они с проклятиями облили меня грязной водой. И я, словно нищий, сидел у ворот, пока в доме не послышались голоса, и тогда я постучался снова.
Нефернефернефер лежала в постели, лицо ее было помятым и бледным, зеленые глаза утратили блеск от выпитого накануне вина.
– Ты наскучил мне, Синухе! – сказала она. – Зачем ты мне надоедаешь? Чего ты хочешь?
– Есть, пить и веселиться с тобой, – отвечал я, охваченный сердечной мукой. – Ведь ты же мне обещала.
– Это было вчера, а сегодня – новый день, – сказала она, и рабыня сняла с нее измятую рубашку, принимаясь натирать ароматными маслами все ее тело.
Потом она посмотрела на себя в зеркало, наложила на лицо краски, надела парик, взяла диадему из старого золота, украшенную жемчугом и драгоценными камнями, и примерила ее.
– Какая красивая вещь! – сказала Нефернефернефер. – Она несомненно стоит своей цены, я недаром так устала, и тело мое измучено, точно я всю ночь сражалась. – Она зевнула и, желая взбодриться, отхлебнула вина из чаши, предложив его также и мне, но я был охвачен страстью, и вино мне не понравилось.
– Значит, вчера ты сказала мне неправду, – упрекнул я ее, – и никаких недомоганий, которые помешали бы тебе повеселиться со мной, у тебя не было. – Я сказал это нарочно, ведь сердце мое поняло это еще вчера.
– Я ошиблась, – отвечала она. – Пора действительно подошла. Меня это очень беспокоит, Синухе, вдруг я понесла от тебя, я ведь была так податлива, а ты оказался слишком пылким. – Но, говоря это, она улыбалась и смотрела на меня насмешливо, и я понимал, что она просто потешается надо мной.
– Твоя диадема найдена, кажется, в царской гробнице и привезена из Сирии, – предположил я. – Мне помнится, ты вчера рассказывала об этом.
– Ах! – молвила она небрежно. – Диадема действительно найдена в постели сирийца, под его головным валиком, но тебя это не должно беспокоить – он был жирный как свинья, с огромным животом, и от него несло луком. Я получила то, чего желала, и не намерена его больше видеть.
Она сняла диадему и парик, небрежно бросила их на пол рядом с постелью и снова улеглась. Когда она закинула руки за голову и по-кошачьи потянулась, моему взору открылась ее макушка, красивая и гладкая.
– Я утомлена и измучена, Синухе, – сказала она. – Ты злоупотребляешь моей слабостью, глядя на меня так, когда у меня нет сил сопротивляться. Ты должен помнить, что я вовсе не какая-нибудь презренная женщина, хотя и живу одна, и мне приходится заботиться о своей репутации.
– Ты ведь отлично знаешь, что больше мне нечего тебе подарить, ты получила все, что у меня было, – молвил я, положив голову на край ее постели и вдыхая аромат ее притираний.
Она тронула рукой мои волосы, но быстро отняла руку, усмехнулась и тряхнула головой.
– До чего мужчины хитры и коварны! – сказала она. – Я же знаю, что ты мне лжешь, но ничего не могу с собой поделать – я люблю тебя, Синухе, и я слаба. Ты говорил, что мое объятие обожгло тебя сильнее огня, но ведь это неправда. Войди в меня, и вместо огня ты почувствуешь прохладу и нежность. Можешь приласкать и мои груди, ибо они устали и жаждут ласки.
Но когда я попытался взять ее, она отстранила меня, села в постели и сердито сказала:
– Хотя я действительно слаба и одинока, я не хочу отдаваться на милость коварному мужчине. Ты скрыл от меня, что у твоего отца Сенмута есть дом в бедной части города. Дом не дорог, но земля, на которой он выстроен, находится вблизи пристани, да и с домашних вещей тоже, наверное, можно кое-что получить, если распродать их на рынке. Пожалуй, мы смогли бы сегодня попить, поесть и повеселиться с тобой, если бы ты отдал все это мне, ибо завтрашний день никому неведом, а я должна заботиться о своем добром имени.
– Имущество моего отца не принадлежит мне, – возразил я, ужаснувшись. – Ты не можешь требовать его у меня, Нефернефернефер.
Склонив головку и глядя на меня зелеными глазами, она сказала, а лицо ее при этом было бледным и трогательным:
– Имущество твоего отца – это твое законное наследство, Синухе, ты это хорошо знаешь, ведь у твоих родителей нет дочери, которая имела бы в наследовании преимущества перед сыном, ты их единственный ребенок. Ты скрыл от меня также, что отец твой слеп и передал тебе свою печать и право распоряжаться всем, что имеет.
Это была правда; потеряв зрение, отец мой Сенмут отдал свою печать мне и попросил заботиться о его имуществе, соблюдая его интересы, – сам он уже не мог расписываться. Он и Кипа часто говорили о том, что дом надо бы продать за хорошую цену, купить маленький домик за городом и жить там, пока за ними не придет смерть и они не отправятся по дороге вечной жизни.
В ответ на слова Нефернефернефер я не сумел вымолвить ни звука, в такой ужас повергла меня мысль о возможности предать отца и мать, которые мне доверяли.
– Возьми в руки мою голову и коснись губами моей груди, ибо в тебе есть что-то, что лишает меня сил, Синухе. Я не хочу думать о своей выгоде, когда речь идет о тебе, и буду веселиться с тобой весь этот день, если ты подаришь мне отцовское имущество, хотя оно и стоит не многого.
Я взял ее голову в ладони, она была такой гладкой и такой маленькой и изящной, что я больше не мог бороться со своей страстью.
– Пусть будет по-твоему, – решил я и сам услышал, как дрожит мой голос.
Но когда я захотел войти в нее, она сказала:
– Ты совсем скоро попадешь во владения, которые уже принадлежат тебе, но прежде найди знающего законы писца, чтобы он оформил твой подарок согласно обычаю, ибо я не верю мужским обещаниям, ведь вы все так коварны, а я должна заботиться о своей репутации.
Я разыскал ученого писца, и каждый шаг, который я сделал вдали от Нефернефернефер, был для меня мучителен. Поэтому я очень торопил писца, поставил под документом отцовскую печать и расписался вместо него, чтобы писец мог в тот же день отправить документы в царский архив для хранения. Но у меня уже не было ни серебра, ни меди, чтобы расплатиться с писцом, и он был недоволен, хотя согласился ждать вознаграждения, пока имущество не будет распродано, – это тоже было занесено в документы.
Однако, когда я вернулся, служанки сказали, что Нефернефернефер спит, и мне пришлось ждать до позднего вечера. Наконец она проснулась, приняла меня, и я передал ей расписку писца, которую она небрежно сунула в черную шкатулку.
– Ты очень настойчив, Синухе, – сказала она, – но я честная женщина и держу свои обещания. Получи же то, за чем ты пришел.
Она опустилась на ложе и раскрыла мне свои объятия, но отнюдь не веселилась со мной, а отвернула голову и смотрелась в зеркало. Прикрыв рот ладонью, она тайком зевала, так что радость, которой я жаждал, была для меня словно зола. Когда я поднялся, она сказала:
– Ты получил то, чего хотел, Синухе, и теперь оставь меня в покое, потому что ты мне очень надоел. Никакой радости я с тобой не испытываю, ты слишком неопытен и горяч, а твои руки доставляют мне боль. Но раз ты не умеешь ничего лучшего, я не стану подсчитывать свои труды, если ты наконец перестанешь мне досаждать. Как-нибудь в другой раз можешь прийти, хотя я тебе, наверное, наскучила.
Я был опустошен, как скорлупа, и, едва держась на ногах, ушел домой. Я хотел оказаться во тьме тихой комнаты и закрыть руками лицо, чтобы в слезах излить горечь и разочарование, но на моем крыльце сидел незнакомец в парике и пестрой сирийской одежде. Он надменно поздоровался со мной и спросил у меня совета как у врача.
– Я больше не принимаю больных, – сказал я, – ибо дом этот мне не принадлежит.
– У меня на ногах болезненные мозоли, – настаивал незнакомец, вплетая в свою речь сирийские слова. – Твой умный раб Каптах рекомендовал мне тебя как хорошего врачевателя мозолей. Избавь же меня от моих мучений, и ты не пожалеешь об этом.
Сириец был так настойчив, что я наконец ввел его в дом и позвал Каптаха, чтобы он принес горячей воды. Но мне никто не ответил, а осмотрев мозолистые ноги посетителя, я узнал в них ноги Каптаха. Хитрец снял с головы парик, открыл лицо и громко рассмеялся.
– Что это за шутки? – рассердился я и прибил его палкой, так что смех его немедленно превратился в вопли.
Но когда я отбросил палку, он сказал:
– Раз я уже не твой раб, а раб другого, то могу тебе признаться, что намерен сбежать и поэтому проверял, можно ли меня узнать в этом наряде.
Я напомнил ему о тех наказаниях, которые грозят беглым рабам, и сказал, что он, скорее всего, когда-нибудь попадется, потому что ему нечем будет себя прокормить. Но он возразил:
– После того как я вчера вдоволь напился пива, мне приснился сон. Во сне, господин мой, ты спал в горячей печи, но я пришел, накричал на тебя, поднял за шиворот и опустил в реку – и река унесла тебя вдаль. Проснувшись, я отправился на рынок и спросил у толкователя снов, что означает мой сон, он сказал, что хозяин мой в опасности, что я по своей дерзости заработаю много побоев и что хозяину моему предстоит далекий путь. Этот сон – вещий, ибо достаточно увидеть твое лицо, господин мой, чтобы понять, что ты находишься в большой опасности, а так как побои я уже получил, то и остальное, конечно, сбудется. Поэтому я приготовил себе вот этот костюм, чтобы меня не узнали, и решил сопровождать тебя.
– Твоя преданность трогает меня, Каптах, – сказал я, пытаясь изобразить улыбку. – Может быть, мне и в самом деле предстоит дальняя дорога, но если это так, то она приведет меня в Дом Смерти, а туда ты вряд ли захочешь за мной последовать.
– Завтрашний день никому неведом, – торжественно изрек Каптах. – Ты еще молод и зелен, господин мой, словно теленок, которого мать не успела дочиста облизать. Поэтому я не могу отпустить тебя одного в трудный путь до Дома Смерти и в Страну Заката. Если так случится, я последую за тобой, чтобы помочь твоей неопытности, ибо сердце мое прикипело к тебе, несмотря на все твои безумства, – ведь у меня никогда не было сына, хотя я, наверное, зачал немало детей. Я их, правда, никогда не видел и поэтому хочу думать, что ты мой сын. Я говорю это не для того, чтобы тебя опозорить, а для того, чтобы показать, как я к тебе отношусь.
Его речи были слишком смелыми, но я не стал его больше бить, раз он уже не принадлежал мне. Я заперся в своей комнате, закрылся с головой и, словно мертвый, проспал до самого утра, ибо, когда горе и позор человека слишком велики, они действуют подобно одуряющим снадобьям. Но, проснувшись утром, я прежде всего вспомнил глаза и тело Нефернефернефер, и мне показалось, что я держу в руках ее гладкую головку и чувствую ее грудь под своей. Почему это было так, я не знаю, может быть, она и в самом деле околдовала меня каким-то неизвестным мне способом, хотя я уже не особенно верю в колдовство. Знаю только, что я омылся, оделся и натер лицо ароматными маслами, собираясь отправиться к ней.
2
Нефернефернефер приняла меня в саду возле зарослей лотоса. Ее глаза были ясными, веселыми и более зелеными, чем воды Нила. Увидев меня, она воскликнула:
– Ой, Синухе! Ты все-таки вернулся ко мне. Может, я и в самом деле не так уж стара и безобразна, раз я тебе не надоела. Чего ты хочешь от меня?
Я смотрел на нее как умирающий от голода смотрит на хлеб, а она склонила головку, рассердилась и сказала:
– Синухе, Синухе, надеюсь, ты не хочешь опять веселиться со мной. Я, правда, живу одна, но я не какая-нибудь презренная женщина и должна заботиться о своей репутации.
– Я подарил тебе вчера все имущество моего отца, – сказал я. – Он был уважаемым врачом, а теперь стал нищим, и на старости лет ему, слепцу, может быть, придется просить подаяние, а матери стать прачкой.
– Вчера было вчера, а сегодня – сегодня, – сказала Нефернефернефер, глядя на меня прищуренными глазами. – Но я совсем не требовательна, я позволю тебе посидеть рядом со мной и даже подержать мою руку, если захочешь. Мое сердце сегодня радуется, и я хочу, чтобы ты разделил со мной эту радость, хотя вряд ли решусь веселиться с тобой как-нибудь иначе. – Она смотрела на меня, шаловливо улыбаясь, и слегка притронулась к моей груди. – Ты даже не спрашиваешь, чему радуется мое сердце, – продолжала она с упреком. – Но я все-таки могу тебе об этом рассказать. Так знай же, что в город Нижнего Египта прибыл знатный человек, который привез с собой золотой сосуд весом почти сто дебенов, а на сосуде изображены всякие красивые и забавные сценки. Владелец сосуда, правда, такой старый и тощий, что его кости, наверное, проткнут мои бока, но я все-таки думаю, что завтра эта прекрасная вещь украсит мой дом. Я ведь вовсе не какая-нибудь презренная женщина, и мне нужно заботиться о своем добром имени.
Так как я ничего не сказал, она сделала вид, что глубоко вздыхает и мечтательно смотрит на лотосы и другие цветы, растущие в саду. Потом она медленно разделась и вошла в бассейн, чтобы выкупаться. Ее головка поднималась из воды рядом с лотосами и была прекраснее этих цветов. Закинув руки за голову, Нефернефернефер качалась передо мной на воде и говорила:
– Ты сегодня очень молчалив, Синухе. Надеюсь, я невзначай не огорчила тебя? Если так получилось, я с удовольствием исправлю свою оплошность.
Тогда я не выдержал:
– Ты хорошо знаешь, чего я хочу, Нефернефернефер.
– У тебя покраснело лицо и все жилки на висках пульсируют, – заметила она, – может быть, тебе лучше раздеться и войти в водоем, чтобы освежиться вместе со мной, ведь сегодня так жарко. Не смущайся, здесь нас никто не увидит.
Я разделся и вошел в бассейн, и ее бедро коснулось моего. Но когда я хотел соединиться с ней, она, смеясь, убежала от меня и стала брызгать мне в глаза воду.
– Я знаю, чего ты хочешь, Синухе, – сказала она, – хотя моя стыдливость и не позволяет мне смотреть на тебя. Но сначала ты должен сделать мне подарок, ведь ты же знаешь, что я не какая-нибудь презренная женщина.
Я не сдержался и закричал:
– Ты безумная, Нефернефернефер! Ты хорошо знаешь, что обобрала меня дочиста. Я стыжусь даже самого себя и никогда не посмею встретиться со своими родителями. Но я все еще врач, и имя мое вписано в Книгу Жизни. Может быть, я со временем приобрету своим искусством столько, что смогу сделать тебе достойный подарок, но пожалей меня наконец, ведь даже в воде тело мое горит словно в огне, и я готов до крови искусать свои руки, глядя на тебя.
Она легла на спину и стала слегка покачиваться, а ее груди, словно розовые цветы, выглядывали из воды.
– Врач лечит руками и глазами, не так ли, Синухе? – спросила она. – Без рук и глаз ты вряд ли сможешь врачевать, будь твое имя хоть тысячу раз вписано в Книгу Жизни. Может быть, я попировала бы и даже повеселилась с тобой, если бы ты позволил выколоть себе глаза и отрезать руки, которые я могла бы повесить в знак своей победы на притолоке в зале, чтобы мои гости относились ко мне с почтением и знали, что я достойная женщина. – Она поглядела на меня из-под полуопущенных, оттененных зеленью век и небрежно продолжала: – Впрочем, это мне, пожалуй, ни к чему, ведь от глаз твоих не будет никакой пользы, а руки станут издавать зловоние и привлекут стаи мух. Неужели мы и в самом деле не можем больше ничего придумать, что бы ты мог мне подарить, ведь ты волнуешь меня, Синухе, и я становлюсь нетерпеливой, глядя на твое обнаженное тело в воде. Ты, правда, неловок и неопытен, но я думаю, в течение дня я могла бы научить тебя многому такому, чего ты еще не знаешь, ведь мне известны тысячи способов, которые нравятся мужчинам и могут быть приятны женщинам. Подумай об этом, Синухе.
Но когда я хотел ее настичь, она быстро выскочила из водоема и встала в тени деревьев, стряхивая воду с рук.
– Я всего лишь слабая женщина, а мужчины так коварны, – сказала она. – И ты тоже, Синухе, ведь ты обманываешь меня. Мне становится грустно, когда я думаю об этом, и я вот-вот расплачусь, потому что несомненно тебе надоела, иначе ты не скрыл бы от меня, что твои родители заказали себе красивую могилу в Городе мертвых и отдали в храм нужную сумму для того, чтобы их тела набальзамировали и подготовили для путешествия в Страну Заката.
Услышав это, я до крови разодрал ногтями свою грудь и крикнул:
– Тебя действительно зовут Табуба, теперь я в это верю!
Но она сказала печально:
– Ты не должен обвинять меня в том, что я не хочу быть презираемой женщиной. Ведь я не звала тебя, ты сам пришел ко мне. Ну что делать? Теперь я знаю, что ты вовсе меня не любишь, а приходишь лишь насмехаться надо мной, раз такая мелочь мешает нашему соединению.
Слезы потекли по моим щекам, я задыхался от страдания, но подошел к ней, и она, стоя, слегка коснулась моего тела своим.
– Грешно и безбожно даже думать об этом, – сказал я. – Как я могу лишить своих родителей вечной жизни и позволить, чтобы их тела рассыпались, как рассыпаются тела рабов, бедняков и преступников, которых бросают в реку? Этого ты не должна у меня просить.
Но она, нагая, прильнула ко мне, настаивая:
– Отдай мне могилу твоих родителей, и я шепну тебе: «Брат мой», и мои объятия охватят тебя нежным огнем, и я научу тебя тысяче вещей, которых ты не знаешь и которые нравятся мужчинам.
Я не мог больше владеть собой, а заплакал и сказал:
– Пусть будет по-твоему и пусть имя мое будет проклято на веки веков, но я не могу противиться – так сильно твое колдовство.
Однако она возразила:
– Не говори мне ни о каком колдовстве, ибо это очень оскорбляет меня, ведь я достойная женщина, живу в собственном доме и забочусь о своей репутации. Но раз ты расстроен и печален, я пошлю своего раба за знающим законы писцом, а мы пока поедим и выпьем вина, чтобы сердце твое возрадовалось и мы смогли вместе повеселиться, когда все будет оформлено. – Она звонко рассмеялась и убежала в дом.
Я оделся и последовал за ней, и слуги подали мне воды для омовения рук и склонились передо мной, опустив руки к коленям. Но за моей спиной они смеялись, и я хорошо это слышал, хотя делал вид, что их насмешки для меня не больше жужжания мухи. Однако они сразу умолкли, едва Нефернефернефер спустилась вниз и мы сели с ней за трапезу. Нам подали пять мясных блюд, двенадцать сортов печеностей и смешанные вина, от которых быстро пьянеют. Ученый писец явился, составил все необходимые документы, и я передал Нефернефернефер могилу своих родителей в Городе мертвых вместе с оплатой всех приготовлений и ритуалов, совершаемых в храмах, так что они утратили вечную жизнь и возможность попасть в Страну Заката после своей смерти. Я закрепил дарственную печатью отца и расписался за него, а писец пообещал еще в этот же день отнести ее в царский архив, чтобы она обрела законность. Нефернефернефер он отдал расписку, которую она небрежно заперла в черную шкатулку и заплатила писцу за его труды, так что он удалился, кланяясь нам и опуская руки к коленям.
Когда он ушел, я сказал:
– С этой минуты я проклят и опозорен в глазах людей и богов, Нефернефернефер. Докажи теперь, что содеянное мною стоило того.
Но она только улыбнулась:
– Пей вино, брат мой, чтобы на сердце у тебя стало веселее.
Когда же я хотел войти в нее, она отстранила меня и налила в мою чашу вина из кувшина. Немного погодя она посмотрела на солнце и воскликнула:
– Гляди-ка, день прошел и вечер уже близок! Чего же ты еще хочешь, Синухе?
– Ты знаешь чего, – ответил я.
Но она спросила:
– Ты, наверное, знаешь, Синухе, какой колодец самый глубокий и какая яма не имеет дна? Поэтому мне пора одеваться и подводить глаза, ведь золотой сосуд должен завтра украсить мой дом.
Когда я хотел удержать ее, она отстранила меня, заливисто рассмеялась, а потом вскрикнула так громко, что вбежали служанки. И она сказала:
– Как этот мерзкий нищий попал в мой дом? Немедленно вышвырните его на улицу и даже на порог никогда не пускайте, а если он станет сопротивляться, побейте палками!
Обессиленного вином и страстью, рабы вытолкнули меня на улицу, а когда я стал колотить камнем в закрытые ворота, вышли и побили меня палками. Но поскольку я продолжал так кричать, что вокруг стали собираться люди, они объяснили:
– Этот пьяница оскорбил нашу хозяйку – достойную женщину, которая живет в собственном доме.
От жестоких побоев я потерял сознание, и тогда они бросили меня на улицу, где люди, проходя мимо, плевали на меня, а собаки на меня мочились.
Придя в себя и осознав свое жалкое состояние, я не захотел вставать, а неподвижно пролежал на этом же месте до утра. Тьма скрывала меня, и мне казалось, что я уже никогда не смогу показаться ни одному человеку. Наследник дал мне имя: «Тот, который одинок», и в эту ночь я действительно был самым одиноким из всех людей на земле. Только на заре, когда на улицах снова стали появляться люди и торговцы начали выставлять товары перед своими лавочками, а быки потянули повозки, я встал и ушел за город. Три дня и три ночи я прятался там в зарослях камыша без еды и питья. Все мое тело превратилось в одну сплошную рану, и, если бы кто-нибудь заговорил тогда со мной, я закричал бы или завыл в голос. Я боялся сойти с ума.
3
На третий день я омыл лицо и ноги, смыл с одежды запекшуюся кровь и отправился домой. Но дом уже не был моим, на его воротах висела табличка другого врачевателя. Я позвал Каптаха, он прибежал и, плача от радости, обнял мои колени.
– Господин мой, – сказал он, – в сердце моем ты все еще мой хозяин, кто бы мной ни повелевал. Сюда въехал молокосос, который воображает себя великим врачевателем, он примеряет твои одежды и смеется от радости. Его мать уже ворвалась на кухню и ошпарила мне ноги кипятком, обзывая меня крысой и навозной мухой. Но твои больные тоскуют по тебе и говорят, что у него не такая легкая рука, как у тебя, что его осмотр доставляет им сильную боль и он не разумеет их болезней так, как разумел ты.
Он болтал долго и с такой скорбью смотрел на меня своим единственным покрасневшим глазом, что в конце концов я велел ему:
– Говори все, Каптах! Сердце мое окаменело, и ничто меня уже не тронет.
Тогда он воздел руки, выражая самую глубокую печаль, и сказал:
– Я отдал бы свой единственный глаз, чтобы уберечь тебя от этого горя. Но это плохой день, и хвала Амону, что ты пришел. Ибо знай, что родители твои умерли.
– Отец мой Сенмут и мать моя Кипа! – воскликнул я, воздевая руки, как этого требует обычай, и сердце мое шевельнулось в груди.
– Вчера законники велели им убираться из дому, а когда они сегодня утром туда вломились, твои родители лежали в своей постели и уже не дышали. Ты должен скорее отвезти их тела в Дом Смерти, потому что завтра жилище твоего отца разберут – так распорядился новый владелец.
– Мои родители узнали, почему это случилось? – спросил я, не смея взглянуть на своего раба.
– Отец твой Сенмут приходил искать тебя, – сказал Каптах. – Твоя мать вела его за руку, потому что он уже ничего не видел, оба они совсем старые, немощные и шли пошатываясь. Но я не знал, где ты. Тогда твой отец сказал, что, может быть, так даже лучше. Он рассказал, что слуги закона выгнали их из дому, опечатали все его шкатулки и домашние вещи, так что у них ничего не осталось, кроме самой рваной одежды, которая была на них. Когда он спросил, почему так получилось, слуги закона засмеялись и сказали, что его сын Синухе продал дом, все имущество и могилу родителей, чтобы добыть золото для скверной женщины. После долгих колебаний отец твой попросил у меня меди, чтобы продиктовать какому-нибудь писцу письмо для тебя. Но в твоем доме уже поселился новый хозяин, и именно в эту минуту его мать позвала меня и прибила палкой за то, что трачу время на разговоры с нищими. Я надеюсь, ты поверишь мне, что я дал бы твоему отцу меди и даже серебра, которые украл у тебя и у своих прежних хозяев. Но когда я вернулся на улицу, твои родители уже ушли, а мать моего нового хозяина запретила мне догонять их и заперла на ночь в яму, где пекут хлеб, чтобы я не убежал.
– Значит, отец не оставил мне ни слова? – спросил я.
И Каптах подтвердил:
– Твой отец не оставил тебе ни слова, господин мой.
Сердце мое окаменело в груди и не чувствовало больше ничего, но мысли были словно птицы в холодном воздухе – такие же ясные и спокойные. Подумав немного, я сказал Каптаху:
– Отдай мне всю свою медь и все серебро. Дай скорее, и, может быть, Амон или какой-нибудь другой бог вознаградит тебя, если я сам не сумею этого сделать. Мне нужно доставить моих родителей в Дом Смерти, а у меня нет больше ничего, чем бы я мог заплатить за бальзамирование их тел.
Каптах заплакал и запричитал, воздевая руки, чтобы показать, как велика его скорбь, но в конце концов пошел в уголок сада, оглядываясь, словно собака, которая идет за зарытой в земле костью. Он сдвинул камень и вынул из-под него тряпку, в которую были завернуты медные и серебряные слитки, но там не набралось даже двух дебенов, хотя это были сбережения целой жизни раба. Все это Каптах отдал мне, правда обливаясь при этом слезами и обнаруживая глубокую печаль. Да будет он во веки веков благословен за свою доброту и да сохранится тело его вечно!
У меня ведь были друзья – и Птахор, и Хоремхеб, наверное, могли бы одолжить мне золота, даже Тутмес смог бы мне помочь, но я был молод и думал, что мой позор уже всем известен, и предпочел бы умереть, чем взглянуть в глаза своих друзей. Мой поступок, как мне казалось, обрек меня на проклятье людей и богов, и даже Каптаха я не смог поблагодарить, потому что в эту минуту мать его нового хозяина вышла на крыльцо и стала звать его злобным голосом. Лицом она была похожа на крокодила, а в руках у нее была палка. Каптах быстро убежал и еще у лестницы, до того как палка на него опустилась, заорал во всю мочь. На этот раз ему не пришлось притворяться – он горько оплакивал свое утраченное богатство.
Я торопливо пошел в отцовский дом, дверь его была взломана, и все вещи опечатаны слугами закона. Во дворе стояли соседи, они воздевали руки в знак скорби, и никто не сказал мне ни слова, но все в ужасе расступились, давая мне дорогу. В комнате, в своей постели лежали Сенмут и Кипа, их лица были розовы, словно у живых, а на полу стояла тлеющая жаровня – они умерли от угара, крепко закрыв окна и двери. Я завернул их тела в покрывала, пренебрегая печатями слуг закона, и позвал погонщика осла, который согласился отвезти этот скорбный груз. С его помощью я поместил тела отца и матери по бокам осла и отвез их в Дом Смерти. Но там их не приняли, потому что у меня было мало денег даже для самого скромного бальзамирования. Тогда я сказал мойщикам трупов:
– Я – Синухе, сын Сенмута, мое имя вписано в Книгу Жизни, хотя меня постигла злая судьба и мне недостает серебра, чтобы оплатить захоронение отца и матери. Заклинаю вас именем Амона и именами всех других богов Египта, набальзамируйте тела моих родителей, и столько времени, сколько на это потребуется, я буду служить вашим помощником.
Они прокляли мою настойчивость и осыпали меня ругательствами, но в конце концов переболевший чумой главный мойщик взял у меня медь и серебро Каптаха, подхватил крюком тело моего отца под подбородок и бросил его в большой чан для бедняков. Потом подхватил так же тело моей матери и бросил его в тот же самый чан. Чанов было тридцать, и каждый день один из них заполнялся, а один освобождался, так что тела бедняков находились всего по тридцать дней в растворе соли и щелока, дабы они не сразу разложились после смерти. Больше с ними ничего не делали, но тогда я этого еще не знал.
Мне нужно было вернуться в отцовский дом, чтобы возвратить покрывала, на которых стояли печати слуг закона. Главный мойщик посмеялся надо мной и нагло сказал:
– Не забудь явиться утром помогать нам, а если не вернешься, мы вытащим из чанов трупы твоих родителей и выбросим их на съедение собакам.
Из этого я понял, что он не признал меня за настоящего врача, а счел обыкновенным лгуном.
Я вернулся в отцовский дом, и сердце мое было словно камень в груди, хотя все здесь взывало к мучительным воспоминаниям: каждый кирпич осыпающихся стен, старая смоковница во дворе, пруд моего детства. Бросив покрывала, я торопливо вышел из дома, но в воротах мне встретился писец, который работал в конце улицы, рядом с лавочкой торговца пряностями. Увидев меня, он воздел руки в знак скорби и спросил:
– Ты ли это, Синухе, сын праведного Сенмута?
И я ответил ему:
– Да, это я.
Писец сказал:
– Не убегай от меня, ибо твой отец передал мне то, что хотел сказать тебе, но не застал тебя дома.
Тогда я упал на землю и закрыл голову руками, а писец достал свой папирус и стал читать:
«Сенмут, имя которого вписано в Книгу Жизни, и жена его Кипа посылают это приветствие сыну своему Синухе, нареченному во дворце фараона именем „Тот, который одинок“. Боги послали нам тебя, и каждый день своей жизни ты приносил нам только радость и никогда – огорчения, и мы очень гордились тобой. Теперь мы опечалены, ибо тебя настигли неудачи, а мы не можем помочь тебе, как хотели бы. Мы верим, что все, что ты сделал, ты сделал правильно и не мог поступить иначе. И ты не горюй о нас, хотя тебе пришлось продать даже наши могилы, ведь ты, наверное, не сделал бы этого, не имея на то причины. Слуги закона торопятся, и мы уже не можем спокойно ждать смерти, хотя она желанна нам, как сон – усталому путнику или дом – оставшемуся без крова. Мы прожили долго и испытали много радостей, но самые большие радости доставил нам ты, Синухе, приплыв к нам по реке, когда мы были уже стары и одиноки. Поэтому мы благословляем тебя и просим не печалиться о том, что у нас нет могилы, ибо все сущее – тщета, и, может быть, для нас лучше исчезнуть совсем, чем испытывать беды и опасности на трудном пути в Страну Заката. Помни всегда, что смерть наша была легка и что мы благословили тебя, умирая. Да хранят тебя от опасностей все боги Египта, да оградят они твое сердце от печалей и да будет тебе столько же радостей от твоих детей, сколько нам было от тебя. Этого желают тебе отец твой Сенмут и мать твоя Кипа».
Слушая это, я почувствовал, как мое окаменевшее сердце начало согреваться и биться, как по лицу моему полились слезы, орошая уличную пыль. А писец сказал:
– Вот письмо. Правда, на нем нет печати твоего отца и он не мог из-за слепоты его подписать, но ты, наверное, поверишь мне, если я скажу, что оно написано под диктовку слово в слово, и лучшим доказательством истинности моих слов являются слезы твоей матери, от которых вот тут и тут расплылись письмена. – Он показал мне свиток, но глаза мои, полные слез, не видели ничего.
Он снова свернул письмо в трубочку, вложил ее в мои руки и сказал:
– Твой отец Сенмут был праведным человеком, и мать твоя Кипа была хорошей женщиной, хотя и могла иной раз сказать злые слова, как всякая другая женщина. Поэтому я записал все это, несмотря на то что твоему отцу нечем было меня одарить, а теперь передаю письмо тебе, хотя это хороший папирус, который можно было бы еще очистить и снова использовать.
Я подумал с минуту и произнес:
– Добрый человек, мне тоже нечем тебя вознаградить. Поэтому возьми мой плащ, он, правда, запачкался и измялся, но сшит из хорошей материи.
С этими словами я снял с себя и протянул ему свой плащ. Он недоверчиво пощупал ткань, но, изумленный, поднял руки:
– Твоя щедрость велика, Синухе, что бы ни говорили о тебе люди. И если они скажут, что ты ограбил отца с матерью, раздел их донага и сжил со свету, я заступлюсь за тебя. Но твой плащ я не могу взять, потому что он из слишком дорогой материи, к тому же солнце опалит твою спину, как спины рабов, и на ней вздуются волдыри, которые очень болят.
Но я настаивал:
– Возьми его, и да благословят тебя все боги Египта и да сохранится тело твое вечно, ибо ты даже не знаешь, какое добро ты сделал для меня.
Тогда он взял плащ и пошел, высоко подняв его над головой и смеясь от радости. А я, словно раб или погонщик волов, одетый лишь в набедренную повязку, направился на тридцать дней и ночей в Дом Смерти помогать мойщикам трупов.
4
Как врач, я полагал, что достаточно навидался смертей и страданий, привык прикасаться к нарывам и гноящимся ранам и не боюсь зловония, но в Доме Смерти понял, что не имею еще никакого опыта и ничего не знаю. Бедняки не доставляли тут больших хлопот: распространяя зловоние, они спокойно лежали в своих чанах с солью и щелоком, и я быстро научился орудовать крюком, с помощью которого их поворачивали. Но тела более знатных людей нуждались в большем искусстве, и, чтобы прополаскивать их внутренности и запихивать их в кувшины, требовалось полное бесчувствие. Однако самой большой терпимости требовало открытие, что Амон грабит умерших еще больше, чем живых, – цена бальзамирования зависела от имущества покойного, и бальзаминаторы лгали родственникам, перечисляя самые дорогие масла, притирания и жидкости, которыми они якобы пользуются, хотя на самом деле всегда обходились одним только растворяющим внутренности кунжутным маслом. Тела знати обрабатывались со всем искусством, менее знатные обрызгивались этим маслом и набивались камышом, смоченным смолой. Беднякам не делали и этого, через тридцать дней их просто вытаскивали из чанов, давали просохнуть и возвращали родственникам.
Хотя жрецы и наблюдали за Домом Смерти, мойщики и бальзаминаторы крали сколько удавалось и считали это своим правом. Они крали лекарственные травы, масла, притирания и пелены, чтобы их продать, а потом снова украсть, и жрецы ничего не могли с ними поделать, потому что эти люди хорошо знали свое дело и, когда хотели, выполняли его весьма искусно, а найти работников в Дом Смерти было очень трудно. Только про́клятые богами и бежавшие от закона преступники нанимались мойщиками, но очень скоро их начинали узнавать уже издали по впитавшемуся в Доме Смерти запаху соли, щелока и трупов, так что люди сторонились их, не пуская даже в кабачки и дома увеселений.
Поскольку я сам напросился им в помощники, мойщики трупов считали меня ровней себе и не скрывали от меня своих проделок. Не соверши я сам страшных поступков, я пришел бы в ужас и сбежал, увидев, как они издеваются над трупами даже знатных людей и режут их, чтобы продать магам разные части тела, которые нужны этим чародеям. Если Страна Заката существует, как мне хочется верить ради своих родителей, многие покойники, наверное, изумляются, увидев, какими искромсанными они вступают на свой тяжкий путь, несмотря на то что пожертвовали храмам немало золота ради своей вечной жизни.
Но самая большая радость охватывала служителей Дома Смерти, когда туда доставляли тело молодой женщины – безразлично, красивой или нет. Ее не сразу бросали в чан, на одну ночь она оставалась в постели мойщика трупов. Эти ужасные люди ссорились между собой и бросали жребий, кому первому достанется с ней спать, ибо отвращение к ним было так велико, что даже самая дешевая уличная девка не соглашалась веселиться с ними ни за какое золото, негритянки и те не допускали их до себя. Раньше мойщики копили деньги и сообща покупали рабыню – после больших военных походов они стоили недорого, – но жизнь в Доме Смерти была так ужасна, что приведенная туда женщина, даже рабыня, быстро теряла рассудок и так невыносимо кричала, что жрецам пришлось запретить продажу рабынь в Дом Смерти. После этого мойщики стали сами готовить себе пищу и стирать белье, а веселиться начали с трупами. При этом в свое оправдание они рассказывали, как некогда, во времена великого фараона, доставленная в Дом Смерти женщина ожила в объятиях мойщиков, – это было неслыханное чудо, сотворенное Амоном на радость родителям и мужу женщины. Поэтому мойщики называли своей святой обязанностью попытки совершать новые чудеса и согревать своим омерзительным теплом женщин, доставленных в Дом Смерти, если они не были так стары, что от их пробуждения уже никому не было бы радости. Известно ли это было жрецам – не знаю, все происходило тайком под покровом ночи, после того как двери в Дом Смерти запирались.
Тот, кто однажды вступил в этот зловещий дом и нанялся мойщиком трупов, очень редко выходил на улицу, опасаясь людского презрения, и до конца жизни оставался здесь. В первый день я принял всех мойщиков за проклятых богами преступников, их речи и надругательства над трупами повергали меня в ужас. Дело в том, что я замечал сначала только самых бесстыдных и наглых, которые нарочно командовали мной и поручали мне самые неприятные дела, но позднее увидел, что среди мойщиков и бальзаминаторов были и редкие мастера, знания которых передавались от лучших к лучшим и которые относились к своим обязанностям с большой ответственностью, считая их самыми важными. У каждого из них, как у врачей из Дома Жизни, была своя особая специальность: один занимался головой покойного, другой – животом, третий – сердцем, четвертый – легкими, пока все части тела не бывали подготовлены к вечной жизни.
Среди бальзаминаторов выделялся старый человек по имени Рамозе, обязанность которого была самой трудной. Специальными щипцами он через ноздри вытаскивал мозг умершего и выполаскивал потом череп очистительными маслами. С удивлением заметив ловкость моих рук, он стал меня обучать своему искусству и к тому времени, когда половина срока моего пребывания в Доме Смерти прошла, сделал меня своим помощником. Положение мое стало более сносным. Если остальные мойщики казались мне злыми духами и какими-то животными, так как их разговоры не были похожи на беседы людей, обитающих на земле при солнечном свете, то Рамозе напоминал черепаху, которая молча живет в своем панцире. Его спина была горбата, а руки морщинисты. Я помогал ему в работе – самой чистой и самой уважаемой в Доме Смерти, и власть его была так велика, что остальные уже не осмеливались швырять в меня внутренностями и грязью. Чем объяснялась его власть, я не знаю, но он никогда не повышал голоса.
Видя, как все мойщики крадут и как небрежно бальзамируются тела бедняков, хотя плата и за них была велика, я решил любыми средствами позаботиться о своих родителях и украсть для них вечную жизнь. Ибо моя вина перед ними была, по-моему, так велика, что кража уже не могла ее увеличить. Рамозе охотно объяснял мне, чего и сколько я должен украсть у каждого знатного трупа, ведь мы с ним имели дело только с трупами состоятельных людей. Наконец я вытащил из чана для бедняков и очистил от внутренностей тела своих родителей, заполнил их смолистым камышом и запеленал в холсты – ничего больше я не мог для них сделать, ибо красть можно было в определенных пределах, которых не нарушал даже Рамозе.
Во время тихой неторопливой работы в катакомбах Дома Смерти Рамозе передавал мне свою мудрость. Я расспрашивал его то об одном, то о другом, и его не испугал даже мой вопрос: «Почему?» К этому времени я уже привык к зловонию Дома Смерти, ибо человек может привыкнуть и приспособиться к любым условиям, а мудрость Рамозе заставляла меня забывать об ужасах нашей пещерной жизни, и, пока мы с ним орудовали своими щипцами, я выспрашивал его о многих вещах.
Прежде всего я спросил у него, почему мойщики трупов богохульствуют и дерутся из-за женских тел, не умея думать ни о чем, кроме своих страстей, хотя, казалось бы, им естественнее было бы успокоиться, живя всю жизнь, день за днем, в соседстве со смертью. Рамозе отвечал:
– Это примитивные люди, их желания не способны подняться над прахом, ведь и тело человека – тоже прах, если позволить ему разложиться. Но в прахе заключена жажда жизни, которая породила людей и животных, даже боги порождены прахом – это мое убеждение. И чем ближе человек стоит к смерти, тем сильнее становится жажда жизни, заключенная в прахе. Смерть приносит покой мудрому, а примитивного человека делает зверем, даже пронзенный стрелой, он еще источает свое семя в песок. Сердце этих людей тоже пронзила стрела, иначе они никогда не оказались бы в Доме Смерти. Поэтому не удивляйся их поведению, а пожалей их. Тело покойного они уже не могут ни осквернить, ни ранить, ибо тело холодно и бесчувственно, они же, поддаваясь желаниям, порожденным прахом, всякий раз вредят только себе.
Короткими щипцами Рамозе медленно и осторожно вытащил через ноздри тоненькие косточки черепа знатного человека, а длинными гибкими достал мозг и переложил в кувшин с крепким маслянистым настоем.
– Так зачем? – спросил я. – Зачем тело человека надо сохранять вечно, если оно холодно и бесчувственно?
Рамозе взглянул на меня маленькими кругленькими черепашьими глазками, обтер руки передником и отпил пива из кувшина, стоявшего рядом с другим, где лежал мозг.
– Так было, и так должно быть, – сказал он. – Кто я такой, чтобы объяснять подобные вещи, принятые от века? Но говорят, что Ка человека в могиле возвращается в тело, питается теми жертвами, которые ему приносят, и радуется цветам, которые кладут перед ним. Ка ест очень мало, так мало, что наши глаза этого даже не замечают. Поэтому одну и ту же жертву можно принести многим: фараоновы жертвы, например, относят потом к могилам его приближенных, а под конец дня жрецы сами съедают их. Ка вылетает в момент его смерти через нос, а куда улетает – не знаю. Но что так происходит – это подтверждали свидетели во все времена. Между Ка и человеком только та разница, что у Ка нет тени, тогда как человек на свету отбрасывает тень. В остальном они одинаковы. Так говорят.
– Твои слова для меня подобны жужжанию мухи, Рамозе, – сказал я. – Я достаточно учен, и напрасно ты болтаешь о том, чего я наслушался и начитался уже до оскомины. Но что есть истина?
Рамозе снова отхлебнул пива, рассеянно глядя на мозг, куски которого плавали в соседнем кувшине с маслом.
– Ты еще молод и горяч, раз задаешь такие вопросы, – сказал он, гримасничая, и тихо рассмеялся. – Видно, сердце твое воспалено, иначе ты об этом не спрашивал бы. А мое старое сердце уже покрылось рубцами и не болит от многочисленных вопросов. Есть ли человеку польза оттого, что тело его сохраняют после смерти, или нет пользы – я не знаю, но этого не знает никто, даже жрецы. А поскольку всегда так делалось, лучше сохранять обычай, от этого беды не случится. Одно я знаю: никто никогда не возвращался из Страны Заката рассказать, что там такое. Некоторые, правда, говорят, что Ка их возлюбленных иногда приходят к ним в сновидениях и дают им советы или предостерегают, но сны – это сны, утром их уже нет, они рассеиваются. Впрочем, однажды какая-то женщина проснулась в Доме Смерти, вернулась к своей семье и дожила до старости, прежде чем снова умерла, но это могло случиться лишь потому, что она умерла не по-настоящему, кто-то, я думаю, заколдовал ее, чтобы украсть ее тело и воспользоваться им по-своему – такое ведь случается, – вот она и стала словно мертвая. Эта женщина рассказывала, что, умерев, она попала в темное ущелье смерти, где какие-то страшные призраки, похожие на павианов, лезли к ней и обнимали ее, а уроды с головами крокодилов кусали ее соски, – обо всем этом написан рассказ, который хранится в храме и читается за плату всем желающим. Но кто верит женским россказням? Смерть, однако, произвела на нее такое впечатление, что она на всю жизнь сделалась набожной, каждый день ходила в храм и растратила на жертвоприношения все свое приданое, а также имущество мужа и детей, так что они остались нищими и не могли заплатить за бальзамирование ее тела, когда она наконец в самом деле умерла. Зато это сделал храм – подарил ей могилу и позаботился о бальзамировании. Эту могилу и нынче показывают в Городе мертвых, о чем ты, может быть, знаешь.
Но чем больше он говорил, тем более твердым становилось мое желание сохранить тела своих родителей – ведь это был мой долг им, хотя, прожив в Доме Смерти, я уже не знал, была им от этого польза или нет. Надежда на то, что их тела сохранятся для вечной жизни, была в старости их единственной радостью, и я хотел, чтобы эта надежда исполнилась. С помощью Рамозе я набальзамировал их и запеленал в ткань – ради всего этого я провел в Доме Смерти сорок дней и сорок ночей, ибо иначе я не успел бы украсть все необходимое для того, чтобы выполнить обряд полностью. Но у меня не было для них ни могилы, ни деревянного гроба. Поэтому я зашил их обоих в бычью шкуру, чтобы они вечно жили вместе.
Когда я наконец был готов покинуть Дом Смерти, сердце мое вдруг забилось, и я заколебался. Рамозе, оценивший ловкость моих рук, стал просить меня остаться, ведь как его помощник я мог бы хорошо зарабатывать, много красть и прожить всю жизнь без печалей и горестей в катакомбах Дома Смерти, так что никто из моих друзей не узнал бы, где я. Но я все-таки ушел, а почему – и сам не могу этого сказать, хотя, привыкнув к Дому Смерти, почувствовал себя там хорошо и ни о чем не тосковал.
– Мертвецы холодны и неподвижны, – сказал Рамозе, – оставайся здесь, ведь общество мертвых лучше общества живых. Мертвый никого не оскорбляет, не ранит и никому не доставляет страданий, как это делают живые. Зачем тебе возвращаться в мир живых, где свистят напитанные ядом стрелы, где тебе выколют глаза, сломают руки и ранят сердце, пока оно не станет таким старым и бесчувственным, что его уже ничто не тронет.
– Почему ты пришел в Дом Смерти, Рамозе? – спросил я. – Ты умный и способный человек и, наверное, прокормил бы себя другим ремеслом. Почему ты пришел сюда?
Но Рамозе замотал головой, словно черепаха, пригнул шею и не взглянул на меня.
– Ты сам знаешь, что в Дом Смерти никто не приходит, если нет необходимости, – сказал он. – Хватит с тебя такого ответа.
Но потом он захихикал и отпил из кувшина холодного пива.
– Мне здесь хорошо, – сказал он, – и мне ничего не надо, ибо всё – тщета. Но знай, что тот, кто однажды побывал в Доме Смерти, там и останется, ибо Дом Смерти поселится в тебе и ты никуда от него не денешься.
Тогда я еще не понял его слов, а просто счел его сумасшедшим. Поэтому я вымылся и почистил себя как только мог и вышел из Дома Смерти, а мойщики трупов слали мне вслед проклятья и издевались надо мной. При этом они не имели в виду ничего плохого, это была их обычная манера говорить друг с другом – иначе они просто не умели. Они даже помогли мне вынести сверток в бычьей шкуре. Но как я ни мылся, люди шарахались от меня и брезгливо зажимали нос – так глубоко въелся в меня запах Дома Смерти, и никто не согласился перевезти меня через реку. Поэтому я дождался ночи и, не опасаясь сторожей, украл возле берега камышовую лодку, на которой перевез тела отца и матери в Город мертвых.
Город мертвых тщательно охранялся даже по ночам, и я не нашел ни одной могилы, в которой мог бы спрятать тела своих родителей, чтобы они, живя вечно, наслаждались жертвоприношениями для богатых и знатных покойников. Тогда я отнес их в пустыню, где беспощадное солнце опалило мне спину и где, вконец обессиленный, я чуть не задохнулся и едва не скончался сам. Потом я понес свой драгоценный груз наверх в горы, поднимаясь по опасной тропинке, которой осмеливаются пользоваться только грабители могил, и пришел в заповедную Долину царей, где хоронят фараонов. Здесь всю ночь выли шакалы и шипели ядовитые змеи пустыни, а по горячим камням ползали скорпионы, но я не чувствовал страха, ибо сердце мое окаменело, и, несмотря на свою молодость, я с радостью бы приветствовал свою смерть, если бы она возжелала меня. Вернись я снова на дневной свет к людям, позор содеянного разъел бы мне душу, словно едкая щелочь, и жизнь не смогла бы мне ничего подарить.
Тогда я еще не знал, что смерть бежит от человека, который по ней тоскует, но гоняется за тем, чье сердце дорожит жизнью. Поэтому уползли с моего пути змеи, не тронули меня скорпионы и не задушил даже зной пустыни. Стражи заповедной долины тоже оказались глухи и слепы, они не заметили меня и не услышали шума срывающихся камней, когда я спускался с горы. Если бы они меня увидели, они тотчас же убили бы меня и бросили труп на растерзание шакалам. Но я пришел ночью, и стражи, наверное, боялись долины, которую охраняли, – ведь жрецы заколдовали могилы фараонов самыми опасными заклятьями. А если они и видели, как я, освещенный луной, бреду с ношей на спине, или слышали, как осыпаются камни с горного обрыва, то отвернулись от страха, прикрыв одеждой лицо и думая, что по долине бродят мертвецы. Я ведь ни от кого не прятался и не смог бы ни от кого скрыться, ибо не знал, где поставлена охрана. Заповедная долина в своем смертном покое, безмолвии и пустынности предстала моему взору более величественно, чем любой фараон, сидящий на троне.
Всю ночь я кружил по долине, отыскивая опечатанную жрецами дверцу гробницы какого-нибудь фараона, ибо, задумав столь дерзкое дело, решил, что моим родителям подобает лишь такое погребение. К тому же я хотел найти могилу правителя, вошедшего в барку Амона недавно, дабы жертвоприношения ему были еще свежи и забота о его гробнице безупречна, потому что моим родителям надлежало иметь только самое лучшее, раз уж я не мог предоставить им их собственной могилы.
Когда луна зашла, я выкопал в песке рядом с гробницей великого фараона яму, опустил туда бычью шкуру с телами своих родителей и засыпал ее песком. Где-то вдали завыли шакалы, и я понял, что по пустыне ходит Анубис, желая позаботиться о моих родителях и проводить их в последний путь. Я знал также, что сердца моих родителей, взвешенные на весах великого судьи подземного царства Осириса, с честью прошли испытания и им не понадобились составляемые жрецами Книги мертвых, полные лживых выдумок, которых так жаждут богатые. Когда я пригоршнями сыпал песок на тела своих родителей, на душе у меня становилось немного легче. Я теперь знал, что они будут жить вечно вблизи великого фараона и питаться изысканными жертвами, приносимыми ему. В Стране Заката они смогут плавать в ладье фараона, есть хлеб фараона и пить его вино. Все это я совершил, добровольно подставляя свое тело пикам стражей Долины царей, но отнюдь не прошу вменять это мне в заслугу, потому что я вовсе не боялся их пик, – смерть в ту ночь показалась бы мне слаще мирры.
Но когда я засыпал яму, рука моя коснулась в песке чего-то твердого, и я увидел священного скарабея, вырезанного из красного камня, с глазами из маленьких драгоценных камешков, целиком покрытого заветными письменами. Увидев скарабея, я задрожал, и слезы мои оросили песок, ибо я принял его как знак от родителей, что они довольны и им хорошо. Так мне хотелось думать, хотя я и знал, что скарабей, очевидно, упал и затерялся в песке при захоронении фараона.
Луна ушла за горизонт, небо стало серым. Я поклонился песку и поднял руки, прощаясь с отцом моим Сенмутом и матерью моей Кипой. Да сохранятся их тела вечно и да будет приятна их жизнь в Стране Заката, ибо только ради них я хотел бы, чтобы она существовала, хотя сам я в это уже не верил. Потом я пошел прочь и больше не оглядывался. Но в руке я нес священного скарабея, и его сила была велика, поскольку стражи меня не заметили, хотя я видел их, когда они вышли из своих шалашей и разожгли костры, чтобы приготовить пищу. Благодаря могуществу скарабея ноги мои не скользили на обрыве, а скорпионы и змеи не приближались ко мне. В тот же вечер я дошел до берега Нила, испил воды, свалился на землю и уснул в камышах. Мои ноги и руки были изодраны в кровь, пустыня ослепила меня, а солнце обожгло спину до волдырей. Но я был жив, и боль не помешала мне уснуть, потому что я очень устал.
5
Утром, когда по небу в своей золотой ладье плыл Амон, а из-за реки доносился шум города, я проснулся в камышах от крика уток.
По Нилу скользили лодки и парусники, а прачки, стирая белье, хлопали валиками, смеялись и перекликались. Утро сияло, юное и прозрачное, но на сердце у меня было пусто, и жизнь моя была словно пепел на ладони.
Телесные боли обрадовали меня, ибо они доказывали, что я еще существую. До этого дня у меня была цель, и единственной моей заботой было обеспечить своим родителям вечную жизнь, которую я у них украл, заставив их к тому же умереть раньше времени. Теперь, насколько это возможно, вина была искуплена, но жизнь утратила цель и назначение. Тело мое прикрывала лишь грязная набедренная повязка, как у раба, спина болела, и я не имел ни единой медяшки, на которую мог бы купить себе еды. Если бы я куда-нибудь направился, то скоро попался бы в руки стражей, они окликнули бы меня и спросили, кто я и откуда, а я не смог бы им этого сказать, уверенный в том, что имя Синухе проклято и опозорено на веки веков. Поэтому же я не мог пойти и к своим друзьям, я не хотел, чтобы они делили со мной мой позор или, воздев руки, прокляли меня и повернулись ко мне спиной, ибо это было бы для них горько. Я считал, что и без того совершил много дурного.
Размышляя обо всем этом, я заметил, что вокруг меня осторожно ходит живое существо, но принял его не за человека, а за призрак из дурного сна. Вместо носа на его лице зияла дырка, уши были отрезаны, тело невероятно исхудало. Приглядевшись внимательнее, я увидел, что руки у него большие, мозолистые и крепкие, а жилистое тело покрыто ссадинами от переноски тяжестей или натерто канатами.
Заметив, что я его увидел, незнакомец заговорил со мной:
– Что ты так крепко сжимаешь в руке?
Я раскрыл ладонь и показал ему священного скарабея, которого нашел в песке заповедной долины.
– Отдай его мне, чтобы он принес мне счастье, – попросил незнакомец, – мне, бедняку, оно очень нужно.
Но я ответил:
– Я тоже бедняк, и, кроме этого скарабея, у меня ничего нет. Я хочу сохранить его как амулет, чтобы он принес мне удачу.
На это он сказал:
– Я действительно беден и несчастен, но мне жаль и твоей бедности, поэтому я дам тебе кусок серебра, хотя это слишком много за такой ничтожный камешек.
И он на самом деле извлек из-за пояса кусок серебра, однако я твердо решил оставить скарабея себе, ибо надеялся, что он принесет мне удачу, и поэтому отказал незнакомцу. Это рассердило его, и он бросил мне со злобой:
– Ты забыл, что я мог убить тебя, когда ты спал, ведь я долго глядел на тебя и гадал, что ты держишь в руке, так крепко сжав кулак. Но я стал ждать, когда ты проснешься, а теперь жалею об этом, раз ты такой неблагодарный.
Отвечая ему, я сказал:
– По твоему облику видно, что ты преступник и сбежал из рудников. Ты сделал бы доброе дело, если бы убил меня, пока я спал, ибо я одинок и нет у меня пути, по которому я мог бы направиться. Но берегись и беги отсюда, потому что, если стражники тебя увидят, они поймают тебя, изобьют палками и повесят на стене вниз головой или, во всяком случае, отправят обратно туда, откуда ты сбежал.
– Если бы я захотел, я мог бы убить тебя и теперь, – сказал он на это, – потому что, как я ни жалок, у меня все-таки много сил. Но я не стану делать этого ради камешка: отсюда недалеко до Города мертвых и стражи могут услышать твой крик. Так что владей своей удачей, может, ты и вправду нуждаешься в ней больше моего. Но откуда ты взялся, если не знаешь, что мне незачем бояться стражников, ведь я уже не раб, а свободный человек. Я мог бы пойти даже в город, но не хочу ходить по улицам, потому что дети пугаются моего вида.
– Как человек, осужденный навечно к работам в рудниках, может быть свободен? Я ведь все вижу по твоим ушам и носу, – усмехнулся я, думая, что он просто хвастается.
– Я не стану сердиться на твои слова, ведь я благочестивый человек и боюсь богов, – отвечал незнакомец. – Я поэтому и не убил тебя спящего. Но неужели ты и вправду не знаешь, что наследник, когда его объявили царем обоих царств, повелел разбить оковы и освободить из рудников и каменоломен всех, кто был осужден на вечное рабство, так что теперь там работают за плату только свободные. – Он долго чему-то смеялся, потом продолжал: – Здесь, в камышах, много таких крепких парней, как я, мы питаемся жертвоприношениями с могил богачей в Городе мертвых, ведь стражи боятся нас, а мы не страшимся покойников. И да будет тебе известно, что раб, попавший в рудники или каменоломни, вообще ничего не боится, потому что ничего худшего с ним уже не может произойти. Многие из нас не боятся даже богов, но, по-моему, надежнее соблюдать им верность, поэтому я остался благочестивым человеком, хотя, как ты видишь по мне, провел в рудниках десять лет.
Только тут я узнал, что наследник, нареченный на троне Аменхотепом IV, освободил всех рабов и узников, так что рудники и каменоломни Египта опустели. Ведь во всей стране не нашлось ни одного безумца, который отправился бы на эти работы добровольно. Итак, фараоном стал человек, поклонявшийся новому богу, а его Божественной супругой – принцесса из Митанни, которая еще играла в куклы.
– Его бог, наверное, совсем особенный, – сказал прежний раб, – если позволяет фараону совершать безумные поступки. Ведь теперь грабители и убийцы свободно разгуливают по обоим царствам, рудники опустели и Египет больше не богатеет. Я сам, правда, не совершал преступлений и пострадал из-за несправедливости, но такое всегда случалось и будет случаться. Безумие – расковать сто и тысячу преступников, чтобы освободился один невинный. Но это – дело фараона, а не мое. Пусть он думает за себя.
Говоря так, мой новый знакомец разглядывал меня, ощупывал мои руки и касался ран на спине. Его не пугал исходящий от меня запах Дома Смерти, он, видимо, пожалел мою молодость.
– Кожа твоя обгорела. У меня есть масло. Если хочешь, я смажу тебя. – И он смазал мне спину, ноги и руки, но, делая это, ругался: – Амон свидетель, не понимаю, зачем я это делаю, мне ведь нет от тебя никакой пользы, и меня никто не смазывал, когда я, избитый и израненный, клял богов, допустивших ко мне такую несправедливость.
Я, конечно, знал, что все рабы и осужденные клянутся в своей невиновности, но он отнесся ко мне дружелюбно, поэтому и я решил быть добр к нему, тем более что не хотел оставаться в одиночестве с собственным сердцем. И я попросил его:
– Расскажи мне о несправедливости, которая тебя постигла, чтобы я мог печалиться вместе с тобой.
Он покачал головой, отвечая мне:
– Печаль из меня выбили палками еще в первый год пребывания в медных рудниках. Сильнее печали была злость, она продолжалась пять лет, пока и ее из меня не выколотили, и сердце мое перестало ощущать все человеческие чувства. Но почему бы мне не рассказать тебе все, чтобы тебя развлечь, ибо пальцы мои, наверное, причиняют боль твоей спине. Так знай же, что когда-то я был свободным человеком, засевал землю, имел хижину, быков и жену, а в кувшинах моих плескалось пиво. Но у меня был сосед, могущественный человек по имени Анукис, да рассыплется тело его в прах. Его земель невозможно было охватить глазом, а скота у него было как песчинок в пустыне, и мычание этого скота оглушало подобно морской буре, но он все-таки завидовал моему клочку земли. Поэтому он делал мне всякие пакости, и после каждого разлива, когда землю вновь мерили, пограничный камень придвигался все ближе и ближе к моей хижине, а земля моя уменьшалась. И я ничего не мог с этим поделать, потому что землемеры слушались его, а не меня, ибо он подносил им богатые дары. Он перегородил мой оросительный канал и не пускал воду на мое поле, так что быки мои страдали от жажды, посевы засохли и пиво в кувшинах кончилось. Но жалобы мои не доходили до него – зимой он жил в своем большом доме в Фивах, а когда приезжал летом порадоваться своим владениям, его слуги били меня палками и науськивали на меня собак, если я осмеливался приблизиться к нему. – Безносый глубоко вздохнул, продолжая втирать масло в мою спину. Потом заговорил снова: – Но может быть, я и поныне жил бы еще в своей хижине, если бы боги меня не прокляли, одарив красавицей-дочерью. У меня было пятеро сыновей и три дочери, бедняки ведь быстро плодятся. Они радовали меня и стали хорошими помощниками, когда выросли, хотя одного из сыновей украл проезжий сирийский торговец, когда мальчик был еще совсем маленьким. Но самая младшая из моих дочерей была красавица, и я, безумец, гордился этим, не понуждая ее делать тяжелую работу: ни гнуть спину в поле под палящим солнцем, ни таскать воду. Я поступил бы умнее, если бы срезал ее волосы и испачкал сажей лицо, ибо сосед мой Анукис увидел и возжаждал ее, так что после этого я уже не знал покоя ни днем ни ночью. Он вызвал меня в суд и заявил, что мои быки затоптали его поле, а сыновья нарочно заткнули его оросительные каналы и забросали падалью его колодцы. К тому же он поклялся, что я одалживал у него зерно в неурожайные годы, все его слуги клятвенно подтвердили это, и судья не стал меня даже слушать. Но сосед оставил бы мне мое поле, если бы я отдал ему свою дочь. На это я не согласился, я думал, что благодаря ее красоте найду ей хорошего мужа, который будет милосерден ко мне и прокормит меня в дни моей старости. Под конец его слуги напали на меня, и у меня не было в руках ничего, кроме посоха, которым я так ударил одного из них, что он умер. Тогда мне отрезали нос и уши и послали в рудники, а жену и детей продали в рабство за неоплаченные долги. Но младшую дочь Анукис взял себе и, навеселившись с ней вдоволь, отдал ее на утехи своим рабам. Вот почему я думаю, что со мной поступили несправедливо, сослав в рудники. Теперь, через десять лет, когда фараон освободил меня, я пошел домой, но хижина моя разрушена, по полю гуляет чужой скот, и дочь моя уже не захотела меня узнать, а плеснула мне на ноги горячей воды, когда я вошел в дом скотников. Но мне рассказали, что Анукис умер, что его большая гробница находится в фиванском Городе мертвых и на дверях гробницы сделана длинная надпись. Поэтому я пришел в Фивы, чтобы порадовать свое сердце словами, начертанными на его могиле, но я не умею читать, и никто мне их не прочитал, хотя, расспрашивая людей, я нашел могилу.
– Если хочешь, я прочту тебе надпись, ведь я умею читать, – предложил я.
– Да живет твое тело вечно за то, что ты хочешь оказать мне эту услугу! – воскликнул он. – Ведь я бедный человек и верю всему, что написано. Вот я и хочу узнать перед смертью, что написано про Анукиса.
Он смазал мне спину и выстирал мою набедренную повязку. Мы пошли вместе в Город мертвых, и стражи нас не остановили. Мы шли между рядами могил, пока он не показал мне большую гробницу, перед которой лежали мясо, всяческие печености, фрукты и цветы. Тут же стоял и запечатанный кувшин с вином. Безносый поел, накормил меня и наконец попросил, чтобы я прочитал, что написано на дверях гробницы. Я прочел:
«Я, Анукис, засевал поля, сажал фруктовые деревья и получал богатые урожаи, потому что боялся богов и жертвовал им пятую часть своих доходов. Нил был благосклонен ко мне, и на землях моих никто не ведал голода, соседи мои тоже не страдали от недоедания, ибо я направлял воду на их поля и кормил их своим зерном в неурожайные годы. Я утирал слезы сирот и не грабил вдов, прощая им все долги, и имя мое благословляли все вокруг. Тому, у кого пал бык, я, Анукис, дарил другого. Никогда в течение всей своей жизни я не передвигал межевых камней и не мешал воде орошать соседские поля, а был всегда справедлив и богобоязнен. Все это сделал я, Анукис, чтобы боги были ко мне благосклонны и облегчили мне путь в Страну Заката».
Безносый внимательно слушал, а когда я кончил чтение, он горько заплакал:
– Я бедняк и верю всему, что написано. Теперь я верю, что Анукис был благочестивым человеком и поэтому его почитают после смерти. Будущие поколения тоже прочтут надпись на дверях его гробницы и будут прославлять его. А я преступник и червь, лишенный ушей и носа, чтобы любой человек видел мой позор, и, когда я умру, тело мое бросят в реку, и я не узнаю вечной жизни. Так не все ли в этом мире тщетно?
Он сломал печать на винном кувшине и стал пить вино. Страж подошел к нему и пригрозил палкой, но безносый сказал:
– Анукис сделал мне много добра при жизни. Поэтому я хочу почтить его едой и питьем на его могиле. Но если ты ударишь меня или моего друга, ученого человека, умеющего читать, или позовешь на помощь других стражников, то знай, что нас, сильных людей с ножами, много в камышах, мы явимся ночью и перережем тебе глотку. Мне это было бы неприятно, ибо я благочестивый человек, верю в богов и никому не хочу зла. Оставь нас в покое и притворись, что никого не видел, – так будет лучше для тебя самого.
Безносый, безухий, в лохмотьях, с горящими злобой глазами, он был страшен, и стражник послушался его, опасливо огляделся и пошел прочь. А мы ели и пили у могилы Анукиса, навес над жертвенными дарами был тенист и прохладен, и, напившись вина, Безносый сказал:
– Теперь я понимаю, что лучше было бы добровольно отдать Анукису дочь. Может быть, он не тронул бы мою хижину и даже принес бы мне какие-нибудь подарки, ибо дочь моя была красива и невинна, хотя она и стала нынче истрепанной подстилкой его рабов. Видно, в мире нет иного права, кроме права богатого и сильного, а слово бедняка не доходит до ушей фараона. – Он поднял кувшин, громко засмеялся и сказал: – За твое здоровье, справедливый Анукис, да живет твое тело вечно, ибо мне не хочется следовать за тобой в Страну Заката, где ты с тебе подобными любимцами богов ведешь веселую жизнь. Лучше бы ты продолжал свои добрые дела на земле и поделился со мной золотыми чашами и украшениями, которые хранятся в твоей могиле. А раз ты этого не сделал, следующей ночью, когда луна спрячется за тучу, я приду тебя приветствовать.
– Что ты такое говоришь, Безносый? – спросил я испуганно и невольно сделал священный жест во славу Амона. – Надеюсь, ты не собираешься стать грабителем могил, ведь это самое позорное из всех преступлений в глазах людей и богов.
Но, расхрабрившись от выпитого вина, Безносый возразил:
– Ты несешь ученую чушь, а Анукис – мой должник, и я не так милосерден, как он, я потребую обратно то, что мне причитается. Нынче ночью, едва скроется луна, я взломаю гробницу – и тогда не вздумай мне помешать, а не то я сверну тебе шею. Если ты умен, то поможешь мне – четыре глаза лучше двух, и вдвоем мы унесем больше, чем я один.
– Я не хочу, чтобы меня избили и повесили на стене вниз головой, – сказал я в ужасе. Но, поразмыслив, понял, что мой позор вряд ли увеличится, если мои друзья увидят меня повешенным вверх ногами, а смерть сама по себе меня не пугала.
Мы ели и пили, а опустошив кувшин, разбили его и разбросали черепки вокруг могил. Стражники не стали на нас кричать и испуганно повернулись к нам спиной. На ночь охранять могилы в Город мертвых приплыли воины из Фив, но, так как новый фараон не одарил их в честь коронации, как это было принято, они роптали и, напившись вина из кувшинов, стоящих под жертвенными навесами, принялись зажигать факелы, вскрывать могилы и грабить их. Поэтому, когда мы с Безносым взломали дверь в гробницу Анукиса, перевернули его гроб и унесли столько золотых чаш и драгоценностей, сколько смогли, нас никто не остановил. На рассвете возле реки появилась целая группа сирийских торговцев, готовых купить награбленные в могилах драгоценности, чтобы увезти их на лодках вниз по Нилу. Мы продали им свою добычу, получили почти двести дебенов золота и серебра и разделили все это между собой согласно весу, указанному на слитках. Но цена, полученная нами за могильные драгоценности, была лишь малой частью их истинной стоимости, и золото, которое мы получили, не было чистым золотом. Несмотря на это, Безносый очень радовался и говорил:
– Я стану богатым человеком, ведь это гораздо выгоднее, чем таскать тяжести на пристани или воду из каналов на поля.
Но я предостерег его:
– Повадится кувшин по воду ходить, там ему и черепки сложить.
Мы расстались, я переплыл Нил на лодке торговца и вернулся в Фивы. Там я купил себе одежду, поел и выпил в кабачке, так как от меня уже почти не пахло Домом Смерти. Но весь день из Города мертвых на том берегу доносились звуки труб и бряцание оружия. Воинские колесницы катились по кладбищенским аллеям, и телохранители фараона метали копья в грабящих могилы воинов и в выпущенных из рудников преступников, так что их смертельные крики доносились до самого города. А вечером городские стены были увешаны телами казненных, и в Фивах водворился порядок.
6
Проведя ночь в гостинице, я пошел к своему прежнему дому и позвал Каптаха. Он вышел прихрамывая, его щека вздулась от побоев, но, увидев меня, он заплакал от радости, проливая слезы единственным глазом, и бросился мне в ноги:
– Господин мой, ты возвратился, а я боялся, что ты умер. Если бы ты был жив, думал я, то вернулся бы ко мне попросить еще серебра и меди. Ведь тот, кто дал однажды, вынужден давать всегда. Но ты не приходил, хотя я наворовал для тебя у своего нового хозяина – да рассыплется в прах его тело – столько денег, сколько сумел, как ты видишь по моей щеке и по колену, в которое он меня вчера пнул. Его мать, крокодилица, – да рассыплется она в прах – пригрозила, что продаст меня, и я очень боюсь. Уйдем скорее из этого проклятого дома, господин мой, я убегу вместе с тобой.
Я заколебался, а он, наверное, не так понял мои колебания и сказал:
– Я действительно украл столько, что некоторое время смогу содержать тебя, господин мой, а когда средства кончатся, я стану для тебя работать, лишь бы ты взял меня от этой крокодилицы и ее сынка.
– Я пришел только для того, чтобы вернуть тебе свой долг, Каптах, – сказал я, ссыпая в его горсть серебро и золото, которое во много раз превышало то, что он мне одолжил. – Но если хочешь, я выкуплю тебя у хозяина и дам тебе свободу, ты сможешь идти куда вздумается.
Почувствовав в руках тяжесть золота и серебра, Каптах от радости чуть не лишился рассудка и, забыв о своей хромоте, запрыгал, хотя был уже старым человеком. Потом ему стало стыдно, и он сказал:
– Я действительно горько плакал, отдавая тебе свои сбережения, но не ругай меня за это. Если бы ты и освободил меня, то куда бы я делся, ведь я всю жизнь был рабом. Без тебя я словно слепой котенок или ягненок, которого бросила мать. И не стоит тебе тратить дорогое золото на то, что и так тебе принадлежит.
Он стал подмигивать мне своим единственным глазом, давая понять, какой он ловкач.
– Ожидая тебя, я каждый день справлялся о движении судов, – сказал он. – Сегодня большой и крепкий на вид корабль отплывает в Симиру. Если принести богам хорошие жертвы, на нем можно отправиться в путешествие. Но вот беда: отказавшись от Амона, который насылал на нас одни только несчастья, я еще не нашел достаточно надежного нового бога. Я выспрашивал людей о разных богах, даже о том новом, храм которого сейчас открыли и куда многие ходят, чтобы заслужить милость фараона. Но мне рассказали, будто фараон говорил, что его бог живет правдой, поэтому я боюсь, что это очень неудобный бог и мне вряд ли будет от него польза.
Я вспомнил о найденном скарабее и отдал его Каптаху со словами:
– Вот тебе бог, он очень сильный, хотя и такой маленький. Береги его как зеницу ока, я думаю, что он приносит счастье, поскольку в моем мешке есть золото. Оденься сирийцем и убеги, если ты в самом деле этого хочешь, но не вини меня, если попадешься как беглец. Да поможет тебе этот божок, – пожалуй, действительно лучше сберечь наши средства, чтобы оплатить дорогу до Симиры. Я никому не смогу больше смотреть в глаза ни в Фивах, ни во всем Египте. Но раз надо где-то жить, я уеду и никогда больше не вернусь в Фивы.
Каптах же мне возразил:
– Лучше не зарекаться, господин мой, ибо завтрашний день никому неведом, а человек, который однажды испил воды из Нила, не сможет утолить жажду никакой другой водой. Вообще же ты придумал и решил умно и делаешь еще умнее, беря меня с собой, ибо без меня ты словно ребенок, который не может сам себя запеленать. Не знаю, какое зло ты совершил, но, хотя глаза твои вылезают из орбит, когда ты об этом говоришь, ты еще молод и все можешь забыть. Ведь деяния человека словно брошенный в воду камень – он издает громкий и сильный всплеск, но немного погодя на воде снова гладь, а от камня и следа не видно. Такова и память человека. Когда пройдет достаточно времени, все забудут тебя и твой поступок, и ты сможешь вернуться, – надеюсь, ты к тому времени станешь таким могущественным и богатым, что сможешь защитить и меня, если поиски беглых рабов обернутся для меня неприятностями.
– Я уеду и никогда не вернусь, – сказал я решительно, но тут новая хозяйка злобно позвала Каптаха.
Я ушел и стал ждать его за углом. Немного погодя он появился, позвякивая в руках медяшками и с корзиной, в которой лежал узелок.
– Праматерь всех крокодилов послала меня на рынок за покупками, – сказал он очень радостно. – Правда, она, как всегда, дала мне мало меди, но даже маленький приварок в дороге пригодится, ведь Симира, кажется, очень далеко отсюда.
В узелке у него была одежда и парик. Когда мы пришли к пристани и он переоделся в камышах, я купил ему богатый посох – такие посохи отличают слуг знатных людей, а также вестников, бегущих впереди. Потом мы вышли на пристань, где останавливаются сирийские корабли, и нашли большое судно, на котором от носа к корме бежал трос толщиной с руку человека, а на мачте плескалось полотнище – знак отправления. Судно называлось «Сарган». Капитаном на нем был отважный сириец, он очень обрадовался, узнав, что я врач, ибо он уважал египетскую науку врачевания, а многие его матросы были больны. Скарабей нам действительно принес удачу, потому что капитан вписал нас в команду и не взял с нас за дорогу, обязав платить только за пропитание. С этого времени Каптах стал чтить скарабея как божество, ежедневно смазывал его хорошим маслом и заворачивал в дорогую материю.
Корабль отошел от берега, рабы принялись грести, и, проведя в пути восемнадцать дней, мы достигли границы обоих царств, а еще через восемнадцать доплыли до места, где Нил разделяется на два рукава, впадающие в море, потом прошло еще два дня, и перед нами появилось само море. По дороге мы миновали многие города и храмы, видели поля и стада, но богатства Египта не радовали мое сердце, я хотел, чтобы мы двигались быстрее и быстрее, и с нетерпением ожидал, когда мы наконец покинем Черную землю. Увидев безбрежное море, Каптах стал вдруг беспокоен и спросил, не лучше ли все-таки было бы сойти с корабля и добраться до Симиры посуху, хотя дорога была трудной и нам угрожали бы грабители. Его беспокойство возросло, когда гребцы и моряки, согласно обычаю, начали охать и до крови расцарапывать лицо острыми камнями, несмотря на то что капитан им это запрещал, не желая пугать многочисленных пассажиров. Капитан велел высечь гребцов и моряков, но это ничуть не уменьшило их стенаний, так что уже и многие пассажиры стали горько сетовать и приносить жертвы своим богам. Египтяне призывали на помощь Амона, а сирийцы рвали свои бороды и молили богов Симиры, Сидона, Библа и других городов, в зависимости от того, откуда они были родом.
Я посоветовал Каптаху, если он боится, принести жертвы нашему богу, он развернул скарабея, кинулся перед ним на колени, бросил в море кусок серебра, чтобы умилостивить морских богов, и зарыдал, оплакивая и серебро, и собственную судьбу. Моряки перестали кричать и подняли паруса, судно накренилось и стало качаться, а гребцы получили пиво и хлеб.
Но когда на судне началась качка, лицо Каптаха сделалось серым, он перестал кричать и крепко вцепился в судовые канаты. Немного погодя он жалобным голосом сообщил мне, что желудок его поднимается к самым ушам и он умирает. Однако он не стал клясть меня за наше путешествие, а простил, полагая, что и к нему боги будут милостивы, ибо хотел надеяться на то, что морская вода достаточно солона, чтобы сохранить его тело, и что, утонув, он сможет попасть в Страну Заката. Но моряки, слышавшие его слова, посмеялись над ним и сказали, что море полно чудовищ, которые поглотят его, прежде чем он успеет упасть на дно.
Ветер крепчал, качка становилась сильнее, и капитан вывел судно так далеко в море, что берегов уже не было видно. Тогда и я забеспокоился, ибо не понимал, как же он сможет найти берег. Я больше не смеялся над Каптахом, голова у меня кружилась, и я чувствовал себя очень странно. Через некоторое время Каптаха вырвало, он свернулся в клубок на палубе, лицо его стало зеленым, и он больше не говорил ни слова. Увидев, что многих других пассажиров тоже рвет, что лица их изменились и они, по-видимому, умирают, я испугался и быстро направился к капитану. Я сказал ему, что боги, очевидно, прокляли его судно, раз, несмотря на мое врачебное искусство, среди пассажиров вспыхнула страшная эпидемия. Я умолял капитана, чтобы он повернул свое судно обратно к берегу, пока еще может его найти, потому что иначе я, как врач, уже не смогу отвечать за последствия. И хотя мне было неприятно вмешиваться в дела, касающиеся только капитана, я все-таки обратил его внимание на то, как ужасна буря, бушующая вокруг нас и раскачивающая судно, которое, казалось, вот-вот развалится.
Но капитан успокаивал и утешал меня, говоря, что это всего-навсего попутный ветер, который позволяет нам двигаться быстрее, и советовал не гневить богов, говоря о буре. А болезнь пассажиров он объяснял тем, что, заплатив за питание, они ели слишком много и поэтому владельцы судна, не желая разоряться, очевидно, принесли в Симире жертвы морским богам, упрашивая их сделать так, чтобы пассажиры не в состоянии были удерживать в себе пищу и не опустошили скромные корабельные запасы, подобно хищникам.
Его объяснения не очень меня успокоили, и я осмелился его спросить, уверен ли он, что найдет дорогу к берегу, особенно в сгущающейся тьме. Он отвечал, что в его каюте много разных богов, которые помогают ему находить верное направление днем и ночью, лишь бы ночью светили звезды, а днем – солнце. Но это он, наверное, солгал, потому что таких богов вообще не существует.
Еще я спросил его, почему я не заболел, подобно всем остальным пассажирам. Он сказал, что это вполне естественно, раз я платил за питание отдельно и не приносил убытков судовладельцам. О Каптахе же он сказал, что слуги – другое дело. Они то болеют, то нет – бывает по-разному. Клянясь своей бородой, он уверил меня, что каждый пассажир, едва ступив на берег Симиры, будет снова здоров, как молодая коза, поэтому мне нечего бояться за свою репутацию целителя. Однако, глядя на состояние пассажиров, мне все-таки было трудно в это поверить.
Почему я сам не заболел – не могу сказать, может быть, потому, что едва я родился, как меня положили в камышовую лодку и пустили качаться по волнам Нила. Другого объяснения я не могу придумать.
Я как мог старался помогать Каптаху и другим пассажирам, но пассажиры проклинали меня, а Каптах, которому я предложил поесть, чтобы подкрепиться, отвернулся от меня и стал издавать звуки, подобные тем, какие издает бегемот, когда очищает свой желудок, хотя Каптаху нечего было уже очищать. Так как еще никогда не бывало, чтобы Каптах отвернулся от миски с едой, я стал всерьез опасаться, что он умрет, и был очень огорчен, потому что уже привык к его глупым разговорам.
Наступила ночь, я наконец уснул, хотя качка, ужасное хлопанье парусов и скрип судна, когда волна била в борт, очень пугали меня. Так прошло несколько дней, но никто из пассажиров не умер, многие, наоборот, снова стали есть и прогуливаться по палубе. Только Каптах лежал на своем месте и не притрагивался к пище, но и он начал наконец подавать признаки жизни, молясь нашему скарабею, из чего я заключил, что в нем проснулась надежда достичь Симиры живым. Когда на седьмой день пути снова показался берег, капитан сказал, что, миновав Яффу и Тир, мы, благодаря попутному ветру, направляемся прямо в Симиру. Откуда он все это знал, я не понимаю и по сей день. Но наутро действительно показалась Симира, и капитан принес морским богам и богам судовладельцев щедрые дары. Паруса были спущены, гребцы опустили весла, и корабль вошел в гавань.
Едва мы достигли тихих вод, как Каптах поднялся на ноги и поклялся скарабеем, что никогда больше нога его не ступит на палубу корабля.
Свиток пятый. Хабири
1
Настало время поведать о Сирии и о тех городах, в которых я очутился и где все не так, как в Египте. Река течет не по земле, а, орошая землю, льется с неба. За каждой долиной громоздятся горы, а за горами – опять долины, и в каждой долине – особый народ, а у каждого народа – свой правитель, который платит дань фараону или, во всяком случае, платил в те времена, о которых я повествую.
Говорят эти народы на разных языках, прибрежные жители кормятся рыбной ловлей или торгуют, а во внутренних землях засевают поля или грабят друг друга, чему не могут помешать египетские гарнизоны. Одежды, которые носят местные жители, пестры и искусно вытканы из шерсти, при этом люди кутаются с головы до ног, наверное, потому, что в их странах холоднее, чем в Египте, и еще потому, что стыдятся обнажать свое тело, не считая, правда, тех случаев, когда они, к ужасу египтян, справляют нужду на улице. Они не стригут волос, отращивают бороды, едят всегда в доме, а их боги, которых много у каждого города, требуют человеческих жертв. Теперь, когда я это рассказал, каждому понятно, что все здесь иначе, чем в Египте, а почему – сказать не могу, ибо не ведаю.
Ясно, что те знатные египтяне, которых назначали в сирийские города наблюдать за сбором податей фараону или командовать гарнизонами, видели в таком назначении скорее наказание, чем почетную должность, и тосковали о возвращении к берегам Нила, за исключением тех, кто по слабости духа соблазнился непривычной жизнью, сменил свои одежды и мысли и начал возносить жертвы чужим богам. Странные обычаи сирийцев, их постоянные хитрости и увертки в выплате дани, как и раздоры между их правителями, делали жизнь египетских чиновников несладкой. Но в Симире все-таки был храм Амона, и египетская колония, не смешиваясь с сирийцами, жила и проводила свои праздники, сохраняя собственные обычаи. Египтяне пытались представлять себе, что находятся на родине.
Я прожил в Симире два года и выучил за это время вавилонский язык и письмо, ибо мне сказали, что человек, который их знает, может объехать весь мир и образованные люди его везде поймут. Вавилоняне, как известно, пишут на глиняных табличках, процарапывая их острыми палочками. Так же переписываются друг с другом и правители многих стран. Почему так принято – я не ведаю, если только не потому, что папирус горит, а глиняная табличка сохраняется вечно и рассказывает о том, как быстро цари и правители забывают о заключенных союзах и священных договорах.
Сказав, что в Сирии все не так, как в Египте, я имел в виду и то, что врач сам ищет там своих больных, а не больные его, ибо они принимают только целителя, который сам к ним явился, полагая, что именно его послали им боги. Они платят ему сразу, а не после того, как поправились, и это выгодно врачу, поскольку больные, выздоровев, нередко забывают о благодарности. Но у знати и богатых людей принято иметь собственного целителя, которому они делают подарки, пока остаются здоровыми, а заболев, никаких подарков не делают, ожидая выздоровления.
Я собирался заняться в Симире врачеванием, но Каптах сказал: «Нет!» Он хотел, чтобы я сначала вложил все свои деньги в богатые одежды и оплатил глашатаев, которые возвестили бы о моем искусстве по всему городу, там, где собираются люди. Глашатаи должны были также сообщить, что я не ищу больных, а больным следует искать меня, и Каптах не велел мне принимать никого, кто придет хотя бы без золотого слитка. Я сказал ему, что в чужом городе, где никто не знает моего искусства и где обычаи иные, чем в Египте, поступать так безумно. Но Каптах настаивал на своем, и я не мог ничего с ним поделать, ибо он был упрям, как мул.
Он заставил меня также отправиться к самым известным врачевателям Симиры и сказать им:
– Я – египетский врач Синухе, кому новый фараон дал имя «Тот, который одинок», и слава моя на родине велика. Я возвращаю жизнь мертвым и зрение слепым, если это не противно воле моего маленького, но могущественного бога, которого я вожу с собой в своем дорожном сундуке. Но наука врачевания не всюду, конечно, одинакова, как неодинаковы и недуги. Поэтому я прибыл в ваш город изучать и исцелять болезни, набираться ваших знаний и мудрости. Я никак не собираюсь мешать вам в вашем искусстве, ибо кто я такой, чтобы состязаться с вами. А золото для меня что пыль на подошвах ног, и поэтому я предлагаю вам, чтобы вы отсылали ко мне тех больных, которых не можете исцелить, потому что на них разгневались ваши боги, а поскольку вы не пользуете больных ножом, присылайте и тех, врачевание которых требует такого вмешательства, – я проверю, может ли их исцелить мой бог. Если я излечу такого больного, я отдам вам половину его подарков, ибо воистину явился сюда не за золотом, а за знаниями. А если я его не вылечу, я не возьму от него ничего и отошлю вместе с дарами к вам.
Симирские врачеватели, с которыми я так говорил, встречая их на улицах и на торжищах, где они расхаживали в поисках больных, отвечали мне, тряся своими одеждами и почесывая бороду:
– Ты, конечно, молод, но, видно, твой бог наградил тебя мудростью, ибо слова твои приятны ушам нашим. Особенно мудро то, что ты говоришь о золоте и подарках. По душе нам и речи твои о ноже, которым мы, врачуя, никогда не пользуемся, потому что больной, которого коснулся нож, умирает быстрее, чем тот, кого он не касался. Мы только просим тебя, чтобы ты никогда не прибегал к колдовству, ибо наши колдовские силы неодолимы и на этом ристалище в Симире, как и в других приморских городах, хватает соревнователей.
Следствием всего этого было то, что ко мне стали приходить больные, которых не сумели вылечить другие врачи, и я их исцелял, а тех, которым не мог помочь, отсылал обратно. Желая очиститься, я, как и подобает, принес из храма Амона в дом священный огонь, дабы без страха пользоваться ножом, и стал делать операции, которым врачи Симиры, почесывая бороду, много дивились. Мне удалось вернуть зрение одному слепцу, хотя его безуспешно лечили и врачи, и колдуны, смазывая глаза грязью, смешанной со слюной; я исцелил его с помощью иглы, как это принято в Египте, и тем заслужил громкую славу, несмотря на то что больной через некоторое время снова ослеп, ибо такое исцеление недолговечно.
Торговцы и богачи Симиры жили праздно, ели гораздо больше, чем египтяне, жирели от этого и страдали одышкой или болями в желудке. Я пользовал их ножом, так что они истекали кровью, подобно свиньям, а чтобы пополнить запасы снадобий, мне очень пригодились знания лекарственных растений и тех дней, когда луна и звезды благоприятствуют их сбору, – познания симирских врачевателей были в этом деле очень невелики, и я не мог доверять их лекарствам. Я давал толстякам отвары, которые успокаивали их желудочные боли или помогали дышать, и продавал эти снадобья за большую цену – каждому соответственно его богатству, при этом я ни с кем не рассорился, принося дары городским врачам и чиновникам, а Каптах заботился о моей известности и кормил в моем доме нищих и сказочников, дабы они разносили мою славу по улицам и рынкам, не давая имени моему забыться.
Я заработал много золота и все то, чего не истратил или не отдал в дар, вложил в симирские торговые дома, которые направляли суда в Египет, на острова или в землю хеттов, так что на многих судах я имел свою долю – то сотую, то пятисотую, в зависимости от вложенных средств. Некоторые корабли никогда не возвращались обратно, но чаще всего они все-таки приплывали назад, и торговые дома удваивали или утраивали мое золото. Таково было обыкновение Симиры, неизвестное в Египте, и даже бедняки пытали счастье, богатея или совсем разоряясь на этом, ибо они, собираясь по десять-двадцать человек, складывали вместе свою медь, чтобы купить тысячную долю судна или его груза. Благодаря такому обычаю мне не приходилось держать свое золото дома, опасаясь воров и грабителей, все мое состояние находилось в торговых домах, и, когда я ездил лечить больных в другие города – в Библ или Сидон, мне не нужно было возить с собой ценности, достаточно было взять в торговом доме глиняную табличку, по которой библоские или сидонские торговцы отвешивали мне золото, если я хотел купить что-нибудь особенное. Но чаще всего у меня не было в этом нужды, ибо золото дарили мне больные, которых я лечил и которые, потеряв веру во врачей своего города, посылали за мной в Симиру.
Так я процветал, богатство мое росло, Каптах толстел и одевался в дорогие одежды, умащая себя благовониями, и даже со мной стал держаться надменно, пока я не отделал его палкой.
Я был молод, верил в себя, нож в моей руке не дрожал, врачуя больных, мне нечего было терять, и я действовал смело. Я не пренебрегал искусством симирских целителей, давал даже их лекарства, если видел их пользу, но особенно искусны они были в употреблении каленого железа, пользуясь им вместо ножа, хотя это было мучительнее для больных. Может быть, успехи мои обеспечивал священный скарабей, которого Каптах почитал богом. Я заказал для него ковчежец из золота и серебра, а Каптах ежедневно приносил ему в качестве жертвы свежий коровий помет, чтобы он мог катать из него шарики, как это обычно делают навозные жуки, хотя я ни разу не видел, чтобы он скатал такой шарик. Если я и сомневался в том, что обязан своими удачами скарабею, я все-таки обращался с ним почтительно и позволял Каптаху поклоняться ему, так что этот простак в конце концов вообразил себя его жрецом.
Мой успех был так велик оттого, что я никому не завидовал и ни с кем не состязался, а делал щедрые подарки другим и принимал больных, которых никто другой не хотел лечить, ведь знание было для меня дороже золота. Заработав достаточно, чтобы жить безбедно, соответственно своему положению, я лечил иной раз и бедняков, учась на их страданиях. Некоторые мои больные умирали, ибо мне не хватало искусства исцелять всех, но за это меня не хулили, хотя врач нередко теряет свою репутацию, когда больной у него умирает. О тех, кто погибал от моего лечения, говорили: «Так хотел его Ваал, раз даже Синухе-египтянин не смог его вылечить». Вот как велика была моя слава в Симире.
2
Но одиночество мое продолжалось, и не было мне радости от жизни моей. Вино мне опостылело – сердце оно не услаждало, а лицо от него делалось черным, словно вымазанное сажей, и, испив вина, я не хотел ничего, кроме смерти. Чтобы в течение дня у меня не оставалось ни одного свободного мгновения, а ночной сон был непробуден, я копил знания, учил язык и письмо вавилонян, ибо в минуты праздности сердце мое разрывалось и, мучимое всем сотворенным, болело, точно облитое щелочью.
Дабы узнать, не могут ли меня чему-нибудь научить сирийские боги, я решил познакомиться и с ними. Как и все остальное, боги Симиры отличались от египетских. Главным божеством здесь был Ваал – жестокий бог, требовавший крови за свое благоволение к городу и понуждавший жрецов оскоплять себя. Ваалу следовало приносить в жертву даже маленьких детей, за которыми поэтому постоянно охотились симирские торговцы и чиновники. Беднякам за малейшую провинность грозили страшные кары: если человек украл рыбу, чтобы накормить семью, его сжигали на алтаре Ваала, так же поступали и с каждым провинившимся рабом. Зато человек, обманувший другого, обвесив его или примешав серебро к золоту, не подвергался наказанию, а заслуживал репутацию хорошего находчивого торговца, и в таких случаях говорили: «Человек сотворен, чтобы быть обманутым». Если моряки и капитаны крали детей где-нибудь на побережье и даже в Египте, чтобы принести их в жертву Ваалу, это тоже считалось большой заслугой.
Их богиней была Астарта, которую, подобно тому как она звалась в Ниневии, именовали также Иштар. У Астарты было несколько грудей, ежедневно ее одевали в прозрачные одежды и обвешивали украшениями, а прислуживали ей женщины, которых почему-то называли девами, хотя они вовсе не были девами, наоборот, они обязаны были веселиться в храме, ибо это считалось угодным богине, и тем более угодным, чем щедрее гость одарял храм серебром и золотом. Девы состязались друг с другом в искусстве любить мужчин разными способами, к чему их приучали еще с детства, чтобы мужчины ради них одаряли Астарту. В этом Сирия тоже отличалась от Египта, где веселиться с женщиной в храме считается великим грехом, и если кто-нибудь на этом попадется, его посылают в рудники, а в храме совершают очистительный обряд.
Зато собственных жен симирские торговцы строго охраняли, держали их за запорами и с ног до головы кутали в толстые одежды, чтобы они своим видом не соблазняли посторонних мужчин. А сами мужья в жажде разнообразия и ради угождения своим богам похаживали в храмы. Поэтому в Симире не было домов увеселений, подобных египетским, и если кого-нибудь не удовлетворяли девы храма, ему оставалось только жениться или купить на рынке молоденькую рабыню, чтобы веселиться с ней. На торжище ежедневно продавалось множество рабов, привезенных кораблями в симирскую гавань. Там был товар на любой вкус – всех цветов кожи, толстые и тощие, дети и юные девушки. Провинившихся в чем-нибудь рабов за бесценок покупали правители города и приносили в жертву Ваалу, а совершив эту выгодную сделку, удовлетворенно улыбались и били себя в грудь, гордясь своей находчивостью и тем, что сумели обмануть божество. Если же раб был очень старый, беззубый и обезножевший, Ваалу завязывали глаза, чтобы он не видел изъянов в жертве и только радовался, чуя запах крови, льющейся в его честь.
Я тоже приносил жертвы Ваалу, раз уж он считался божеством этого города и с ним лучше было сохранять хорошие отношения, но, как египтянин, я не воздавал ему человеческих жертв, а приносил только золото.
Несколько раз я заходил и в храм Астарты, который открывался по вечерам, слушал там музыку и смотрел, как женщины храма, которых я не хочу называть девами, исполняли обольстительные танцы в честь богини. Поскольку так было принято, я веселился с ними, и, к моему большому удивлению, они научили меня многому такому, что было мне неведомо. Но сердце мое при этом не радовалось, меня толкало к ним только любопытство, и, обучившись всему, чему они могли меня научить, я пресытился ими и перестал ходить в храм Астарты, считая искусство ее служительниц утомительно однообразным.
Каптаха беспокоило мое состояние, он горестно качал головой, видя, как стареет мое лицо, углубляются морщины на переносице и замыкается сердце. Он хотел, чтобы я купил себе рабыню и в свободное время веселился с ней, раз мне нельзя было взять себе жену в чужом народе и поскольку я не общался с египетской колонией и не мог по этой причине радовать женщин, мужья которых находились в отъезде или несли воинскую службу в глубине страны. Так как Каптах был у меня домоправителем и ведал моим золотом, он однажды по собственному вкусу купил рабыню, обмыл ее, одел и умастил благовониями, а вечером, когда, устав от целого дня врачевания, я хотел отправиться на покой, показал ее мне.
Это была девушка с островов, белокожая, в меру упитанная, с жемчужными зубами и круглыми, ласковыми, как у теленка, глазами. Она с почтением смотрела на меня и страшилась чужого города. Каптах показывал ее мне, горячо расхваливая ее красоту, и, желая доставить ему удовольствие, я попытался предаться с ней веселью. Но хотя я приложил все свое искусство, чтобы не оставаться в одиночестве, сердце мое не радовалось ей и при всем желании я не мог назвать ее сестрой.
К несчастью, я допустил ошибку, держась с ней приветливо, ибо она от этого возгордилась и стала очень мешать мне, когда я принимал больных. Она много ела и начала полнеть, без конца выпрашивала новые украшения и наряды, ходила за мной с печальными глазами и беспрестанно желала со мной веселиться. Не помогали мне и поездки вглубь страны и в прибрежные города, ибо она первая встречала меня дома, плакала от радости и снова начинала ходить за мной по пятам, желая лечь со мной в постель. Не помогла и палка, которой я в раздражении ее прибил, – от этого девушка пришла в еще большее возбуждение, восхищалась моей силой и сделала мою жизнь несносной. В конце концов я решил отдать ее Каптаху, раз он выбрал ее по собственному вкусу, пусть бы повеселился с ней и избавил меня от нее, но она стала кусать и пинать Каптаха, ругала его на языке Симиры, выучив на нем несколько слов, и на островных языках, которых мы с ним не понимали. Не помогло даже то, что мы оба прибили ее палками, ибо она от этого еще больше возжелала веселиться со мной.
Но скарабей снова принес мне удачу: прослышав о моей славе врачевателя, в один из дней ко мне пришел лечиться больной из удаленной от моря земли – это был царь амореев по имени Азиру. Я осмотрел его зубы, покрыл золотом испорченные, а вместо того зуба, который он потерял в битве с соседними народами, изготовил новый из слоновой кости. Пока я все это очень старательно делал, он жил в Симире, ведя переговоры с правителями города о делах, касавшихся Амурру и Симиры, и каждый день приходил ко мне. Так он увидел мою рабыню, которую я назвал Кефтиу, по имени ее родного острова[7], поскольку не мог выговорить ее варварского имени. Увидев ее, Азиру пленился ею. Он был силен как бык, кожа у него была иссиня-черная, а глаза надменно блестели, и Кефтиу стала охотно на него поглядывать, ибо женщины влекутся ко всему новому. Азиру особенно нравилась необычная для такого юного возраста полнота Кефтиу и ее наряды, которые она носила по критскому обычаю: закрывая шею, открывала грудь, тогда как Азиру привык видеть своих женщин закутанными с головы до ног. Из-за всего этого он в конце концов уже не мог противиться своему желанию и, тяжело вздыхая, сказал мне:
– Я воистину твой друг, Синухе-египтянин, ты вылечил мои зубы и сделал так, что стоит мне открыть рот, как в нем сияет золото, этим ты приумножил мою славу в стране амореев. За твои старания я одарю тебя так щедро, что ты возденешь руки в изумлении, но, несмотря на мою благодарность, мне придется нанести тебе оскорбление. Я никак не желал бы этого делать, но, глядя на рабыню, которая живет в твоем доме, я потерял покой и не могу больше сдерживать желание, которое раздирает мне тело, как дикая кошка, так что даже все твое искусство не сможет меня от этого излечить. Я никогда не встречал подобной женщины и поэтому хорошо понимаю, как ты дорожишь ею, когда она по ночам согревает тебя в постели. Но несмотря на это, я прошу тебя отдать ее мне, чтобы я смог сделать ее одной из моих жен и освободить ее от рабства. Все это я говорю тебе, потому что я твой друг и честный человек. Я заплачу за нее сколько захочешь. Но скажу откровенно: если ты не согласишься на это, я украду ее и увезу в свою страну, где ты ее никогда не отыщешь. А если ты убежишь из Симиры с этой женщиной, мои люди найдут вас даже под землей, убьют тебя и привезут ее ко мне. Все это я говорю тебе наперед, потому что я честный человек и друг тебе и не хочу поступать с тобой коварно.
Его слова так меня обрадовали, что я воздел руки от счастья, но Каптах, который все слышал, стал рвать на себе волосы и завопил, рыдая:
– Это плохой день, и лучше бы моему господину вовсе не родиться, чем утратить единственную радость сердца! Такую потерю ничто не возместит, ибо для моего господина эта женщина дороже золота, драгоценных камений и заморских благовоний, она прекраснее луны, ее живот, которого ты еще не видел, кругл и бел, словно холмик пшеницы, а груди, как ты сам видишь, подобны дыням.
Он сказал это все, наслушавшись, как симирские торговцы расхваливают свой товар, и для того, чтобы получить за девушку большую цену, хотя мы оба только и желали, что избавиться от нее. Слыша о себе такие речи, Кефтиу тоже разрыдалась и заявила, что никогда меня не покинет, но, проливая слезы, сквозь пальцы с восхищением смотрела на Азиру и его вьющуюся бороду.
Я поднял руку, заставил всех замолчать и, притворившись печальным, сказал:
– Друг мой Азиру, повелитель амореев! Эта женщина и в самом деле дорога моему сердцу, и я называю ее сестрой, но дружба твоя мне дороже всего в мире, и поэтому я дарю ее тебе в знак дружбы – не продаю, а отдаю даром – и прошу тебя владеть ею и делать с ней все, чего требует сидящая в твоем теле дикая кошка, ибо, если я не ошибаюсь, сердце Кефтиу тоже обернулось к тебе, она довольна тем, что случилось, и, насколько я ее знаю, ее тело тоже раздираемо дикими кошками.
Азиру громко закричал от восторга и торжественно произнес:
– Истинно, Синухе, хотя ты и египтянин, а все плохое исходит от Египта, с этого дня – ты мой друг и брат, и имя твое будет благословенно во всей земле амореев, и если ты приедешь ко мне в гости, то, клянусь, я посажу тебя по правую руку от себя, ближе всех вельмож и остальных гостей, будь они даже цари.
Сказав это, он громко засмеялся, сверкнув золотыми зубами, и посмотрел на Кефтиу, которая забыла о своих слезах и сделалась серьезна. Глаза Азиру пылали подобно углям, он схватил девушку в объятия, так что груди ее взметнулись, и как пушинку бросил в свои носилки. Он сразу же ушел, и ни один человек в Симире не видел его три дня и три ночи, ибо он заперся в доме, где поселился. А мы с Каптахом очень радовались, избавившись от этой надоедливой девицы; Каптах, правда, ругал меня за то, что я не потребовал за нее подарков, хотя мог бы получить что угодно. Но я сказал ему:
– Подарив Азиру девушку, я связал его дружбой. Ведь завтрашний день никому неведом. Хотя земля амореев мала и ничтожна и люди разводят там только ослов и овец, дружба царя – это дружба царя, и поди знай, не дороже ли она золота.
Каптах с сомнением почесал в затылке, а потом вытащил скарабея, смазал его миррой и принес ему свежего помета в благодарность за то, что мы избавились от Кефтиу.
Перед возвращением в землю амореев Азиру еще раз пришел ко мне, поклонился до земли и сказал:
– Я не предлагаю тебе подарков, Синухе, ибо ты дал мне то, что невозможно оплатить никакими дарами. Девушка еще лучше, чем я ожидал, ее глаза подобны бездонным колодцам, и я не могу насытиться ею даже после того, как она выжала из меня семя, словно масло из оливковых ягод. Скажу тебе честно, что сторона моя не слишком богата и я могу добыть золото, только обирая торговцев, проезжающих через мои земли или воюя с соседними племенами, но в этих случаях египтяне налетают на меня словно слепни и наносят мне убыток, который больше захваченной добычи. Я и поэтому не могу одарить тебя так, как заслуживает твоя щедрость, и я зол на Египет, растоптавший прежнюю свободу моей земли и не позволяющий мне вволю совершать набеги и грабить торговцев, как это делали мои отцы. Но если ты когда-нибудь приедешь ко мне и попросишь у меня что угодно, я тебе отдам все, кроме этой женщины и лошадей, ибо лошадей у меня мало и они нужны мне для военных колесниц. Зато все остальное, что в моей власти, я отдам тебе, едва ты только попросишь. А если кто-нибудь тебя обидит, пошли мне об этом весть, и мои люди убьют его, где бы он ни находился, ибо у меня есть свои люди и здесь, в Симире, и в других сирийских городах, хотя это не всем известно, и я прошу тебя хранить это в тайне. Я выдаю тебе свои секреты, чтобы ты знал, что я велю убить любого, кого ты захочешь, и никто об этом не узнает, и имя твое не будет в этом замешано. Так велика моя дружба к тебе.
Сказав такие слова, он обнял меня по обычаю сирийцев, потом в знак своего восхищения и почтения снял с шеи золотую цепь и повесил ее на меня, хотя это была для него большая жертва, ибо, совершая такой дар, он тяжело вздохнул. Поэтому я отдал ему свою золотую цепь, которую получил от самого богатого в Симире судовладельца, спасши его жену при тяжелых родах, и Азиру не проиграл от такого обмена, чему он очень обрадовался. Так мы и расстались.
3
Освободившись от этой женщины, я почувствовал, как сердце мое запрыгало птицей, глаза возжаждали поглядеть на что-нибудь новое, и желание увидеть свет стало гнать меня вон из Симиры. Пришла весна, суда в гавани готовились к дальним плаваниям, а жрецы, едва только земля зазеленела, отправились за город, чтобы выкопать своего бога Таммуза, которого они осенью похоронили, громко стеная и раздирая себе тело в кровь.
Снедаемый нетерпением, я вместе с людскими толпами последовал за жрецами. Земля была покрыта яркой зеленью, на деревьях лопались почки, ворковали голуби, и на болотах громко квакали лягушки. Жрецы откатили камень с могилы, выкопали бога и восторженными кликами возвестили, что Таммуз воскрес. Весь народ присоединился к их ликованию, стал кричать, шуметь и ломать ветки, а в кабачках, которые торговцы на скорую руку соорудили вокруг могилы, полились пиво и вино. Женщины, не помня себя от радости, приволокли на колеснице огромный деревянный фаллос, а когда наступила ночь, сбросили одежды и разбежались по лугам, не заботясь о том, замужем они или нет. Ликуя, каждая соединялась с первым же встречным, так что луга и горные склоны скоро наполнились любовными стонами. Во всем этом они тоже отличались от египтян. Глядя на них, я почувствовал зависть и подумал, что, должно быть, родился старым, раз моя родина старше всех других стран, а молодые народы служат своим богам, совершая то, что богам угодно.
Но весна принесла с собой и недобрую весть: из пустыни на сирийские земли пришли хабири, они движутся с севера на юг, грабят приграничные селения, сжигают деревни и осаждают города. Навстречу им из Таниса через Синайскую пустыню прибыли полки фараона и вступили с ними в бой, они взяли в плен предводителя хабири и прогнали захватчиков обратно в пустыню. Такие нашествия с давних пор случались каждую весну, но на этот раз жители Симиры были обеспокоены, ибо хабири ограбили город Катна, где стоял египетский гарнизон, убили местного царя и изрубили мечами всех египтян, даже детей и женщин, не взяв их в плен, чтобы потом получить за них выкуп, а такого не бывало ни на чьей памяти – обычно хабири избегали городов, где стоят египетские войска.
Так в Сирии вспыхнула война, а поскольку мне, никогда ее не видавшему, хотелось узнать, что это такое и может ли она чему-нибудь меня научить, я отправился к войскам фараона. Я хотел также поупражняться во врачевании ран, наносимых оружием. Но особенно меня соблазнило то, что отрядами фараона командовал Хоремхеб, а я в своем одиночестве жаждал увидеть лицо друга и услышать его голос. Вместе с тем я опасался, что Хоремхеб, стыдясь моих поступков, не захочет меня узнать. Правда, за последние два года случилось столько разных событий, что сердце мое, наверное, зачерствело, поскольку от воспоминаний о совершенном меня уже не сжигал прежний стыд. Поэтому я сел на корабль и поплыл к югу вдоль побережья, а потом примкнул к отрядам, доставлявшим продовольствие вглубь страны. На повозках с зерном, влачимых быками, или на мулах, нагруженных мешками лука и кувшинами с вином и маслом, я добрался до места. Это был небольшой, окруженный стенами грязный городишко на вершине горы, называвшийся Иерусалимом. Там стоял маленький египетский отряд, и Хоремхеб основал в этом городе свою ставку. Слухи о могуществе войск фараона, распространявшиеся в Симире, оказались сильно преувеличенными, ибо под командой Хоремхеба находился только отряд колесничих и тысячи две воинов, вооруженных луками и копьями, а полчища хабири, как утверждали, превосходят численность песчинок в пустыне.
Хоремхеб принял меня в грязном глинобитном домике. С недоумением глядя на мой сирийский плащ, в котором я привык ходить, он сказал:
– Я знал некогда одного Синухе, он был врачевателем и моим другом.
И хотя я, как и он, за эти годы постарел и черты моего лица изменились, он наконец все-таки меня узнал, поднял в знак приветствия свою крученую золотую плетку, расплылся в улыбке и воскликнул:
– Клянусь Амоном, ты – Синухе, а я ведь думал, что ты умер!
Он прогнал своих телохранителей и писцов с их картами и свитками, потребовал вина и предложил мне его со словами:
– Неисповедимы пути Амона, раз мы встречаемся с тобой в Красной земле, в этом загаженном городишке.
При этих словах сердце мое в груди шевельнулось, и я понял, что тосковал по нему. Я поведал ему о своей жизни и обстоятельствах то, что счел удобным, и он предложил:
– Если хочешь, можешь сопровождать наши отряды как врачеватель и разделить с нами славу, ибо я не на шутку решил устроить этим грязным хабири такую головомойку, что они запомнят мое имя и пожалеют, что родились на свет.
И еще он сказал:
– Я, наверное, был совсем глупым мальчишкой, не смывшим с ног своих навоз, когда мы встретились с тобой в первый раз. Ты уже тогда был уважаемым человеком и дал мне много хороших советов. Теперь я поумнел, и в руках у меня, как видишь, золотая плеть. Но я заслужил ее презренной работой в отрядах фараона, ловивших преступников и разбойников, которых он в безумии своем освободил из рудников. Нам пришлось немало потрудиться, прежде чем мы их всех перебили. Зато как только я услышал о набегах хабири, я попросил у фараона отряды для борьбы с ними, и никто из высших воинов не оспаривал у меня этой чести, ибо около фараона сыплется гораздо больше золота и орденов, чем в пустыне, а острые копья и воинские кличи хабири ужасны. Таким образом, я наконец получил возможность набираться опыта и обучать воинов в настоящих сражениях, но у фараона одна забота: чтобы я воздвиг храм в честь его бога здесь, в Иерусалиме, и изгнал хабири, не проливая при этом крови. – Тут Хоремхеб расхохотался и хлестнул плеткой себя по ноге.
Я тоже рассмеялся, но он скоро вновь стал серьезен и добавил:
– Если быть честным, Синухе, я сильно изменился со времени нашей последней встречи, ибо человек, который живет вблизи Эхнатона, невольно меняется. Он рождает во мне беспокойство, он так много думает и говорит о своем боге, непохожем на других, что и мне в Фивах нередко казалось, будто у меня под черепом копошатся муравьи, и сон не брал меня по ночам, если я не напивался или не веселился с женщинами, чтобы в голове прояснилось. У него очень странный бог. Он круглый, но не имеет лица, хотя находится повсюду, своими длинными руками он благословляет все творения, а раб и знатный равны перед ним. Скажи мне, Синухе, разве здоровый человек может утверждать такие вещи? Я не нахожу этому других объяснений, кроме того, что в раннем детстве фараона, наверное, укусила больная обезьяна. Кому, кроме безумца, придет в голову, что хабири можно прогнать, не пролив крови? Вот ты услышишь, как истошно они кричат в бою, и поймешь, что я прав. Но пусть фараон умывает руки, если ему так хочется. Я с удовольствием возьму грех на себя и передавлю всех хабири своими колесницами.
Выпив еще вина, он продолжал:
– Мой бог – Хор, но я ничего не имею и против Амона, ибо в Фивах я научился проклинать его именем и это отлично действует на воинов. Но Амон стал слишком могущественным, и новый бог соревнуется с ним во имя укрепления власти фараона. Это мне сказала сама Божественная царица-мать, а также жрец Эйе, он теперь носит кривой посох по правую руку фараона. С помощью Атона они надеются свергнуть Амона или, по крайней мере, ограничить его власть, ибо негоже, чтобы жрецы Амона имели в Египте бо́льшую власть, чем фараоны. Культа нового бога требуют интересы государства. Как воин, я это хорошо понимаю. И ничего не имею против того, чтобы молодой фараон строил в его честь храмы и оплачивал его жрецов, но он слишком много думает и говорит о нем, так что ни одного дела нельзя сделать без того, чтобы рано или поздно речь не свелась к этому богу. А окружающие фараона люди сходят с ума еще больше, чем он сам. Он говорит, что живет правдой, но ведь правда – как острый нож в руках ребенка, а еще хуже – в руках безумца. Всем известно, что нож следует держать в ножнах и пользоваться им только при истинной надобности. То же и с правдой, она ни для кого не бывает так опасна, как для правителей и повелителей.
Он отпил вина и снова заговорил:
– Я благодарен своему соколу, что выбрался из Фив, ибо Фивы из-за нового божества стали подобны змеиному гнезду, а я не хочу вмешиваться в споры богов. Жрецы Амона распространяют непристойные истории о рождении фараона и настраивают народ против нового бога. Брак фараона тоже вызвал недобрые пересуды, ведь принцесса из Митанни, игравшая в куклы, неожиданно умерла и фараон взял себе в супруги девушку по имени Нефертити – дочь жреца Эйе. Эта Нефертити, правда, красива, и наряды ее отменны, но она очень упряма и во всех отношениях – дочь своего отца.
– Как, принцесса митаннийская умерла? – спросил я, ибо видел эту большеглазую девочку, с испугом взиравшую на Фивы, когда ее, разодетую и разукрашенную, словно богиню, несли в храм по Аллее овнов.
– Врачеватели объявили, что она не вынесла египетского климата, – сказал Хоремхеб и рассмеялся. – Это отъявленная ложь, ибо всем известно, что нигде в мире нет более здорового климата, чем в Египте. Но ты сам знаешь, как много детей умирает в женских покоях дворца, гораздо больше, чем в домах фиванских бедняков, – как это ни удивительно. Лучше не называть имен, но осмелься я это сделать, я кинул бы камешек в огород жреца Эйе.
Он говорил беззаботно, похлопывая себя по икрам золотой цепью и прихлебывая вино, но это уже был не прежний тщеславный юнец, он возмужал, и дух его стал мятежен.
– Если хочешь познакомиться с богом фараона, – предложил он мне, – приходи завтра на освящение храма, который я на скорую руку возвел на вершине скалы в этом городе. Я пошлю фараону весть об освящении, а о павших и о крови, которая уже пролилась, ему знать не обязательно, пусть сидит в Золотом дворце и радуется своему богу.
И еще он сказал:
– Переночуй в палатке, если найдешь там место. Мне по моему положению приходится ночевать во дворце здешнего принца, хотя там тьма насекомых. Но не хочу жаловаться, ведь войны без насекомых, так же как без голода и жажды, без ран и горящих селений, не бывает.
Я провел ночь в палатке, где меня удобно устроили, ибо по дороге в Иерусалим подружился с начальником, ведавшим припасами. Когда я сказал ему, что последую за войском в качестве лекаря, он стал мне во всем угождать, желая, как всякий, быть в хороших отношениях с таким нужным человеком. Весь вечер он вздыхал, жаловался и говорил:
– Лучше бы мне никогда не родиться, ибо страх, словно крыса, днем и ночью грызет сердце воина. В детстве ему достается больше розог, чем пищи, а в военном походе он, словно мул, должен тащить на себе свое пропитание и воду – от этого шея его становится негнущейся, как у осла, а связки на плечах растягиваются. Неприятель терзает его тело пиками и стрелами, а если он попадет в плен, его, как птицу, запирают в клетку, безжалостно бьют и связывают по рукам и ногам. Питье воина – затхлая вода, а жалованье – то, что он сам отберет или отвоюет у неприятеля. Воин, которому наконец можно вернуться в Египет, подобен источенному жуками дереву: он ни на что больше не годен. Израненный или больной, он лежит, не поднимаясь, на спине у мула, платье его украдено, слуга сбежал. Истинно говорю – лучше бы мне никогда не родиться воином.
Он показал мне двоих несчастных, которые пытались сбежать и которых Хоремхеб велел повесить на стене вниз головой, но они уже умерли, ибо лучники, их друзья, из сострадания воспользовались ими как мишенями при подготовке к сражению. Он показал мне также двух пленных хабири – это были рослые злые детины с большими толстыми носами и окровавленными головами. После этого мы отправились в палатку спать.
Утром меня разбудили трубы, воины разобрались по отрядам, отряды выстроились в ряды, младшие офицеры бегали вдоль рядов, хлестали воинов плетками, толкали их и осыпали бранью. Когда порядок был установлен, Хоремхеб, с золотой плеткой в руке, вышел из грязного глинобитного дворца правителя, и, пока он произносил речь, слуга держал над его головой зонт от солнца и опахалом отгонял от него мух. Хоремхеб говорил так:
– Египетские воины! Говоря «египетские воины», я имею в виду также и вас, чумазые негры, и вас, грязные сирийские копейщики, и вас, сарданы, и колесничих, которые больше всех других действительно напоминают воинов, и египтян в этом блеющем и мычащем стаде. Я был к вам снисходителен и обучал терпеливо, но теперь моей снисходительности конец, и я не могу вас даже заставить упражняться, ибо, если вы начнете маршировать, вы станете спотыкаться о собственные копья, а если будете стрелять на бегу из луков – раните друг друга или пустите стрелы на ветер, а их у нас – хвала фараону, да живет он вечно – так не хватает. Сегодня я поведу вас в сражение, ибо лазутчики донесли мне, что хабири расположились за горами, но сколько их – я не знаю, так как лазутчики удрали от страха, не успев их пересчитать. Надеюсь, их хватит, чтобы всех вас перебить, и мне не придется больше глядеть на ваши мерзкие рожи, и можно будет вернуться в Египет и собрать там войско из настоящих мужчин, которые любят добычу и славу. Во всяком случае, даю вам сегодня последнюю возможность показать, чего вы стоите. Эй, ты там, младший офицер с расквашенным носом, пни-ка того мерзавца, который ковыряет в заду, когда я держу речь! Да, так я даю вам последний шанс!
Хоремхеб строго оглядел всех воинов, его взгляд не миновал никого, и никто не осмелился теперь даже пошевельнуться, слушая, как он продолжает:
– Я поведу вас в сражение, и пусть каждый знает, что я сам пойду первым и не стану оглядываться, кто за мной идет и идет ли вообще. Ибо я сын Хора, перед которым летит сокол, и я разгромлю хабири, даже если мне придется сделать это одному. Но предупреждаю, что собственноручно отхлещу сегодня каждого, кто за мной не побежит, а попытается спрятаться или удрать, и отхлещу так, что он пожалеет о своем рождении. Предупреждаю также, что с плетки моей при этом будет литься кровь, ибо она жалит сильнее, чем копья хабири, изготовленные из плохой меди, которая легко крошится. Знайте и то, что в хабири нет ничего страшного, кроме их голосов, которые действительно ужасны, но пусть тот, кто боится крика, залепит себе уши глиной. От этого беды не будет – команд, заглушаемых воплями хабири, вы все равно не услышите, пусть только каждый следует за своим военачальником, а все вместе – за моим соколом. Скажу еще о хабири: они сражаются без всякого порядка, словно стадо, но вас я учил держаться рядами, а лучников – стрелять по команде или по данному знаку И да спалит Сет со своим черным воинством всякого, кто выстрелит раньше времени и пустит стрелу не прицелившись. Не ходите в сражение с воплями, как бабы, хоть однажды притворитесь мужами, которые носят набедренные повязки, а не юбки. Если вы побьете хабири, можете все разделить между собой – и скот, и имущество – это сделает вас богатыми, ведь они награбили много добычи в сожженных селеньях, а я не собираюсь брать себе ни одного раба или быка. Их женщин тоже можете поделить, и я уверен, что вечером вам будет любо с ними забавляться, ибо женщины хабири красивы, горячи и любят бесстрашных воинов.
Хоремхеб оглядел свои отряды, и воины вдруг разразились дружными кликами восторга, ударяя копьями в щиты и потрясая луками. Хоремхеб улыбнулся, равнодушно щелкнул в воздухе плеткой и сказал:
– Я вижу, что вам не терпится получить по шее, но сначала надо освятить храм Атона – это новый бог, которому поклоняется фараон. Правда, Атон не очень-то воинственный бог, а посему не думаю, что вам от него сегодня будет большая удача. Пусть головные отряды отправляются навстречу врагу, а замыкающие останутся освящать храм, дабы заслужить милость фараона. Вам предстоит дальний путь, я хочу, чтобы вы сражались вконец утомленные, тогда у вас не будет желания бежать назад, придется бесстрашно защищать свою жизнь. – И Хоремхеб снова взмахнул золотой плеткой, а воины снова разразились восторженными кликами и в большом беспорядке двинулись вон из города, каждый отряд со своим воинским стягом, который плыл в голове колонны на длинном шесте.
Отряды шагали за изображениями львиного хвоста, сокола или головы крокодила навстречу сражению, а перед ними, указывая дорогу, катились легкие колесницы. Офицеры с замыкающими отрядами последовали за Хоремхебом к окраине города, где на высокой скале был построен новый храм. Пока мы туда шли, я слышал, как они, раздосадованные, говорили друг другу:
– Разве это порядок, чтобы военачальник шел в битву первым? Мы, во всяком случае, не собираемся этого делать, ведь всегда было принято, что тех, кто повелевает отрядами, носят в носилках позади сражающихся, ибо только они обучены письму и способны записать, как бьются воины и кого следует наказать.
Хоремхеб хорошо слышал их речи, но молча улыбался, поигрывая плеткой.
Храм был маленький, наспех сооруженный из дерева и глины, непохожий на обычные храмы. Жертвенник находился посредине строения, крыши над ним не было, не было и статуи бога, так что воины растерянно оглядывались, стараясь ее отыскать. Хоремхеб возвестил:
– Этот бог круглый, он красуется на небе и похож на солнечный диск; если ваши глаза выдержат, можете на него смотреть. Длинные руки Атона благословляют вас, хотя я опасаюсь, что сегодня после долгого перехода его пальцы покажутся вам раскаленными иглами, вонзающимися в спину.
Воины были недовольны, они говорили, что бог фараона слишком далек от них. Им нужен был бог, перед которым можно упасть ниц и даже тронуть его руками. Но вошел жрец, и они умолкли. Жрец – хилый юноша в белой накидке, с необритой головой и ясными живыми глазами, положил на жертвенник пестрые весенние цветы, благовония и вино. Воины вслух засмеялись. Жрец запел гимн Атону. Говорили, что слова к гимну сочинил сам фараон. Это была длинная монотонная песня, воины слушали ее, разинув рот, и ничего не понимали. Жрец пел так:
- Ты восходишь, прекрасный, на горизонте неба,
- О живой Атон, дарующий жизнь,
- Когда появляешься на востоке неба,
- Ты озаряешь все земли своей красотой.
- Ты прекрасен, велик и сияешь высоко над каждой страной,
- И пути твои обнимают все земли, тобой сотворенные,
- Ты – Ра, и даешь им все,
- И даруешь все своему богоравному сыну.
- Ты далек от земли, но лучи твои греют землю,
- Ты озаряешь все лики, но никто не знает твоих путей.
Потом он запел о ночной тьме, о львах и змеях, выходящих по ночам из своих ущелий, и многих слушателей охватил страх. Он пел о сиянии дня, о птицах, расправляющих по утрам свои крылья во славу Атона. Он пел о том, как этот бог зарождает жизнь во чреве женщины и придает плодотворящую силу мужскому семени. Слушая гимн, каждый мог подумать, что ни одно событие в жизни не может произойти без участия Атона, что даже цыпленку не пробить скорлупу и не запищать без его помощи. Жрец продолжал:
- Как чудесны твои творенья.
- Они скрыты от глаз людей,
- О единый, единственный бог;
- Нет другого, тебе подобного!..
- Сотворил ты землю по воле своей,
- Когда был одинок:
- И людей, и скот, и животных всех,
- Кто ночами по земле ступает,
- И всех птиц, кто в небесной выси
- Летает на крыльях,
- И чужие земли, Куш и Сирию,
- И земли Египта.
- Ты всех поселил на своих местах
- И всем дал что нужно.
- Дана каждому пища на каждый день,
- И дни каждого сочтены.
- Различна их речь и обличья их различны,
- Ибо ты разделил народы.
Он пел о том, что Атон сотворил и земной Нил, и Нил небесный, и воины, недовольные, заворчали, что этот бог вмешивается в творения Амона. Он создал времена года, в миллионах обличий он жил повсюду – в городах и в деревнях, в водах и на дорогах. И жрец допел гимн:
- Ты в сердце моем,
- И никто не знает тебя, как твой сын,
- Ты дал ему мудрость и мощь свою,
- Дал постичь свои замыслы.
- Земля существует в твоей руке,
- Какой ты ее сделал,
- Когда ты восходишь, она живет,
- Когда ты заходишь, она умирает,
- Ибо ты сам – теченье дня,
- И тобою люди живут.
- Доступна глазам красота,
- Пока ты на небе,
- Но когда ты заходишь по правую руку,
- Все дела прекращаются.
- А когда ты восходишь по левую руку,
- Все растет и множится для фараона,
- Все живет и множится с той поры,
- Когда нога ступила на землю.
- Ты сотворил все для сына,
- Возникшего из плоти твоей,
- Для владыки Верхнего и Нижнего Египта,
- Живущего в праведности,
- Для повелителя двух земель,
- Сына Ра,
- Живущего в праведности,
- Для властелина корон, Эхнатона,
- Да живет он вечно,
- И для Великой жены фараона, его возлюбленной
- Повелительницы обеих земель,
- Нефертити,
- Да живет она и остается юной
- На веки веков!
Воины слушали, ковыряя ногами песок, и наконец с облегчением проревели гимн в честь фараона, потому что в гимне жреца они поняли только одно: он сочинен, чтобы прославить фараона и объявить его сыном бога, – это показалось им справедливым, ибо так всегда было и так должно быть. Хоремхеб отпустил жреца, и юноша, восхищенный растроганностью воинов, отправился писать фараону донесение об освящении храма. Я же думаю, что ни гимн, ни его смысл не доставили особенного удовольствия воинам, которые готовились идти в сражение, где многим из них суждено было сложить голову.
4
Замыкающие отряды двинулись в путь, за ними потянулись запряженные в повозки волы и навьюченные мулы. Хоремхеб промчался на колеснице к главе колонны; в носилках, проклиная жару, двинулись старшие. Я, как и мой друг, ведающий войсковым провиантом, сел верхом на мула, прихватив с собой ящик с медицинскими инструментами, полагая, что они пригодятся.
Отряды шли весь день, сделав только короткий привал, чтобы перекусить и напиться. Все чаще люди падали на дороге, не в силах встать, хотя начальники били их и раздавали им пинки. Воины то пели, то сквернословили, а когда тени сделались длиннее, из горных расщелин начали вылетать стрелы, направленные в беспорядочную колонну, так что время от времени кто-нибудь падал плашмя на дорогу или вскрикивал, хватаясь за плечо, из которого торчала стрела. Но Хоремхеб не останавливался; чтобы расчистить путь, он все ускорял темп, так что люди в конце концов почти бежали. Легкие боевые колесницы мчались впереди, и скоро мы увидели валяющихся на обочине убитых хабири в рваных плащах, их рты и глаза были залеплены мухами. Кое-кто из воинов останавливался, чтобы перевернуть тело и найти военные трофеи, но взять у них было уже нечего.
Офицер, ведавший провиантом, сидел на своем муле и, обливаясь по́том, просил меня передать привет его жене и детям, ибо предчувствовал, что не доживет до завтра. Он дал мне адрес жены в Фивах и попросил позаботиться о том, чтобы его тело не было ограблено, если хабири до вечера не прикончат нас всех – как он, скребя голову, мрачно предрекал.
Наконец перед нами появилась открытая долина, на которой разбили свой лагерь хабири. Хоремхеб приказал трубить в трубы и выстроил отряды для нападения – посредине копейщики, по обоим бокам лучники. Боевые колесницы он отослал обратно, и они умчались, высоко взметая пыль, которая скрыла их из виду. При нем осталось только несколько тяжелых военных колесниц. Из долин, скрытых горами, тянулся дым горящих селений. Хабири, казалось, было бесчисленное множество, когда они двинулись на нас, их копья и щиты устрашающе блестели на солнце, а вопли и крики наполняли воздух подобно шуму бушующего моря. Но Хоремхеб закричал еще громче:
– Перестаньте дрожать, тупорылые свиньи! Хабири слишком мало для сражения, а те, кого вы видите, – это скот, женщины и дети – все они к вечеру станут вашей добычей. В их котлах вас уже ждет горячая пища, так что бейтесь, чтобы нам скорее поесть, я голоден, как крокодил.
Но вооруженный острыми копьями воинственный вал хабири неотвратимо катился на нас, их были целые полчища, и мой интерес к войне быстро улетучился.
Ряды копейщиков дрогнули, воины, подобно мне, стали оглядываться, но младшие офицеры, осыпая их бранью, заработали плетками. Чувствуя себя слишком усталыми и голодными, чтобы пуститься в бегство, воины снова сомкнули ряды, а лучники стали нетерпеливо дергать тетиву, ожидая знака, когда можно будет пустить стрелы.
Подойдя достаточно близко, хабири издали свой военный клич, который был так страшен, что ноги мои подкосились и кровь остановилась в жилах. Хабири, стреляя из луков, побежали на нас, и я услышал свист стрел, напоминающий жужжание мух: пст, пст… Никогда в жизни не доводилось мне слышать более страшного звука, чем свист стрелы, пролетающей мимо уха. Но, заметив, что стрелы не наносят большого ущерба, так как либо перелетают, либо отражаются щитами, я воспрянул духом и услышал голос Хоремхеба:
– За мной, мои грязные чушки!
Его возница хлестнул лошадей, за колесницей Хоремхеба понеслись остальные, лучники дружно пустили стрелы, а копейщики побежали за колесницами. И тут же из всех глоток раздался крик, еще более страшный, чем вопль хабири, ибо каждый орал во всю мочь, стараясь заглушить собственный страх. Я закричал вместе со всеми и убедился, что это действительно помогает.
Колесницы со страшным скрежетом врезались в толпу нападающих, а впереди, возвышаясь над клубами пыли и качающимися копьями, сверкал украшенный страусовыми перьями шлем Хоремхеба. За военными колесницами бежали копейщики, предводительствуемые львиными хвостами или соколами, а лучники рассыпались по долине, бросились на землю и по условленному знаку стали стрелять в беспорядочные полчища хабири. С этой минуты все смешалось – грохот, треск, вопли и стоны умирающих. В ушах моих свистели стрелы, мул подо мной обезумел и понес меня в самую гущу битвы, я в испуге принялся молотить его ногами и кричать, но остановить его было невозможно. Хабири сражались упорно и бесстрашно, и, даже затоптанные лошадьми, не в силах подняться, они старались проткнуть копьями тех, кто бежал по их телам. Не один египтянин погиб в этот день, нагнувшись над неприятелем, чтобы в знак своей победы отрубить ему руку. Запах крови был сильнее запаха пота и немытых тел, и во́роны стаями кружились над полем.
Вдруг хабири издали устрашающий крик и побежали назад – они увидели, что колесничие, обогнув долину, помчались за угнанными стадами и стали хватать их женщин. Не в силах такое стерпеть, хабири кинулись спасать свой лагерь, но в этом была их погибель. Колесницы повернули им навстречу и разогнали их, а об остальном позаботились копейщики и лучники. Когда солнце село, вся долина была усеяна трупами с отрубленными руками, лагерь горел и со всех сторон слышалось мычание разбежавшегося стада.
Но, войдя в раж, воины продолжали убивать и разили копьями всех, кто попадался им на пути, – даже детей и безоружных. Они стреляли из луков в беспорядочно мечущееся стадо скота, пока Хоремхеб не велел протрубить отбой, а офицеры не опомнились и, работая плетками, не согнали воинов в кучу. Только мой обезумевший мул, описывая круги, носился по долине, подбрасывая меня, словно мешок, так что я уже не знал, жив я еще или умер. Воины, глядя на меня, покатывались со смеху, пока один из них не огрел мула шестом по морде так, что тот, изумленный, остановился и навострил уши, а мне наконец удалось слезть с него. С этого времени воины стали называть меня Сыном дикого мула.
Пленных загнали за ограждение, их оружие побросали в кучу, а пастухов послали собирать разбежавшееся стадо. Хабири было очень много, и хотя часть из них сумела удрать, Хоремхеб решил, что они убегут далеко и не скоро осмелятся вернуться. Ему принесли ларец, который он открыл при свете пылающих шалашей, чтобы показать всем львиноголовую, гордо выпятившую деревянные груди богиню Сехмет. Воины, ликуя, окропили ее кровью из своих ран и побросали перед ней отрезанные в честь победы руки врагов, из которых образовалась большая куча. Среди воинов были и такие, которые швырнули в нее по четыре и пять рук. Хоремхеб наградил их цепочками и браслетами, а самых отважных назначил младшими офицерами. Он был весь в пыли и крови, кровь капала даже с золотой плетки, но глаза его улыбались воинам, и он называл их своими дорогими хрюшками и кровопускателями.
На мою долю выпало много работы, ибо копья хабири и их дубины оставляли страшные раны. Я трудился при свете горящих шалашей, и крики раненых смешивались с воплями женщин, когда воины тащили их к себе и бросали жребий, кому достанется веселиться с ними. Я промывал и зашивал открытые раны, запихивал вывалившиеся кишки обратно в живот и подшивал содранную с головы кожу. Умирающим я давал пиво и обезболивающие снадобья, чтобы они уходили из жизни без мучений.
Я врачевал и тех хабири, которым не удалось убежать, но зачем я это делал – не знаю, может быть, для того, чтобы Хоремхеб, продавая их в рабство, получал лучшую цену. Но многие из них не желали моей помощи и снова раздирали свои раны, услышав, как плачут их дети и кричат жены, доставшиеся на веселье египтянам. Они сворачивались клубком, закрывали голову одеждой и умирали от кровотечений.
Я глядел на них, и гордость победой, вспыхнувшая было во мне сразу после сражения, стала гаснуть – это был бедный народ, и голод гнал его из пустыни в сирийские долины на добычу скота и зерна. Несчастные были истощены, многие болели глазными болезнями. Но несмотря на это, хабири были отважны и страшны в бою, а там, где они проходили, поднимался дым горящих селений, раздавались человеческие вопли и стенания. Но теперь, когда их большие толстые носы бледнели и они, умирая, натягивали на голову свои лохмотья, я жалел их, хотя ничем не мог им помочь.
На следующий день я встретился с Хоремхебом и посоветовал ему оставить на месте охраняемый лагерь, где воины с тяжелыми ранениями могли бы поправиться, так как дороги в Иерусалим они не выдержат и умрут в пути. Хоремхеб поблагодарил меня за помощь и сказал:
– Я видел, как ты мчался в самую гущу битвы верхом на обезумевшем муле, – по правде говоря, я не ожидал от тебя такой отваги. Ты, наверное, не знал, что работа врача на войне начинается только после сражения. Я слышал, как воины называют тебя Сыном дикого мула. Если хочешь, я буду брать тебя в свою колесницу, отправляясь в битву, ибо тебе сопутствует удача, раз ты остался жив, хотя не имел ни копья, ни даже дубины.
Он смотрел на меня серьезно, и я не понял, смеется он надо мной или нет. Поэтому я ответил:
– Я никогда не видел войны и захотел увидеть ее как можно ближе. Но война ничем меня не умудрила, и, если ты не возражаешь, я предпочел бы вернуться в Симиру.
– Твое искусство спасло жизнь многим воинам, и ты заслужил не меньшую награду, чем военачальники, отвага которых спасает жизнь воинам.
Но я отмахнулся:
– Оставь! У меня достаточно золота, и эти награды для меня что пыль под ногами.
– Может быть, ты и прав, – согласился Хоремхеб, – но для такого простого человека, как я, большая честь – носить на шее золотую награду, если она заслужена в сражениях. Сегодня я видел свое войско в бою и знаю теперь, что способен командовать им и что львиноголовая Сехмет благосклонна ко мне. Я сумел одержать победу, которая, стоит мне захотеть, будет увековечена письменами на камне. Но эта победа – лишь пыль на моих ногах, ибо, чтобы одолеть голодранцев, угоняющих скот, не требуется большого искусства.
– Твои воины славят твое имя и готовы следовать за тобой, куда бы ты ни направился, – сказал я, желая ему польстить. – Но как могло случиться, что ты даже не ранен, ведь я думал, что ты неизбежно погибнешь, мчась навстречу копьям и стрелам во главе войска.
– У меня хороший возница, – сказал он. – К тому же меня оберегает мой сокол, ведь я еще нужен для великих деяний. Дело не в отваге и не в моих заслугах – я знаю, что меня не заденут ни копья, ни стрелы, ни дубины. Я лечу первым, ибо мне предначертано разить врагов, хотя, совершив множество убийств, я уже не особенно радуюсь льющейся крови, а крики тех, кто попадет под мои колеса, уже не доставляют мне удовольствия. Когда мои воины наберутся опыта и не будут бояться смерти, я велю носить себя на носилках следом за отрядами, как это делают все разумные военачальники, ибо истинный полководец не берется за грязную и кровавую работу, которую может выполнить самый дешевый наемник, – он работает головой и отдает многочисленным писцам важные приказы, которых ты, Синухе, не понимаешь, поскольку это не твоя работа, как я не понимаю работы врачевателя, хотя и почитаю твое искусство. Я стыжусь того, что мое лицо и руки выпачканы кровью похитителей скота, но мне нельзя было поступить иначе – если бы я не ехал впереди воинов, они растеряли бы всю свою отвагу, бросились бы на колени и стали вопить, потому что, по правде говоря, это еще более жалкий сброд, чем хабири. Поэтому я называю их навозными рылами, а они гордятся даже этим званием.
Но я все-таки не мог поверить, что ему не было страшно лететь впереди войска навстречу копьям, и упрямо продолжал:
– У тебя, как у всякого человека, теплая кожа, под которой бежит кровь. Может быть, ты так крепко заколдован, что тебя невозможно ранить? Как еще объяснить, что ты не знаешь страха?
– Я, конечно, слышал о таком колдовстве, и немало воинов носят на шее амулеты, которые должны их оберегать, – ответил Хоремхеб, – но после нынешнего сражения они найдены на многих убитых, так что я не верю в колдовство, хотя оно, конечно, полезно, ибо заставляет даже темного человека, не умеющего ни читать, ни писать, верить в себя и быть отважным в бою. А если говорить всерьез, Синухе, все это – дерьмо. Со мной совсем иное дело, ибо я знаю, что рожден для великих подвигов, только откуда мне это известно – не могу тебе сказать. Воину либо везет, либо не везет, а мне везет с того дня, как мой сокол привел меня к фараону. Правда, сокол мой улетел из дворца и больше не вернулся, но, шагая через Синайскую пустыню в Сирию, страдая от голода и особенно от нестерпимой жажды – ибо я страдаю вместе со своими воинами, дабы знать, что они испытывают, и научиться таким образом командовать ими, – я увидел в одной из долин горящий костер. Это был живой огонь, полыхающий, словно большой куст или дерево, он горел днем и ночью, но не сгорал и не становился меньше, вокруг него распространялся такой запах, который кружил мне голову и поднимал во мне отвагу. Я видел его, когда мчался в колеснице впереди войска и когда охотился на диких зверей пустыни, хотя, кроме меня и возницы, который может это подтвердить, никто его не замечал. Но с этой минуты я знал, что, пока не кончится мое время, меня не тронут ни копье, ни стрела, ни дубина. А откуда я это знаю – о том я не ведаю, ибо это сокрыто от людей.
Я поверил его рассказу и почувствовал к нему глубокое уважение, хотя у Хоремхеба не было никаких причин придумывать что-нибудь мне на забаву, да он и не сумел бы такое выдумать, он был человеком, верящим лишь в то, что можно увидеть и пощупать руками.
Он позволил своим воинам расположиться в лагере хабири, есть, пить, стрелять в цель и метать копье, а мишенью им служили такие хабири, которых нельзя было продать в рабство из-за ран или особенной строптивости. Поэтому воины не ворчали на то, что надо упражняться, а с удовольствием стреляли из луков и метали копья. Но на третий день валявшиеся на земле трупы стали издавать зловоние, и собравшиеся в огромные стаи во́роны, шакалы и гиены так ужасно кричали по ночам, что никто уже не мог спать. К тому же многие пленницы удавили себя своими длинными волосами и никого больше не могли веселить. Это были костлявые и грязные существа с дикими, как пустыня, глазами, хотя воины ссорились из-за них и считали их красивыми, поскольку давно не видели женщин. Из-за всего этого война мне опостылела, а на сердце стало тяжело от тех ужасов, на которые люди обрекают друг друга. Глядя на то, как во́роны клюют мертвецов, а шакалы и гиены гложут их кости, я сказал своему другу, ведающему провиантом:
– Скоро от них останутся одни черепа, и никто не разберет, кто был египтянином, а кто хабири, я думаю, даже боги не сумеют отличить, чье сердце было чистым и кто сражался за правое дело, а кто за неправое.
Но друг мой, с удовольствием измеряя отвоеванное обратно у хабири зерно и пересчитывая скот, сказал:
– У нас великий и мудрый военачальник, его голос звучит в битве страшнее львиного рыка. Лай гиен и шакалов милее моим ушам, чем воинский клич хабири, и мне приятнее нюхать трупную вонь, чем запах наконечника копья, вонзающегося в мое тело. Но о том, что ты сказал о черепах и богах, стоит подумать, я, правда, слышал, что, если египтянин, взывающий к Амону и преданно верящий в Осириса, падет в бою, он попадет сразу в Страну Заката, даже если тело его не сохранится, но я все-таки очень рад, что не пал в сражении. Ведь у богов и на самом деле немало хлопот с тем, чтобы отличить на этом поле благочестивых от тех, кто молился идолам. Я в бою так вопил от страха, что хабири, собиравшиеся проткнуть меня копьем, начинали дрожать, роняли копья и валились на землю у моих ног, поэтому я и оказался цел.
На третий день после учений Хоремхеб послал часть своего войска пасти стада, а другую отправил обратно в Иерусалим доставить туда добычу, так как к месту сражения прибыло недостаточно торговцев, которые могли бы раскупить рабов, посуду и зерно. Для раненых, многие из которых были при смерти, соорудили лагерь, охранять его остались воины из отряда львиного хвоста. Сам Хоремхеб помчался на колеснице преследовать хабири, так как, допрашивая пленных, узнал, что, убегая, они унесли и своего бога.
Меня он взял с собой, хотя я не выражал такого желания. Я стоял в колеснице позади него, держась за его пояс и сетуя на то, что вообще родился на свет, ибо он несся как безумный, и я боялся, что колесница вот-вот опрокинется и я полечу на камни вниз головой. Но он только смеялся, говоря, что дает мне вкусить войны, раз я приехал узнать, может ли война чем-нибудь меня умудрить.
И он действительно дал мне вкусить войны – я видел, как колесницы вихрем налетали на не подозревающих о погоне хабири, когда те, помахивая пальмовыми ветвями, пели веселые песни, сопровождая угнанные ими стада, чтобы спрятать их где-то в расщелинах пустынных скал. Лошади Хоремхеба топтали стариков, женщин и детей, его окружал дым горящих жилищ, и он кровью и слезами внушал хабири, что им лучше жить нищими в своей пустыне и умирать там от голода, чем нападать на плодородную и богатую Сирию, смазывая маслом свою обгорелую кожу и жирея от краденого зерна. Так я познавал войну, которая была уже не войной, а убийством, пока Хоремхебу самому это не надоело, тогда он позволил хабири поставить на место поваленные пограничные камни и не стал передвигать их дальше в пустыню, хотя и мог это сделать, а сказал:
– Я должен оставить немного хабири, чтобы можно было учить свои войска воевать, ибо, если всех их перебить, воевать будет не с кем. Ведь на земле уже сорок лет царит мир, все народы живут в дружбе между собой, правители больших стран называют друг друга в письмах братьями и друзьями, а фараон шлет им золото, чтобы они отливали его статуи и ставили их в своих храмах. Я не должен уничтожить всех хабири, ибо через несколько лет голод погонит их снова из пустыни и они забудут о нынешних испытаниях.
Мчась на колеснице, он догнал хабири, несших своего деревянного бога, и так набросился на них, что они бросили бога на землю и разбежались по горам. Хоремхеб повелел изрубить этого бога в куски и сжег его перед богиней Сехмет, а воины били себя в грудь от гордости и похвалялись:
– Так мы сжигаем бога хабири.
Этого бога звали Иегова, или Яхве, и так как у хабири не было других богов, им пришлось возвращаться в пустыню без бога и еще более нищими, чем они были, явившись оттуда, но, несмотря на это, они пели и размахивали пальмовыми ветвями от радости, что остались живы.
5
Хоремхеб возвратился в Иерусалим, где к этому времени собрались беженцы из пограничных селений, и распродал им их же скот, зерно и посуду, отобранные у захватчиков, но они, раздирая свои одежды, кричали:
– Этот грабитель хуже хабири!
Однако особенной беды у них не было, ибо они могли позаимствовать денег в своих храмах, у торговцев и сборщиков налогов, а то, чего они не выкупили, Хоремхеб сбыл торговцам, приехавшим в Иерусалим со всей Сирии. Благодаря этому он смог одарить своих воинов медью и серебром, и теперь я понял, почему некоторые раненые скончались, несмотря на все мои старания. Товарищи отбирали у раненых одежду, оружие и украшения, не давали им ни есть, ни пить, и, когда они умирали, оставшимся в живых доставалась бо́льшая доля наград. Я понял также, почему неученые мясники охотно отправлялись вслед за войском на войну и возвращались в Египет богатыми, хотя ничем не могли помочь в сражениях.
А в Иерусалиме было шумно. Отовсюду доносились пьяные голоса и звуки сирийских музыкальных инструментов, воины, получив медь и серебро, пили пиво и веселились с раскрашенными девицами, которых торговцы привезли с собой, дрались с кем попало, ранили и грабили друг друга и торговцев, так что каждый день на стенах вешали кого-нибудь вниз головой за эти бесчинства. Но воинов это нисколько не огорчало, они говорили:
– Так было, и так всегда будет.
Они тратили свои награды на пиво и женщин, пока торговцы не уехали вместе с их медью и серебром. Хоремхеб, который роздал всю добычу воинам, заставил торговцев платить дань при въезде в город и при выезде из него и таким образом снова разбогател, но не испытал от этого радости, и, когда я перед возвращением в Сирию пришел к нему проститься, он сказал мне:
– Поход закончился, не успев начаться, и фараон ругает меня в письме за то, что я пролил кровь, нарушив его запрет. Теперь я обязан вернуться в Египет, доставить туда свое тупорылое стадо, распустить его и сдать в храмы все стяги с изображением соколов и львиных хвостов. К чему это приведет, я и представить себе не могу – ведь это единственное обученное войско в Египте, остальные годятся только на то, чтобы гадить под городскими стенами да щупать девок на рынке. Клянусь Амоном, фараону легко, сидя в Золотом дворце, сочинять гимны своему божеству и верить в то, что любовь подчинит ему все народы. Услышал бы он разок стоны раненых и вопли женщин в горящих селениях, когда неприятель нарушает границы, может быть, он думал бы тогда иначе.
– У Египта нет врагов. Египет для этого слишком богат и могуществен, – ответил я Хоремхебу. – Кроме того, твоя слава распространилась по всей Сирии, и хабири больше не осмелятся нарушать границы. Почему бы тебе не распустить свое войско, ведь, по правде говоря, спьяну они крушат все, словно звери, их палатки воняют мочой, а по ним самим ползают вши.
– Ты не ведаешь, что говоришь, – сказал он, уставившись в одну точку и сердито скребя под мышками, – глинобитный дворец правителя тоже кишел насекомыми. – Египет живет замкнуто, а это неправильно, ибо мир велик, и где-то, невидимо для нас, зреют всходы, которые могут принести огонь и разрушение. Я, например, слышал, что царь амореев энергично собирает лошадей и закупает воинские колесницы вместо того, чтобы своевременно платить дань фараону. На его празднествах приближенные говорят, что когда-то амореи владели всем миром, в чем столько же правды, сколько в том, что последние гиксосы живут в стране амореев.
– Их царь Азиру мне знаком, он – пустой человек, я по его просьбе покрыл его зубы золотом, – заметил я. – К тому же я слышал, что он теперь занят другими делами, ибо взял в жены женщину, которая высасывает из него все силы и при одном виде которой у него подгибаются колени.
– Ты много знаешь, Синухе, – внимательно поглядел на меня Хоремхеб. – Ты свободный человек, сам решаешь свои дела, ездишь из города в город и узнаешь такое, чего другие не знают. Будь я на твоем месте, я объездил бы все страны, чтобы поучиться. Я побывал бы в Митанни и в Вавилоне, взглянул бы, какие военные колесницы сооружают и используют хетты, как они обучают свои войска, съездил бы на морские острова, посмотрел, насколько могущественны тамошние воины, о которых так много говорят. Но я не могу этого сделать, так как фараон зовет меня обратно. К тому же имя мое уже известно по всей Сирии, и я вряд ли узнал бы то, что хотел бы узнать. Но ты, Синухе, одет в сирийские одежды, говоришь на языке, на котором говорят образованные люди всех стран. Ты – врач, и никому не придет в голову, что ты можешь понять что-то, кроме своего искусства. Твои речи простодушны, а часто даже наивны, ты смотришь на меня открытым взглядом, но я знаю, что сердце твое замкнуто от меня и что в тебе есть такое, чего не знает ни один человек. Верно я говорю?
– Может быть, и верно, но чего ты от меня хочешь?
– Я хотел бы дать тебе много золота, – сказал он, – и послать в эти страны приумножить славу египетской медицины и свою собственную, чтобы в каждом городе богатые и знатные люди призывали тебя к себе и ты узнал бы их тайны. Может быть, тебя приглашали бы к себе и цари, и правители и ты проник бы в их замыслы. Но, занимаясь врачеванием, ты смотрел бы вокруг моими глазами и слушал моими ушами, все бы запоминал и, вернувшись в Египет, все мне рассказал.
– Я вовсе не собираюсь возвращаться в Египет, – отвечал я. – К тому же это опасное дело – то, о котором ты говоришь, а у меня нет никакой охоты висеть вниз головой на стене чужого города.
– Завтрашний день никому неведом, – возразил мне Хоремхеб. – Я уверен, что ты возвратишься в Египет, ибо кто однажды испил воды из Нила, не сможет погасить жажду никакой другой водой. Даже журавли и ласточки всегда возвращаются туда на зиму, их не влечет ни одна другая страна. Так что речи твои для моих ушей что жужжание мухи. И золото для меня не больше чем пыль под ногами, поэтому я предпочитаю обменять его на военные тайны. А твои рассуждения о стенах – одно дерьмо, ведь я не прошу тебя делать что-нибудь недостойное, порочное или нарушающее законы другой страны. Разве все большие города не влекут к себе чужеземцев любоваться их храмами, праздниками и развлечениями, чтобы приезжие оставляли свое золото их жителям? Если у тебя есть золото – ты желанный гость в любой стране. И твое искусство врачевания тоже желанно в тех странах, где старцев убивают топорами, а больных уносят умирать в пустыню, – ты ведь об этом слышал. Цари гордятся своим могуществом и часто заставляют воинов маршировать перед ними, чтобы и чужеземцы, видя это, дивились их могуществу. И не будет ничего плохого, если ты станешь смотреть, как маршируют воины, запомнишь, чем они вооружены, сосчитаешь, сколько у них военных колесниц, большие они и тяжелые или маленькие и легкие, сидят ли в них двое или трое воинов, ибо я слышал, что некоторые сажают в колесницы не только возчиков, но и воинов со щитами. Важно также знать, упитанны ли они и смазаны ли их тела маслом, или они тощие, искусанные насекомыми и с гноящимися глазами, как мои тупорылые. Рассказывают также, что хетты наколдовали из земли новый металл и выкованное из него оружие оставляет вмятины даже на острие медной секиры, что металл этот синий и зовется железом, а правда это или нет – не знаю, ибо возможно, что они нашли только новый способ закалять медь, что-то в нее подмешивая, и я хотел бы узнать, что это за способ. Но важнее всего выведать, что за человек правитель и что за люди его советники.
Я взглянул на него, а он уже отвернулся и, равнодушно помахивая золотой плетью, уставился в окно на оливковые деревья с покрытыми пылью листьями. Но не Иерусалим видел он перед собой, взгляд его был устремлен далеко, грудь вздымалась, в глазах горел мрачный огонь.
– Понимаю тебя, – сказал я после длительного молчания. – Мое сердце в последнее время тоже беспокойно, точно птица в клетке, поэтому я и отправился к тебе поглядеть на войну, хотя слуга мой и предостерегал меня. Я, пожалуй, ничего не имею против того, чтобы уехать в дальние страны, где бывали лишь немногие египтяне, ведь Симира мала и уже надоела мне, и, пока ты говорил, я недоумевал – как это я до сих пор мог в ней оставаться? Но человеку трудно решиться на отъезд, если его не подтолкнет кто-нибудь другой. Однако ты мне все-таки не повелитель, к тому же я не понимаю, зачем тебе все это знать, какая от этого польза, если ты будешь сидеть в Золотом дворце фараона и забавляться с женщинами.
– Погляди на меня! – сказал он в ответ.
Я поглядел – и вдруг он вырос в моих глазах, в его взгляде заиграл мрачный огонь, он стал похож на бога, так что сердце мое задрожало, и я склонился перед ним, опустив руки к коленям, а он сказал:
– Теперь ты веришь, что я – твой повелитель?
– Сердце говорит мне, что ты мой повелитель, но почему это так – не ведаю, – произнес я коснеющим языком, и мне стало страшно. – Может быть, ты и вправду рожден повелевать людьми, как утверждаешь. Будь по-твоему, я отправляюсь в путь, и глаза мои будут твоими глазами, а уши – твоими ушами, но я совсем не уверен, что увиденное и услышанное мной будет тебе полезно, ибо в том, что тебя интересует, я невежествен и лишь в искусстве врачевания я сведущ. Но постараюсь сделать все, что сумею, однако не ради золота, а ради того, что ты мой друг и боги, если они вообще существуют, этого желают.
Он сказал:
– Ты никогда не пожалеешь о дружбе со мной, но золота я все-таки дам, ибо, коли я что-нибудь понимаю в людях, оно тебе пригодится. И тебе не обязательно знать, почему эти сведения для меня дороже золота. Но могу тебе сказать, что великие фараоны всегда рассылали своих людей по дворцам других правителей, а посланцы нынешнего – это бараны, которые не сведущи ни в чем, кроме того, как собрать в складки одежду, как носить награды и в каком порядке кто из них стоит по правую или по левую руку фараона. Так что, если ты их встретишь, не обращай на них внимания, пусть их речи будут для тебя как жужжание мухи.
Когда мы прощались, он сбросил с себя всякую величественность, тронул руками мои щеки, коснулся лбом моих плеч и сказал:
– Мне тяжело, что ты уезжаешь, Синухе, ибо я так же одинок, как ты, и тайн моего сердца не знает ни один человек.
Я подумал, что, говоря так, он все еще тосковал о принцессе Бакетамон, красота которой заворожила его.
Он дал мне много золота – гораздо больше, чем я мог себе даже представить, отдал, наверное, все, что добыл в Сирийском походе, и приказал своим воинам проводить меня до пристани, чтобы я не опасался грабителей. Добравшись до моря, я поместил свое золото в большой торговый дом и получил вместо него глиняные таблички, которые было безопасно везти, ибо грабители не могли ими воспользоваться. Потом я поднялся на судно и отправился обратно в Симиру.
Хочу лишь еще упомянуть, что перед отъездом из Иерусалима я вскрыл череп одному воину, который получил в драке возле храма Атона удар дубиной по голове, отчего в черепе образовалась глубокая вмятина. Пострадавший лежал при смерти, не в силах ни говорить, ни пошевельнуть рукой. Несмотря на мои старания, он не поправился, хотя тело его стало горячим и руки задвигались, но на следующий день он все-таки скончался.
Свиток шестой. День ложного царя
1
Прежде чем приступить к новой книге, должно мне восславить то далекое время, когда, не ведая никаких помех и набираясь мудрости, путешествовал я из страны в страну, ибо такое время никогда не вернется. Я ездил по миру, который уже сорок лет не знал войны, караванные пути охранялись в нем от разбойников царскими стражами, а реки и море – военными судами фараона. Границы были открыты, торговцы и путешественники, привозившие с собой золото, становились желанными гостями в любом городе, люди не оскорбляли друг друга; встречаясь, они кланялись, опустив руки к коленям, и перенимали друг у друга обычаи, а образованные люди говорили и писали на многих языках. В Черной земле поля орошались и приносили большой урожай, а Красную землю поил влагой Нил небесный. Стада свободно бродили по лугам, пастухи не носили с собой копья, а играли на дудочках и распевали веселые песни. Виноградники цвели, плодовые деревья ломились от тяжести плодов, жрецы жирели и лоснились от притираний, из храмов к небесам возносился жертвенный дым, боги благоденствовали, толстели от обильных жертвоприношений и были милостивы. Богатые приумножали свое богатство, всемогущие становились еще могущественнее, а бедняки – еще беднее, как с незапамятных времен определили боги, так что все люди были довольны и не роптали. Таким помнится мне то давнее время, которое никогда не вернется, ибо тогда я был еще молод, ноги мои не уставали от длинных переходов, глаза горели любопытством и желанием видеть новое, а сердце жаждало знания и поглощало его большими дозами.
В доказательство того, что так было повсюду, могу сказать, что в вавилонском храме мне без всяких промедлений выдали золото по глиняной табличке, которую я получил в торговом доме Симиры, и в каждом большом городе можно было купить вино, привезенное издалека, – в городах Сирии продавалось отличное вавилонское горное вино, а в Вавилоне платили золотом за сирийские вина. Каждый человек, имеющий золото, мог купить себе рабов или нанять слуг любого цвета и роста, пола и возраста – детей, мужчин или молодых женщин, с которыми можно было веселиться, но тот, у кого не было золота, вынужден был работать, и кожа его становилась задубелой и грубой, а руки покрывались мозолями. Если же кто-нибудь пытался вломиться в дом богача и украсть золото, чтобы пить вино, веселиться и завести рабов, его хватали и вешали на стене вниз головой в предостережение другим.
Прославляя таким образом это счастливое время, когда даже солнце светило ярче и ветер был ласковей, чем нынче, я поведаю о своих путешествиях и обо всем, что видел и слышал. Но прежде мне следует рассказать о своем возвращении в Симиру.
Когда я вернулся туда и вошел в дом, Каптах выбежал мне навстречу, громко вопя от радости, и бросился в ноги со словами:
– Да будет благословен день, который привел господина моего домой! Ты все-таки вернулся, а я ведь думал, что ты погиб на войне, пронзенный копьем, раз не захотел меня послушаться и отправился поглядеть, что такое война. Но наш скарабей – могучий бог, он сохранил тебя, и, значит, сегодня хороший день. Сердце мое полно радости оттого, что вижу тебя, радость льется слезами из глаза моего, и я не могу себя унять, хотя и не стану теперь наследником всего твоего золота, помещенного в торговые дома Симиры. Но я не жалею об утрате богатства, ибо без тебя я подобен ягненку, потерявшему мать и способному только жалобно блеять. Все дни мои без тебя были бы темны, и, пока тебя не было, я украл у тебя ничуть не больше, чем раньше, я заботился о твоем состоянии, о доме и всех твоих интересах, так что теперь ты богаче, чем был прежде.
Он обмыл мои ноги и полил мне воды на руки, он обихаживал меня как только мог, продолжая все время реветь, пока я не велел ему замолчать и не сказал:
– Принимайся за сборы, мы отправляемся в далекий путь, который продлится, может быть, много лет и будет связан со всякими трудностями, ибо нам следует попасть в Митанни, в Вавилонию и на острова.
Каптах мгновенно умолк, от страха лицо его утратило глянец и стало серым.
– Скарабей свидетель, – закричал он, – господин мой лишился рассудка, мне лучше связать его и поставить пиявки! Ведь в Симире нам так хорошо, мы едим хлеб с медом, торговцы и чиновники уважают нас, а девы Астарты выучились у моряков всяким новым приемам, которые очень нравятся мужчинам и заставляют их тела содрогаться, подобно рыбам, вытащенным из воды, так что тебе лучше всего скорее отправиться в храм с жертвоприношением и забыть эти безумные речи.
Но я прервал его:
– Не сам я направляю шаги свои, а почему так – не хочу тебе говорить, ведь ты раб и глупец. Но пусть будет по-твоему: оставайся здесь, пока я путешествую, смотри за моим домом и имуществом, веселись сколько хочешь с женщинами храма, которых я не стану называть девами. Раз ты не желаешь ехать со мной, я поеду один, не хочу тебя принуждать, потому что на долгом пути от тебя будет больше помехи, чем помощи.
Тут Каптах снова заревел:
– Истинно говорю, лучше бы мне вовсе не родиться на свет! И лучше бы не видать счастливых дней, ибо чем слаще человеку живется, тем труднее ему отказаться от благ. Если бы ты отправился в путешествие на месяц или на два, как бывало и раньше, я бы ничего тебе не сказал, спокойно остался бы в Симире, но если путешествие твое продлится годы, может случиться, что ты вообще никогда не вернешься и я никогда тебя не увижу, поэтому я должен сопровождать тебя и взять с собой нашего скарабея – на таком пути тебе понадобится всякая удача. Без скарабея ты свалишься в пропасть и разбойники проткнут тебя копьем, без меня и моей опытности ты словно теленок, которому грабитель связал задние ноги, чтобы унести его на плечах своих, без меня ты словно человек, глаза которого завязаны и он попусту шарит руками, без меня каждый встречный с радостью тебя ограбит, а я этого не хочу, ибо если кто-то должен тебя обкрадывать, так пусть это буду лучше я, потому что я краду умеренно, в соответствии с твоими средствами и заботясь о твоих интересах. Но лучше всего было бы нам остаться дома, в Симире.
Год от года Каптах становился все наглее, он уже говорил «наш дом», «наш скарабей» и даже «наше золото». Мне все это надоело, особенно его вопли, так что я в конце концов взял палку и огрел его по раздавшемуся заду, чтобы у него была истинная причина голосить.
– Сердцем чувствую, – сказал я, – что когда-нибудь ты еще будешь висеть на стене вниз головой за свою наглость. Решай наконец – поедешь ты со мной или останешься, но прежде всего прекрати свою болтовню, от которой у меня болят уши и которая мешает мне готовиться в долгий путь.
После этого Каптах успокоился, смирился со своей участью, и мы стали собираться в дорогу. Так как он поклялся, что нога его не ступит больше на палубу судна, мы присоединились к каравану, направлявшемуся в Северную Сирию, ибо я хотел увидеть кедровые леса Ливана, откуда привозили строительный материал для дворцов. Даже священная барка Амона была изготовлена из кедра. Об этом пути мне почти нечего рассказать, поскольку он был однообразным и грабители на нас не нападали. Постоялые дворы там были хорошие, мы вкусно ели и пили, кое-где на наших привалах ко мне приходили больные, которых я лечил. Так как мулы мне надоели, я велел нести себя в носилках, и хотя Каптах тоже был не в восторге от мулов, я не мог посадить его рядом с собой, чтобы не потерять уважения в глазах других путешественников, ведь он был всего-навсего мой слуга. Когда Каптах начинал чрезмерно жаловаться и говорить, что предпочел бы умереть, я напоминал ему, что на судне мы могли бы проделать этот путь быстрее и удобнее, но это мало его утешало. Сухой ветер разъедал мне лицо, так что его приходилось без конца смазывать, пыль забивалась в горло, песчаные блохи кусали, но это были мелочи, и глаза мои радовались всему увиденному.
Я видел кедровые леса с такими высокими деревьями, что ни один египтянин не поверил бы моему рассказу, поэтому я умолчу о них. Но я не могу не сказать, как упоителен запах этих лесов и как прозрачны играющие в них ручьи. Глядя на все это, я подумал, что ни один человек не может чувствовать себя несчастным, живя в этой прекрасной стране. Так думал я, пока не увидел рабов, валивших и обрубавших деревья, которые доставлялись потом по горным склонам к морю. Эти рабы были очень бедны, на их руках и ногах гноились раны, на спинах в глубоких рубцах, оставляемых плетьми, копошились мухи, так что, увидев их, я уже не думал по-прежнему.
А Каптах развлекался подсчетами, сколько можно было бы получить за эти деревья, выгрузив их с судна в Фивах. Он высчитал, что в Египте ценой одного большого дерева скромный человек мог бы всю жизнь кормить семью, выучить сыновей на писцов и достойно выдать замуж дочерей. Он принялся было считать деревья, но запутался и начал счет сначала, пока наконец не расплакался.
– Сердце мое разрывается при виде того, как такое немыслимое богатство без всякой пользы качается на ветру, – сказал он, прикрывая голову, чтобы не видеть больше прекрасных кедров.
А я, слушая их шум, думал, что стоило отправиться в этот дальний путь только ради того, чтобы его услышать.
Наконец мы прибыли в город Кадеш с крепостью и большим египетским гарнизоном. Но у стен крепости не было стражников, ее рвы заросли травой, воины и офицеры жили в городе, занятые своими заботами, и вспоминали, что на службе, только в те дни, когда из кладовых фараона им раздавали зерно, лук и пиво. Мы задержались в городе, пока не зажили раны Каптаха от езды на муле. Я лечил там очень многих больных, ибо тамошние египетские врачеватели ничего не умели и имена их уже давно были стерты из списков Дома Жизни, если вообще когда-нибудь там значились. В связи с этим больных, имеющих достаточно золота, возили в Митанни и лечили там у целителей, выучившихся в Вавилоне. Я видел в этом городе памятники, поставленные великими фараонами, и читал надписи, в которых они рассказывали о своих победах, о сраженных ими врагах и об охоте на слонов. В Кадеше я заказал себе печатку из дорогого камня, чтобы меня почитали в этих странах, ибо печатки здесь не такие, как в Египте, и носят их не в перстне, а на шее, так как они цилиндрические, с дырочкой посредине, в которую продевается шнурок. Когда ими припечатывают глиняную табличку, они оставляют на ней свое изображение. Бедняки и неграмотные люди, если им приходится иметь дело с глиняными табличками, вместо печатки прижимают к ним большой палец.
Но Кадеш был таким печальным, выжженным на солнце городишком, что даже Каптах, очень боявшийся своего мула, захотел скорее продолжать путь. Единственное разнообразие в жизнь этого города вносили прибывающие туда караваны, поскольку он стоял на перекрестке караванных путей. Все такие города пограничных стран, кто бы ими ни правил, становятся местами изгнания для воинов и военачальников из египетских или митаннийских, вавилонских или хеттских армий, поэтому такие изгнанники только и делают, что проклинают свое рождение, играют в азартные игры или дерутся между собой, пьют плохое пиво и веселятся с женщинами, от которых можно ждать скорее беды, чем радости.
Итак, мы продолжали путь и, никем не остановленные, перешли границу и прибыли в Митанни, где увидели реку, которая течет не вниз, как Нил, а вверх, и где с нас взяли в царскую казну определенную для путешественников дань. Так как мы были египтянами, люди встречали нас почтительно, подходили к нам на улицах и говорили:
– Добро пожаловать, наши сердца радуются, видя египтян, ибо мы их давно уже не видели. Мы беспокоимся, почему ваш фараон перестал посылать нам воинов, оружие и золото. Говорят, он предложил нашему царю нового бога, о котором мы ничего не знаем, а ведь у нас есть Иштар и множество других могущественных богов, которые нас всегда охраняли.
Они приглашали нас в свои дома, поили и кормили не только меня, но и Каптаха, раз он был египтянином, пусть даже просто моим слугой, так что Каптах решил:
– Это хорошая страна. Останемся здесь, господин мой, и займемся врачеванием, ибо, судя по всему, это невежественные и легковерные люди, которых нетрудно обмануть.
Царь Митанни и его придворные перебрались на самое жаркое время в горы, и у меня не было охоты следовать за ними, так как меня снедало нетерпение увидеть Вавилон и все его чудеса, о которых я так много слышал. Но, выполняя просьбу Хоремхеба, я беседовал со знатными и незнатными людьми, все они говорили одно и то же, и я понял, что они на самом деле в большой тревоге. Земля Митанни, некогда могущественная, была теперь со всех сторон окружена опасностями: с востока ее теснила Вавилония, с севера – дикие племена, с запада – хетты. Чем больше я слушал речи митаннийцев о хеттах, которых они боялись, тем яснее мне становилось, что нужно отправиться в землю хеттов, но сначала я хотел побывать в Вавилоне.
Жители Митанни отличались небольшим ростом, их женщины были хрупки и изящны, а дети казались куклами.
Может быть, это и был когда-то сильный народ, ибо мои собеседники утверждали, что в былые годы они повелевали всеми землями на севере, юге, западе и востоке, но ведь так говорили и все другие народы. Я не верил и их утверждениям, что когда-то они победили и ограбили Вавилон, но если так и было, они сделали это с помощью Египта, ибо со времен великих фараонов Митанни зависела от Египта, и на протяжении двух поколений дочери митаннийских царей становились женами фараонов и жили в их Золотом дворце. Предки Аменхотепов на военных колесницах объездили Митанни из конца в конец, и в городах еще показывали надписи, повествующие об их победах.
Слушая разговоры и жалобы митаннийцев, я понял, что эта страна защищает Сирию и Египет от Вавилонии и диких племен, что ей суждено быть щитом Сирии и в ее тело вонзятся копья, целящиеся в Египет, поэтому, и только поэтому египетские фараоны поддерживали шаткий трон Митанни и посылали ей золото, воинов и наемные отряды. Но митаннийцы этого не понимали, они очень похвалялись своей страной и ее мощью, говоря:
– Дочь нашего царя Тадухипа стала Божественной супругой фараона в Фивах, хотя она была еще ребенком, и неожиданно скончалась. Непонятно, почему фараон не посылает нам больше золота, ведь фараоны с незапамятных времен любили наших царей как братьев и в знак любви посылали им военные колесницы, оружие, золото и дорогие подарки.
Так говорили они, но я видел, что это усталая, умирающая страна, над храмами и прекрасными постройками которой реяла тень смерти. Сами они этого совсем не понимали, очень заботились о своей пище, готовя ее самым замысловатым образом, тщательно выбирали новые наряды, ботинки с загнутыми носами, высокие шапки и украшения. Их руки были так же тонки, как у египтян, а кожа женщин отличались такой нежностью, что сквозь нее было видно, как по синим жилам течет кровь, они говорили и держались изящно и с детства учились красиво ходить – как женщины, так и мужчины. В этой стране было приятно жить, в домах увеселений уши не страдали от шума и криков, все происходило тихо и изысканно, так что, общаясь с тамошними женщинами и распивая с ними вино, я чувствовал себя каким-то громоздким и неуклюжим. Но когда я смотрел на митаннийцев, на сердце у меня становилось тяжело, ибо я вкусил войны, и если все, что они говорили о хеттах, было правдой, то их страна была обречена.
Искусство врачевания у митаннийцев стояло высоко, их целители знали многое из того, что было неведомо мне. Так, я получил у них лекарство, которое изгоняло глистов менее мучительно, чем любое другое известное мне снадобье, они умели с помощью иглы возвращать зрение слепцам, и я научился у них владеть иглой лучше, чем прежде, но о трепанации черепа они не слыхали и моим рассказам об этом не верили, утверждая, что только боги могут излечить пробитую голову, хотя и в этом случае человек уже никогда не станет таким, как прежде, поэтому лучше ему умереть.
Жители Митанни были любопытны и интересовались всем чужеземным, они подходили ко мне поговорить и приводили больных, ибо желали, чтобы их врачевал лекарь из другой страны. Их привлекало все необычное – они одевались в чужеземные одежды, готовили редкие блюда, пили горные вина и любили привозные украшения. Ко мне приходили и женщины, они обольстительно улыбались, рассказывая о своих болезнях и жалуясь на холодность, леность или усталость мужей. Я хорошо знал, чего они хотят от меня, но не позволял себе веселиться с ними, ибо не хотел попирать законы чужой страны. Вместо этого я давал им снадобья, которое они могли тайком подмешивать в питье своих мужей. Такие настои, заставляющие веселиться с женщиной даже мертвого, я получил у симирских врачей, которые были в этом отношении лучше всех целителей в мире, в том числе и египетских. Но давали женщины мои снадобья своим мужьям или совсем другим мужчинам, это мне неведомо, я только заметил, что чужие мужчины пользуются их благосклонностью гораздо больше, чем собственные мужья, ибо нравы митаннийских женщин отличались вольностью и у них было мало детей, из чего я также решил, что над этим народом нависла тень вымирания.
Следует еще рассказать, что митаннийцы не знали границ собственной страны, поскольку хетты увозили на своих военных колесницах пограничные камни и устанавливали их где вздумается. А если митаннийцы возражали, хетты только смеялись в ответ и предлагали им переставить камни на прежние места, но такого желания у жителей Митанни не было, ибо они боялись хеттов, утверждая, что это жесточайший и коварнейший народ на свете. Для хетта самая большая радость, говорили они, слышать стоны раненых и смотреть, как из открытых ран льется кровь, а если митаннийцы, живущие у границ, жаловались на то, что хеттские стада вытаптывают их поля и съедают посевы, хетты ломали им руки и с издевкой говорили: можете перенести камни обратно. Ломая митаннийцам ноги, они кричали: «Бегите, жалуйтесь своему царю!» Кроме того, они сдирали кожу с головы и спускали ее на глаза, чтобы митаннийцы не видели, как они передвинули границу. Митаннийцы рассказывали, что хетты оскверняют и египетских богов, нанося таким образом оскорбление всему Египту, уже поэтому фараон должен был, по их мнению, прислать в Митанни золота, копий и наемные отряды, чтобы начать войну с хеттами, а так как воевать митаннийцы не любили, они надеялись напугать хеттов поддержкой фараона и заставить их отступить. Невозможно пересказать и перечислить все то зло, которое приносят им хетты, и все те грубые и постыдные выходки, которые их отличают. Хетты хуже саранчи, говорили они, ведь после нашествия саранчи земля снова оживает, а там, где проехали военные колесницы хеттов, трава уже не вырастет.
Я не хотел больше оставаться в Митанни, ибо считал, что знаю все, что хотел узнать, но мою честь врача ущемляло сомнение митаннийских врачевателей в правдивости моих рассказов о трепанации черепа. И случилось так, что в дом приезжих, где я жил, прибыл знатный человек, жалующийся на беспрерывный шум в ушах, подобный шуму морского прибоя, на частую потерю сознания и тяжкие головные боли, из-за которых он больше не хочет жить, если никто не сумеет его вылечить. И так как лекари Митанни не брались за его исцеление, он собирался умереть. Я сказал ему:
– Может быть, ты и поправишься, если позволишь мне вскрыть твой череп, но, скорее всего, ты умрешь, ибо только один из сотни излечивается после этого.
Он отвечал мне:
– Я был бы безумцем, отказавшись от твоего лечения, ведь так у меня остается хоть одна возможность из ста сохранить себе жизнь, а если я сам себя убью, я умру навсегда. По правде говоря, я не верю в исцеление, но, если ты вскроешь мне череп, я не разгневаю богов самоубийством. А если ты, против моих ожиданий, все-таки вылечишь меня, я на радостях отдам тебе половину всего, что имею, – и это немало. Ты не просчитаешься и в случае моей смерти, ибо и тогда получишь большую награду.
Я тщательно обследовал его голову, ощупывая ее со всех сторон, но мои прикосновения не были для него болезненны, и ни одно место на голове не вызывало подозрений.
– Постучи молотком, – посоветовал мне Каптах, – ты ведь ничего не теряешь.
Сначала больной не реагировал на мои прикосновения молоточком, но вдруг ужасно вскрикнул, упал и потерял сознание. Так я нашел то место, где лучше всего вскрыть череп. Собрав митаннийских целителей, я сказал им:
– Верьте или не верьте, но я собираюсь вскрыть череп этого человека, чтобы вылечить его, хотя, вероятнее всего, он умрет.
Врачи рассмеялись мне в лицо.
– Хотелось бы это увидеть, – сказали они.
Я добыл в храме Амона огонь, очистился им сам, очистил знатного больного и все, что было в комнате. В самое светлое время дня я принялся за работу, надрезал кожу на голове и остановил обильное кровотечение раскаленным железом, хотя мне и было жаль страдальца, которому я причинял боль. Но он сказал, что такая боль – ничто по сравнению с тем, что он испытывал ежедневно. Я крепко напоил его вином, в которое влил притупляющие снадобья, так что глаза его остановились, словно у дохлой рыбы.
Потом я со всей осторожностью, которую мне дозволяли имеющиеся у меня инструменты, вскрыл его череп, и он при этом не потерял сознания, стал глубоко дышать и сказал, что сразу почувствовал себя легче, как только я вынул часть черепной кости. Сердце мое возрадовалось, ибо именно в том месте, где я вскрыл череп, злой дух или дух болезни снес свое яйцо, как называл такие шишки Птахор, оно было красноватое, некрасивое и величиной с ласточкино яйцо. Со всем доступным мне искусством я извлек его, показал врачевателям, которые больше не смеялись, и опалил вокруг все, чем оно было соединено с мозгом. Отверстие в черепе я закрыл серебряной пластинкой и тщательно пришил на место кожу. Все это время больной не терял сознания, а когда я кончил операцию, он встал и пошел, горячо меня благодаря, поскольку уже не слышал шума в ушах и даже боли у него прекратились.
Эта операция очень прославила меня по всей Митанни, и слава моя бежала впереди меня, достигнув самого Вавилона. Но больной мой стал пить вино и веселиться, так что тело его сделалось горячим, он начал бредить и на третий день в бреду сбежал из постели, упал со стены, сломал себе шею и умер. Все, однако, сказали, что это не моя вина, и очень превозносили мое искусство.
А Каптах и я наняли лодку с гребцами и отправились вниз по течению, в Вавилон.
2
Земли, которыми владеет Вавилон, называются то Халдеей, то – по живущему на них народу – страной касситов, но я стану называть их Вавилонией – тогда всем будет понятно, о какой стране идет речь. Это плодородная земля, где поля изрезаны оросительными каналами и, в противоположность Египту, везде, куда ни глянь, протянулись равнины. Все остальное тоже отличается от Египта, даже обычай молоть зерно разный: в Египте женщины стоят на коленях и вращают жернов, а в Вавилонии они сидят и трут зерно между двумя камнями, что гораздо труднее.
В этой стране плохо растут деревья, и поэтому их так мало, что, если кто-нибудь сломает дерево, он считается провинившимся перед людьми и богами. Тот же, кто сажает деревья, заслуживает милость богов. Люди в Вавилонии толще, чем в любой другой стране, и, как все толстяки, много смеются. Они едят тяжелые мучные блюда, и я видел у них птицу, которую они называют курицей и которая не умеет летать, а живет при людях и ежедневно несет по яйцу величиной с яйцо крокодила, но я знаю, что, услышав такое, никто этому не поверит. Вавилоняне считают эти яйца большим лакомством, они угощали и меня, но я не решился их отведать, ибо лучше быть осторожным и довольствоваться привычными блюдами, про которые знаешь, как они приготовлены.
Жители страны утверждают, что Вавилон – самый древний и большой город на земле, но это неправда, ибо самый великий и древний на земле город – Фивы. Хотя я и теперь уверен, что на свете нет города подобного Фивам, я должен сознаться, что Вавилон поразил и устрашил меня мощью и богатством, ведь даже стены города высятся там как горы, а башня, выстроенная во славу богов, достигает неба. Дома в городе имеют четыре или пять этажей, так что люди всю жизнь живут на голове или под ногами друг у друга, а таких богатых и роскошных лавок и такого количества товаров, как в лавках при вавилонских храмах, я не видел нигде, даже в Фивах.
Их бог называется Мардук, а во славу Иштар они выстроили Ворота, более высокие, чем пилоны храма Амона, и покрыли их пестрыми плитками с картинками, которые ослепительно блестят на солнце. От этих Ворот к Башне Мардука ведет просторная улица, а Башня имеет много этажей, по которым до самого верха поднимается такая широкая и пологая дорога, что по ней могут рядом проехать несколько колесниц. На вершине Башни живут звездочеты, знающие все о небесных светилах и их путях, предсказывающие счастливые и несчастливые дни, чтобы каждый человек мог устраивать свои дела по этим предсказаниям. Мне говорили, что они даже умеют предсказывать будущее, но для этого они должны знать день и час рождения человека, а так как я этого не ведаю, то мне не удалось воспользоваться их искусством, хотя очень этого хотелось.