Штурм Дюльбера бесплатное чтение
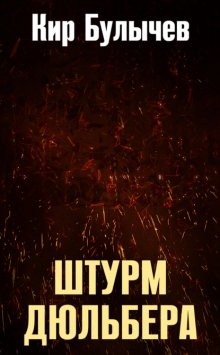
Глава 1
Декабрь 1916 г
Я чувствовал, как неведомая сила охватывает меня и разливается теплотой по всему телу. Вместе с тем я весь был точно в оцепенении: тело мое онемело. Я пытался говорить, но язык мне не повиновался, и я медленно погружался в сон, как будто под влиянием сильного наркотического средства. Лишь одни глаза светились надо мной каким-то фосфорическим светом, увеличиваясь в один яркий круг.
До моего слуха доносился голос старца, но слов я различить не мог, а слышал лишь неясное его бормотание.
В таком положении я лежал неподвижно, не имея возможности ни кричать, ни двигаться. Только мысль моя еще была свободна, и я сознавал, что постепенно подчиняюсь власти загадочного и страшного человека.
Но вскоре я почувствовал, что во мне, помимо моей воли, сама собой пробуждается моя собственная внутренняя сила, которая противодействует гипнозу. Она нарастала во мне, закрывая все мое существо невидимой броней. В сознании моем смутно всплывала мысль о том, что между мной и Распутиным происходит напряженная борьба и в этой борьбе я могу оказать ему сопротивление, потому что моя душевная сила, сталкиваясь с силой Распутина, не дает ему возможности всецело овладеть мной.
Так Феликс Феликсович Юсупов-младший писал в своем дневнике в конце ноября 1916 года.
В обычные дни князь не вел дневника, ленился, хотя полагал это полезным для внутренней дисциплины. Записи появлялись в моменты душевных волнений, к примеру, накануне свадьбы с Ириной. Тогда казалось, что Александр Михайлович, имевший, кажется, иные планы для своей старшей дочери – как-никак племянница императора! – наотрез откажет Юсупову. Но заступницей выступила Ксения Александровна, мама Ирины.
– Сандрик, – сказала она, не смущаясь присутствием Феликса, – ты забыл, как ночи не спал, уверенный в том, что батюшка тебе мою руку никогда не отдаст?
Феликс с детства был влюблен в тетю Ксению, и, возможно, не последней причиной его увлечения красивой, но холодной Ириной была безнадежная юношеская любовь к грубоватой, полной жизненной силы Ксении Александровне, которую обожавший ее отец называл «барышней-крестьянкой».
Наверное, в такой ситуации легче бы разобраться Фрейду, но Фрейда Феликс так и не прочел. Году в двенадцатом, когда он учился в Оксфорде, кто-то из тьюторов предложил ему прочесть труд австрийского гения. Но труд был напечатан в Берлине готическим шрифтом, прочесть его было выше сил русского князя.
Теперь уже все позади. Третий год Ирина – его друг и жена. Она стала ему ближе любого из мужчин. Может, оттого, что у Феликса не было друзей. Феликс был откровенным англоманом, хотя в столице ходили сплетни о том, что курса в Оксфорде он не одолел и потому по возвращении из Лондона вернулся в Пажеский корпус. К тому же Феликс не скрывал, а даже бравировал печоринским презрением к петербургскому высшему свету, ненавистью к продажным чиновникам и выжившим из ума генералам, которые тащат Россию к военному поражению.
Одиночество Феликса определялось и тем, что он, воспитанный в атмосфере превосходства его семьи по отношению к этим выскочкам Романовым, оставался монархистом, для которого близость к правящему дому составляла смысл жизни. Может, таким его воспитала мама, которая долгие годы состояла в близких фрейлинах Марии Федоровны, полагая себя как бы членом романовского семейства.
Феликс сумел отбросить мамино «как бы».
Он сам – член семейства. Он – муж Великой княжны, его дети будут племянниками и племянницами императора и, при определенных обстоятельствах, даже смогут претендовать на корону. Как бы ни были знатны Юсуповы, ни один из них не поднимался так высоко.
И в то же время Феликс оставался подобен Потемкину или Зубову. Он стал одним из Романовых через постель. И для высшего света никогда не станет настоящим Романовым. Значит, он должен быть более Романовым, чем все Романовы, вместе взятые.
А как это можно сделать?
Приблизиться к Николаю и возглавить армию?
Чепуха! Николай был холоден к Феликсу и почти игнорировал его.
Другие Великие князья? Более всего было равнодушных. Что он есть, что он пропал – проходимец!
Может, так о члене одного из древнейших родов (правда, из татарских мурз) и не думали, но Феликсу все время чудился шепот за спиной.
Уехать бы снова в свою любимую Англию, да и там ему вряд ли откроется настоящая дорога к славе.
Ирина тоже была рабыней тщеславия, она тоже была спесива, а ее брак оказался мезальянсом. Увлекшись блестящим мужчиной, она выиграла его, она утерла нос всем остальным Великим княжнам, которые исчезали навечно в каких-то Гессенах и Вюртембергах, но радость достижения рассосалась, а Феликс оказался в тупике – со всех сторон на него глазели враждебные физиономии, все двери были закрыты…
Феликс понимал, что для него существует лишь один выход – он должен стать Спасителем Отечества, новым князем Пожарским, благо война открывала некие новые области применения сил. Нет, не на фронте, тот путь был бы тупиком. Решать все надо в нервном центре страны – в Петербурге.
Как в доме Александра Михайловича, где молодые проводили большую часть времени, так и в светских салонах военные и политические проблемы обсуждались весьма горячо. Осень 1916 года не принесла успехов на фронте. Наступление провалилось, Австро-Венгрию не удалось вышибить из войны, и если австрияков немного потеснили, то немцы на севере продолжали успешно наступать, они уже оккупировали важнейшие западные губернии – всю Польшу, Прибалтику, грозили Малороссии и Белоруссии, а вскоре приблизятся и к Петербургу. На Западном фронте надежды, которые вспыхнули было со вступлением в войну Североамериканских Соединенных Штатов, к концу года угасли – американский корпус не смог внести в войну перелома. А все разговоры о том, что немцы остались без горючего, едят крыс и мечтают свергнуть кайзера, оставались не более как разговорами. Может, и ели – Бог их разберет, но и получали от того патриотическое наслаждение.
Русскому уму нужна ясность. Ясность заключается в имени врага. Как только врага обнаружат и уничтожат, наступит райская жизнь, и по кисельным берегам будут бродить молочные коровы, проваливаясь в кисель по самые рога.
Во время войны наиболее популярным становится крик: «Предали!» Он дает возможность бежать в тыл, не боясь обвинений в трусости. Предать могли только те, кто в этом предательстве заинтересован. Конечно, соблазнительно пустить в дело евреев, но известно, что немцы их не жалуют, да и среди генералов евреев, как назло, почти не нашлось. Зато в России, где правящее семейство за последние двести лет стало немецким по крови, а подпирали трон лица немецкой национальности, из которых династия и черпала кадры губернаторов, генералов и полицмейстеров, не надо было показывать пальцем – куда ни ткни, упрешься в немца.
До войны в том не было беды. От немца исходил порядок и продовольствие. Во время войны положение изменилось.
Сложность заключалась в том, что лица с немецкими фамилиями в шпионы не шли, потому что, как настоящие немцы, они были более русскими, чем русские, и, уж конечно, настоящими российскими патриотами. Продавали Россию, если находилось кому заплатить, вполне русские типы, умевшие при том кричать «Предали!» и «Держи вора!».
Сам государь император был вполне приемлем, с бородкой, тихий, похож сразу и на мужика, и на английского короля. Потому что с последним был в родстве через немецких предков. Зато его жену Александру Федоровну русский мещанин не принял – уж очень она была гордая и холодная, даже улыбаться не умела. Над государем в постели измывалась – впрочем, так ему и надо, – рожала только дочек, а потом разродилась наследником, еле живым. В этом можно было усмотреть злой умысел.
Наследника, как в итальянском фарсе, лечили всевозможные врачи и шарлатаны, государыня большую часть времени проводила в монастырях и соборах – такой богомольной царицы из русских бы не отыскать. И пока государь подавлял революционеров, проигрывал войну каким-то малоизвестным япошкам, а потом и вовсе ввязался в войну с собственным кузеном Викки, русский народ искал виноватых.
И тут как нельзя лучше помог Распутин. Вполне русский человек, сибиряк, конокрад. Такого шарлатана русская история и не припомнит. Это был гипнотизер, сексуальный гигант – воплощение всего, в чем столь нуждался малокровный двор, дрожавший над малокровным наследником.
Чем дольше тянулась война, чем хуже были дела на фронте и дома, тем явственней виделся образ врага и виновника наших бед. В разных слоях общественности его именовали по-разному, не сознавая, что речь идет об одном и том же козле отпущения.
Социалисты имели в виду прогнивший режим и немецкую династию в целом.
Мещанство ненавидело царицу и всяких там при ней Штюрмеров и Ранненкампфов. Царицу даже никто не звал русским православным именем, на которое она по крещению имела право, – Александрой Федоровной.
Ее именовали Алисой.
Знать и политики правого толка не смели поднять лапу на государыню, как бы она ни была противна их духу. Зато утверждали, что Алиса, сама того не ведая, попала в моральный плен к подлому развратнику Распутину, а подлый развратник давно уже находится на содержании немецкой разведки. Сам император – жертва этого гнусного заговора, и если бы удалось найти способ, чтобы избавиться от самозванца, тогда все пойдет как надо – заиграют трубы, пойдут в бой сытые полки, испуганно спрячется социалистическая крамола, мы вступим в Берлин, захватим проливы, возьмем Царьград и, может, даже прибьем к его воротам щиты, что делали наши предки в тех случаях, когда их не хотели пустить в город, зная, что они нечисты на руку.
Шли месяц за месяцем, год за годом, и сколько бы людей, близких и далеких, ни открывали глаза императору и императрице на то, что они находятся в плену у самозванца, те и в ус не дули. Нравился им Распутин, верили они в его целительные силы и вовсе не верили родственникам и политикам, даже маме князя Юсупова не поверили, пришлось Зинаиде Николаевне возвращаться ни с чем.
Распутин, как и положено российскому временщику, беззастенчиво брал взятки, пил по-черному, спал с цыганками и графинями, существовал в окружении истеричных дам и продажных мужчин, умело влиял на назначения в верхах России, но, разумеется, ничего изменить не мог – от того, занимал ли пост Хвостов, Трепов или Штюрмер, сумма не менялась. С Распутиным или без него империя катилась в пропасть, а имперская знать сидела по гостиным и стенала – как избавиться от Распутина? как спасти Отечество?
Эти стенания продолжались бы до самой революции, которая была близка, если бы не комплекс неполноценности князя Феликса Юсупова, который повлиял на течение российской истории. Но, как оказалось, это не сделало князя Феликса российским Бонапартом.
Слово «убить» не произносилось в салонах, хотя витало в воздухе. Некогда предки собиравшихся там князей резали друг друга и более удачливых временщиков, не гнушались порой и императорами. Но к концу 1916 года они выродились и уже не смели рискнуть – не смели поднять руку на особу хоть и порочную и низкого происхождения, но приближенную к императору. Поднимешь, а что потом? Что сделает с тобой государь?
Когда Юсупов понял, что именно он должен избавить Россию от Распутина, он поделился этой, пока еще туманной, мыслью с прекрасной Ириной.
Ирина отнеслась к рассуждениям мужа трезво и даже деловито.
– Феликс, – сказала она. – Может быть, в этом и есть твой шанс. Если ты спасешь Россию, спасешь империю раньше, чем это сделает Дмитрий Павлович или кто-нибудь другой из Великих князей, который наймет пару убийц, тебе не будет равного в России.
– Ты предлагаешь нанять убийцу? – с деланым возмущением, а в самом деле с некоторым облегчением спросил Феликс.
– Ни в коем случае, – ответила Ирина. – Подвиг такого рода нельзя путать с уголовщиной. Если ты хочешь убить Распутина, то именно твой кинжал должен вонзиться в грудь временщику.
Феликс замолчал.
Вся эта сцена его смутила. Он полагал, что Ирина бросится отговаривать его, умолять… она же толкает его… может, к тюрьме? к казни?
– Не бойся, – сказала Ирина, – никто не посмеет поднять руку на героя. Вся Россия будет носить тебя на руках.
Феликс пожал плечами. Ему не было дела до того, как себя поведет Россия, если его в то время зарубят шашками жандармы.
Разговор на том закончился и возобновился вновь, когда Ирина собралась на юг, в имение своего папа, чтобы избавиться от петербургского кашля.
Они обсуждали ее отъезд, и вдруг Феликс вспомнил один из ялтинских вечеров трехлетней давности.
– Ты не помнишь такого… Сергея Серафимовича? – спросил он.
– Берестова? Мы были у них. Такой седой, благородный джентльмен. Его потом загадочно убили, – ответила Ирина.
– Я помню, что в тот вечер был спиритический сеанс. И мы говорили о Распутине. О том, что его надо убить, чтобы спасти страну. А может, это мне только кажется?
– Тогда Распутин не был столь опасен, – сказала Ира.
Она поежилась, глядя перед собой. Вспомнила:
– Какой был страшный человек тот медиум у Берестова. Помнишь?
– Общение с тайными силами не проходит даром, – попытался улыбнуться Феликс.
Тот разговор с Ириной, которая вскоре уехала на юг, был еще одной песчинкой на весах.
Феликс не относился к героям – в нем даже не было военной косточки, как в его отце, чересчур бравом, но недалеком офицере. Он и на фронт не спешил, хотя на него по этой причине поглядывали косо.
Впоследствии в исторических исследованиях, написанных в основном после Октября, будут приняты фразы типа: «В конце 1916 года в среде крайне правых политиков и в окружении императора преобладали намерения физически устранить Распутина, которого все, даже члены императорской семьи, считали виновником военных поражений».
Это было не совсем так.
За десять лет в России не нашлось ни одного смельчака, который бы перешел от слов к делу. Все смельчаки состояли в партии эсеров и уничтожали губернаторов и полицмейстеров. Распутин как представитель крестьянства вызывал у них презрение, но не считался кандидатом в мученики.
Должен был появиться человек, для которого смерть Распутина – не только освобождение России от наваждения, но и источник корыстного интереса, пересиливавшего любые опасности, проистекающие от поступка.
Ирина, которая и была мотором в том семействе, не переставала подталкивать робевшего Феликса. Как-то, озлившись, он даже рявкнул: «Ты-то найдешь себе другого мужа, а я новую голову не отыщу». Ирина взглянула на него, чуть склонив голову, – она умела так смотреть, как на насекомое, и вышла из комнаты. Он помаялся с полчаса, пошел просить прощения. Ирина чуть усмехнулась и ответила, что не обижена.
В тот день, когда Феликс решился познакомиться с Распутиным, он совершил шаг, не позволяющий думать об отступлении. Если ты, Феликс Юсупов, близкий к престолу, богатый и красивый, пошел в товарищи к конокраду, значит, тебе не место среди чистых. Особенно если ты пошел на это именно для того, чтобы протиснуться в среду чистых.
Феликс с Ириной тщательно продумали дебют своей партии.
На Мойке, неподалеку от дворца Александра Михайловича, в котором в 1916 году, пока шел ремонт в юсуповском особняке, поселились молодые, стоял дом Головиных, фактической главой которого за неимением в Петербурге мужчин была Маша Головина, некогда приятельница Феликса. Уже не первый год она себя открыто почитала в верных сторонницах Распутина, в свете над ней посмеивались, впрочем, ей до мнения света и дела не было.
Феликс нанес Маше визит. Навел разговор на Распутина, что было несложно, выслушал панегирик старцу. Феликс осмелился внести нотку сомнения.
– Как же, – спросил он, – такой праведный, как ты говоришь, человек может проводить жизнь в кутежах и разврате?
Маша покраснела и стала отмахиваться ручкой от Феликса, как от осы:
– Ты попал в сети клеветы! Так говорят враги старца! Ведь враги нарочно подтасовывают факты, чтобы очернить его в глазах государыни.
– Но мне говорили, что в «Вилли Родэ», где он чаще всего бывает, у него есть собственный кабинет. Он там танцует с цыганками…
– Замолчи, если не хочешь, чтобы я навсегда с тобой поссорилась!
Добившись молчания, Маша вдруг сказала:
– Возможно, старец и делает это.
– Вот именно!
– Погоди! Если он так делает, то только для того, чтобы нравственно закалить себя путем воздержания от окружающих соблазнов.
Фраза была так ловко построена, что Феликс понял: она заготовлена и отрепетирована заранее.
– А министров твой старец назначает и снимает ради нравственного совершенствования?
– Феликс, давай прекратим разговор об этом. Он ничего не даст. Ни мне, ни тебе. Лишь останется осадок. Если ты хочешь, то я тебя представлю Григорию Ефимовичу. Скажу, что ты хочешь его видеть. И тогда ты сам сможешь убедиться, какой это святой человек!
Феликс сделал вид, что размышляет.
Обстоятельства складывались в его пользу. Ему даже не пришлось просить о встрече. Он даже мог показать сомнение… что он и сделал.
Маша Головина позвонила Юсупову через неделю.
– Завтра у нас будет Григорий Ефимович, – сказала она. – Ты еще не раздумал убедиться лично в том, какой это человек?
– Я готов, – ответил Феликс.
Все, Рубикон перейден.
– Тогда я жду тебя завтра, к чаю. К четырем часам. Григорию Ефимовичу я уже сказала о твоем желании с ним познакомиться. Он отнесся к этому тепло, даже радостно. Он любит новых людей… Он хочет, чтобы люди его понимали. Я сказала, что ты женат на племяннице государя. Оказывается, он об этом знает.
«Еще бы, – подумал Феликс, – десять лет в Петербурге – он собрал сведения обо всех. Ему лестно знакомство со мной».
Распутин опоздал, вошел шумно, как хозяин, облобызал Машу и ее мать, подбежавших под его благословение, как гимназистки.
Он был точно такой же, как на фотографиях и литографированных портретах. Но одна черта, не увиденная на фотографиях, привлекла внимание Феликса. Это были его глаза.
Они были малы и бесцветны, посажены очень близко друг от друга и так углублены в череп, так затенены бровями, что терялись в орбитах и поблескивали оттуда, как два холодных хрусталика. Даже трудно было порой понять, открыты глаза или нет, но чувство, подобное пронзающей тебя игле, заставляло держаться настороже. Во взгляде, как понял Феликс, таилась нечеловеческая сила.
Старец опустился на соседний с князем стул и завел нервный, быстрый, сбивчивый разговор.
С Распутиным всегда было трудно говорить. Мысли опережали возможности его речи, он не договаривал фразу, бросал на половине, начинал новую. Он пересыпал речь неопрятными словечками и стремился приставить к словам уменьшительные суффиксы, что в его речи не давало комического эффекта, потому что он оставался личностью значительной и даже страшной.
И Феликс испугался того, что намеревался убить этого человека.
«Он же догадается, что я думаю. Он сотрет меня в порошок. Как подойти к нему с кинжалом?»
Распутин похвалялся близостью с государем, словно Феликс об этом мог не слышать. Но Головины слушали его так, будто он открыл им глаза на правду жизни.
Потом разговор перешел на врача Бадмаева, которого травят придворные завистники, а он знает все травки. И тут Феликс догадался, каким образом он сможет приблизиться к Распутину, не вызывая подозрений.
– Меня собирались к нему вести, еще в детстве.
– Чем же в детстве ты страдал, мой ласковый? – спросил Распутин.
– У меня, насколько я себя помню, бывают головокружения. Я вообще теряю способность двигаться.
– И болит?
– Нет, болей я не испытываю, – сказал Феликс. – Но порой теряю сознание.
Головины смотрели на Распутина, приоткрыв изящные ротики, словно ожидали, что он сейчас превратит гадкого утенка Феликса в лебедя.
– Ясное дело, – сказал Распутин. – Нуждаешься ты, голубчик, в сильном моем влиянии. Придешь ко мне, не бойся, зла я еще никому не сделал. Поможем. А теперь еще по чашке чаю, и мне идти надо. Государственные дела призывают.
Не делал зла, произнес про себя Феликс. Если бы ты ограничился легковерными дамочками или гусарами с перепою, тебе бы цены не было. Но твои государственные дела и есть страшный вред для России.
Феликс все более убеждал себя в том, что он несет крест, врученный ему свыше… «Вот он, сидит передо мной, дьявол во плоти, губитель моей России. А я, как белый жертвенный паладин, выхожу на открытый бой с обнаженным мечом».
– Ты чего задумался? – спросил Распутин. – Или оробел? Тебе передо мной робеть не след. Ты лучше скажи, умеешь на гитаре играть и петь? Или врут про тебя?
– Я играю немного…
– Ох уж притворяешься… Сейчас со мной выйдешь. Не спешишь?
– Нет, Григорий Ефимович, не спешу.
Они вышли на мороз. Григория Ефимовича ждал автомобиль с заведенным мотором, чтобы не заглох. Шоффэр был в шубе и меховой шапке. У Феликса авто не было – ему идти от Головиных до своего дворца два шага. Но он почувствовал укол ненависти к этому мужику, который осмелился приехать на собственном авто, тогда как он, Юсупов, таится даже от собственных слуг.
– Садись, – сказал Распутин, копаясь пальцами в длинной черной бороде. – К цыганам поедем.
– Стоит ли?
– А ты, Феликс, не рассуждай. Никто тебя не увидит. Мы ресторан закроем, всех вышвырнем. Меня ждут.
И тогда Феликс, вздохнув, подчинился, потому что, раз уж ты пошел на жертвы, вряд ли стоит останавливаться на полдороге. Да и любопытно поглядеть – что же такое распутинский кутеж. О них в Петербурге чего только не говорили.
Кутеж оставил гудящую голову, стыдные и вовсе не разгульные воспоминания и память о чувстве постоянного страха – а вдруг появится кто-то из знакомых?
После этой бурной ночи Распутин стал благоволить к красивому камер-пажу. Несмотря на слухи, Григорий Ефимович не был склонен к содомскому греху, впрочем, как сам признавался, по пьяному делу баловался и мальчиками. Но любил баб.
Вот и на лечебном сеансе, когда Феликс отчаянно боролся с гипнозом, он князя трогал, оглаживал, чуть не слюнявил, но знал меру и предел.
Лечил он князя в своей спальне – небольшой комнатке в обширной, многокомнатной, но тесной и неуютной квартире на Фонтанке.
Вдоль одной стены стояла узкая кровать, небрежно застеленная спальным мешком из лисьих хвостов, – подарок, как сказал старец, от Анны Вырубовой, его главной покровительницы и почитательницы. Напротив кровати стоял громадный сундук, в нем можно было упрятать медведя, а опершись о него спинкой, раскинуло лапы подлокотников старое продавленное кожаное кресло – в нем-то и полулежал Феликс, пока старец совершал над ним свои действия.
В красном углу висело несколько образов, горела лампада, на стенах в рамках, а то и без – прикнопленные, висели портреты государя, государыни и их детей, а также лубочные картинки, изображавшие сцены из Священного Писания, – такие листки можно было купить на базаре по пятаку.
– Все, – сказал старец, – поднимайся, пошли чайком побалуемся. После сеанса обязательно надо горячим настоем жилы разогреть.
В столовой на овальном столе кипел золотопузый самовар, стол был накрыт скатертью, на ней расставлены блюда и тарелки со сладостями, до которых Распутин был большой охотник. Полюбившемуся Феликсу он подвигал тарелки и хвалил халву, конфеты и печения. Феликс глядел на толстые, расплющенные на концах пальцы – под ногтями черно – и холодно, разумно радовался решению – он отравит Распутина. Он подсыплет яда в пирожные. Где бы отыскать надежного доктора?
– Гитару принес? – спросил Распутин, хотя знал, что гитара у князя с собой. Сам отобрал гитару, встретив у черного хода – на секретности визита настоял князь.
Князь, все еще находясь в некотором трансе, потому что его воображение диктовало ему сцены смерти Распутина, пел задумчиво, негромко, в основном цыганские романсы, которыми прославился в Оксфорде.
Распутин сидел, опершись о ладони согнутых в локтях рук, всхлипывал и твердил, что пение Феликса – ангельское. И что он ни попросит – старец ему сделает. Хочешь любую бабу, даже Великую княгиню? И тут же спохватился, захохотал, вспомнил, что у Феликса уже есть Великая в женах.
– Но, может, хочешь министерское место? Какое министерство тебе по нраву? Ведь ты будешь получше министром, чем эти старые грибы? Ты орешка попробуй, в сахаре орешек, а потом еще нам сыграешь.
Феликс понимал, что ему хочется подчиняться старцу, хочется угодить ему. Это наваждение, от которого надо избавиться. Если не избавишься, Распутин разоблачит тебя и убьет. И Феликс радовался тому, что осознает опасность и потому будет в силах с ней бороться.
На прощание старец принялся упрашивать Феликса, чтобы он как-нибудь привел с собой красавицу жену. Обещал, что посмотрит, здорова ли она, а если нужна помощь, то помолится за нее. Он говорил вроде бы серьезно и доброжелательно, но глазки пронзали страхом, а по лицу блуждала гадкая ухмылка – может, она и привиделась князю.
Медлить более было нельзя еще и потому, что Феликс подлежал мобилизации – все члены императорской фамилии, ее младшего поколения, были на фронте. Впрочем, удивляться тому не приходилось – по традиции все без исключения, даже хронически больные принцы, с раннего детства были приписаны к полкам, кончали кадетские корпуса и офицерские училища. Это тоже сыграло плачевную роль в истории России – ее правящая верхушка, если не считать наследника престола, который получал более широкое образование, состояла из кадровых офицеров армии или флота, то есть к современной политической жизни была не приспособлена. Впрочем, и сам Николай II лучше всего чувствовал себя во главе полка, на параде или на учениях. Но уже в штабной комнате он терялся, потому что офицером был старомодным, бесталанным, для парадов, а не для танковых сражений. Беда русского командования, когда все определяла близость к престолу, была связана, разумеется, с деградацией самой империи. Ведь в наполеоновских войнах император не смел после первых неудачных попыток командовать Кутузовым и Барклаем. А вот Плевну в 1877 году штурмовали долго и неудачно – августейшие полководцы на роль Наполеонов не годились.
Феликсу помогло то, что казалось ему проклятием, – он не принадлежал по крови к царской семье, и никто не мешал его отцу дать сыну гражданское образование. Отец полагал, что Оксфорд откроет сыну истинную карьеру в современном государстве. Оксфорд ничего не открыл, только прибавил сплетниц и врагов. И Феликс, уже по собственному разумению, резко сменил карьеру и по возвращении из Лондона отправился в Пажеский корпус. Он стал камер-пажом, правда, с опозданием. Но теперь после трех лет войны камер-пажей стали отправлять на фронт.
Так что надо было торопиться со своими планами.
Главного кандидата на роль соучастника подобрала Феликсу Ирина. Им нужен был член императорской фамилии. Если не будет Великого князя, то Феликс рискует оказаться на каторге, как бы ни радовалось общество. Великий князь станет щитком. Но где найдешь такого, кто не струсит, не спасует перед фактом измены государю? Кто не выдаст заговор по глупости – быть участником провалившегося заговора позорно, и тут рискуешь оказаться посмешищем.
Ирина недаром собирала сплетни и слухи. Она нашла соучастника там, где, казалось бы, и не отыщешь такового. Им был Дмитрий Павлович, кузен государя, сын отщепенца в семействе, ибо Павел Александрович умудрился жениться вторым браком на разведенной жене полковника. Незнатной женщине, да еще разведенке, нечего было делать во дворце. Павел прожил несколько лет в Париже, а сейчас командовал гвардейской дивизией без особого успеха и желания – но он исполнял свой долг. А сыну не досталось даже дивизии. И сын не скрывал своей ненависти к Распутину и его клике, за что был в немилости. Ему тоже хотелось стать спасителем Отечества.
Феликс позвонил Дмитрию Павловичу. Сказал, что должен встретиться по неотложному делу.
Знакомство их было чисто светским, в их кругу так по телефону не разговаривали. Из этого следовало, что дело не бытовое, не семейное… Дмитрий Павлович согласился принять Юсупова в пять часов.
Феликс подготовил речь перед Дмитрием Павловичем. В ней были сакраментальные слова о том, что уничтожение Распутина спасет царскую семью, откроет глаза государю и он, пробудившись от страшного распутинского гипноза, поведет Россию к победе.
Но Феликсу даже не пришлось держать речь. Через несколько минут Дмитрий Павлович, сначала принявший Юсупова официально и даже сухо, предложил перейти к делу.
Он был достаточно умен, чтобы сообразить, что судьба принесла ему в лице этого красавчика шанс спасти Отечество и кузена.
– По правде говоря, – сказал подобревший Дмитрий Павлович, звеня в колокольчик, чтобы принесли по чарке доброй водки за успех предприятия, – я с внутренним негодованием узнал, что вы были замечены в последние недели в обществе этого изверга. И при первых ваших словах я заподозрил интригу.
– Это невозможно, я человек чести. Я согласен взять на себя исполнение смертного приговора старцу. Мне важнее ваше сочувствие, чем участие. Ваше имя не будет запятнано.
– Запятнано? – Дмитрий Павлович был выше ростом, чем его гость, он принадлежал к той кавалерийской породе Романовых, что до конца жизни оставались поджарыми. Походная форма сидела на нем ладно, как на ветеране, не думающем о том, чтобы она сидела ладно. – Запятнано? – повторил Дмитрий Павлович, глядя в окно кабинета. – Это благородное пятно. Пятно чести. Наступает время жертвовать собой ради идеи, ради империи. Если мы с вами, князь, не возьмем на себя риск замарать наши фраки, то грош нам цена. История приговорит нас к забвению.
Это были высокие слова, и они прозвучали искренне. Князь Юсупов был посланцем небес, призванным спасти князя от забвения.
– У меня есть помощник, – сказал Юсупов. – Штабс-капитан Васильев. Военлет. Он находится в Петрограде на излечении после ранения. Мы с ним познакомились в Ялте. Ирина встретила его на благотворительном вечере, и вот на днях он появился здесь.
– Вы намерены привлечь к заговору иных лиц? Я не советую.
– Я полагаю, Ваше Высочество, поговорить с кем-то из ведущих монархистов. Политиков. Может так статься, что нам пригодится поддержка определенной части общественного мнения.
Дмитрий Павлович не скрыл улыбки.
– Подстилаете сено, князь? – спросил он.
– Моя цель состоит не в простом убийстве, не в дворцовом перевороте, – возразил Юсупов, – а в акте гражданского сознания. Мне хочется объединить в нем аристократию, царское семейство и верных престолу политиков.
– Но помните, – сказал Дмитрий Павлович, – что за пределами узкого круга заговор превращается в предмет для разговоров и обязательно провалится.
– Я помню об этом.
– Тогда действуйте, с Богом. Я не смогу вам помочь на этом этапе, так как через несколько дней возвращаюсь на фронт.
– Я возьму на себя самую отвратительную часть заговора, – сказал Феликс. – Я буду общаться с этим человеком. Я должен быть хитрым, как змий.
– Именно об этом я хотел вам напомнить. С Богом, я благословляю вас на благородное дело. Будьте осторожны, мой друг.
И они подняли по рюмке за успех предприятия.
На прощание договорились – ни одной бумажки, ни одной строчки, могущей повредить заговору. Все переговоры только устно, только в надежном месте, только без свидетелей.
И когда они расстались, Феликс кинулся к Ирине с радостной вестью. Теперь следовало подыскать известного влиятельного думца, у которого есть те же проблемы, как у Юсупова и Великого князя. А может, иные, но могущие толкнуть его к отчаянному акту убийства.
Сначала Юсупов посетил профессора Маклакова. Его прочили в премьеры конституционного правительства, он был уважаем банкирами и адвокатами – само воплощение здорового консерватизма.
Маклаков выслушал Юсупова, который в этой беседе не ставил точек над i, ибо собеседник его не был связан кастовыми интересами с Феликсом и мог, несмотря на данное слово, поведать миру с трибуны Государственной думы о существовании заговора.
Но Маклаков отлично понял Юсупова. Понял и оробел.
У него был образ, утвержденный мнением общества. И в образ консервативного профессора убийство никак не вписывалось. Если Маклаков окажется участником заговора, он никогда уже не вернет себе облик интеллигента с чистыми руками. К тому же Маклаков отлично понимал, что Распутин – лишь надводная часть айсберга и империя рухнет, в чем он не сомневался, не из-за Распутина, а по причинам куда более глубинным и неотвратимым.
Так что Маклаков ничего не выигрывал, а слишком многое терял.
Он ответил Юсупову уклончиво, дал слово никому не обмолвиться о визите князя. И они расстались, понимая, что Маклаков в заговоре участвовать не будет.
И тогда решено было обратиться к крикуну и демагогу.
Таких в Думе было несколько. Но последовательно злобный, монархист из монархистов – один. Пуришкевич. Респектабельный джентльмен с бородкой, в пенсне.
Такие есть в каждом русском парламенте. Их движущая сила – ненависть. Причем ненависть крикливая, очевидная настолько, что порой кажется наигранной. Набор врагов у Пуришкевича (они же враги короны и национального духа) был устрашающим. Если бы они когда-нибудь объединились, Пуришкевич рухнул бы под грузом их чувств. Но враги никогда не могли объединиться. Одни по причине несходства характеров или политических позиций, другие потому, что не принимали или делали вид, что не принимают Пуришкевича всерьез.
Разумеется, Распутин в устах Пуришкевича был пугалом номер один, он не раз выступал с требованием избавиться от старца ради спасения Отечества. И в отличие от Маклакова Пуришкевич был достаточно безответственным типом – он отлично подходил в качестве третьего (если не считать таинственного штабс-капитана) участника заговора тщеславных циников. Убить Распутина? Это гениальная мысль! Давно только об этом и мечтаю. Для этого есть исполнитель? Еще лучше. Я сделаю все, чтобы заговор удался.
Пуришкевич видел себя во главе правительства доверия, которое придет ради спасения Руси, правительства честных монархистов, в котором он возьмет в руки власть.
Далекоидущие планы заговорщиков были обречены на провал, потому что сама постановка вопроса – ликвидируйте Распутина, и Россия вздохнет свободно! – была порочна.
Но выступить катализатором процессов, кипящих под крышкой котла российского общества, они были способны.
Устраивая вместе с Сергеем Серафимовичем спиритический сеанс в Ялте перед войной, пан Теодор понимал, что жизнь и смерть Распутина станут одним из узловых моментов в истории России, и потому старался не выпускать из виду старца и тех, кто мог реально ему противостоять. Ему было приятно сознавать, что уже в 1914 году он заметил молодого Феликса Юсупова. Сейчас же Феликс настолько близко сошелся с Распутиным, что Петроградский Совет был вынужден обратить на это внимание. Феликс докатился до того, что ездит с Распутиным к цыганам, безумствует там и – вы не поверите! – играет на гитаре в сомнительных компаниях, словно жалкий тапер. И до этого докатился владелец юсуповских миллионов!
Теодор из своих источников знал, что все не так просто. Феликсу не было нужды в Распутине, тем более что он не стремился к карьере и тщеславие его могло бы обойтись без дружбы с временщиком.
Феликс что-то замыслил, понял Теодор. И так как его роль в нашем мире заключалась, в частности, в том, чтобы знать о событиях, могущих повлиять на пути развития земного общества раньше, чем они произойдут, он удвоил внимание и попытки проследить за каждым шагом Юсупова.
Поэтому Теодор знал о беседе Феликса с Дмитрием Павловичем, о его разговорах со штабс-капитаном Васильевым, который вообще переселился во дворец Юсуповых на Мойке, так как неудобства, связанные с ремонтом, его не удручали. Зато он мог исподволь подготавливать сцену для драматического действия.
Теодор даже пошел на то, чтобы познакомиться со штабс-капитаном. Авантюра с Распутиным, в которую военлет с удовольствием впутался по причине своего беспутного характера, не занимала целиком его времени и мыслей. Потому он посещал увеселительные заведения, правда, не высшего толка, так как денег у Юсупова просить не хотелось, да Феликс и не был самым щедрым из друзей. В ресторане «Каприз» напротив Елагина острова он встретил как-то поляка или серба с густыми черными бровями и огненным взором, они славно посидели, и Теодор, как звали нового друга, заплатил по счету. Это расположило к нему Васильева, и он поведал другу детства (к тому времени Теодору удалось внушить Васильеву, что он – его друг детства) все, что он знал о заговоре. И обещал держать Теодора в курсе дел, тем более что живой ум штабс-капитана подсказал ему, что Теодор – человек не жадный и готов в будущем угощать бедного пилота.
Пуришкевич рекомендовал в заговор еще одного человека – толстого и мрачного доктора Лазаверта, которого он представил как идейного борца за интересы самодержавия. Доктор Лазаверт от идейности не отказывался, но сразу же заговорил с Юсуповым о гонорариуме. Он произносил это звучное слово со смаком, будто речь шла не о деньгах, а о букете цветов либо Нобелевской премии.
Юсупов обещал доктору щедро оплатить его услуги. Доктор был нужен, потому что убийство предполагалось цивилизованным, а не азиатским преступлением. Доктор должен был составить яд и потом проверить, помер ли Распутин.
Когда заговорщики вчетвером впервые встретились во дворце Александра Михайловича (Дмитрий Павлович еще не возвратился из Могилева) и разрабатывали детали плана, то решено было не привлекать к делу слуг. Но кто-то должен был управлять авто. Васильев был готов на это, но Юсупов указал на то, что с рукой на перевязи ему будет нелегко это сделать, к тому же такой шоффэр запомнится случайному взгляду.
Тогда Пуришкевич предложил кандидатуру доктора Лазаверта. Лазаверт признался, что обучился этому искусству на фронте, когда занимался поставками медикаментов в госпитали, а теперь намерен даже приобрести себе автомобиль. Он был готов вести авто. На том и порешили.
В начале декабря Юсупов два раза встречался с Распутиным, который демонстрировал свою любовь к князю, они подолгу беседовали. Распутину было лестно выступать перед слушателем, который не заискивал перед ним, а казался улыбчивым и любезным.
Юсупову было нелегко сохранять вид легкомысленный и беззаботный. Он жил в ощущении убегающего времени. Зима была в разгаре, на фронтах затишье, но в городах было неспокойно, железные дороги работали все хуже, и начались перебои с хлебом. Даже самые горячие патриоты уже не смели кричать о жертвах во имя победы. Нужно было подстегнуть страну, прежде чем она вырвется из рук властей и поплывет, кружась, к водовороту. В любой момент затея Юсупова могла лопнуть, и с каждым днем риск все увеличивался. Ведь если в тайну посвящены пять человек, значит, реально о ней знает дюжина. Ведь не смог же Феликс скрыть приготовления от Ирины, хоть ему и удалось уговорить ее уехать в Крым, не столько ради ее безопасности, сколько опасаясь настойчивых требований Распутина познакомить его с женой. Женщины непредсказуемы – Ирина тем более.
Если о заговоре узнавали власти, то, желая того или нет, они обязаны были принять меры. И Юсупову грозила опасность очутиться в Петропавловской крепости, ничего не совершив. Но была и другая опасность, тоже реальная – некая вторая группа, желая также пробиться в бессмертие, опередит Юсупова и получит все лавры и терновые венцы.
Юсупов назначил покушение на середину декабря. Благо сам он пользовался полным доверием старца. Но ведь и это – не вечно. Старец капризен и подозрителен. В любой момент по навету или по справедливости Юсупов лишится доверия Григория Ефимовича. И тогда провалится заговор, который именно на доверии жертвы и основывался.
В одну из последних встреч Распутин и вовсе испугал Юсупова. Он откровенно заговорил о мире.
Они сидели в тесной, заставленной темной тяжелой мебелью гостиной, пили чай. Распутин хватал с подноса эклеры и кидал их в рот, как орехи. Губы его блестели, пальцы лоснились от жира.
– Вот что, дорогой, – говорил он наставительно. – Хватит воевать, довольно крови пролито, пора кончать всю эту канитель. Разве немец не брат тебе? Господь говорил: «Люби врага своего, как любишь брата своего», а какая же у нас любовь получается? Сам-то все артачится, да и Сама чего-то уперлась: не иначе как их опять там кто-нибудь худому научает, а они развесили уши, слушают! Тьфу ты! Но ты не думай. Я своего добьюсь. Я их уломаю. Они все по-моему сделают, хоть и спешки нету…
– Нет! – вырвалось у Юсупова. – Мир – это позор для России! Вы, Григорий Ефимович, о нашей национальной чести подумали?
– Национальная честь – это не для нас, мужиков, – возразил старец. – Вы же знатные, о людях и думать не можете. Только я один и пекусь о народе. Вот покончим с этим кровавым делом и объявим правительницей Александру с малолетним сыночком, а Самого пригласим в Ливадию, на отдых… Вот-то будет радость ему огородником заделаться. Устал он больно, отдохнуть надо, а глядишь, в Ливадии, около цветочков, к Богу ближе будет. У него на душе много есть чего замаливать… одна война чего стоит! За всю жизнь не замолишь!
– А как же Дума? – спросил Юсупов.
– Говорунов сразу разгоним. Ишь надумали! Против помазанников Божьих пошли! Давно пора их к чертовой матери послать… всех, всех, кто против меня кричит, – всем худо будет!
«Надо не забыть, – думал Юсупов, – все пересказать Пуришкевичу. Он в последние дни избегает меня. Дмитрий Павлович тоже испугается конца войны. Кому нужен мир без победы? Всем нужна победа, тогда и будем мириться».
– Вот евреи просят меня свободу дать, – гудел голос Распутина. – Чего ж, думаю, не дать? Такие же люди, как и мы с тобой, Божья тварь.
Когда вечером того же дня Юсупов рассказывал Пуришкевичу о последнем визите, он добавил кое-что от себя.
Он поведал о том, как их беседу якобы прервал звонок в дверь, тогда Распутин отвел его в спальню и велел не высовываться. А сам принял гостей в кабинете. Оттуда Юсупову были слышны голоса, и он, конечно же, не утерпел, выглянул в щель. Оказалось, что в гостях у старца собралось несколько неприятных типов, у четверых был, несомненно, еврейский облик, трое других были белобрысые, с красными лицами и маленькими глазами.
– Вся эта группа производила впечатление грязных заговорщиков, – закончил свой рассказ Юсупов. – Распутин же сидел среди них с важным видом и что-то им рассказывал. Заговорщики посмеивались и записывали его слова в свои черные книжечки.
Пуришкевич кивал, давая понять, что понимает подсказку Юсупова – противоестественный союз мирового еврейства с тевтонскими шпионами угрожал самому существованию России.
– Мы не можем терять ни минуты, – сказал политик. – Я готов к выступлению.
– Дмитрий Павлович днями будет в Москве, – сказал Юсупов.
На последнем совещании заговорщиков, которое происходило в санитарном поезде Пуришкевича, был разработан план, как сказали бы через полсотни лет, «сценарий» убийства.
Подобно мальчикам, планирующим набег на соседский сад, который стережет вредный сторож, группа взрослых мужчин просидела три часа, разложив на столе бумажки, чертя на них стрелы и крестики, потом, обо всем договорившись, сожгли их в печке, чтобы не осталось даже пепла. А затем все заговорщики кинулись по берлогам, чтобы занести события и решения рокового дня в свои дневники, ибо все без исключения вели дневники, в которых намеревались оправдаться перед потомством.
Решено было следующее: Юсупов приглашает Распутина посмотреть свой холостяцкий уголок в доме родителей на Мойке, где как раз кончался ремонт. Приглашать старца надо на ночной кутеж, потому заехать за ним требуется в полночь.
Следует отравить Распутина пирожными, начиненными цианистым калием. После чего вынести труп Распутина во двор и погрузить в автомобиль Великого князя, так как на радиаторе этого авто был укреплен великокняжеский флажок и полиция не имела права этот автомобиль останавливать.
Точнее место, куда надо сбросить труп, поручалось отыскать князю, который может проехать по подходящим местам в том же авто.
Затем заговорщики поклялись, что ни один из них не проговорится об участии остальных в покушении и будет отрицать осведомленность об убийстве.
Каждый понимал, что эта клятва по крайней мере условна. Обстоятельства могут сложиться так, что сознаться окажется выгодным. И вряд ли кто из заговорщиков удержится от соблазна.
Ирина срочной телеграммой просила мужа не начинать ничего, пока она не возвратится из Крыма. Никто из заговорщиков не подозревал, что движущей силой их предприятия была стройная застенчивая женщина редкой робкой красоты.
Ирина простудилась, и пришлось начинать без нее, так как 16 декабря стало последним сроком – надвигался Новый год, государь вернется в Петербург из Ставки – заговорщики не смели совершить убийство в его присутствии. Хотя царя считали слабовольным, у него могло хватить воли, чтобы пресечь заговор или быстро раскрыть его.
У Феликса возникло небольшое осложнение – 17-го утром ему надо было сдавать в корпусе экзамен по тактике, прогулять его – навлечь на себя ненужные подозрения. Следовательно, надо было провести убийство с наименьшей потерей сил… к тому же даже такому холодному человеку, как Юсупов, было нелегко готовиться шестнадцатого к экзамену, если ночью предстояло стать спасителем Отечества и убить – все же ему раньше этого делать не приходилось – очень живого, сильного и хорошо относящегося к Феликсу человека. Впрочем, Феликс старательно занимался весь день шестнадцатого декабря, и это помогало ему не думать о предстоящей ночи.
В час дня Феликс сделал перерыв в занятиях и, вызвав авто, отправился во дворец Юсуповых на Мойке.
Феликс приказал остановить авто, не сворачивая к подъезду.
Окна в комнату, где все произойдет, – узкие, почти вровень с землей, – выходили на речку. Набережная была пустынна, и в снегу редкими экипажами и телегами были промяты колеи.
Несмотря на середину дня, в окнах горел свет и мелькали очертания людей. Там кипела работа.
– Могли бы завесить окна! – закричал князь от дверей, сбежав в подвал.
Старый камердинер Василий Иванович, человек верный, ездивший с Феликсом в Англию, который командовал убранством комнаты, ничем не показал удивления.
Прошел, перешагивая через вещи, к окнам, задернул уже повешенные шторы, сразу стало темно.
– Лампы принесут к вечеру, – сказал Василий Иванович.
– Бог с вами, – отмахнулся Юсупов, не признавая упрека, – открывайте окна, только не шумите и не мелькайте. Не хочу, чтобы весь город знал.
Феликс глядел, как слуги вешали на стены ковры.
Он сам придумал и нарисовал комнату, стараясь, чтобы она понравилась гостю.
Ловушка была сделана из винного погреба дворца. Комната была мрачная, узкие окна давали мало света. Ровный гранитный пол рождал холод, стены были облицованы серым камнем, своды побелены. Казалось бы, невозможно превратить этот подвал в приятное жилище, но Феликс был уверен, что сможет сделать так, чтобы старец согласился выпить чаю, не спешил и не волновался.
Две невысокие арки делили подвал на неравные части. Узкая часть была прихожей – оттуда дверь вела на лестницу. Если подняться по ней на пролет, выйдешь во двор, а еще выше располагался кабинет Феликса, лежавший как раз над подвалом. Лестница эта была винтовой, из темного дерева.
Вошедший в прихожую со двора сразу видел две большие разноцветные китайские вазы, стоявшие в нишах.
Пройдя под арку, он оказывался в широкой части подвала, которая должна была имитировать столовую.
Сюда Юсупов велел принести много темной мебели, зная, что именно так обставлена гостиная в доме Распутина. Обтянутые кожей стулья, мягкие черные кресла теснились между шкафов и буфетов, еле уместившихся по стенам и снабженных ящиками и ящичками. Между креслами, стульями и шкафами размещалось несколько инкрустированных столиков, на них стояли кубки из слоновой кости и фарфоровые вазы.
Во весь пол был расстелен пышный персидский ковер, а в углу, где ковра не хватило, положили шкуру белого медведя.
В центре комнаты располагался овальный стол, за которым предстояло сидеть Григорию Ефимовичу.
Удовлетворившись тем, как идут работы по приготовлению комнаты, Феликс отдал последние указания Василию Ивановичу – купить побольше печений, пирожных и всяких сладостей, а также принести из подвалов доброй мадеры. К одиннадцати часам вечера следует накрыть наверху, в кабинете, чай на четверых и внизу на двоих и ничего не жалеть, словно будут гулять человек пять.
В одиннадцать Феликс возвратился в подвал. Он совершенно подготовился к завтрашнему экзамену – успел!
В подвале его ждал только Василий Иванович. Хоть дом и протопили после ремонта, в подвале было сыровато и зябко. Василий Иванович сидел на корточках перед камином и кормил его деревянными чушками. При звуке быстрых шагов Феликса он с трудом поднялся, и Феликс подумал, как он уже стар. Ведь Феликс помнил его с детства – точно таким же, без перемен.
– Людей отпустил? – спросил Феликс.
– Так точно.
Феликс прошел вокруг стола. Стол был уставлен сладостями густо, словно собирались пировать большой компанией. Мадера была открыта. Феликс хотел было попробовать – мадера была своя, из маминого подвала в Ай-Тодоре, но тут же спохватился – его остановил иррациональный страх – словно мадера уже отравлена, будто кто-то обогнал Феликса и подготовил ловушку для самого охотника.
– Ты иди, – сказал Феликс.
Василий Иванович удивился:
– А кто же подавать будет?
– Я сам.
– Тогда я останусь, ваше сиятельство. От меня будет польза.
Феликс усмехнулся. Преданность слуги, как в хорошем английском романе, всегда трогала его.
– Василий, – сказал он, пытаясь не дать волнению отразиться в голосе. – Чем ты дальше будешь отсюда сегодня ночью, тем лучше.
– Я понимаю, что не с девицей остаетесь, – сказал Василий.
– Какая может быть девица – ты бы первым княгине донес.
– Может, и не донес бы, – сказал Василий Иванович.
– Тогда иди, иди, справимся. Завтра с утра пораньше приходи. Понадобишься.
Василий Иванович колебался. Он не мог ослушаться князя, но не хотелось оставлять его. Тревожно.
Феликс подтолкнул слугу к дверям и сам вышел за ним следом.
И вовремя.
Во дворе, переступая с ноги на ногу, словно морж, в обтекающей бобровой шубе, покачивался доктор Лазаверт. Он пришел раньше остальных гостей.
– Вы на извозчике? – спросил Феликс вместо приветствия.
– Не беспокойтесь, – ответил доктор высоким, как бывает у больших толстых людей, голосом, – я расплатился на углу Невского.
Было темно, мела поземка, яркий фонарь покачивался от ветра над входом в подвал. Еще один фонарь был на набережной, недалеко от ворот, он тоже качался и гонял длинные тени на золотом снегу.
Две фигуры – высокий князь и приземистый Пуришкевич – возникли в воротах, сначала силуэтами, подсвеченные сзади, потом их осветил фонарь над дверью.
– Мы не опоздали? – громко спросил Пуришкевич.
– Нет, все в порядке, – сказал Феликс.
Великий князь стянул с руки перчатку, все смотрели на это и ждали, когда же он освободит длинные пальцы. Затем Великий князь поздоровался за руку со всеми заговорщиками.
Наступила пауза, ее прервал Феликс.
– Добро пожаловать, так сказать, – произнес он с кривой усмешкой.
Намек на шутку не прозвучал.
Феликс первым открыл дверь в дом и пошел вниз по винтовой лестнице. Остальные чуть задержались, и Пуришкевич спросил оттуда:
– А мы где будем?
Хотя знал, еще вчера осматривали место.
Из кабинета Феликса на верхнюю площадку вышел штабс-капитан Васильев. Юсупов и не заметил, как он прошел наверх.
– Нет, нет, – сказал Дмитрий Павлович, – сначала посмотрим, как вы все подготовили, княже.
В столовой было тесно. Все стояли вокруг стола, обозревали тарелки и блюда с пирожными, словно макет поля боя, какие устанавливают в военной академии на занятиях по тактике.
– Начнем? – спросил Феликс. Голос сорвался, пришлось откашляться и повторить вопрос. Феликс был зол на себя за такое мелкое проявление слабости.
Он открыл дверцу резного шкафа черного дерева и достал оттуда заготовленную коробку.
Пуришкевич посмотрел на нее жадно, Феликс подумал, что он оголтелый человек. Очень опасный.
Доктор Лазаверт подошел к столу поближе, шуба мешала ему.
– Позвольте, – сказал штабс-капитан и стащил шубу с доктора. Он кинул ее на кресло. И Феликс подумал – только не забыть ее здесь. Только не забыть. Все может сорваться из-за пустяка.
В коробке была небольшая широкогорлая склянка, и в ней – несколько палочек цианистого калия.
Доктор взял блюдце, положил на него палочку и принялся разминать ее чайной ложкой. Палочка была не очень твердой и послушно рассыпалась в порошок. Доктор растирал порошок, он был при деле и успокоился – он мог не думать об убийстве, достаточно заняться приготовлениями к медицинскому опыту.
– Пирожные, – приказал доктор Феликсу, словно хирург, который велит сестре милосердия подать ему скальпель. Феликс подвинул коробку с пирожными.
– Вы уверены, что он любит именно эти пирожные? – спросил доктор.
– Да, я видел, как он их пожирал, – сказал Феликс. – Как грязная скотина.
Он пытался раззадорить себя.
Пирожные оказались эклерами – доктору было нетрудно отделить верхнюю половину и положить по толике порошка в шоколадный крем. Остальные следили за движениями рук доктора, словно учились делать так сами, в следующий раз.
Никто не произнес ни слова, пока доктор, нашпиговав последнее, десятое пирожное, не распрямился и не ссыпал остатки порошка в коробку.
– Что-то спина болит, – сообщил он, – видно, погода меняется.
Штабс-капитан Васильев, единственный из всех, нашелся и ответил:
– Судя по приметам, грядут морозы, и значительные притом.
– А в рюмки будем насыпать? – спросил Феликс.
– Рискованно, – сказал доктор. – Он может заподозрить, если Феликс Феликсович откажется пить с ним. Лучше не рисковать.
– А пирожные? – спросил Пуришкевич. – Князь тоже откажется.
– Я не люблю сладкого, – сказал Юсупов. – Григорий знает об этом.
– Следует сделать на столе некоторый беспорядок, – вдруг заговорил Великий князь. – У вас были гости и ушли. А убрать не успели. Разоренный стол вызывает доверие. Одни гости ушли, другие пришли, вы человек гостеприимный, но порядка в доме нет.
Все придвинулись к столу и с облегчением начали разрушать созданную слугами картину – наливали в чашки чай, разворачивали конфеты и оставляли их рядом с блюдцами. Васильев даже плеснул чаю на скатерть и выдержал осуждающий взгляд хозяина дома.
Пуришкевич налил себе мадеры, выпил и потом спросил:
– А вы уверены, доктор, что не успели отравить?
Все нервно засмеялись, смеялись долго, не могли остановиться.
– Пора ехать, – сказал Феликс, самый молодой, но и самый выдержанный и холодный.
Доктор первым перестал смеяться. Еще вчера было обговорено, что он поведет автомобиль, потому что с этого момента ни один из слуг, даже самых верных, допущен к тайне не будет. Кроме доктора, вести авто было некому – у Васильева рука на перевязи, Пуришкевич и близко к машине не подходил – его возили на думском авто. Вот и остался толстый Лазаверт, единственный безыдейный заговорщик. Ему что мертвый Распутин, что живой – было безразлично.
Наверху в кабинете Феликс приготовил доктору костюм шоффэра – кожаную куртку, фуражку с квадратными очками, прикрепленными к околышу, краги. Костюм был тесноват, но доктор не жаловался, ему трудно было подобрать костюм по размеру.
Там же Юсупов облачился в длинную доху и меховую шапку со спущенными наушниками, чтобы скрыть лицо.
Потом в кабинете присели на дорожку. Словно перед долгим и опасным путешествием к Северному полюсу.
– С Богом, – сказал Дмитрий Павлович, словно старший по званию.
Гости втроем остались наверху и приготовились к долгому ожиданию, а князь с Лазавертом сошли во двор, доктор сел на водительское место, а князь стал крутить заводную ручку. К счастью, мотор был славным, английским «Роллс-Ройсом», несмотря на мороз, завелся после нескольких оборотов.
Во дворе осталась вторая машина, Великого князя.
Через несколько минут автомобиль остановился на улице, не доезжая нескольких саженей до дома, а Юсупов пошел к воротам. Там стоял дворник, он не хотел пускать Феликса, но тот сказал, что господин Распутин его ждут и велели прийти с черного хода, чтобы не беспокоить агентов охранки.
Дворник не узнал князя, на что тот и рассчитывал, оставаясь в темноте за воротами и поднимая воротник дохи, словно замерз. Пришлось дать ему четвертной. Дворник помял ассигнацию в пальцах и пропустил гостя.
В черном ходе было темно. Завизжала, кинулась из-под ног кошка. Все-таки Россия – всегда Россия, размышлял Юсупов, ощупью поднимаясь наверх. В доме живет диктатор империи, его надо охранять днем и ночью. И что же? Охранники сидят в парадном подъезде, а с черного хода любой может подняться к старцу неузнанным, в худшем случае подкупив дворника. Ну ладно, не хватает агентов – так повесьте лампочку!
Феликс не был уверен, нужная ли ему дверь перед ним. Но на дверях черного хода не было табличек с номерами квартир.
Он тихонько постучал, рассчитывая на то, что если квартира чужая, то обитатели ее спят и не услышат, что кто-то скребется с черного хода.
Тут же из-за двери послышался приглушенный голос старца:
– Кто там?
– Григорий Ефимович, это я, Феликс. Приехал за вами, как договаривались.
Оба таились, словно мальчишки, которые собрались за яблоками в монастырский сад.
Загремела цепочка. Затем скрипнула задвижка – без помощи хозяина с черного хода войти нелегко.
На кухне тоже было темно. Только у Распутина в руке свечка.
– Ты чего закрываешься? – Распутин подозрительно смотрел на шапку с опущенными ушами и поднятый воротник.
– Мы же сговорились, – нашелся Юсупов, – чтобы сегодня про нас никто не знал.
– Верно, верно, – сказал старец.
Он тоже был взволнован – он ждал визита в знатный дом, ибо был тщеславен и в глубине души пресмыкался перед знатью. Потому проклинал и клеймил князей и графов за то, что не любят народ и не помогают государю править Россией.
Они прошли в спальню, где Распутин, бывший до того в длинной ночной рубахе, натянул черные бархатные шаровары, белую шелковую рубашку, вышитую васильками, подпоясался малиновым шарфом. И сразу стал похож на скомороха или на актера, изображающего русского мужика. Шуба и бобровая шапка валялись на сундуке, и Распутин молча одевался, потом сунул ноги в высокие валенки.
– Теперь и идти можно, – сказал он.
Теперь и умирать можно, мысленно поправил его Юсупов.
– Ну что, сначала к цыганам или потом? – спросил старец. – А то ждут нас там.
– Можно и к цыганам, – стараясь казаться равнодушным, произнес князь.
Распутин сразу всполошился.
– А что? К тебе нельзя? – спросил он. – Мамаша приехали?
– Не беспокойтесь, – сказал Феликс. – Мама с Ирэн в Крыму, еще не приехали. У меня сегодня товарищи были, да разъехались.
– Не люблю твою мамашу, – признался старец, направляясь к кухне. – Небось с теткой Лизаветой дружит. Они все на меня матушке клевещут. Матушка мне их клеветы сразу передает. Не получится у них.
Во дворе старец сказал:
– Хочу посмотреть, как ты дворец отремонтировал. Люди хвалят, говорят, как царский.
– Сейчас и посмотрите, – сказал Феликс.
Вдруг его начала молотить дрожь, и он, чтобы скрыть ее, сказал:
– Что-то сегодня мороз сильный.
– К утру еще сильнее будет, – ответил Распутин. – А ко мне днем Протопопов приезжал. Знаешь зачем? Не выходи, говорит, из дому два дня. Есть сведения, что тебя ночью убивать будут. Или сегодня, или завтра. Ничего себе, даже охранить не могут. За что им батюшка деньги платит?
Распутин говорил не уставая, ворчал, но без злобы, хотя Феликсу, конечно же, было страшно слушать эти слова – словно старец испытывал его, намекал на то, что обо всем ему известно.
– Поедем, поедем. – Князь старался казаться спокойным. Он взял с сундука шубу и стал надевать ее на Распутина. Если бы нож – сейчас бы ударить его – никто не догадается. Или еще лучше – пистолет! Нет, так нельзя, у него в комнатке за кухней прислуга спит.
– Деньги-то, деньги забыл! – Распутин вырвался, открыл сундук. Пачки денег лежали там, завернутые в газеты. Распутин вытаскивал деньги из бумаги и совал в карманы шубы.
– Столько денег? – Князь не удержался, вопрос получился глупым.
– Сегодня получил, – ответил старец. – Добрые люди принесли. Мне добрые люди много денег приносят, а я их на добрые дела пускаю. Я их и не считаю, на что мне деньги считать, что я – Митька Рубинштейн, что ли?
Распутин рассмеялся, но, когда пошли по черному ходу, оборвал смех, чтобы не разбудить прислугу.
Они очутились на площадке лестницы. Дверь закрылась, и наступила полная темнота. Юсупову стало страшно, как никогда в жизни. Он даже присел от страха, опершись о стену, – сейчас Распутин задушит его, обязательно задушит. Он обо всем догадался и только ждет момента, чтобы разделаться с Феликсом.
Князю было страшно жалко себя, такого молодого, талантливого, красивого, у которого вся жизнь впереди. И какое право имеет этот темный старец, мошенник и совратитель женщин, убить его?
Он хотел закричать, но крик не получился, а снизу, с нижней площадки лестницы, послышался грубый голос Распутина:
– Ты чего застрял? Темноты боишься, что ли?
– Иду. – Феликс не сразу заставил себя последовать за старцем. Внизу хлопнула дверь. Распутин вышел во двор.
В доме Распутин хотел было идти наверх, к кабинету, но Юсупов за рукав шубы потащил его вниз.
– Там все накрыто, – сказал он.
Только бы друзья не зашумели! Распутин чуткий, как лесной зверь.
– Почему в подполе? – удивился Распутин. – Ты мне не говорил. Что же, ты меня в дворницкой принимать будешь?
– Я люблю те покои. – Юсупов вел его вниз по лестнице, толкнул дверь в подвал. – Никто не побеспокоит, можно с друзьями посидеть. У меня сегодня уже были, только ушли. Видишь, я слуг отпустил, некому со стола убрать.
– Ну и правильно, что отпустил. – Вид стола с остатками чаепития успокоил Григория. Он повесил шубу на вешалку в узкой комнате, а сам прошел в столовую. Но садиться не стал, а повторил: – И чего этот Протопопов меня оберегает? Я ведь заговорен от злого умысла. Пробовали, не раз пробовали меня жизни лишить, да Господь все время просветлял. Вот и Хвостову меня погубить не удалось. Прогнали Хвостова, где он? А я вот тут, добро людям несу. А кто меня тронет, тому плохо придется.
Если бы Юсупов был в заговоре одинок, если бы не было товарищей, что сидели над головой, шептались и ждали, он не посмел бы тронуть старца. Но сейчас отступать нельзя – жизнь один раз дается, сегодня не сделаешь обязательного, и упустил свой жизненный шанс!
– Шоффэр у тебя толстый, на шоффэра непохожий. Иудей?
– Француз, – сказал Феликс. – Жан.
– И лицо у него такое странное – где я его видел?
– Да в моей машине и видел.
– У тебя другой был, рыженький.
– Они сменяются, – сказал Юсупов.
Им овладело нетерпение. Надо все сделать скорее – пока не сорвалось. Как будто тянешь тяжелого сома и думаешь, порвет ли он леску – еще минутку… уже берег близко. Но вот сорвался, ушел в глубину!
Распутин уселся за стол, оглядел тарелки и блюда, словно полководец поле боя с вершины холма.
Юсупов сразу подвинул ему блюдо с пирожными.
– Вы эклеры любите, Григорий Ефимович, – сказал он.
Несколько секунд пальцы Распутина висели над блюдом с пирожными, потом он убрал руку.
– Нет, сладкие больно.
– Мадеры?
Все. Охота началась. Сомнения покинули Феликса. Он знал, что Распутин не выйдет отсюда живым.
Юсупов налил чаю. Самовар был велик и потому не остыл. Но угли в нем потухли. Распутин пил, не замечая, что чай едва теплый. Он начал рассуждать о том, как спасет Россию, и перешел на близкую свадьбу дочери, которую отдавали за офицера, георгиевского кавалера, что его весьма волновало – он вот-вот породнится с настоящим дворянином.
Разговаривая, Распутин протянул снова руку и взял пирожное с блюда. Юсупов смотрел, как он подносит пирожное ко рту, как рот раскрывается, шевелятся губы, а пальцы у Распутина – плохо мытые, с черными ногтями.
Юсупов готов был закричать заговорщикам: «Он съел пирожное! Конец! Сейчас он упадет!»
И было не страшно – только бы скорее кончилось.
– Ты чего так смотришь? – спросил Распутин. – Будто привидение увидал.
Распутин засмеялся. Он не боялся в гостях у князя. Почему-то в его голове жило убеждение, что князья гостей не обижают.
Он взял еще одно пирожное.
Юсупов налил в бокал мадеры.
– Попробуйте, Григорий Ефимович, – сказал он. – Из Ай-Тодора, с наших виноградников.
Распутин отпил мадеры, похвалил ее и спросил:
– Ну, поедем к цыганам? Чего здесь засиживаться?
– Поедем, конечно, поедем. – Он утвердительно кивал и ждал, когда же Распутин будет падать?
В подвале пахло дешевым одеколоном Распутина и ваксой. Хорошо, что не дегтем сапоги мажет.
Мадера Распутину понравилась, и он пил бокал за бокалом, закусывая отравленными эклерами. На блюде их почти не осталось. «Неужели доктор что-то спутал? Нет, так не может быть! Я не соберусь с силами повторить все снова!»
Распутин поднес руку к горлу и отставил рюмку.
– Вы что? Болит? – с надеждой спросил князь.
– Нет, просто першит, – ответил старец.
Он ласково улыбнулся князю, и тот понял, что еще минута – и он убежит отсюда.
И вдруг выражение лица старца изменилось. Его брови сошлись к переносице, лоб пересекся морщинами. Он дышал быстро и лихорадочно.
– Что с вами? – с надеждой спросил князь.
Распутин уронил голову на руки и глухо произнес:
– Налей чаю. Жажда мучает.
Юсупов начал наливать чай, он видел, как трясутся его руки, но остановить дрожь был бессилен. Только бы не заметил Распутин… Ну почему он не умирает! Он же должен давно умереть!
Неожиданно Распутин уперся ладонями в стол и поднялся. Сделал несколько шагов по комнате, увидел гитару Юсупова.
– Сыграй, голубчик, что-нибудь веселенькое, – попросил он. – Люблю, когда ты поешь.
Юсупов покорно взял гитару. Тяжкое, тупое чувство провала овладело им.
Он запел «Степь да степь кругом…».
– Не то, – сказал Распутин, – совсем не то. Я же веселенького просил.
– Не могу, – искренне ответил Юсупов, – настроение невеселое.
Юсупов пел и смотрел на часы.
Оказывается, уже пошел второй час, как Распутин сидит в подвале.
– Спой еще, к цыганам не поеду, – сказал Распутин. – Тяжко мне…
Он прикрыл глаза, словно задремал.
Более Юсупов не мог выдерживать этого поединка.
– Я сейчас приду, – сказал он.
– Ты куда?
– По-маленькому, отлить, сейчас вернусь.
– Ну иди, потом и я схожу. – Распутин вяло улыбнулся.
Юсупов выбежал из комнаты и в несколько прыжков преодолел два пролета лестницы.
Его шаги услышали. Когда он распахнул дверь, за ней стояли Пуришкевич и Васильев.
Юсупов приложил палец к губам.
– Он жив? – спросил Великий князь. – Не вышло?
– Яд не подействовал! – сказал Юсупов.
– Этого не может быть! – откликнулся доктор. – Как медик, я ответственно заявляю вам, что яд совершенно свежий и доза его достаточна, чтобы убить роту.
– Может, он выплюнул? – спросил Пуришкевич.
Юсупов только отмахнулся. Ему показалось, что за спинами его сообщников стоит знакомый человек, которому здесь быть не положено, но он никак не мог приглядеться к нему и узнать.
– Мы пойдем все вместе, – сказал Пуришкевич, – мы накинемся на него и задушим.
Все двинулись к выходу из кабинета. Ими руководило нетерпение, чувство волчьей стаи.
Феликс расстался с Распутиным, но не со страхом перед ним. Он представил себе, как, мешая друг дружке, вся эта компания вваливается в подвал и Распутин, который жив и здоров, встречает их, подняв стул или схватив в руку бутылку вина. Еще неизвестно, кто возьмет верх.
– Стойте. – Князь загородил соратникам дорогу. – Я сам. Мне только нужен револьвер. Дмитрий Павлович…
Дмитрий Павлович был в походной форме, ремень через плечо, на нем кобура.
Великий князь не раздумывал, расстегнул кобуру и протянул револьвер Юсупову.
Возвращаться в кабинет не стали. Так и стояли на лестнице, уверенные в том, что ожидание вот-вот закончится.
Юсупов оказался почти прав.
Распутин был жив. Он сидел за столом, опустив голову. Юсупов стоял в дверях, сжимая за спиной рукоять револьвера, сейчас бы и выстрелить… Распутин поднял голову и мрачно поглядел на князя.
– Чем ты меня отравил? – спросил он. – В животе все жжет. Дай-ка мадеры. Может, полегчает?
Юсупов вздохнул с облегчением. Можно еще на минуту отложить убийство.
Свободной рукой он налил в рюмку мадеры, Распутин выпил ее одним глотком.
– Так-то лучше, – сказал он. – А теперь поехали к цыганам.
– Поздно, – ответил Юсупов.
– Они привыкли. Бывает, в Царском задержат меня дела, так я ночью на авто к ним еду. Они ждут. Мыслями-то я с Богом, а телом с людьми.
Он подошел к буфету. Внутри на полке стояло хрустальное распятие.
– Красивая вещь, – сказал он.
– Вы бы помолились, – помимо воли вырвалось у Юсупова.
Распутин обернулся к Феликсу и смотрел на него покорно, внимательно, как будто не узнавая.
Юсупов повторял про себя: «Господи, дай мне сил! Дай мне сил, Господи!»
Он вынул руку из-за спины, поднял пистолет и направил его на старца.
Странно, но тот не увидел этого движения. Он ждал.
Покорно, как будто они с князем сговорились заранее.
Куда стрелять? В сердце?
Юсупов прижал дуло револьвера к розовой рубашке и нажал на спуск.
Распутин страшно взревел, как раненый зверь.
Он грузно повалился навзничь на медвежью шкуру, покрывавшую пол.
На выстрел откликнулись нетерпеливые громкие шаги – остальные заговорщики кинулись по лестнице вниз, кто-то из них неловко задел выключатель, и свет в подвале погас.
Кто-то налетел на Юсупова, вскрикнул. Юсупов боялся ступить в сторону, чтобы не наступить на труп.
– Свет! – закричал он. – У двери выключатель.
Свет вспыхнул почти сразу.
Комната была полна людьми. Распутин лежал навзничь, кулаки сжаты на груди, на розовой рубашке расплывается кровяное пятно.
– Он жив, – прошептал Пуришкевич.
Лицо Распутина подергивалось от судороги. Будто он силился открыть глаза.
Юсупов поднял было пистолет, но остерегся выстрелить.
Он не хотел, чтобы кровь залила медвежью шкуру.
Лицо Распутина застыло, кулаки разжались.
– Все, – сказал Лазаверт, но наклоняться и проверять не стал – ему было достаточно того, что он видел.
Юсупов наклонился, Пуришкевич помог ему, и они стащили тело с медвежьей шкуры на каменный пол.
И тут все забыли, что делать дальше. Конечно, был план вывезти тело на речку и кинуть в прорубь подальше от дворца, но сразу перейти к этому прозаическому делу не хотелось. Да и Юсупов был так измочален последними часами. Холодный Дмитрий Павлович произнес слова, которых все ждали:
– Я предлагаю, господа, подняться в кабинет и выпить по рюмке за успешное завершение нашего предприятия.
На лежащего в углу Распутина никто не смотрел. Даже любопытства не было. А может, боялись его.
Все с облегчением потянулись прочь из подвала. Юсупов вышел последним, выключил свет и запер подвал на ключ. Он не хотел, чтобы кто-то случайно забрел туда и увидел.
Лестница была освещена скудно, и Юсупов, поднимавшийся последним, посмотрел наверх – еще на пролет. Но там было темно и пусто. И все же тревога его не оставляла.
Сначала в кабинете было тихо. Юсупов сам разлил по рюмкам мадеру, такую же, какой угощал Распутина.
Дмитрий Павлович коротко поблагодарил Феликса от имени нации за его подвиг, и все стоя выпили за здоровье князя.
Затем занялись делами.
Лазаверт в виде шоффэра и штабс-капитан Васильев, изображавший Распутина – в его шубе и шапке, а также Великий князь, сжавшийся на заднем сиденье, инсценировали отъезд Распутина из дворца – мало ли кто мог следить за Юсуповым!
Машина должна была завезти Дмитрия Павловича в его дворец, чтобы он мог пересесть в свой, крытый автомобиль и вернуться на нем к Юсупову. На этом автомобиле и вывезут тело Распутина.
Приготовления заняли несколько минут. Переодетый Васильев и его спутники покинули дворец. Юсупов остался в узкой прихожей подвала, откуда только что вынесли распутинскую шубу.
В доме, кроме него, оставался лишь Пуришкевич, который поднялся в кабинет и набрасывал что-то в большом черном блокноте, возможно, свою завтрашнюю речь в Думе. Завтра перед освободившейся от кошмара Россией откроются новые дали.
Смутная тревога мучила Юсупова. Не могло все так легко и просто кончиться – неправильно это.
Он прошел в большую комнату. Распутин все так же лежал на полу. Лишь пятно крови на рубахе расплылось шире. Нет, он мертв, он не мог остаться живым!
Юсупов смотрел на Распутина и думал, почему он не жалеет его и вообще не испытывает никаких чувств. Как будто не имеет к смерти этого чернобородого человека никакого отношения.
И вдруг у него все внутри сжалось.
Веко Распутина заметно дрогнуло.
Старец сначала открыл левый глаз, затем правый.
Он смотрел на Юсупова. Будто только что проснулся.
Это кошмар, такого быть не может…
Ноги приклеились к полу, он хотел крикнуть, но голос не повиновался.
Вдруг Распутин вскочил на ноги. Нет, так не поднимается немолодой, почти убитый человек. Он вскочил, как резиновая игрушка – подпрыгнув, – и тут же вцепился в горло Феликсу.
– Феликс! – повторял он негромко, но со злобой… а может, с мольбой? – Феликс…
Юсупов все же вырвался, потому что в нем удесятерились силы, – он боролся за свою жизнь.
Он кинулся прочь и, столкнувшись, чуть не сшиб с ног человека, который от дверей снимал ручным переносным аппаратом эту страшную сцену на синема.
В тот момент Юсупов был слишком перепуган, чтобы его узнать и даже удивиться его появлению.
Он ворвался в кабинет и закричал Пуришкевичу, уютно устроившемуся за княжеским письменным столом:
– Он жив! Он уйдет!
– Револьвер! – Пуришкевич вскочил из-за стола. – Где ваш револьвер?
– Я вернул его Великому князю! А ваш? Дайте ваш!
– Нет, – отрезал Пуришкевич.
Если до того момента он был лоялен и довольствовался вторыми ролями в спектакле, то сейчас наружу вырвалось его действительное отношение к Юсупову:
– Вы умудрились погубить дело, мальчишка! Теперь пора действовать мужчинам.
Может быть, это была цитата, может быть, Пуришкевич придумал эти слова когда-то по другому случаю. Но сейчас он был грозен и убедителен.
Он бегом направился к двери, отстранил темную тень – человека со съемочным аппаратом – и выбежал на лестницу.
Он увидел, что Распутин уже поднялся из подвала на лестничный пролет.
– Он не выйдет! – крикнул Юсупов. – Там заперто.
Но на деле дверь была открыта.
Распутин скрылся в темноте за дверью.
Остался лишь его хрип и невнятный звук голоса.
Юсупов прислонился к стене. У него опустились руки.
Все впустую! Погибла жизнь. Тюрьма, может, казнь – и за что? Он же все сделал. За всех!
– Нет! – закричал Пуришкевич. – Не позволю!
Он кинулся на двор, чуть не сшибив по пути Юсупова и человека с киносъемочным аппаратом, нахально снимавшего фильму, словно он был у себя дома.
Наконец Феликс узнал его.
Он пришел из далекого прошлого, из довоенного года, из вечера у высокого джентльмена в Ялте, которого потом убили… Это же медиум!
Юсупов думал о медиуме отрешенно – это не имело отношения к главному. Но легче думать о медиуме, чем о собственной судьбе.
Снаружи донесся выстрел. Потом еще один.
Может, еще не все потеряно? Может, его догнали?
«Но у меня нет оружия!» – хотел было сказать Юсупов, но не к кому обратиться. Он поднял руку и с удивлением увидел, что держит в руке тяжелую резиновую дубинку, которую дал ему Маклаков, отказавшись участвовать в заговоре. Помог, чем мог.
Юсупов выбежал во двор как раз в тот момент, когда раздался третий выстрел.
Распутин был уже у открытых ворот; еще два шага – и он на улице.
Пуришкевич отставал от него шагов на двадцать. Он стоял и палил из револьвера.
Распутин упал в сугроб. Пуришкевич догнал его и почему-то ударил каблуком в висок. Потом отшатнулся.
– Я попал! – крикнул Пуришкевич, обернувшись к Юсупову.
И побежал к дому.
– Вы куда? – спросил Юсупов.
Слова гулко раздавались в сверкающей морозной ночи.
– Меня нельзя видеть! – откликнулся на бегу Пуришкевич. – Меня здесь не было!
Юсупов чуть было не улыбнулся. Убийца в конечном счете оказался трусом, но издевка мелькнула и пропала – он пошел к сугробу. Наполовину утонув в нем, лежал Распутин – Юсупов уже не верил старому хитрецу. Он опять обманывает!
Но Юсупов ничего не успел сделать – с улицы послышались голоса.
В открытые ворота бежал городовой! Этого еще не хватало!
Юсупов кинулся к воротам.
– Тут стреляли, вашество! – Городовой был молод, простоват и напуган.
– Ничего страшного. – Юсупов выталкивал городового из ворот – только бы он не увидел лежащего тела. – У меня гости были, офицеры. Выпили, постреляли, дело молодое.
В волнении Юсупов не замечал, что выталкивает городового резиновой дубинкой, но городовой видел и дубинку, и тело, лежавшее у сугроба, возле которого неподвижными тенями маячили фигуры слуг, выбежавших на выстрелы из людской. Там же стоял медиум из Ялты, продолжавший снимать фильму, хотя никто его уже не замечал.
Выйдя со двора, городовой куда-то быстро пошел, придерживая шашку. Юсупов почувствовал облегчение и кинулся к Распутину.
Тот лежал, но не в той позе, в которой Юсупов его оставил.
Он еще жив?
Не может быть!
Нервы князя окончательно не выдержали, и он побежал внутрь, к себе в кабинет, где спрятался Пуришкевич.
Пуришкевич стоял в кабинете у окна, наблюдая за событиями во дворе.
– Что с вами, князь? – спросил он. – Почему вы не принимаете мер? Разве вы не видите, что там посторонние?
Юсупов был готов убить своего сообщника. И Пуришкевич даже отступил, увидев, как судорожно дернулась рука князя с зажатой в ней резиновой дубинкой.
– Выпейте воды, – сказал он. Он взял со стола стакан и стал лить в него из хрустального графина, но промахивался, и вода брызгала на ковер.
Юсупов отмахнулся от воды.
– Где Дмитрий Павлович, наконец? – сердито воскликнул Пуришкевич. – Мы же должны увезти тело.
В дверь кабинета постучали.
Юсупов сделал было шаг к двери, но дверь уже отворилась ему навстречу.
Там стоял камердинер Василий Иванович.
– Простите, ваше сиятельство, – сказал он ровным голосом вымуштрованного слуги, – там вернулся городовой. Они вас просят.
– Я сам! – сказал Пуришкевич. – Я сам поговорю. Я умею говорить с народом.
Поведение его было нелогично – только что он боялся огласки и тут же забыл об этом. Юсупов хотел было остановить думца, но передумал – пускай бежит. «Только бы Распутин был мертв. Если он оживет снова, я этого не вынесу!»
Городовой переминался с ноги на ногу возле сугроба. Слуги тоже стояли там.
Юсупов услышал, как Пуришкевич излишне громко, как с трибуны, объясняет городовому:
– Знаешь, кто с тобой говорит?
– Не имею чести, вашество…
– С тобой говорит член Государственной думы Владимир Митрофанович Пуришкевич. Неужели не слыхал обо мне?
– Так точно, слыхал.
– Выстрелы, которые ты слышал, убили Распутина. Того самого мерзавца и самозванца, который продавал нас немцам и губил батюшку-царя и наших героев-солдатиков!
Господи, как все это лживо и фальшиво! Юсупов не подходил ближе.
– Если ты любишь царя и свою Родину, – продолжал речь Пуришкевич, – ты будешь молчать! И это относится и к вам, господа. – Жест в сторону слуг.
«Он добьется совершенно обратного эффекта. Он нас всех выдаст!»
– А теперь иди прочь и забудь о том, что видел. Забудь!
– Так точно!
Городовой пошел прочь. Он шел неуверенно, будто с каждым шагом ему приходилось вновь решать задачу, слушаться ли голоса разума и дисциплины или этих господ, которые убили Гришку Распутина?
Пуришкевич остался без аудитории, но это его не смутило.
– А теперь, голубчики, попрошу перенести тело внутрь!
Слуги послушно потащили тело Распутина к открытой дверце в подвал.
Пуришкевич командовал ими, но до тела не дотрагивался.
Распутин лежал на лестничной площадке, откуда вели ступеньки вниз, в подвал, где его убивали, и наверх – в кабинет.
Там горела верхняя лампа, и Юсупов, подошедший к телу, смог разглядеть, как зверски был убит временщик. Лицо было обезображено многими ударами… Но вдруг Юсупов увидел, как вновь дрогнуло веко старца…
Это уже случалось не раз за ту ночь. И никогда Юсупов не сможет точно сказать, что это случилось на самом деле или было плодом его взболтанного воображения.
Но Юсупов окончательно сорвался с катушек.
Неожиданно для самого себя он кинулся к трупу и принялся бить его резиновой дубинкой, ударять сапогами и притом вопил, матерился, как извозчик… а слуги, которые только что принесли труп и не успели уйти, и Василий Иванович с Пуришкевичем, стоявшие выше на пролет, замерли от невероятного ужаса этой сцены.
Любопытно, что впоследствии все участники этого злодейства написали мемуары, и во всех мемуарах сцена избиения трупа стала как бы кульминацией этой ночи.
«Я ринулся на труп и начал избивать его резиновой палкой… В бешенстве и остервенении я бил куда попало… Все божеские и человеческие законы в эту минуту были попраны», – признавался князь.
Ему вторил Пуришкевич: «Он не мог поверить в то, что Распутин уже мертвое тело, и, подбежав к нему, стал изо всей силы бить его двухфунтовой резиной по виску с каким-то диким остервенением и в совершенно неестественном возбуждении.
Я, стоявший наверху у перил лестницы, в первое мгновение ничего не понял и оторопел, тем более что, к моему величайшему изумлению, Распутин даже и теперь еще подавал признаки жизни. Перевернутый лицом вверх, он храпел, у него закатился зрачок правого глаза… Но я пришел в себя и крикнул слугам скорее оттащить Юсупова от убитого, ибо он может забрызгать кровью и себя, и все вокруг и в случае обыска следственная власть, даже без полицейских собак, по следам крови раскроет дело.
Слуги повиновались, но им стоило чрезвычайных усилий оттянуть Юсупова, который как бы механически, но с остервенением, все более возраставшим, колотил Распутина по виску… Наконец его оттащили. На него было страшно смотреть, до такой степени ужасен был его вид, с блуждающим взглядом, с подергивающимся лицом, он бессмысленно повторял: «Феликс, Феликс, Феликс…»
Под монотонное бормотание рехнувшегося Юсупова Пуришкевич велел слугам принести материи, чтобы обернуть труп и связать его.
Юсупов потерял сознание.
Вернувшийся на авто Лазаверт осмотрел его и сказал, что теперь князь будет спать.
Пуришкевич велел ему подсобить слугам и втащить труп Распутина в крытое авто Дмитрия Павловича, но тут Лазаверту стало плохо, он отбежал в сторону, и его вырвало на снег. В перерыве между спазмами он сказал Пуришкевичу, что виновата его комплекция.
Дмитрий Павлович сам сел за руль. Они со штабс-капитаном и управились, скинув труп в полынью с Петровского моста.
Юсупов проснулся часа через три. Не без помощи Пуришкевича, который собрался уйти до рассвета. Он не сразу вспомнил, что произошло.
Пуришкевич велел Василию Ивановичу пожертвовать одной из дворовых собак.
В сарае было два пса, они должны были сторожить дом, но в ту ночь их не выпускали. Василий Иванович из револьвера Пуришкевича застрелил пса в сарае, потом вместе с Пуришкевичем, которому нравилось планировать и устраивать заговоры, протащили тяжелое кровоточащее тело пса по двору, где бежал Распутин, и бросили его в сугроб туда, где Распутин окончательно упал, добитый Пуришкевичем.
– Вы знаете ваш урок, – сказал Пуришкевич.
Юсупов стоял рядом, ежился на холоде в накинутой на плечи шубе. Казалось, он с трудом соображает, что же произошло.
Василий Иванович от имени остальных трех или четырех слуг, что собрались проводить хозяина, заверил Пуришкевича, что они сейчас же начнут замывать подвал и лестницу.
Тогда Пуришкевич взял Юсупова под руку и вывел его на набережную.
Пошел легкий искристый снежок, искорки легко порхали под фонарем. Извозчик вовсе не удивился, увидев пьяных загулявших господ. Пуришкевич отвез Юсупова до дворца Александра Михайловича, а сам поехал домой.
Юсупова встретил Федор, брат его жены. Федор был восторженным юнкером, который давно заподозрил, что Феликс занимается делами секретными и государственными. Феликс в свое время не удержался – в порыве откровенности признался юноше, что намерен убить Распутина.
Федор не спал всю ночь – он догадался, что Феликс совершит свой подвиг именно этой ночью.
Он встретил Феликса в передней. Он был бледен и курил не переставая.
– Слава Богу! – кинулся он к Феликсу. – Наконец ты… так что же?
– Распутин убит, – ответил Феликс голосом полководца, который только что разгромил Наполеона, – но больше я ничего тебе не скажу. Я смертельно устал и хочу спать.
Юсупов уснул без задних ног. Но в десять его разбудили.
Оказывается, его желал видеть у себя полицмейстер Казанской части генерал Григорьев по делу, не терпящему отлагательства.
Юсупов привел себя в порядок и вышел в кабинет, где его ждал генерал.
– Вы хотите спросить меня о ночных выстрелах в доме моих родителей? – спросил Юсупов.
Он был свеж, подтянут, доволен собой. Он сделал шаг в историю, и теперь его ничто не остановит. Но вести себя надо осмотрительно, неизвестно, как поведет себя императрица. Что она заставит сделать своего мужа? Потребуется ли мученик Новой России?
Мучеником Юсупов становиться не намеревался.
Генерал Григорьев был толст, потлив, собирался на пенсию, и для него визит к Юсупову был неприятен и опасен. Он тоже не знал, чем обернется дело, и его терзали самые мрачные предчувствия. Что бы ни случилось во дворце Юсупова, будут искать стрелочника. А когда ты так велик и толст, голубчик, то мимо тебя не промахнешься.
– Я хотел бы спросить вас, ваше сиятельство, – сказал Григорьев, – не был ли вчера ночью у вас в гостях Григорий Распутин?
– Распутин? – Юсупов был искренне удивлен. – Мы с ним знакомы, но чтобы он посмел явиться ко мне в дом? Нет, это исключено!
– История странная и даже загадочная, – сказал генерал.
– Вы расскажете мне, что случилось?
– К сожалению, долг повелевает мне сохранить служебную тайну.
– Но, может быть, вы сначала выпьете рюмочку коньяку, ваше превосходительство?
После рюмочки генерал помягчел – она стала как бы знаком того, что он пришел не в дом к подозреваемому, а посещает отпрыска одного из самых знатных и богатых родов империи.
– Представляете, Феликс Феликсович, – рассказал генерал. – Ко мне только что заявился пристав и поведал удивительную историю. Оказывается, он получил рапорт городового, что дежурит по соседству с вашим дворцом. И тот утверждает, будто с ним случилось вот что: он услышал ночью выстрелы, доносившиеся из вашего дома. Когда он прибежал туда, то его встретил человек, назвавшийся членом Думы Пуришкевичем, который признался, что Распутин убит, и взял с городового слово молчать об этом. Городовой утверждает, что также видел тело, но рассмотреть его не смог.
– И вы поверили в эту чепуху? – Юсупов был возмущен.
Он был на самом деле возмущен. Но не Пуришкевичем.
Да, мы все хотим войти в историю, но история не приемлет нахрапа. Неужели он себя уже видел российским диктатором? Такой диктатор может все погубить – в результате все мы окажемся в камере предварительного заключения и Пуришкевич будет вопить на весь мир о парламентской неприкосновенности, которую, к счастью, в России еще не придумали.
– Это прямо невероятная история, – возмутился Юсупов. – Ваш городовой – большой путаник. Позвольте я вам расскажу, как было дело.
Генерал послушно кивал – ему нужно было объяснение, он жаждал объяснения.
– У меня ужинали друзья. В том числе Великий князь Дмитрий Павлович, Пуришкевич и несколько офицеров. Когда гости разъезжались, я услышал два выстрела. Сбежавши вниз, я увидел собаку, лежащую на снегу. Оказывается, один из моих гостей решил дать салют в честь хозяина дома и, неосмотрительно выстрелив из револьвера, убил собаку.
Генерал Григорьев покорно качал головой. История с собакой была шита белыми нитками. Для того чтобы их увидеть, не надо быть жандармским генералом.
Юсупов, увлекшись, реакции генерала не почувствовал. В его воображении придуманная картина уже наложилась на действительную и вытеснила ее.
– Я вызвал городового, – продолжал князь, – чтобы объяснить ему причину. К тому времени гости разъехались, остался только Пуришкевич. Он и беседовал с городовым. Насколько я понимаю, он сравнил собаку со старцем и вслух пожалел, что убили собаку, а не Распутина. Вот ваш городовой, смущенный этими речами, и перепутал…
Генералу было грустно. Он уже не сомневался в том, что слухи о смерти Распутина в юсуповском дворце полностью подтверждаются неловкой ложью князя.
– Теперь мне все ясно, – сказал генерал. – Не скажете ли вы мне фамилии офицеров, которые были у вас в гостях?
– Поймите меня правильно, – ответил Юсупов. – Дело это пустячное, но может получить огласку в левых газетах. Мои друзья – люди семейные, их репутация может серьезно пострадать.
Генерал поднялся.
– Я доложу градоначальнику о ваших словах, князь, – сказал он. – Надеюсь, что недоразумение будет рассеяно.
– Я и сам хотел бы посетить градоначальника, – сказал Феликс. – И все ему рассказать. Спросите его, когда он сможет меня принять?
Генерал откланялся.
Федор ждал Юсупова в гостиной.
– Ну что? Они подозревают?
– Надеюсь, что я его запутал, – улыбнулся Феликс.
Федор был растерян.
– Я не совсем понимаю тебя, – сказал он. – Я думал, что, совершивши этот подвиг, ты, подобно Бруту, выйдешь к народу и провозгласишь себя убийцей тирана. Почему же ты молчишь и таишься?
– Тиран убит, – ответил Феликс после короткой паузы. – Наше дело сделано. Мы не стремимся к власти… К тому же Пуришкевичу как убийце может грозить опасность…
Зазвонил телефон, и Феликс поспешил к аппарату.
Он не смог объяснить Федору, что в самом деле находится в растерянности куда худшей, чем в момент убийства.
Не только Россия вела себя не так, как они ожидали, – ничего пока не произошло, так же дворники мели снег и шагали запасные роты к вокзалу, а в оперетке давали «Летучую мышь». Но и внутри себя Феликс не ощущал никакой радости, никакого торжества. Словно соблазнил горничную и теперь презираешь себя и ее. И боишься дурной болезни, и боишься, что узнает мать и выпорет тебя, и больше всего боишься любовника горничной, дворника Матвея. Сравнение было нелепым, слишком приземленным, но Юсупов не мог от него отделаться и даже украшал несуществующий адюльтер скоромными деталями.
Прошел буйный бой, охота, погоня, ощущение смерти – ты впервые убивал человека! И пришел тягучий страх. То, к чему Юсупов так стремился день назад, обернулось неожиданно страхом… И даже известно, когда наступил перелом, – когда он избивал мертвого человека дубинкой, когда из тебя, боярина в двадцатом поколении, вылез подлый трусливый мерзавец. И останется с тобой на всю жизнь. Ты уже не сможешь стать спасителем нации – истерика на лестнице останется с тобой навсегда.
Как только полицмейстер ушел, позвонила Головина.
– Что вы сделали с Григорием Ефимовичем? – закричала она, не здороваясь.
– Клянусь вам, я ничего не знаю!
«Ну почему я не сознаюсь сейчас? Через полчаса весь Петроград, весь мир будет знать имя человека, освободившего империю от проклятия».
– Вы клянетесь? – рыдала в трубку Маша Головина.
– Разумеется, клянусь.
– Тогда приезжайте и сами расскажите маман. Она умирает от ужаса.
Юсупов повесил трубку и, заложив руки за спину, принялся бегать по кабинету. Что делать? Скрыться? Уехать в Крым? Или вести линию полной невиновности? Тогда придется ехать к этим глупым курицам.
И поехал.
Его встретили слезами и запахом валерьянки.
Феликс подробно и терпеливо врал, уже сам начиная верить в убитую собаку и глупого городового.
Но государыня не находит себе места! Старец пропал!
Юсупов потребовал помощи куриц во встрече с Александрой Федоровной. Он хочет лично рассказать императрице всю правду.
Маша Головина бросилась к телефону и стала дозваниваться до Царского Села. Ей казалось, что если Феликс ни в чем не виноват, то старец найдется. Загулял где-то, уехал в Сибирь – все может случиться со святым человеком…
– Государыня согласна тебя принять! – радостно объявила она.
Юсупов уже был не рад, что напросился на встречу. Царица может разоблачить его.
И тут, на счастье или несчастье, позвонил телефон – из Царского!
Императрица сообщала, что посоветовалась с близкими людьми и категорически отказывается видеть Юсупова. И не верит и не будет верить ни единому его слову.
Феликс был уязвлен. Он хотел сказать правду! Маша тоже растерялась, ей хотелось верить Феликсу. Но когда он начал было говорить, что все равно поедет во дворец, сама же стала отговаривать, потому что боялась, что оттуда он уже не вернется.
Юсупов пошел домой пешком, благо недалеко. Через несколько шагов встретил однокашника по Пажескому корпусу, который радостно сообщил новость:
– Феликс, Распутина убили!
– Не может быть. Кто убил?
– У цыган. Ввязался в пьяную драку, кто-то из офицеров застрелил.
– Слава Богу.
Дома Юсупов узнал, что градоначальник генерал Балк согласен принять его у себя в двенадцать.
Балк был сдержан и неулыбчив, хотя они были с Юсуповыми знакомы домами.
Он расчесывал двойную бороду маленьким гребешком, кивал и молча слушал рассказ о собаке и пьяных друзьях. Потом неожиданно сказал:
– К сожалению, я должен попросить вас не покидать столицу. По указанию императрицы я должен произвести тщательный обыск во дворце Юсуповых. Надеюсь, вы не будете возражать отправлению правосудия?
– Буду! – вскинулся Юсупов. – Вы забываете, что моя жена – племянница государя и наше жилище как жилище члена императорской фамилии неприкосновенно. Пока не будет отдано распоряжение императора, никто не смеет войти в дом.
Балк не стал спорить. Ему менее всего хотелось впутываться в эту историю. Он обещал связаться со Ставкой и отпустил князя, который ринулся во дворец.
Юсупов оказался прав в своих опасениях. Несмотря на строжайший приказ камердинеру проследить за уборкой в подвале, Феликс без труда нашел пятна и следы крови и даже перламутровую пуговицу от рубахи Распутина. А на снегу пятен было еще больше. Пока Василий Иванович мыл пол в подвале, Юсупов с помощниками забрасывал снегом красные пятна на снегу.
Убедившись, что дома все в порядке, Юсупов помчался к Дмитрию Павловичу. Оставаться одному было невмочь.
Дмитрий Павлович принял Юсупова с радостью – ему тоже было одиноко без подельщиков; штабс-капитана Васильева и доктора Лазаверта он приглашать не мог или не хотел, Пуришкевич готовил на вокзале свой санитарный поезд, на котором должен был вечером отбыть на фронт, так что Юсупов был единственным возможным собеседником.
Дмитрий Павлович уже подробнее рассказал, как они топили труп Распутина. Он был завернут в синюю материю и связан веревками. В машине оказалась шуба старца, его сапоги и шапка. Дмитрий Павлович потребовал было, чтобы вещи отвезли к Лазаверту и сожгли, но когда доктор взбунтовался, шубой обмотали ящик с инструментами. Шубу кинули в прорубь, ящик вывалился из нее, и шуба не хотела тонуть, закрыв почти всю черную гладь проруби.
Они вытащили из машины и перевалили через перила моста синий сверток, страшно тяжелый и неподатливый. Говорили шепотом, боялись разбудить часового в будке, на том конце моста. Труп ушел в воду и потянул за собой шубу. Вроде бы обошлось.
Но мотор застыл и долго не заводился. Великий князь, Лазаверт и Васильев по очереди крутили ручку, солдат даже проснулся, выглянул из будки, и видно было, как он стоит под дальним фонарем и вглядывается в темноту…
Юсупов договорился с князем, что они будут держаться своей версии о случайных выстрелах и собаке, потом Юсупов пошел во дворец тестя.
Новости были неприятными.
Оказывается, во дворце побывала полиция. Снимали допрос со всех слуг и выясняли, когда Юсупов уехал из дому и каким он вернулся под утро.
Ничего опасного для Феликса в этих допросах не было – хуже был сам их факт. Кто-то посмел нарушить неприкосновенность жилища самого Александра Михайловича, несмотря на то что Балк поклялся никого без распоряжения императора не посылать.
А вдруг уже есть распоряжение императора?
Юсупов не мог сидеть дома и ждать событий. Он предпочел их опережать. Через полчаса он был уже в Министерстве юстиции у Макарова с протестом против действий полиции.
Министр Макаров, с седой бородкой, мягким голосом и округлыми движениями маленьких рук, был слишком вежлив. Юсупов еще раз повторил свой рассказ о прошедшей ночи и попросил разрешения покинуть вечером Петроград и отправиться в Крым, в Ай-Тодор, где его ждет молодая жена. Макаров сказал, что не видит препятствий к отъезду.
Затем Юсупов побывал у председателя Думы Родзянки, который уже знал правду или догадывался о ней, потому что горячо обнял Юсупова и стал шептать нечто нежное о спасении нации. На прощание он заявил, что Родина Юсупова не забудет.
Можно было ехать домой собираться к отъезду.
Вроде бы все обстояло хорошо, главное сейчас – скрыться из Петрограда и отсидеться в Крыму. Благо тело Распутина не нашли, и Дмитрий Павлович полагает, что его уже вынесло течением реки в залив.
Федор поехал провожать Феликса на вокзал. В автомобиле он спросил, не боится ли тот ареста.
– Нет, – уверенно ответил Феликс. – Сам министр юстиции разрешил мой отъезд.
Он уговаривал себя и Федора, хотя боялся, что все сорвется. На вокзале они увидели полицейских. Слишком много полицейских для обычного вечера.
– Меня торжественно провожают, – сказал Юсупов, и голос его дрогнул.
До поезда дойти они не смогли.
В зале их встретил жандармский полковник, который сообщил, что князю Феликсу Юсупову запрещено покидать столицу, он должен вернуться в дом Великого князя Александра Михайловича и оставаться там под домашним арестом. Это повеление Ее Величества.
Тем же вечером государыня своей властью задержала всех участников покушения, что говорило о немалой осведомленности полиции и правительства.
Весь Петербург горячо обсуждал обстоятельства гибели Распутина, колесо раскручивалось, восторженные дамы и пьяные полковники звонили Юсупову, в воображении которого уже разыгрывалась его казнь на Сенатской площади и для которого роль спасителя нации уже потеряла привлекательность. Лучше бы уехать в Крым без визита к Макарову!
Заговорщикам, которые все же рассчитывали на то, что Распутина не отыщут, сильно повредила экзальтированная сестра императрицы Елизавета Федоровна, мужа которой, брата царя Сергея Александровича, убили революционеры. Впрочем, никто в России его не жалел. Елизавета Федоровна, полагавшая, что Распутин – слуга дьявола, давно уже рассорилась с сестрой. Узнав об исчезновении Распутина, а также об участии в его убийстве Дмитрия Павловича, она не придумала ничего лучше, как послать Великому князю поздравительную телеграмму с просьбой передать ее благодарность Феликсу Юсупову. Протопопов велел снять с телеграммы копию и передал ее императрице, которая решила, что Елизавета – участница заговора и, может быть, его руководительница.
Одной цели Юсупов уже добился. Если неделю назад он был на периферии внимания двора, то теперь все Великие князья и княгини, находившиеся в оппозиции к Александре Федоровне, считали своим долгом поговорить с Феликсом по телефону и справиться о его здоровье.
Частым гостем у Юсупова стал Великий князь Николай Михайлович, либерал и ученый, глава семейной оппозиции Николаю, полагавший, что его племянник ведет страну к катастрофе. Почтенный старец рассказывал Феликсу новости и вел себя как родной дядя. Он же и поведал Юсупову самое страшное: императрица требует немедленной казни Юсупова и Пуришкевича и тяжкого наказания для Великого князя. Протопопов уговаривает ее подождать возвращения императора из Ставки, куда уже направлена телеграмма. Тот же Николай Михайлович добавил, что по получении известия о смерти старца государь возрадовался и говорил приближенным, что наконец-то освободился, что готов наградить убийц… Впрочем, Николай Михайлович и сам до конца не верил последней версии, но полагал ее полезной. Пускай Юсупов надеется на лучшее. Мы не дадим тебя в обиду!
19 декабря из Ставки приехал государь.
Он проехал прямо в Царское Село и никого не захотел видеть. Надежды Николая Михайловича развеялись как дым.
Государь заперся с женой.
В доме Александра Михайловича собрались почти все члены царского семейства. Это была демонстрация поддержки Юсупову.
Нигде, кроме официальных приемов во дворце, он не видел стольких Романовых сразу.
Великие князья не расходились, они как бы закрывали своими телами молодого спасителя нации.
Юсупов повеселел. Его мечты начинали сбываться.
Николай Михайлович заявил во всеуслышание, что именно таким, как Феликс, он видит министра внутренних дел.
– Нет, премьера! – крикнул князь Федор.
– Может, и премьера.
И тут зазвонил телефон.
Это было подобно финальной сцене в «Ревизоре». Сообщили, что только что найдено тело Распутина.
Один из агентов полиции случайно увидел на Петровском мосту «черную калошу № 11 черного цвета, покрытую свежими пятнами крови». Он доложил своему начальнику, и калошу отправили домой к Распутину, а мост осмотрели. На нем нашли следы автомобильных шин и многих ног. Причем следы шин тянулись до самых перил моста.
Тогда поиски тела Распутина в доме Юсуповых были прекращены, и полицейские кинулись к мосту.
Сам министр юстиции и петроградский прокурор прибыли на мост.
Там агенты показали чинам новую улику – на перилах моста в одном месте снег был сброшен, словно через них в реку переваливали нечто тяжелое.
Были вызваны водолазы. Два часа они ныряли возле моста, ничего не нашли и заявили, что если тело и было, его унесло в залив, так как течение Невы в том месте весьма быстрое.
Но в тот момент один из полицейских, что бродили внизу по льду, высматривая, нет ли там еще какой-нибудь улики, увидел в щели между льдинами рукав шубы.
Тут же начали рубить лед у того места. Стоял сильный мороз, но никто не уезжал с моста, даже старенький Макаров.
Работали энергично, и через пятнадцать минут во льду была пробита новая полынья, а из воды извлекли примерзший ко льду снизу труп Распутина.
Тело старца было обезображено – видно, перед смертью его жестоко пытали. Руки и ноги туго стянуты веревкой.
Тело перенесли на берег и заперли в дровяном сарае.
Через некоторое время к Петровскому мосту прибыли министр внутренних дел Протопопов и начальство Охранного отделения. Прокурор Галкин начал снимать протокол наружного осмотра трупа. Судебный врач показал, что в теле Распутина находятся две пули – одна в области груди, другая в шее. Оба ранения смертельные.
После этого тело отвезли в Чесменскую богадельню и начали вскрытие. Но вскоре по приказу императрицы вскрытие было прекращено, тело старца облачили в монашескую одежду, положили в богато убранный гроб и увезли в неизвестном направлении.
А между тем почти все газеты писали о смерти Распутина в восторженных тонах, утверждая, что теперь наконец-то положение на фронтах переменится к лучшему, взяточничество и разврат прекратятся, страна в едином порыве рванется к новым победам.
Под разными предлогами в церквях служили благодарственные молебны. А в театрах после представления публика требовала государственного гимна и даже повторения его на бис. И все понимали, почему играют гимн и почему в столь горячем порыве вся публика смахивает нечаянные слезы радости.
Два дня никто не знал, что происходит за стенами дворца в Царском Селе. Даже ближайшие родственники царя, жаждавшие открыть ему глаза на истинную суть событий, были лишены такой возможности.
Утром 21 декабря в Петербург примчался шурин царя, командующий авиацией адмирал Александр Михайлович, тесть Феликса Юсупова. Он просил аудиенции и получил ее.
Николай любил своего кузена Сандрика, веселого и доброго. Александр Михайлович был олицетворением человеческих черт, которых столь не хватало императору.
Александр Михайлович просил о снисхождении к убийцам, мотивируя свое заступничество интересами страны. Он доказывал, что жестокое наказание отвратит от царского дома подданных императора, и без того недовольных тем, что олицетворял Распутин. Александр Михайлович отыскал какие-то слова, что перевесили аргументы императрицы.
Выслушав Сандро, государь отпустил его, а сам, несмотря на жгучий мороз, со всей семьей отправился хоронить Распутина, о чем никто не узнал.
В своем дневнике от 21 декабря император записал:
В 9 ч. поехали всей семьей мимо здания фотографий и направо к полю, где присутствовали при грустной картине: гроб с телом незабвенного Григория, убитого в ночь на 17-е дек. извергами в доме Ф. Юсупова, кот. стоял уже опущенным в могилу. Отец Ал. Васильев отслужил литию, после чего мы вернулись домой. Погода была серая при 12° мороза. Погулял до докладов. Принял Шаховского и Игнатьева. Днем сделал прогулку с детьми. В 4 1/2 принял нашего Велепольского, а в 6 ч. Григоровича. Читал.
Александр Михайлович привез приказ императора с наказаниями для участников заговора:
Дмитрий Павлович отправляется на Кавказский фронт в распоряжение генерала Братова. Поезд Великого князя должен был отойти в два часа ночи.
Юсупову было предписано немедленно отправляться в Курскую губернию в имение Ракитное. Его поезд отходил в ту же ночь.
Через два дня в Ракитное прибыл Александр Михайлович, демонстрируя этим солидарность с преступным зятем, а затем приехала и Ирина, которая жалела лишь о том, что не была в Петербурге в ночь убийства.
Убийство Распутина ничего не дало – ни убийцам, ни врагам, ни сторонникам старца.
Может быть, даже ускорило распад России, ибо показало еще раз бессилие царской власти, неспособной защитить своих друзей и наказать врагов.
Юсупов провел в Ракитном всего два месяца.
Зима была холодной, скудной и злой.
«Настроение в столице, – сообщало Охранное отделение в середине февраля, – носит исключительно тревожный характер. Циркулируют в обществе самые дикие слухи… все ждут каких-то исключительных событий и выступлений как с той, так и с другой стороны».
24 февраля Охранным отделением было сообщено для сведения полицейских приставов: «23 февраля с 9 часов утра, в знак протеста по поводу недостачи черного хлеба в пекарнях и мелочных лавках, на заводах и фабриках Выборгской части начались забастовки рабочих… в течение дня прекращены работы на 50 предприятиях, где забастовали 87 534 рабочих».
К вечеру 24 февраля бастовало больше 150 тысяч рабочих, а солдаты, которых посылали разгонять демонстрации и митинги, начали отказываться стрелять.
Император отправил командующему Петроградским округом генералу Хабалову телеграмму:
25 февраля. 21 час. В генеральный штаб. Хабалову. Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией.
Николай.
Глава 2
Март 1917 г
Дело об убийстве Сергея Серафимовича Берестова и его служанки Глафиры Браницкой не было закрыто, но после исчезновения основного подозреваемого оно пылилось на полке в железном шкафу следователя Вревского. Там же лежало дело о смерти Тихона Денисенко и дезертирстве Бориса Борзого. Иной следователь на месте Вревского с облегчением выкинул бы из памяти мертвый груз, но во Вревском было нечто от бульдога – раз сомкнув челюсти, он с трудом мог отпустить добычу. И неудивительно, что в один из последних своих дней в Ялте он достал дела из шкафа, перелистал и вызвал к себе все еще служившего в Феодосии прапорщика из вольноопределяющихся Николая Беккера. Но так как не был убежден в полной непричастности Беккера к давним событиям, то обставил вызов как формальность, связанную с закрытием дел.
В конце февраля 1917 года Беккер поднялся в кабинет на втором этаже. И сразу узнал комнату – ничего не изменилось, только стены стали еще темнее да больше пыли в углах, куда, видно, не доставала щетка уборщика. Тот же стол справа от двери, та же лампа под зеленым абажуром и такой же Александр Ионович. Следователь приподнялся при виде Беккера, показал ему на стул, но руки протягивать не стал, показывая этим, что находится при исполнении обязанностей.
Усевшись по другую сторону стола, Беккер понял, что изменения, хоть и небольшие, коснулись и следователя. Он несколько обрюзг, его желтоватый бобрик стал короче – как у немецкого маршала Гинденбурга, от чего лицо казалось еще более грубым, чем раньше.
Вревский объяснил Беккеру, что вызов связан с закрытием дел, так как следователь отъезжает в Киев.
Затем Вревский осведомился, хорошо ли Беккер доехал, как дела в Феодосии, где следователь не был уже полгода.
Беккер сказал, что в Феодосии за всем очереди – ни крупы, ни сахара. Хорошо еще, что большинство обывателей имеет свое хозяйство и потому поддерживает жизнь плодами труда своих рук.
– В Петрограде совсем плохо, – сказал следователь. – Вы читали о забастовке женщин? Да-да, двадцать третьего жены рабочих вышли на улицы – там буквально голод.
– Я не видел последних газет. Почему они не объявят военное положение?
– А наше российское авось? Я думаю, что на самом верху также полагают, что обойдется. Ведь обходилось раньше…
– Не могу согласиться с вами, – сказал Беккер. – Всегда должны находиться люди, которые берут на себя ответственность. Подобно князю Юсупову.
Вревский с интересом рассматривал Беккера, отмечая для себя мелкие частности, незаметные не столь тренированному глазу. На длинных несильных пальцах, хранящих следы загара, две белые полоски. Значит, перед поездкой в Ялту Беккер предпочел снять перстни, которые обычно носил. Не хочет показывать следователю, что богат? А вот материал, из которого пошит мундир, хорош! Даже хочется пощупать сукно…
– Князю Юсупову, женатому на Великой княжне Ирине Александровне, было спокойно идти на уголовное преступление, – сказал Вревский, – он знал, что ненаказуем.
– Вы сочувствуете Распутину?
– Я сочувствую закону. Не жертве, нет. Жертва может быть отвратительна. Но закон должен соблюдаться. Иначе в государстве наступит хаос.
Вревский поднялся, повернул ручку плохо покрашенного железного шкафа, достал с верхней полки две синие папки, вернулся к столу и положил их рядом, так что получился синий квадрат.
– Ну что ж, – сказал он. – По правилам я должен передать эти папки другому следователю…
– Когда вы уезжаете?
– В марте возвращаюсь в Киев. Но другого следователя нет. Некому заниматься этим делом. Хотя как юрист и как сыщик я жалею… искренне жалею. Дело фактически закрыто.
Беккер чуть откинулся на стуле, будто сообщение о закрытии дела принесло ему облегчение.
– Эти два дела, как вы отлично знаете, тесно связаны, – сказал Вревский.
Он положил короткопалую ладонь на правую папку: «Дело об убийстве г-на Берестова С.С. и г-жи Браницкой Г.Г. неизвестными лицами».
– Это первая половина загадки, – сказал следователь и перенес ладонь на вторую папку, на которой тем же писарским почерком было написано: «Дело о без вести пропавших солдатах феодосийской крепостной артиллерийской команды Денисенко Т.И. и Борзом Б.Р.». – А это вторая.
– Жалко Андрея, – неожиданно сказал Беккер.
– Ах да, вы же вместе учились, – с попыткой сочувствия произнес Вревский. – Вы даже приятельствовали.
– Да, я любил Андрея. Он был добрым, совершенно безобидным юношей. Знаете – это я познакомил его с Лидой Иваницкой…
– Он был добрым и безобидным… – задумчиво повторил следователь. Он встал и еще раз повторил: – Он был добрым и безобидным! А я ведь не исключаю, что отчима и его служанку убил ваш друг.
Набычившись, Вревский смотрел на Беккера, словно перед ним был Андрей Берестов. Потом отвернулся к окну и сказал куда спокойней:
– Старались, спешили, планировали побег!
– Побег? – удивился Беккер. – А разве не установлено со всей очевидностью, что Лида покончила с собой?
– Нет, не было это установлено, – отрезал Вревский. Он отошел к окну и стал смотреть вниз, сплетя пальцы рук за спиной. И Беккер зачарованно смотрел, как сплетаются и расплетаются пальцы.
– Но ведь даже вещи… я помню, что море выкинуло вещи. Я читал, – сказал Беккер.
– Как раз эти вещи и убедили меня в обратном. – Вревский обернулся к Беккеру, опершись ладонями о край узкого подоконника. – Именно эти вещи – клочок кружева, заколка, туфелька Золушки – столь растрогали прессу и общественное мнение, что все убедились: следователь Вревский – чудовище, затравившее бедных возлюбленных.
– Честное слово, я не понимаю…
– Сейчас поймете! Конечно, какие-то вещи могло сорвать волнами с тела утопленницы. Но уж очень удачно все эти вещи оказались на оживленном пляже. И были узнаваемы!.. Я был зол, что меня одурачили. И я рассудил: если туфелька подброшена, значит, вторая спрятана – куриные мозги гимназистки додумаются до того, что туфелька должна быть одна, но не додумаются надежно спрятать вторую. Знаете, что я сделал? – Вревский плотоядно усмехнулся – он вновь переживал момент своего торжества – победу логики над уступившим ему умом жертвы. – Я послал полицейских проверить помойные баки вокруг дома Иваницких. Так просто! Особенно по тем дорогам, что вели к морю. И уже к полудню мне принесли вторую туфельку. Просто?
– Дедуктивный метод?
– Профессия, голубчик, профессия. В нашем деле не обойтись без собачьего нюха. Я ничего не должен брать на веру.
– Значит, вы подозреваете все человечество?
– Недостойную его часть.
– Вы опасный противник, господин Вревский.
– Еще какой опасный! Вы и не подозреваете! Если бы не загруженность делами и нежелание возиться месяцами без ощутимых достижений, я бы внимательнее пригляделся к вам.
– Ко мне?
На красивом, несколько огрубевшем и потерявшем юношеский пушок и юношескую мягкость черт лице Беккера отразилось удивление.
– А вы подумайте: пропавшие солдаты – из вашей команды. Оба ваши земляки. К тому же вы совершаете, на мой взгляд, совершенно нелогичный поступок: вдруг даете показания против вашего гимназического друга, которые могут послать его на виселицу. Именно вы, а не кто другой.
– Я никаких показаний не давал!
– Давали, голубчик, давали. Именно от вас, и только от вас, я узнал, что Берестов был замечен в компании Денисенко и Борзого в Симферополе.
– Я и не подозревал, что мои слова могут повредить Берестову.
– Ах, святая наивность! Один солдат убит, при нем найдена похищенная шкатулка. Пустая. Второй солдат в бегах. А вы ни о чем не подозреваете.
– Я не знал, что Берестов связан с этим делом!
– А теперь знаете?
– Не ловите меня на слове! Я не знал, не знаю и знать не намерен.
– Но Берестова в обществе преступников видели?
– Я ничего не придумал! Маргарита Потапова может подтвердить!
– Она подтвердила, – сказал рассеянно Вревский, глядя в окно, и Коля не поверил равнодушию следователя. Внутри все сжалось от нехорошего предчувствия.
– Вы ей написали? – спросил Коля, чувствуя, как неестественно звучит его голос.
– Разумеется, – ответил следователь, не глядя на Колю. – Тогда же, когда вы дали свои показания.
Он резко повернулся к Коле и вперил в него тяжелый взгляд.
– Мой долг – проверять сомнительные показания.
– Почему сомнительные? – «И зачем я ввязался в этот разговор, – проклинал себя Коля. – Лучше было бы мне промолчать».
– Потому что они вызвали во мне новые подозрения.
– А почему вы молчали? – нашелся Коля. – Два с лишним года молчали?
Вревский тяжело положил ладони на синие папки.
– Кончим об этом, – произнес он. – Этот разговор никуда не приведет. И те сведения, которые я получил касательно вас, тоже останутся здесь. – Вревский стукнул ладонью по папке. – Из тяжких преступлений, дай Бог, только каждое пятое раскрывается. И то по глупости обвиняемых. Вы же не дурак.
Беккер готов был изобразить негодование – он истинно испытывал негодование. Но потом понял, что следователь ждет именно негодования. Беккер стиснул зубы, глядя на железный сейф.
– Молчите? – сказал Вревский с разочарованием. – И правильно делаете – сколько мы узнаем, когда подозреваемый возмущен!
– Я полагал, что я свидетель.
– Свидетели вон там, по улице ходят. А все, кто попадает ко мне сюда, подозреваемые. И не думайте, что вы – исключение.
Они сидели друг против друга, как старые знакомые, которым не о чем более беседовать, но которые не расстаются, потому что испытывают взаимную неловкость – кто-то должен оказаться менее вежливым и подняться первым.
– А какова судьба Лиды? – спросил после тягучей паузы Беккер. – Вам о ней что-нибудь известно?
– Я был убежден, что они бежали на лодке. Но на море в тот вечер поднялся жестокий шторм. Несколько рыбачьих лодок было опрокинуто. Я полагал, что судьба догнала Берестова и Иваницкую. И искренне удивился, узнав, что этой осенью Берестов объявился в наших краях.
– Андрей не заслужил смерти!
– Что ж – стремясь уйти от одного наказания, мы находим себе другое, куда более жестокое. Не убежал бы Берестов, был бы жив.
– А как он погиб? Я слышал от общих знакомых, но не знаю подробностей.
– Случайный выстрел комендантского патруля.
– А что известно о Лиде Иваницкой?
– Возможно, она мертва. Но так не хочется закрывать следствие!
– Что же вас удерживает?
– Интуиция… нет, не интуиция. Опыт. Я почти уверен, что в самое ближайшее время многое изменится. Произойдут события, которые помогут нам узнать правду. Ведь не бывает идеальных, совершенных преступлений, как не бывает красавицы без изъяна.
– Ну уж тут вы преувеличиваете! – Беккер потерял первоначальную настороженность, как бы развел руки в боксе, забыв о коварстве противника.
– Почему же? Если я вижу совершенную женщину, то думаю, каким же образом ей удалось скрыть неведомый мне пока изъян? И проверяю – не длинна ли ее юбка, не слишком ли густа вуаль?
– А кого вы имеете в виду?
– Вам обязательно нужно, чтобы я кого-то имел в виду? Я могу признаться – но ведь это ничего не изменит.
– Мне любопытно.
– Любопытство не просто порок, но и опасный порок. Допустим, что совершенная красавица под слишком густой вуалью для меня вы, прапорщик. Порой я думаю, что если бы я не увлекся Берестовым, то куда большего достиг бы, обратив внимание на вас.
– Еще не поздно, – сказал Беккер, проводя пальцем по усикам. Жест получился опереточным.
– Не знаю, не знаю, – вздохнул Вревский. – Уж больно времена ненадежные…
– Вы боитесь будущего?
– Я русский человек, – сказал Вревский. – Авось обойдется. Авось государь придумает наступление или французы возьмут Берлин… Впрочем, даже если в нашей богоспасаемой России будет бунт… Следователи и палачи нужны любому режиму.
– На ваше место может оказаться немало желающих.
– Хватит, Беккер. Потрепали языками, и хватит, – сказал Вревский тоном, которому не возражают. – Перейдем к делу.
Они говорили до обеда. Впрочем, это был не разговор – это был допрос, однообразный, ходящий по кругу, изматывающий жертву. Беккер чувствовал, что он теперь жертва, и ненавидел Вревского за эту жестокость и Андрея за то, что тот погиб, избегнув уготованной ему судьбы и как бы подставив на свое место Колю.
Но еще более удивило Колю то, что в разговоре с постоянством, исключающим случайность, стало упоминаться имя Маргариты. Коля был убежден, что Вревский никак не связывает ее с этими событиями, да и не было к тому оснований. Так что же тогда произошло, неизвестное Коле и, может быть, опасное для него?
Ничего, видно, не добившись от Беккера, проголодавшись, Вревский объявил, что прерывает разговор до понедельника 6 марта и просит Колю не отлучаться из Ялты либо возвратиться туда с утра в понедельник.
27 февраля был последний день империи. Со следующего дня, оставаясь еще императором, Николай уже был бессилен что-либо сделать.
Да и решения его кажутся сегодня робкими, как у больного, который старается убедить себя, что все обойдется, что все не так уж и страшно… В тот же день император написал своей жене: «После вчерашних известий из города я видел здесь много испуганных лиц. К счастью, Алексеев спокоен (Алексеев – начальник штаба верховного главнокомандующего), но полагает, что необходимо назначить очень энергичного человека… Беспорядки в войсках происходят от роты выздоравливающих, как я слышал».
Рота выздоравливающих – нелепый, наивный бабушкин слух – возникла в соображениях императора уже после того, как Родзянко телеграфировал из Думы: «Правительство совершенно бессильно подавить беспорядок. На войска гарнизона надежды нет. Запасные батальоны гвардейских полков охвачены бунтом… Гражданская война началась и разгорается».
Командующий Петроградским военным округом генерал Хабалов сообщал, что потерял контроль над столицей и верных войск у него не осталось. В Ставке решили сменить генерала и послали Иванова с полком георгиевских кавалеров, словно надеялись ковшиком вычерпать море.
Следом двинулся император. Рано утром поезд поехал к Петрограду, император намеревался взять судьбы страны в свои руки и отправить в казармы мифическую роту выздоравливающих.
Но железная дорога была в руках восставших. Царский поезд после нескольких неудачных попыток прорваться к Петрограду повернул на Псков и замер.
Там царь уже более получал телеграммы, чем посылал их. Он покорно брал ленты, выползавшие из аппаратов. Телеграфировали командующие фронтами:
Великий князь Николай Николаевич требует передачи престола наследнику.
Генерал-адъютант Брусилов умоляет отказаться от престола!
Генерал-адъютант Эверт предлагает передать власть Государственной думе.
В Петербурге верноподданные вожди Думы метались между вариантами власти, стараясь спасти видимость империи, – престол предполагалось отдать Михаилу. Гучков и Шульгин поехали в Псков принимать у царя отречение. В Таврическом дворце заседал уже Петроградский Совет рабочих депутатов во главе с Чхеидзе.
Когда император в своем вагоне подписал Акт об отречении от престола, он сказал окружающим, что хочет попрощаться с матерью и потом уедет на юг, в Крым.
На следующий день, понимая, что революция зашла слишком далеко и сама идея монархии умерла, Михаил также отрекся от престола, и власть перешла к Временному правительству во главе с князем Львовым, представлявшим в Думе Всероссийский земский союз, организацию, что, в частности, заботилась о больных и раненых солдатах и была императором нелюбима.
Министром юстиции в правительстве стал стриженный бобриком трудовик Керенский.
В считаные дни революция победила во всей стране – потому что, как оказалось, империю защищать было некому.
Император еще несколько дней провел в штабном вагоне в Могилеве. 4 марта из Киева приехала его мать. Погода держалась морозная, но император много гулял.
7 марта новыми властями императору было велено переехать под охраной в Царское Село, там воссоединиться с семьей и ждать дальнейших распоряжений.
Все вокруг совершали поступки. Дурные или отважные, трусливые или талантливые. Император не был способен на поступки. Он ждал обстоятельств, не пытаясь воздействовать на них.
Государя искренне и глубоко обижало то, что он так сразу стал никому не нужен. Даже из газет вылетели упоминания о нем, вытесненные актуальными новостями и реальностью политической борьбы. Поэтому, возвращаясь поездом в Царское Село, Николай Александрович мечтал о торжестве справедливости, о верных долгу и присяге генералах, адмиралах и простых обер-офицерах. Эти люди обязательно соберутся с силами и защитят империю.
В Царском Селе его встретили «душка Аликс и дети», все здоровые, кроме Марии, у которой еще не прошла корь.
Свобода никогда не приходит сразу, в окончательном, порой страшном в своей окончательности виде. Ее первые шаги сегодня пугают своей смелостью, но кажутся микроскопическими уже через неделю.
Существует определенный стереотип развития свободы.
Сначала (этот шаг может быть неожиданным для обывателя) происходит формальный момент революции. Голодные и недовольные выходят на улицу, потому что рассчитывают стать счастливыми.
И они штурмуют Бастилию. Или свергают русского императора.
Бастилия взята. Революция победила. Всем кажется, что свобода безгранична – ничего подобного ранее не случалось.
Император превращается в простого гражданина, а в стране формируется первое правительство.
Правительство тут же начинает подвергаться давлению слева, потому что ожидание сочных плодов революции сменяется растущим разочарованием.
Верноподданные Родзянки и Шульгины недолго удерживаются у власти, потому что эти революционеры недостаточно революционны.
Проходит полгода со дня светлой революции, и она уже никому не кажется светлой и победоносной. Отречение Николая было напечатано на машинке, отречение его брата Михаила написано от руки. Михаил призывал уже не к улучшению монархии, а к победе Временного правительства Думы. Вскоре ореол легитимности, окружавший монархов, исчезает. Романовы и граждане Капеты становятся обычными заключенными в обычных тюрьмах.