Насосы интуиции и другие инструменты мышления бесплатное чтение
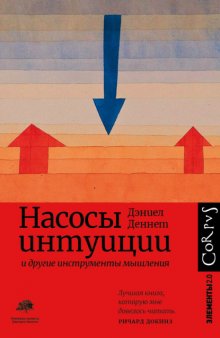
© Daniel C. Dennett 2013
© З. Мамедьяров; Е. Фоменко, перевод на русский язык 2019
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019
© ООО “Издательство Аст”, 2019
Посвящается Университету Тафтса,
моему академическому дому
Предисловие
Университет Тафтса более сорока лет остается моим академическим домом. Он всегда подходил мне в самый раз: не слишком большая, но и не слишком маленькая нагрузка, прекрасные коллеги, у которых можно многому научиться, минимум академических звезд, достаточно серьезные студенты, заслуживающие внимания, но не требующие опеки день и ночь, тихая обитель, где все привержены решению проблем реального мира. С момента основания Центра когнитивных исследований в 1986 г. Университет Тафтса поддерживал мои исследования, часто избавляя меня от необходимости проходить через запутанный процесс получения грантов и давая огромную свободу работать с людьми из разных сфер, либо посещая далекие семинары, лаборатории и конференции, либо приглашая в Центр коллег-ученых. В этой книге показано, чем я занимался все эти годы.
Весной 2012-го я опробовал первый вариант нескольких глав на семинаре, который провел на кафедре философии Университета Тафтса. Я поступал так много лет, но на этот раз мне хотелось, чтобы студенты помогли сделать книгу как можно более доступной для непосвященных, поэтому я исключил всех старшекурсников и студентов-философов и пригласил на семинар только дюжину бесстрашных первокурсников, двенадцать – а точнее, тринадцать из-за административной ошибки – студентов, которые вызвались первыми. Мы с таким азартом набрасывались на каждую тему, что студенты увидели: они могут на равных спорить с профессором; я же понял, что могу объяснять все гораздо подробнее и проще. Вот список моих юных помощников, которых я благодарю за смелость, изобретательность, энергию и энтузиазм: Том Эддисон, Ник Босуэлл, Тони Каннистра, Брендан Флейг-Голдштейн, Клэр Хиршберг, Калеб Малчик, Картер Палмер, Амар Патель, Кумар Раманатхан, Ариэль Раскоу, Николай Ренедо, Микко Силлиман и Эрик Тондре.
Второй вариант рукописи, появившийся после того семинара, прочитали мои дорогие друзья Бо Дальбом, Сью Стаффорд и Дэйл Петерсон, которые дали честные оценки написанному и сделали ряд полезных замечаний. Большинство их я учел, после чего книгу прочитали мой редактор Дрейк МакФили и его способный ассистент Брендан Карри из издательства W. W. Norton, которые также помогли мне улучшить текст, за что я им очень благодарен. Отдельное спасибо программному координатору Центра когнитивных исследований Терезе Сальвато, которая всячески способствовала осуществлению этого проекта и, эффективно управляя Центром, косвенным образом помогала мне, составляя график моих командировок таким образом, чтобы я мог больше времени и сил уделять созданию и применению своих инструментов мышления.
И наконец, как всегда, спасибо моей жене Сьюзен. Мы с ней – одна команда целых пятьдесят лет, и всего мы достигли вместе.
Дэниел ДеннетБлю-Хилл, Мэн. Август 2012 года
I. Введение
Что такое насос интуиции?
Столярным ремеслом не займешься голыми руками, а голый мозг не годен для мышления.
Бо Дальбом
Мыслить трудно. Мыслить о проблемах так трудно, что голова может разболеться от одной мысли о мысли о них. По мнению моего коллеги, нейропсихолога Марселя Кинсборна, мы считаем, что мыслить трудно, поскольку на тяжком пути к истине нас соблазняют более легкие дороги, в итоге заводящие в тупик. Чтобы мыслить, нам в первую очередь необходимо противостоять этим соблазнам. Мы то и дело сбиваемся с пути, из-за чего нам приходится одергивать себя, чтобы сосредоточиться на задаче, которая стоит перед нами. Ох.
Есть одна история о Джоне фон Неймане, математике и физике, который превратил идею Алана Тьюринга (теперь она называется машиной Тьюринга) в реальный электронный компьютер (теперь он называется машиной фон Неймана, такой, как ваш ноутбук или смартфон). Фон Нейман был виртуозным мыслителем, славившимся потрясающей способностью мгновенно осуществлять сложнейшие вычисления в уме. История – имеющая, как и все подобные истории, великое множество вариантов – гласит, что однажды коллега предложил фон Нейману задачу, которую можно было решить двумя способами: прибегнув к сложному и трудоемкому вычислению или же применив изящное решение из тех, что каждого заставляют воскликнуть “Эврика!”. У этого коллеги была теория: он считал, что математики всегда будут выбирать трудоемкий путь, в то время как физики (которые ленивее, но умнее) не станут очертя голову бросаться в омут, а найдут быстрое и простое решение. Какой же способ выберет фон Нейман? Задача была вполне типична: два поезда, разделенные расстоянием в 100 километров, движутся навстречу друг другу по одной колее, причем скорость одного составляет 30 километров в час, а другого – 20 километров в час. Птица, летящая со скоростью 120 километров в час, вылетает от поезда А (когда между поездами 100 километров), долетает до поезда Б, разворачивается, летит обратно к приближающемуся поезду А – и так снова и снова, пока поезда не сталкиваются. Какое расстояние пролетит птица до столкновения? “Двести сорок километров”, – почти мгновенно ответил фон Нейман. “Проклятье, – ответил его коллега. – Я думал, вы пойдете сложным путем и будете суммировать бесконечный ряд”. “Ох! – смутившись, воскликнул фон Нейман и хлопнул себя по лбу. – Так был и легкий путь!” (Подсказка: сколько пройдет времени, прежде чем поезда столкнутся?)
Одни люди, подобно фон Нейману, от природы настолько гениальны, что им не составляет труда распутывать сложнейшие загадки, в то время как другие не обладают такой скоростью мышления, но при этом наделены огромным запасом “силы воли”, которая помогает им не сворачивать с пути упорного поиска истины. Мы же, все остальные, не гении вычислений, а обычные, немного ленивые люди, тем не менее тоже стремимся понять, что происходит вокруг. Что же нам делать? Использовать инструменты мышления во всем их многообразии. Эти инструменты расширяют границы нашего воображения и способствуют концентрации, благодаря чему мы получаем возможность серьезно и даже не без изящества размышлять об очень сложных вещах. В этой книге собраны мои любимые инструменты мышления. Я планирую не просто описать их, но и применить на практике, чтобы аккуратно провести ваш разум по неизведанной территории к принципиально новым представлениям о смысле, сознании и свободе воли. Мы начнем с простых и общедоступных инструментов, которые применяются во всевозможных областях. Некоторые из них вам знакомы, но другие известны не так широко. Затем я познакомлю вас с рядом инструментов, предназначенных для конкретных целей. Они были разработаны, чтобы изучить ту или иную любопытную идею и помочь мыслителям выбраться из топкого болота, которое по-прежнему затягивает и морочит экспертов. Мы также обсудим и раскритикуем неудовлетворительные инструменты мышления и неудачные механизмы убеждения, которые могут увести вас в сторону, если вы недостаточно осторожны. Даже если вы не сумеете добраться до конечной точки моего маршрута – или вам надоест и вы решите меня покинуть, – это путешествие снабдит вас новыми способами мышления на различные темы и мышления о мышлении.
Физик Ричард Фейнман – пожалуй, еще более прославленный гений, чем фон Нейман, – обладал первоклассным мозгом, но при этом также любил повеселиться. Нам остается только порадоваться, что ему нравилось делиться секретами ремесла, к которым он прибегал, чтобы облегчить себе жизнь. Как бы вы ни были умны, вы становитесь еще умнее, когда идете легким путем (если, разумеется, таковой существует). Автобиографические книги Фейнмана “Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!” и “Какое тебе дело до того, что думают другие?” должны входить в список обязательного чтения для любого начинающего мыслителя, поскольку в них содержится множество подсказок, как справляться со сложнейшими задачами – и даже как пустить окружающим пыль в глаза, когда ничего лучшего в голову не приходит. Вдохновившись богатством полезных наблюдений из его книг и его искренностью при описании работы собственного разума, я решил попробовать свои силы в подобном проекте, пускай и не столь автобиографичном, и задался целью убедить вас думать на эти темы по-моему. Я приложу немало усилий, чтобы заставить вас отказаться от ряда самых твердых убеждений; при этом я не буду ничего от вас утаивать. Одна из главных моих целей – объяснять по ходу дела, чем именно я занимаюсь и зачем.
Как и все ремесленники, кузнец не может работать без инструментов, но – согласно старому (почти забытому сегодня) наблюдению – кузнецы отличаются от остальных ремесленников тем, что способны сами изготовить себе инструменты для работы. Плотники не делают пилы и молотки, портные не делают ножницы и иглы, а слесари не делают гаечные ключи, но кузнецам вполне под силу выковать молоты, клещи, наковальни и чеканы из сырьевого материала – железа. А что насчет инструментов мышления? Кто их делает? Из чего? Лучшие мыслительные инструменты предложили нам философы, которые создали их из одних лишь идей, полезных конструкций информации. Рене Декарт дал нам прямоугольную систему координат с осями x и y, без которой фактически нельзя было бы и помыслить о математическом анализе – лучшем в своем роде инструменте мышления, изобретенном одновременно Исааком Ньютоном и философом Готфридом Вильгельмом Лейбницем. Блез Паскаль дал нам теорию вероятности, которая позволяет без проблем определять вероятность различных исходов. Будучи талантливым математиком, преподобный Томас Байес дал нам теорему Байеса, которая легла в основу байесовской статистики. Однако большинство описанных в этой книге инструментов гораздо проще – это не точные, систематические математические и научные машины, а прикладные инструменты разума. Среди них:
Ярлыки. Порой достаточно присвоить идее запоминающееся имя, чтобы не упустить ее из виду, пока вы обдумываете ее и пытаетесь понять. Полезнее прочих, как мы увидим, предупреждающие ярлыки и сигналы, которые указывают нам на вероятные источники ошибок.
Примеры. Некоторые философы полагают, что использование примеров в работе – это если и не прямое жульничество, то уж точно неуместная практика; подобным образом рассуждают и писатели, когда не соглашаются, чтобы их романы иллюстрировали. Писатели гордятся, что им под силу все описать словами, а философы гордятся, что им под силу орудовать искусно созданными абстрактными обобщениями, представленными в строгом порядке и как можно более напоминающими математические доказательства. Я рад за них, но им не стоит ожидать, что я порекомендую их работы кому-либо, кроме нескольких способных студентов. Эти работы сложнее, чем требуется.
Аналогии и метафоры. Перенося черты одной сложной вещи на другую сложную вещь, уже (казалось бы) понятную, вы прибегаете к невероятно действенному инструменту мышления, сила которого часто сбивает мыслителей с пути, когда их воображение оказывается в плену у предательской аналогии.
Строительные леса. Можно покрыть крышу, построить дом или починить трубу, используя одну лишь лестницу, которую вы будете снова и снова передвигать, спускаясь и поднимаясь по ней, чтобы получать доступ к небольшому участку работ, но часто гораздо проще в самом начале выделить время на создание грубых строительных лесов, которые позволят вам быстро и безопасно двигаться вокруг всего объекта работы. Ряд самых ценных инструментов мышления, описанных в этой книге, представляет собой примеры строительных лесов, на возведение которых уходит время, но которые затем позволяют одновременно решать несколько проблем, не передвигая лестницу.
И, наконец, специфический тип мысленных экспериментов, которые я назвал насосами интуиции.
Неудивительно, что философы любят мысленные эксперименты. Зачем нужна лаборатория, когда ответ на вопрос можно найти с помощью искусной дедукции? Мысленные эксперименты с успехом ставило множество ученых, от Галилея до Эйнштейна, поэтому их нельзя назвать исключительно инструментом философов. Некоторые мысленные эксперименты поддаются анализу, как радикальные аргументы, часто в форме reductio ad absurdum[1], когда для положений оппонента выводится формальное противоречие (абсурдный результат), которое показывает, что все эти положения не могут быть верными. Один из моих любимых примеров – приписываемое Галилею доказательство, что тяжелые объекты падают не быстрее легких (если силой трения можно пренебречь). Если бы они действительно падали быстрее, сказал он, то, поскольку тяжелый камень А падал бы быстрее легкого камня Б, то, привяжи мы камень Б к камню А, камень Б замедлил бы падение камня А, подобно тормозу. Однако связка из камней А и Б тяжелее, чем один камень А, поэтому вместе два этих камня также должны падать быстрее, чем один камень А. Мы пришли к выводу, что, если привязать камень Б к камню А, получившаяся связка будет падать одновременно и быстрее, и медленнее, чем один камень А, то есть пришли к противоречию.
Другие мысленные эксперименты не столь прямолинейны, но часто не менее эффективны: это короткие истории, которые призваны стимулировать искреннее, прочувствованное интуитивное озарение – “Ну да, конечно, иначе и быть не может!” – о доказываемом тезисе. Их я назвал насосами интуиции. Я предложил этот термин, когда впервые публично раскритиковал знаменитый мысленный эксперимент философа Джона Сёрла “Китайская комната” (Searle 1980; Dennett 1980), и некоторые мыслители сочли, что я использовал термин в пренебрежительном или уничижительном смысле. Как раз наоборот! Я люблю насосы интуиции. При этом одни насосы интуиции великолепны, другие сомнительны и лишь некоторые способны ввести нас в заблуждение. Насосы интуиции на протяжении столетий остаются доминирующей силой философии. Для философов они сродни басням Эзопа, которые считались прекрасными инструментами мышления еще тогда, когда философов не было вовсе[2]. Если вы изучали философию в университете, вероятно, вам знакомы такие классические примеры, как приводимый Платоном в “Государстве” миф о пещере, где прикованные цепями люди видят лишь тени предметов на стене, а также его рассказ об обучении юноши-раба геометрии, изложенный в “Меноне”. Злой демон Декарта обманным путем заставлял Декарта верить, что мир полностью иллюзорен, и это можно считать первым мысленным экспериментом о виртуальной реальности, а в естественном состоянии Гоббса жизнь была скверна, жестока и коротка. Эти эксперименты не столь знамениты, как “Мальчик и волки” или “Кузнечик и муравей” Эзопа, но тоже широко известны и разработаны для стимуляции интуиции. Миф о пещере Платона информирует нас о природе восприятия и реальности, а юноша-раб служит иллюстрацией нашего врожденного знания; злой демон представляет собой величайший генератор скепсиса, а наше возвышение над естественным состоянием, которое происходит, когда мы вступаем в общественный договор, есть суть аллегории Гоббса. Все это – лейтмотивы философии, которые настолько живучи, что студенты запоминают их на долгие годы и могут воспроизводить с удивительной точностью, даже если они забыли тонкости связанных с ними доводов и анализа. Хороший насос интуиции надежнее любой из его вариаций. Мы рассмотрим всевозможные современные насосы интуиции, включая несовершенные, с целью понять, на что они годятся, как функционируют, как их использовать и даже как их создавать.
Вот короткий и простой пример: эксцентричный тюремщик. Каждую ночь он дожидается, пока все заключенные крепко заснут, а затем отпирает все двери и надолго оставляет их открытыми. Вопрос: свободны ли заключенные? Есть ли у них возможность уйти? Не то чтобы. Почему? Вот другой пример: драгоценности в урне. Однажды вечером вы проходите по тротуару мимо урны, в которую выбросили кучу драгоценностей. Может показаться, что вам выпал прекрасный шанс разбогатеть, вот только в этом шансе на самом деле нет ничего прекрасного, потому что он минимален – крайне маловероятно, что вы заметите свой шанс и реализуете его (или вообще примете его во внимание). Два этих простых сценария стимулируют интуитивные озарения, которые иначе могут на нас и не снизойти: они подчеркивают, как важно получать информацию о реальных шансах заблаговременно, чтобы мы успевали проанализировать ее и среагировать вовремя. В своем желании получить “свободу” выбора, не подверженного – как мы предпочитаем думать – влиянию “внешних сил”, мы часто забываем, что нам не стоит стремиться к изоляции от этих сил, ведь свобода воли не исключает нашего погружения в богатый каузальный контекст, а напротив, требует его.
Надеюсь, вы чувствуете, что на эту тему можно еще многое сказать! Эти крошечные насосы интуиции прекрасно поднимают вопрос, но ничего не решают – пока что. (Далее свободе воли будет посвящен целый раздел.) Нам нужно научиться правильно использовать подобные инструменты, внимательно смотреть себе под ноги и не попадаться в ловушки. Если считать насос интуиции искусно сработанным инструментом убеждения, нам, вероятно, будет выгодно провести инженерный анализ этого инструмента и изучить все его движущиеся компоненты, чтобы определить, что именно они делают.
Когда в 1982 г. мы с Дагом Хофштадтером писали книгу “Глаз разума”, он дал прекрасный совет по этому поводу: считайте насос интуиции инструментом со множеством настроек и “крутите все регуляторы”, чтобы проверить, будут ли стимулироваться те же интуитивные озарения при использовании различных вариантов настройки.
Давайте определим и покрутим регуляторы “эксцентричного тюремщика”. Допустим – пока не доказано обратное, – что каждый элемент имеет собственную функцию, и посмотрим, какова эта функция, заменив один элемент другим или слегка его трансформировав.
1. Каждую ночь
2. он дожидается
3. пока все заключенные
4. крепко заснут
5. а затем отпирает
6. все двери
7. и надолго оставляет их открытыми.
Вот один из множества доступных нам вариантов:
Однажды ночью он приказал надзирателю дать снотворное одному из заключенных, а тот, выполнив приказ, случайно оставил на один час дверь в камеру этого заключенного незапертой.
Сценарий изменился достаточно сильно, не так ли? Каким образом? Он по-прежнему иллюстрирует основную мысль (так ведь?), но уже не столь эффективно. Особенно важна разница между естественным сном – когда проснуться можно в любую минуту – и сном под действием снотворного или коматозным состоянием. Другое отличие – “случайно” – подчеркивает роль намерения или недосмотра со стороны тюремщика или надзирателей. Повторение (“каждую ночь”), казалось бы, меняет вероятность в пользу заключенных. Когда и почему важна вероятность? Сколько вы готовы заплатить, чтобы не участвовать в лотерее, билеты которой имеет миллион человек, а “победителя” расстреливают? Сколько бы вы заплатили, чтобы не играть в русскую рулетку с шестизарядным револьвером? (Здесь мы используем один насос интуиции, чтобы проиллюстрировать другой. Этот трюк стоит запомнить на будущее.)
Другие регуляторы не столь очевидны: злобный хозяин тайно запирает двери в спальни своих гостей, пока те спят. Старшая медсестра, опасаясь пожара, ночью оставляет двери всех палат и смотровых незапертыми, но не сообщает об этом пациентам, полагая, что они будут спать крепче, если им об этом не говорить. А что если размеры тюрьмы несколько больше обычного – скажем, со всю Австралию? Невозможно запереть или отпереть все двери в Австралии. Что это меняет?
Настороженность, с которой мы должны подходить к каждому насосу интуиции, тоже представляет собой важный инструмент мышления, любимую тактику философов – “выход на метауровень”, то есть мышление о мышлении, разговоры о разговорах, рассуждения о рассуждениях. Метаязык – это язык, который мы используем, чтобы говорить о другом языке, а метаэтика – это отстраненный анализ этических теорий. Однажды я сказал Дагу: “Что бы ты ни сделал, я могу перевести это на метауровень”. Вся эта книга, само собой, является примером перехода на метауровень: в ней описывается, как обстоятельно мыслить о методах обстоятельного мышления (о методах обстоятельного мышления и т. д.)[3]. Недавно (в 2007 г.) Даг составил список своих любимых подручных инструментов:
поиск ветра в поле
безвкусица
темные дела
зелен виноград
работа на износ
слабые места
пороховые бочки
бредовые идеи
пустые слова
пара пустяков
обратная связь
Если эти выражения вам знакомы, они для вас не “просто слова” – каждое из них представляет собой абстрактный когнитивный инструмент, подобный делению в столбик или определению среднего арифметического, и каждое играет свою роль в широком спектре контекстов, упрощая формулировку гипотез для проверки, распознание неочевидных алгоритмов мира, поиск важных сходств и так далее. Каждое слово в вашем лексиконе – простой инструмент мышления, но некоторые слова полезнее других. Если какие-либо из этих выражений не входят в ваш словарь, вам стоит их добавить, поскольку таким образом вы сможете обдумывать мысли, сформулировать которые иначе было бы довольно сложно. Само собой, как гласит известный закон, когда у вас есть только молоток, вокруг вы видите только гвозди, поэтому ни один из этих инструментов не застрахован от чрезмерного использования.
Давайте разберем всего один: зелен виноград. Это выражение использовано в басне Эзопа “Лисица и виноград”, где описывается, как порой люди притворяются, что им нет дела до того, что они не могут получить, высказываясь об этом с пренебрежением. Можно очень многое сказать о только что услышанном от человека, просто спросив его: “Что, зелен виноград?” Собеседнику придется рассмотреть возможность, которая в ином случае, вероятно, осталась бы незамеченной, и это может сподвигнуть его мыслить иначе или взглянуть на проблему шире, а может и просто сильно его оскорбить. (Инструменты могут использоваться и в качестве оружия.) Мораль сей басни так хорошо знакома любому, что не обязательно помнить всю историю и держать в уме ее тонкости, которые порой и вовсе не важны.
Овладеть инструментами и использовать их с умом – это разные навыки, однако начать надо с овладения имеющимися инструментами или создания собственных. На страницах этой книги я опишу многие инструменты, которые изобрел сам, но упомяну и те, которые позаимствовал у других мыслителей, и каждому из них я отдам должное[4]. Даг не изобрел ни один из инструментов из собственного списка, но принял участие в разработке некоторых прекрасных образчиков из моего набора, таких как выпрыгивание и сфексовость.
Иные из наиболее действенных инструментов мышления имеют математическую природу, но я ограничусь лишь их упоминанием, поскольку эта книга отдает дань нематематическим инструментам, неформальным инструментам, если угодно, инструментам прозы и поэзии, силу которых ученые часто недооценивают. И вполне понятно, почему. Прежде всего, в научных журналах сложилась культура научного стиля, которая отдает предпочтение и даже настаивает на беспристрастном, неприукрашенном изложении проблем с минимумом словесных изяществ, риторики и аллюзий. Неумолимому однообразию на страницах наиболее серьезных научных журналов есть хорошее объяснение. Как в 1965 г. написал мне один из моих оппонентов, специалист по анатомии нервной системы Дж. З. Янг, раскритиковавший несколько замысловатый язык моей оксфордской диссертации (по философии, не по анатомии нервной системы), английский язык становится международным языком науки, а потому нам, носителям английского, следует писать работы, которые под силу прочесть “терпеливому китайцу, вооруженному хорошим словарем”. Результаты этой самодисциплины говорят за себя: неважно, из Китая вы, из Германии, из Бразилии – или даже из Франции, – свои наиболее важные работы вы все равно предпочитаете публиковать на английском, элементарном английском, который без особенных проблем поддается переводу и минимально опирается на культурные аллюзии, нюансы, игру слов и метафоры. Уровень взаимопонимания, достижимый в этой международной системе, неоценим, но платить за него все же приходится: некоторые аспекты мышления явно требуют неформального жонглирования метафорами и стимуляции воображения, хитроумной атаки на баррикады закрытого разума, и если что-то из этого невозможно перевести без проблем, то мне остается лишь надеяться на виртуозное мастерство переводчиков, с одной стороны, и растущую свободу владения английским в научной среде, с другой.
Вторая причина, по которой ученые часто с подозрением относятся к теоретическим дискуссиям, ведущимся “одними словами”, заключается в том, что они понимают: критиковать аргумент, не сформулированный на языке математических уравнений, гораздо сложнее, а результаты этой критики, как правило, не столь убедительны. Язык математики обеспечивает неопровержимость. Он подобен сетке на баскетбольном кольце, которая исключает споры насчет того, попал ли мяч в цель. (Любой, кто играл в баскетбол на площадке с кольцом без сетки, знает, как сложно бывает определить, влетел ли мяч в кольцо, если он не задел ни само кольцо, ни щит.) Но порой вопросы настолько сложны и неочевидны, что математики просто не могут с ними совладать.
Я всегда считал, что если я не могу объяснить, чем занимаюсь, группе способных студентов бакалавриата, то я сам это не до конца понимаю. Такое убеждение повлияло на все мои труды. Некоторые профессора философии предпочитают проводить семинары продвинутого уровня только для студентов магистратуры. Но не я. Студенты магистратуры часто слишком хотят доказать друг другу и самим себе, что они подкованы в соответствующей области, а потому уверенно сыплют профессиональными жаргонизмами, сбивая с толку непосвященных (так они убеждают самих себя, что их занятие требует опыта) и хвастаясь своей способностью следить за нитью самых заумных (и мучительных) формальных доводов, не заходя при этом в тупик. Философия, написанная для продвинутых студентов магистратуры и коллег-экспертов, как правило, совершенно нечитаема – а потому ее почти никто и не читает.
Любопытным побочным эффектом моего стремления описывать аргументацию и объяснения языком, который без труда могут понять люди, не имеющие отношения к кафедрам философии, стало появление философов, “из принципа” не желающих принимать мои аргументы всерьез! Когда много лет назад я читал в переполненной оксфордской аудитории цикл лекций в рамках “Лекций Джона Локка”, уважаемый философ покинул одну из них, ворча, что будь он проклят, если сумеет узнать хоть что-то от человека, который привлек на “Лекции Локка” людей, далеких от философии! Насколько я могу судить, он остался верен своему слову и ничего от меня не узнал. Я не изменил свой стиль и ни разу не пожалел о необходимости за это платить. В философии есть время и место для строгих выкладок, где пронумерованы все предпосылки и озвучены правила логических выводов, однако часто все это не стоит демонстрировать широкой публике. Мы просим студентов магистратуры доказывать свои умения в диссертациях – и, к несчастью, некоторые из них так и не отказываются от этой привычки. При этом стоит заметить, что полярно противоположный грех злоупотребления высокопарной европейской риторикой, обильно сдобренной литературными украшениями и намеками на глубокомыслие, тоже не идет философии на пользу. Если бы мне пришлось выбирать, я бы всегда отдавал предпочтение упрямым аналитикам, готовым приводить заумные аргументы, а не склонным к словоблудию мудрецам. В разговоре с аналитиком обычно хотя бы можно понять, что он имеет в виду и что считает неверным.
Полагаю, чтобы внести максимально полезный вклад в науку, философу необходимо нащупать золотую середину между поэзией и математикой, предоставляя понятные объяснения головоломных задач. Для подобной работы не существует четких алгоритмов. Поскольку доступно все, каждый внимательно выбирает ориентиры. Нередко “невинное” допущение, неосмотрительно сделанное всеми сторонами, оказывается источником ошибки. Исследованию столь опасных концептуальных территорий существенно помогает использование инструментов мышления, разрабатываемых специально, чтобы объяснить альтернативные пути и пролить свет на их перспективы.
Такие инструменты мышления редко устанавливают фиксированный ориентир – твердую “аксиому” для всех будущих изысканий, – но гораздо чаще намечают возможный ориентир, вероятный ограничитель будущих изысканий, который сам может быть подвергнут пересмотру или вовсе отброшен, если кто-нибудь сумеет найти для этого повод. Неудивительно, что многие ученые не питают симпатии к философии: все доступно, ничего не определено на сто процентов, а сложнейшие сети аргументов, создаваемые, чтобы связать эти ориентиры, фактически висят в воздухе, лишенные явного фундамента эмпирических доказательств или опровержений. В результате такие ученые поворачиваются к философии спиной и продолжают собственную работу, но при этом оставляют нерассмотренным целый ряд важнейших и любопытнейших вопросов. “Не спрашивай! Не говори! Преждевременно обсуждать проблему сознания, свободы воли, этики, смысла и креативности!” Но мало кому под силу практиковать такое воздержание, поэтому в последние годы ученые устремились в сферы, которые прежде ими игнорировались. Из чистого любопытства (а иногда, возможно, из жажды славы) они берутся за серьезные вопросы и вскоре выясняют, сколь сложно делать подвижки в этих областях. Должен признаться (хоть в такие моменты я и чувствую себя виноватым), что мне все же приятно наблюдать, как уважаемые ученые, которые всего несколько лет назад заявляли о своем презрении к философии[5], то и дело оступаются, когда пытаются совершить переворот в этих сферах, прибегая к аргументированным экстраполяциям из собственных научных исследований. Еще забавнее получается, когда они обращаются за помощью к нам, философам, и впоследствии эту помощь принимают.
В первом разделе этой книги я опишу дюжину общих, универсальных инструментов, а в последующих разделах сгруппирую остальные главы не по типу инструмента, а по теме, в которой этот инструмент работает лучше всего. Начну я с фундаментальной философской проблемы – проблемы значения, или содержания, – а затем перейду к эволюции, сознанию и свободе воли. Некоторые из описываемых инструментов представляют собой программное обеспечение, удобные устройства, которые помогают нашему невооруженному воображению, подобно тому, как микроскопы и телескопы помогают невооруженному глазу.
На страницах этой книги я также познакомлю вас с несколькими ложными друзьями – инструментами, которые напускают тумана, вместо того чтобы проливать свет. Мне нужен был термин для обозначения этих опасных устройств, и я нашел подходящие слова, обратившись к своему опыту хождения под парусом. Многие моряки любят ввернуть морские словечки, которые сбивают с толку сухопутных крыс: правый и левый борт, гужон и шкворень, ванты и отводы, люверсы, направляющие и все остальное. Однажды я шел на судне, где моряки то и дело придумывали шуточные определения этим терминам. Нактоузом мы стали называть наросты морских организмов на компасах, бугель с гаком превратился в цитрусовый напиток, который полагается пить на палубе, канифас-блоком мы назвали женский защитный маневр, а упорным башмаком – упрямое ортопедическое приспособление. С тех пор выражение “упорный башмак” – которым на самом деле обозначается подвижная подставка для гика, используемая при спускании паруса, – всегда ассоциируется у меня с беднягой в ортопедическом сапоге, не желающем идти куда следует. Именно поэтому я и решил назвать так инструменты мышления, которые оборачиваются против мыслителя: хотя и кажется, что они помогают достичь понимания, на самом деле они лишь заводят мыслителя во мрак, вместо того чтобы вести к свету. В последующих главах будет описано множество упорных башмаков, которым присвоены соответствующие предупреждающие ярлыки, и приведен целый ряд печальных примеров. В завершение я еще немного порассуждаю о том, что значит быть философом, если это кому-нибудь интересно, и дам несколько советов от дядюшки Дэна каждому из вас, кто почувствовал вкус к такому способу познания мира и гадает, сможет ли он построить карьеру в этой области.
II.
Дюжина универсальных инструментов мышления
Большинство инструментов мышления, описываемых в этой книге, довольно специфичны: они разработаны для применения к конкретной теме и даже к конкретной проблеме в рамках этой темы. Но прежде чем обратиться к этим насосам интуиции, позвольте познакомить вас с несколькими универсальными инструментами мышления, идеями и практиками, которые доказали свою состоятельность в широком спектре контекстов.
1. Совершая ошибки
Тот, кто говорит: “Лучше вовсе ни во что не верить, чем верить в ложь!” – только показывает господствующий внутри него страх показаться глупцом… Он подобен генералу, который говорит солдатам, что лучше вообще не ввязываться в битву, чем рисковать получить рану. Не так одерживаются победы над нашими врагами и над нашей природой. Наши ошибки не так уж серьезны. В мире, где мы обречены совершать их, несмотря на все предосторожности, лучше не принимать их близко к сердцу и не проявлять излишнего беспокойства по их поводу.
Уильям Джеймс, “Воля к вере”
Если вы твердо решили проверить теорию или хотите объяснить какую-то идею, публикуйте свои результаты, какими бы они ни были. Публикуя результаты выборочно, мы подкрепляем свои аргументы. Однако публиковать следует все результаты без исключения.
Ричард Фейнман, “Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман”
Ученые часто спрашивают меня, почему философы тратят столько сил на изучение и преподавание истории своей науки. Химикам, как правило, достаточно лишь зачаточных знаний об истории химии, которые они подхватывают на ходу, а специалисты по молекулярной биологии, казалось бы, и вовсе не интересуются, что происходило в биологии года до 1950-го. Мой ответ таков: история философии по большей части представляет собой историю величайших ошибок очень умных людей, а не зная истории, ты обречен совершать эти проклятые ошибки снова и снова. Именно поэтому мы, философы, преподаем студентам историю философии, а ученые, которые беспечно отмахиваются от философии, делают это на свой страх и риск. Нет науки, свободной от философии, есть лишь наука, которую творят без оглядки на лежащие в ее основе философские допущения. Самые умные и самые везучие из ученых порой умело обходят все ловушки (возможно, они “прирожденные философы” или действительно так умны, как сами думают), но таких крайне мало. При этом нельзя сказать, что профессиональные философы не совершают старых ошибок и не отстаивают их правильность. Если бы вопросы не были столь сложны, о них не стоило бы и задумываться.
Порой хочется не просто рискнуть совершить ошибку, а по-настоящему совершить ее, даже если только ради того, чтобы стало понятно, что именно нужно исправить. Ошибки – ключ к прогрессу. Само собой, бывают моменты, когда важно не совершать ошибок: спросите любого хирурга или пилота. Но далеко не все понимают, что бывают и моменты, когда ошибки становятся единственным способом двигаться вперед. Многие студенты, которые поступают в престижные университеты, гордятся, что не совершают ошибок, ведь именно так они сумели продвинуться дальше своих одноклассников – во всяком случае, так им всегда говорили. Я часто замечаю, что мне приходится призывать их выработать привычку совершать ошибки, поскольку именно ошибки таят в себе наибольший потенциал для обучения. Студенты сталкиваются с “творческим кризисом” и часами в отчаянии бьются над первым предложением эссе. “Выкладывайте как есть!” – советую им я. Тогда у них появляется хоть какой-то материал для работы.
Мы, философы, специалисты по ошибкам. (Понимаю, это напоминает начало плохой шутки, но выслушайте меня до конца.) В то время как другие науки специализируются на получении правильных ответов на основополагающие вопросы, мы, философы, специализируемся на том, чтобы запутывать все на свете и переворачивать с ног на голову, в результате чего никто не может даже сформулировать верные вопросы, не то что уж дать на них ответы. При этом, задавая неверные вопросы, мы рискуем направить все изыскания по ложному следу. Когда такое случается, нужно обращаться к философам! В любой области, в любом исследовании приходится заниматься философией, чтобы выяснить, какие вопросы нужно задавать. Некоторые люди терпеть этого не могут. Они предпочитают находить готовые вопросы – ладно скроенные, безупречно отглаженные, готовые для ответа. Таким людям лучше заниматься физикой, математикой, историей или биологией. Работы всем хватит. Мы, философы, любим работать с вопросами, которые приходится приводить в порядок, прежде чем на них отвечать. Это занятие не для всех. Но попробуйте – вдруг понравится?
В этой книге я буду ожесточенно набрасываться на то, что считаю ошибками других людей, но будьте уверены, опыта в совершении ошибок мне не занимать. Я попадался в ловушки и надеюсь, что попадусь еще не раз. Одна из целей этой книги – помочь вам совершать хорошие ошибки, которые освещают всем нам путь вперед.
Сначала теория, затем практика. Ошибки не просто дают нам возможность учиться; фактически они дают нам единственную возможность учиться и создавать нечто поистине новое. Чтобы учиться, нужны ученики. Ученики могут появиться лишь двумя способами, в которых нет места магии: они должны либо развить себя сами, либо вырасти под влиянием тех учеников, которые уже достигли нужного уровня развития. Биологическая эволюция предполагает великий, неизбежный путь проб и ошибок – и без ошибок от проб нет никакого толку. Гор Видал однажды сказал: “Добиться успеха недостаточно. Остальные должны потерпеть поражение”. Пробы могут быть слепыми или прогнозными. Зная многое, но не зная ответа на конкретный вопрос, вы можете совершать скачки – прогнозные скачки. Вы можете осмотреться перед скачком и далее в некоторой степени опираться на полученные ранее знания. Вам нет нужды гадать, но не стоит свысока смотреть на догадки, ведь среди их великолепных результатов… вы сами!
Эволюция стала одной из главных тем этой книги, как и всех остальных моих книг, по той простой причине, что она представляет собой важнейший, полезнейший процесс не только самой жизни, но и знания, обучения и понимания. Если вы попробуете понять мир идей и смыслов, свободы воли и морали, искусства, науки и даже самой философии, не имея основательных и достаточно подробных знаний об эволюции, вам придется работать одной рукой, держа вторую за спиной. Позже мы рассмотрим некоторые инструменты, призванные помочь вам размышлять над самыми сложными вопросами эволюции, но для этого сначала необходимо заложить крепкий фундамент. Для эволюции, которая ничего не знает, шаги к новому вслепую совершают мутации, представляющие собой случайные “ошибки” при копировании ДНК. Большинство таких ошибок не имеет никакого значения, ведь их никто не видит! Они столь же несущественны, как черновики ваших студенческих работ, которые вы не сдавали (или не сдаете) преподавателю на оценку. ДНК вида напоминает рецепт создания нового тела, и большая часть ДНК даже не играет роли в процессе формирования организма. (Именно поэтому ее часто называют “мусорной ДНК”.) Подавляющее большинство мутаций в тех цепочках ДНК, которые считываются и используются в процессе развития, наносит вред организму; многие из них и вовсе быстро становятся фатальными. Поскольку большая часть “проявляющихся” мутаций вредоносна, процесс естественного отбора работает таким образом, чтобы количество мутаций оставалось на минимальном уровне. В клетках каждого из вас работает очень, очень хороший копировальный механизм. К примеру, ваше тело состоит примерно из триллиона клеток и каждая клетка представляет собой либо идеальную, либо почти идеальную копию вашего генома длиной более трех миллиардов символов – тот самый рецепт, который впервые появился, когда во взаимодействие вступили яйцеклетка и сперматозоид ваших родителей. К счастью, копировальный механизм работает не безупречно, ведь в ином случае эволюция в конце концов остановилась бы, поскольку ее источники новизны оказались бы исчерпаны. Эти крошечные недостатки, эти “несовершенства” процесса ответственны за потрясающее устройство и сложную структуру мира живой природы. (Я не могу не добавить: если что-то и заслуживает именоваться первородным грехом, так это эти ошибки копирования.)
Чтобы совершать хорошие ошибки, главное не скрывать их – особенно от себя самого. Вместо того чтобы открещиваться от ошибок, нужно стать их настоящим ценителем – нужно рассматривать их в качестве произведений искусства, ведь в некотором роде они и правда шедевральны. Основополагающей реакцией на любую ошибку должно быть восклицание: “Что ж, такого я больше не сделаю!” Естественный отбор не думает; он просто устраняет неудачные экземпляры, не давая им шанса на размножение; естественный отбор не повторяет таких ошибок, по крайней мере не так часто. У способных к обучению животных, которым под силу научиться издавать конкретный звук, касаться конкретного провода или есть конкретную пищу, в мозгу имеется нечто, обладающее сходной селективной силой. (Б. Ф. Скиннер и другие бихевиористы понимали необходимость этого и называли это обучением “с подкреплением”: такой ответ не получает подкрепления и “пресекается”.) Мы, люди, выводим все на новый уровень, повышая скорость и эффективность реакции. Мы можем думать, оценивать только что сделанное: “Что ж, такого я больше не сделаю!” Размышляя, мы сталкиваемся с проблемой, которую приходится решать любому, кто совершает ошибки: что именно подразумевается под “таким”? Какое именно мое действие привело к возникновению затруднений? Главное – изучить конкретные детали возникшей по вашей вине путаницы, чтобы при следующей попытке учесть усвоенные уроки и не делать новый шаг в кромешной тьме.
Все мы слышали горькое восклицание: “Мне казалось, это сработает!” Эта фраза стала символом раскаяния идиота, признаком глупости, но на самом деле мы должны считать ее столпом мудрости. Любой человек, любой агент, который может искренне сказать: “Мне казалось, это сработает!” – стоит на пороге гениальности. Мы, люди, гордимся собственным интеллектом, а одна из его особенностей заключается в том, что мы помним наши прошлые мысли и можем давать им оценку: определять, какими они нам казались, почему они были столь привлекательны и что в итоге пошло не так. У меня нет свидетельств, которые позволили бы предположить, что еще хоть один вид на планете способен к такому же мышлению. Если бы это было так, этот вид был бы почти столь же умен, как мы сами.
В связи с этим вы должны научиться глубоко вздохнуть после ошибки, стиснуть зубы и изучить свои воспоминания о произошедшем как можно более внимательно и бесстрастно. Это непросто. Совершая ошибку, человек естественным образом чувствует смущение и гнев (сильнее всего мы злимся на самих себя), поэтому нужно усердно работать, чтобы преодолеть эти эмоциональные реакции. Попробуйте привить себе необычную привычку наслаждаться своими ошибками и с удовольствием изучать все странности, которые сбили вас с пути. В таком случае, выжав из них всю пользу, вы сможете радостно оставить их позади и перейти к следующей большой возможности. Но этого недостаточно: нужно активно искать шансы совершать великие ошибки, чтобы потом после них восстанавливаться.
Самую простую технику совершения ошибок мы все изучили в начальной школе. Помните, каким страшным и непонятным казалось нам сначала деление в столбик? Вам давали два невыразимо крупных числа, и нужно было понять, с чего начать. Сколько делителей содержится в делимом – шесть? семь? восемь? Как знать? Но знать и не нужно было – нужно было просто назвать число наугад и проверить результат. Помню, я был поражен, когда мне сказали, что начать нужно с “догадки”. И это математика? Разве в столь серьезных делах есть место угадайке? Но в конце концов мы все оценили красоту такой тактики. Если выбранное число оказывалось слишком маленьким, его нужно было увеличить и начать заново; если же оно было слишком большим, его приходилось уменьшить. В делении столбиком был огромный плюс: оно работало всегда, даже если сначала ты выбирал максимально дурацкое число – в таком случае просто приходилось повозиться подольше.
Эта техника совершения более или менее осознанного выбора, оценки его следствий и использования результата для внесения поправок нашла множество применений. Главное в этой тактике – сделать ошибку, которая достаточно понятна и точна, чтобы привести к определенным последствиям. Пока не появилась система GPS, штурманы определяли, где находится судно, высказывая предположение относительно его местоположения (они наугад называли точные значения широты и долготы), а затем рассчитывая, на какой именно высоте должно находиться солнце, если они – по невероятному совпадению – действительно находятся в этой точке. Используя этот метод, они не ожидали, что сразу правильно определят свою позицию. В этом не было необходимости. Вместо этого они измеряли фактическую высоту солнца над горизонтом (точно) и сравнивали два значения. Дальнейшие нехитрые расчеты позволяли им определить, какие поправки необходимо внести в их изначальную догадку[6]. При использовании этого метода полезно изначально высказывать достаточно точное предположение, однако вовсе неважно, что оно обречено быть ошибочным. Главное – сделать ошибку как можно точнее, чтобы затем ее можно было исправить. (Устройство GPS применяет ту же стратегию догадок и поправок, чтобы определять свое местоположение относительно спутников.)
Само собой, чем сложнее задача, тем сложнее и анализ. Исследователи искусственного интеллекта (ИИ) называют эту проблему “присваиванием коэффициентов доверия” (но ее вполне можно было бы назвать и “присваиванием коэффициентов осуждения”). Определить, чему доверять, а что осуждать, – одна из сложнейших задач, стоящих перед ИИ. С такой же проблемой сталкивается и естественный отбор. Каждый организм на земле рано или поздно умирает, когда к концу подходит та или иная сложная история жизни. Как вообще естественный отбор может смотреть сквозь туман всех этих деталей, чтобы понять, какие позитивные факторы “вознаградить” потомством, а какие негативные факторы “наказать” его отсутствием? Неужели некоторые братья и сестры наших предков действительно умирали бездетными, потому что у них были веки неправильной формы? Если нет, как процесс естественного отбора может объяснить, почему наши веки имеют итоговую превосходную форму? Один аспект ответа нам знаком: известная присказка “пока работает, не трожь” советует нам не вносить изменения в старые, консервативные дизайнерские решения и не рисковать без страховки. Естественный отбор автоматически сохраняет все, что работало до этого момента, и бесстрашно исследует крупные и мелкие инновации, причем крупные почти всегда ведут прямо к смерти. Такая стратегия очень расточительна, но никто не обращает на это внимания. Естественный отбор по большей части определил форму наших век задолго до появления человека, приматов и даже млекопитающих. Чтобы сформировать веки такими, какие они сегодня, естественный отбор трудился более сотни миллионов лет, но в последние шесть миллионов лет в проект вносились лишь незначительные изменения, поскольку у нас были общие предки с шимпанзе и бонобо. Другой аспект ответа заключается в том, что естественный отбор работает с огромным числом случаев, где даже минимальные преимущества проявляются в статистике и могут накапливаться автоматически. (Остальные аспекты ответа на этот вопрос предполагают обсуждение технических тонкостей, избыточное для этой упрощенной дискуссии.)
Вот техника, которую блестяще используют фокусники, работающие с картами, – по крайней мере, лучшие из них. (Полагаю, я не навлеку на себя гнев фокусников за объяснение этого трюка, ведь я не буду раскрывать загадку конкретного фокуса, а изложу основополагающий общий принцип.) Хороший фокусник знает много фокусов, которые зависят от везения: они получаются не всегда и даже не часто. Некоторые приемы – их даже фокусами не назовешь – работают и вовсе только раз из тысячи! Вот как с этим справиться: сначала нужно сказать зрителям, что сейчас вы покажете какой-то фокус, и, не уточняя, какой именно фокус вы показываете, попробовать прием, срабатывающий в одном случае из тысячи. Само собой, он вряд ли сработает, поэтому вы спокойно перейдете ко второй попытке – и попробуете прием, который срабатывает один раз из сотни, – а когда вам не повезет и с ним (что произойдет почти наверняка), вы спокойно перейдете к приему номер 3, который срабатывает в одном случае из десяти, но при этом наготове будете держать прием номер 4, срабатывающий в половине случаев (к примеру). Если ничего не сработает (а к этому моменту обычно одна из страховок уже спасает вас от худшего), вы обратитесь к беспроигрышному приему, который не слишком впечатлит зрителей, но хотя бы гарантирует выполнение фокуса. В ходе целого представления вам вряд ли придется всегда полагаться на последнюю страховку – для этого вы должны быть невероятно невезучим, – а всякий раз, когда у вас получится один из более сложных трюков, зрители будут изумляться. “Невероятно! Как вы вообще могли узнать, какую я выбрал карту?” Ага! Вы этого и не знали, но нашли изящный способ ткнуть пальцем в небо – и не прогадали. Скрывая все “ошибки” из виду – не показывая пробы, которые не принесли желаемого результата, – вы творите “чудо”.
Таким же образом работает и эволюция: все глупые ошибки, как правило, остаются невидимыми, так что мы наблюдаем лишь поразительную серию триумфов. К примеру, подавляющее большинство – гораздо больше 90 процентов – всех существ, когда-либо существовавших на земле, умерли, не оставив потомства, но ни одного из ваших предков не постигла такая участь. Похоже, ваш род неуязвим!
Важное различие между дисциплиной науки и дисциплиной фокусов заключается в том, что фокусники всячески стараются скрыть свои ошибки от зрителей, а ученые совершают ошибки публично. В науке ошибки выставляют на обозрение, чтобы все могли на них учиться. Таким образом вы получаете возможность использовать чужой опыт, а не просто идти своим особенным путем в пространстве ошибок. (Физик Вольфганг Паули однажды презрительно высказался о работе коллеги, назвав ее “даже не ошибочной”. Лучше поделиться с критиками явной ошибкой, чем несусветной бессмыслицей.) Кстати, это еще одна причина, объясняющая, почему люди настолько умнее всех остальных видов. Дело не столько в том, что у нас более крупный или более развитый мозг, и даже не в том, что мы умеем размышлять о своих прошлых ошибках, а в том, что мы делимся преимуществами, которые каждый из наших мозгов получает, когда проходит по собственному пути проб и ошибок[7].
Меня удивляет, сколько поистине умных людей не понимает, что можно у всех на виду совершать серьезные ошибки, но при этом не терять своей репутации. Я знаю уважаемых ученых, которые готовы пойти на все, лишь бы только не признавать, что они в чем-то ошиблись. Очевидно, они никогда не замечали, что земля не разверзается под ногами у людей, когда те говорят: “Ой, вы правы. Похоже, я допустил ошибку”. На самом деле люди любят, когда кто-то признает свою ошибку; все обожают указывать на ошибки других. Великодушные люди ценят, когда вы даете им возможность помочь и благодарите их за помощь, если она оказывается кстати, а мелочные люди не упустят повода указать на ваш промах. И пусть! Как бы то ни было, все мы остаемся в выигрыше.
Само собой, как правило, люди не любят исправлять глупые ошибки других. Чтобы ошибку исправили, она должна быть стоящей: вам стоит найти оригинальную позицию, которая может оказаться как верной, так и неверной, построив целую пирамиду рискованных размышлений, подобную пирамиде рискованных фокусов. Положив в основу своей работы наработки других, вы можете продвинуться дальше. И вас ждет неожиданный бонус: если вы готовы на серьезный риск, люди примутся исправлять ваши случайные глупые ошибки, тем самым показывая, что вы не исключительны и тоже порой выдаете брак, как и все остальные. Я знаю невероятно осторожных философов, которые никогда – насколько это известно – не совершали ошибок в своих работах. Как правило, они не слишком плодовиты, но немногочисленные выходящие из-под их пера работы обычно безупречны, хотя рискованными их не назовешь. Они специализируются на том, что указывают на ошибки других, и это довольно ценно, однако им самим никто не спускает с рук и малейшей оплошности. К несчастью, можно сказать, что их лучшие труды часто остаются незамеченными и непризнанными, поскольку они теряются в потоке громких работ более смелых мыслителей. В главе 76 мы увидим, что обычно полезная практика совершения смелых ошибок тоже имеет свои неблагоприятные побочные эффекты. Метасовет: не относитесь ни к каким советам с излишней серьезностью!
2. “На основе пародии”: использование reductio ad absurdum
Против лома нет приема, а ломом рационального анализа, великим рычагом, обеспечивающим непротиворечивость, служит reductio ad absurdum – доведение (суждения) до абсурда. При использовании этого приема вы берете утверждение или предположение и смотрите, можно ли обнаружить в нем какое-либо противоречие (или хотя бы противоречащее здравому смыслу следствие). Если у вас получается найти противоречие, это суждение отбрасывается или хотя бы отправляется на пересмотр. Мы постоянно прибегаем к этому методу, не задумываясь о лежащей в его основе логике: “Если это медведь, то у медведей есть рога!” или “Он не успеет к ужину, если только не прилетит сюда, как Супермен”. Когда дело касается сложных теоретических противоречий, рычаг непротиворечивости получает мощный энергетический заряд, но провести черту между справедливой критикой и карикатурным опровержением аргумента очень сложно. Неужели ваш оппонент действительно настолько глуп, чтобы считать истинным утверждение, которое вы только что довели до абсурда несколькими ловкими маневрами? Однажды я проверял работу, в которой студент допустил прелюбопытную описку, заменив “аналогию” “пародией”, в результате чего получилась прекрасная фраза “на основе пародии”. На мой взгляд, это удачное название для презренных споров с использованием reductio ad absurdum, которые так часто вспыхивают в беспорядке научной и философской полемики.
Помню, несколько лет назад я присутствовал на семинаре по когнитивистике, который проводился в MIT лингвистом Ноамом Хомским и философом Джерри Фодором. В ходе семинара собравшихся щедро потчевали развенчанием работ других когнитивистов, не встречавших их одобрения. В тот день все копья были направлены против директора Лаборатории искусственного интеллекта Йельского университета Роджера Шенка, который – в описании Хомского – представал полным идиотом. Я довольно хорошо знал Роджера и был знаком с его работой. Хотя я и не был полностью согласен с его точкой зрения, в изложении Ноама ее сложно было узнать, поэтому я поднял руку и предположил, что он, возможно, не разобрался во всех нюансах позиции Роджера. “О нет, – усмехнувшись, возразил Ноам. – Именно так он и считает!” После этого, к великому удовольствию собравшихся, он продолжил свой разбор. Через несколько минут я вмешался снова. “Должен признать, что подвергающиеся критике взгляды просто нелепы, – сказал я, и Ноам одобрительно усмехнулся, – но в таком случае зачем же вы тратите время, критикуя этот абсурд?” Это замечание возымело действие.
Что насчет меня самого? Довожу ли я до абсурда чужие идеи? Справедливее ли я при этом? Вот несколько примеров. Решать вам. Однажды на конференции в Венеции мы с французским нейробиологом Жан-Пьером Шанжё сошлись с нейрофизиологом сэром Джоном Экклсом и философом сэром Карлом Поппером в споре о сознании и мозге. Мы с Шанжё были материалистами (которые полагают, что сознание и есть мозг), а Поппер и Экклс – дуалистами (которые утверждают, что сознание нельзя считать материальной сущностью, подобной мозгу, поскольку оно представляет собой сущность второго порядка, взаимодействующую с мозгом). За много лет до этого Экклс получил Нобелевскую премию за открытие синапса – микроскопического промежутка между нейронами, который молекулы глутамата и другие нейротрансмиттеры и нейромодуляторы пересекают триллионы раз за день. Согласно Экклсу, мозг напоминает мощный орган, а триллионы синапсов представляют собой его клавиатуру. Нематериальное сознание – бессмертная душа в представлении глубоко верующего католика Экклса – играет с синапсами, каким-то образом подталкивая молекулы глутамата на квантовом уровне. “Забудьте все теоретические дискуссии о нейронных сетях и тому подобном, это полный вздор, – сказал он. – Сознание – в глутамате!” Когда настала моя очередь говорить, я сказал, что хочу убедиться, что правильно понял его точку зрения. Если сознание в глутамате, а я вылью чашку глутамата в раковину, будет ли это убийством? “Что ж, – ответил он несколько смущенно, – пожалуй, наверняка сказать будет сложно”[8].
Вам может показаться, что между католиком-дуалистом сэром Джоном Экклсом и атеистом-материалистом Фрэнсисом Криком было мало общего, если не считать их Нобелевских премий. Однако по крайней мере некоторое время их представления о сознании характеризовались одинаковым сомнительным схематизмом. Далекие от науки люди часто не понимают, насколько полезен в науке схематизм, ведь он позволяет разобраться с ужасно сложными вещами, используя работающую модель, которая почти верна, и до поры до времени отбрасывая беспорядочные тонкости. Пожалуй, лучше всего в истории науки схематизм применили Крик и Джеймс Уотсон, которые расшифровали структуру ДНК, пока Лайнус Полинг и другие ученые пытались понять все тонкости генома. Крик выступал за смелые ходы, на случай если удастся решить проблему одним махом, но такой подход, конечно же, работает не всегда. Однажды мне выпал шанс продемонстрировать это на одном из знаменитых чаепитий Крика в Ла-Холье. Эти чаепития представляли собой неформальные встречи коллег по лаборатории, на которых каждый мог задавать вопросы и участвовать в обсуждении. В тот раз Крик сделал важное заявление: недавно было доказано, что нейроны коркового поля V4 “были неравнодушны” к цвету (то есть по-разному на него реагировали). Затем он выдвинул поразительно простую гипотезу: сознательный опыт красного, к примеру, представлял собой активность в соответствующих чувствительных к красному нейронах этой области сетчатки. Поразмыслив немного, я спросил: “Получается, если извлечь несколько чувствительных к красному нейронов, поместить их в чашку Петри и возбудить при помощи микроэлектрода, в этой чашке Петри возникнет осозание красного?” Когда оппонент доводит аргумент до абсурда, можно в ответ схватить быка за рога и подтвердить его вывод, то есть переиграть соперника. К такому приему, как известно, однажды прибегнул австралийский философ Дж. К. Смарт, который сказал, что да, согласно его теории морали, иногда действительно правомерно подставить и повесить невиновного человека! Крик решил переиграть меня. “Да! Это будет единичный случай осознания красного!” Но чьего осознания красного? Этого он не сказал. Позже он пересмотрел свою позицию по этому вопросу, и все же в своем стремлении найти так называемые НКК (нейронные корреляты сознания) они с нейробиологом Кристофом Кохом так и не отказались от своей приверженности этой идее.
Возможно, другой пример лучше покажет, в чем проблема представления о толике сознания в чашке Петри. Физик и математик Роджер Пенроуз и анестезиолог Стюарт Хамерофф совместно разработали теорию сознания, которое определялось не глутаматом, а квантовыми эффектами в микротрубочках нейронов. (Микротрубочки – это трубчатые белковые цепочки, которые служат в качестве опорных балок и магистралей в цитоплазме всех клеток, не только нейронов.) Когда Хамерофф объяснил свою позицию на второй международной конференции по науке о сознании “Тусон II”, я спросил из зала: “Стюарт, в вашей практике работы анестезиологом приходилось ли вам принимать участие в одной из сложнейших операций, в ходе которых пациентам пришивают оторванные руки?” Нет, такого опыта у него не было, но он слышал о подобных операциях. “Поправьте меня, если я что-то упускаю, Стюарт, но согласно вашей теории, если бы вы были анестезиологом на такой операции, вы бы чувствовали себя обязанным обезболить оторванную руку, лежащую на льду, верно? Как-никак микротрубочки в нервах руки будут работать, как и микротрубочки остальной нервной системы, а значит, рука будет мучиться от боли, так?” Судя по лицу Стюарта, эта мысль никогда не приходила ему в голову. Мысль о том, что осознание (красного, боли, чего угодно) – в некотором роде сетевое свойство, которое предполагает скоординированные действия бесчисленного множества нейронов, сначала может не понравиться, но доведение до абсурда может помочь людям понять, почему ее надо воспринимать всерьез.
3. Правила Рапопорта
Насколько снисходительным надо быть, критикуя взгляды оппонента? При наличии очевидных противоречий позиции оппонента на них, конечно же, стоит указать. Если же противоречия неочевидны, их необходимо аккуратно поставить на вид – а затем использовать для критики. Но поиск неочевидных противоречий часто сводится к придиркам, передергиваниям и – как мы видели – открытой пародии. Желание обличить оппонента и уверенность, что он точно в чем-то да ошибается, приводят к появлению немилосердных интерпретаций, которые становятся легкой мишенью. Но такие легкие мишени, как правило, не имеют существенной ценности и лишь впустую тратят время и терпение всех участвующих в дискуссии, даже если и приносят удовольствие вашим сторонникам. На мой взгляд, лучшим противоядием против этой тенденции высмеивать оппонента служит список правил, которые много лет назад сформулировал специалист по социальной психологии и теории игр Анатолий Рапопорт (создатель прославленной стратегии “око за око” в легендарном турнире по решению повторяющейся дилеммы заключенного, организованном Робертом Аксельродом)[9].
Как составить успешный критический комментарий:
1. Попробуйте выразить позицию своего оппонента так ясно, живо и объективно, чтобы он признался: “Спасибо, я бы и сам лучше не сказал”.
2. Перечислите всё, с чем вы согласны (особенно если с этим согласны не все).
3. Перечислите, чему вы научились у оппонента.
4. Только после этого вы вправе сказать хоть слово критики.
Если вы будете следовать этим правилам, объекты вашей критики сразу станут к ней восприимчивы: вы показываете, что понимаете их мнение не хуже них самих и мыслите здраво (вы соглашаетесь с ними по ряду важных вопросов и даже признаете убедительность некоторых их доводов)[10].
Следовать правилам Рапопорта всегда довольно сложно, по крайней мере мне. Честно говоря, некоторые объекты критики просто не заслуживают такого внимания и уважения. Должен признать, ругать их и выводить на чистую воду – одно удовольствие. Но когда применение правил напрашивается и все получается, это приносит прекрасные результаты. Я был в высшей степени добросовестен, пытаясь отдать должное представлениям Роберта Кейна (1996) об инкомпатибилизме (представлении о свободе воли, с которым я категорически не согласен) в своей книге “Эволюция свободы” (2003), и ценю его ответ на мое письмо с черновиком соответствующей главы:
…На самом деле мне она очень понравилась, невзирая на наши различия. Вы описываете мою позицию подробно и, в целом, справедливо, гораздо лучше, чем обычно делают критики. Вы подчеркиваете комплексный характер моих взглядов и серьезность моего намерения рассматривать сложные вопросы, вместо того чтобы отмахиваться от них. Я благодарен вам за такое отношение и столь подробный анализ моей позиции.
Другие объекты моей критики, с которыми я вел себя по правилам Рапопорта, были менее радушны. Порой чем справедливее критика, тем сложнее ее принять. Стоит напоминать себе, что героическая, но безуспешная попытка защитить позицию автора иногда вредит сильнее, чем агрессивный разнос в пух и прах. Рекомендую.
4. Закон Старджона
На Всемирном конвенте научной фантастики, состоявшемся в сентябре 1953 г. в Филадельфии, писатель-фантаст Тед Старджон сказал:
Говоря о детективах, люди упоминают романы “Мальтийский сокол” и “Глубокий сон”. Говоря о вестернах – “Путь на Запад” и “Шейн”. Но говоря о научной фантастике, они называют ее “белибердой о Баке Роджерсе” и добавляют, что “девяносто процентов научной фантастики – полная чушь”. И они правы. Девяносто процентов научной фантастики – полная чушь. Но полной чушью можно назвать девяносто процентов чего угодно, зато остальные десять процентов хороши. И десять процентов научной фантастики, которые чушью не назовешь, не хуже, если не лучше, всего написанного в других жанрах.
Закон Старджона обычно формулируется менее изящно: “Девяносто процентов чего угодно – полное дерьмо”. Девяносто процентов экспериментов в молекулярной биологии, 90 процентов поэзии, 90 процентов книг по философии, 90 процентов рецензируемых статей по математике – и так далее – полное дерьмо. Правда ли это? Возможно, эта цифра завышена, но давайте признаем, что посредственных работ в любой области гораздо больше, чем стоящих. (Некоторые ворчуны утверждают, что их 99 процентов, но мы не станем им верить.) Мораль сей басни такова: если вам хочется раскритиковать какую-то область, жанр, дисциплину, вид искусства… не тратьте время и силы, освистывая дерьмо! Критикуйте качественные вещи – или не критикуйте вообще. Этот совет очень часто пропускают мимо ушей идеологи, которые намерены разрушить репутацию аналитической философии, эволюционной психологии, социологии, культурной антропологии, макроэкономики, пластической хирургии, театра импровизации, телевизионных ситкомов, философской телеологии, массажной терапии – чего угодно. Давайте сразу договоримся, что в мире полно позорного, глупого, второсортного барахла всех сортов. Чтобы не тратить время и не испытывать ничье терпение, сосредотачивайтесь на лучшем доступном материале – на работах лидеров отрасли, на блестящих образцах, а не на шлаке. Обратите внимание, что этот совет тесно связан с правилами Рапопорта: если только вы не комик, стремящийся рассмешить людей искрометной буффонадой, избавьте нас от ваших карикатур. Я нахожу, что это особенно верно по отношению к философам. Лучшие теории и аналитические выкладки любого философа, от величайших, невероятно восприимчивых мудрецов Древней Греции до интеллектуальных героев недавнего прошлого (Бертрана Рассела, Людвига Витгенштейна, Джона Дьюи, Жана-Поля Сартра – четырех совершенно не похожих друг на друга мыслителей из множества других), можно превратить в полный бред – или утомительное буквоедство, – сделав всего несколько ловких выпадов. Ужас! Не делайте этого. Таким образом вы дискредитируете только самого себя.
5. Бритва Оккама
Изобретение этого инструмента мышления приписывается логику и философу четырнадцатого века Уильяму Оккаму (или Оккамскому), но на самом деле он значительно старше. По-латыни он называется lex parsimoniae, или принцип бережливости. Обычно его формулируют следующим образом: “Не следует множить сущее без необходимости”. Идея проста: не стоит создавать запутанную, экстравагантную теорию, если есть теория проще (с меньшим количеством ингредиентов, с меньшим количеством сущностей), которая описывает феномен не хуже. Если воздействие чрезвычайно холодного воздуха объясняет все симптомы обморожения, не стоит заявлять о наличии ненаблюдаемых “снежных бактерий” или “арктических микробов”. Законы Кеплера описывают орбитальное движение планет, поэтому нам нет нужды предполагать, что планетами управляют пилоты, сидящие за скрытыми внутри приборными панелями. Эти примеры не встречают возражений, однако распространение действия этого принципа не всегда находило понимание.
Британский психолог девятнадцатого века Конвей Ллойд Морган использовал эту идею, осуждая тенденцию приписывать разумное поведение животным. Правило экономии Ллойда Моргана советует нам не говорить о наличии сложного сознания у насекомых, рыб и даже дельфинов, кошек и собак, если их поведение можно объяснить проще:
Ни в коем случае ни одно действие животного нельзя считать проявлением высшей психологической функции, если его можно объяснить процессами, характерными для более низкой ступени психологической эволюции. [1894, p. 128]
Злоупотребление этим правилом может сподвигнуть нас считать, что у животных и даже у человека есть мозги, но нет сознания. Как мы увидим, абсолютные запреты не слишком хорошо решают вопросы, которые возникают, когда речь заходит о сознании.
Одной из наименее впечатляющих попыток применить бритву Оккама к сложной задаче можно назвать утверждение (и связанные с ним контрутверждения), что считать Бога создателем вселенной проще и экономнее, чем предлагать альтернативы. Как может такой сверхъестественный и непостижимый аргумент быть экономным? Он кажется мне в высшей степени экстравагантным, но, возможно, существуют и умные способы опровергнуть это предположение. Я не хочу вдаваться в детали: в конце концов, бритва Оккама – это просто общее правило, которое часто оказывается очень полезным. Мысль о том, чтобы превратить его в метафизический принцип фундаментального требования рациональности, которому под силу одним махом доказать или опровергнуть существование Бога, попросту смехотворна. Это сродни попытке опровергнуть теорему квантовой механики, доказав, что она противоречит аксиоме “не ставь все на одну карту”.
Некоторые философы доводили бритву Оккама до крайности, используя ее, чтобы отрицать существование времени, материи, чисел, дыр, долларов, программного обеспечения и многого другого. Одним из первых в высшей степени прижимистых мыслителей был древнегреческий философ Парменид, в представлении которого список существующих вещей был ограничен до минимума. Однажды мой студент написал в своей экзаменационной работе: “Парменид сказал: «Есть только одна вещь – и это не я!»” Как ни печально, кажется, именно этому нас и учил Парменид. Без сомнения, здесь не обошлось без трудностей перевода. Мы, философы, привыкаем воспринимать такие идеи всерьез, пускай и потому лишь, что мы не в силах определить, когда “сумасшедшая” идея окажется несправедливо и неосмотрительно раскритикована и падет жертвой недостатка воображения.
6. Метла Оккама
Недавно специалист по молекулярной биологии Сидней Бреннер любопытным образом обыграл бритву Оккама и предложил новый термин – “метла Оккама” – для описания процесса, в ходе которого непорядочные в интеллектуальном отношении сторонники той или иной теории отметают в сторону все неудобные факты. Это наш первый упорный башмак – первый антиинструмент мышления, которого следует остерегаться. Особенно опасна эта практика в руках пропагандистов, которые адресуют свои рассуждения непосвященной публике, поскольку, подобно знаменитой улике Шерлока Холмса о собаке, не залаявшей ночью, отсутствие факта, сметенного в сторону метлой Оккама, под силу заметить только экспертам. К примеру, креационисты неизменно оставляют за скобками многочисленные неловкие доказательства, с которыми не могут справиться их “теории”, а небиологу их аккуратно сформулированные выкладки кажутся вполне убедительными просто потому, что непосвященный читатель не видит того, чего там нет.
Как вообще остерегаться невидимого? Обратитесь за советом к экспертам. В книге “Подпись в клетке” (2009) Стивен Мейер объясняет систематическую невозможность естественного (не сверхъестественного) происхождения жизни и дает, казалось бы, относительно беспристрастное и полное – даже для относительно информированного читателя – описание теорий и моделей, предлагаемых по всему миру, показывая их полную безнадежность. Мейер настолько убедителен, что в ноябре 2009 г. выдающийся философ Томас Нагель назвал его книгу лучшей книгой года в лондонском журнале Times Literary Supplement, одном из наиболее уважаемых сборников книжных рецензий! В нашей оживленной переписке после публикации его хвалебной статьи он продемонстрировал, что достаточно много знает об истории работ о происхождении жизни и что эти знания позволяют ему доверяться собственным суждениям. В своем письме в Times Literary Supplement (от 1 января 2010 г.) он заметил: “На мой взгляд, книга Мейера написана добросовестно”. Если бы Нагель проконсультировался с работающими в этой сфере учеными, он бы заметил, как часто Мейер пользуется метлой Оккама, отбрасывая неудобные факты, а также, вероятно, насторожился бы, узнав, что экспертов, в отличие от него, не попросили прочитать и отрецензировать книгу Мейера до публикации. Возможно, узнай Нагель, что при публикации понравившейся ему книги издатели пошли на хитрость, его уверенность в собственной оценке пошатнулась бы, а возможно, и нет. Порой научное сообщество несправедливо осуждает критиков-отщепенцев, и, возможно – только возможно! – у Мейера не было другого выхода, кроме как напасть из засады. Но Нагелю все же стоило внимательно изучить этот вопрос, прежде чем высказывать свое мнение. Нужно сказать, что ученые, изучающие происхождение жизни, пока не разработали одной надежной, всех устраивающей теории, но вариантов хватает – от них разбегаются глаза.
Мастерски метлой Оккама орудуют конспирологи. В качестве полезного упражнения можно искать в интернете новые теории заговора и смотреть, сумеете ли вы (не будучи экспертом по теме) найти изъяны в рассуждениях, прежде чем читать опровержения от экспертов. Предлагая термин, Бреннер говорил не о креационизме и не о теориях заговора – он лишь указывал, что порой в пылу спора даже серьезные ученые не могут устоять перед искушением “обойти вниманием” некоторые данные, подрывающие основы их любимой теории. Но этому соблазну необходимо противиться во что бы то ни стало.
7. Использование обывателей в качестве ложной аудитории
Уберечь людей от непредумышленного использования метлы Оккама может хорошая техника, которую я рекомендую годами и несколько раз проверял на практике, но никогда не использовал с тем размахом, с каким мне хотелось бы. В отличие от инструментов, описанных выше, чтобы использовать ее должным образом, необходимы время и деньги. Надеюсь, другие будут активно использовать эту технику и сообщат о результатах. Я решил описать ее на этих страницах, поскольку она помогает разрешить некоторые из тех же проблем коммуникации, с которыми сталкиваются другие общие инструменты мышления.
Во многих сферах – не только в философии – существуют противоречия, которые кажутся непреходящими и в некотором роде искусственными: люди не слышат друг друга и не прикладывают достаточных усилий, чтобы коммуницировать эффективнее. Накаляются страсти, в ход идут насмешки, уважение пропадает. Сторонние наблюдатели разбиваются на лагеря, хотя и не полностью понимают проблему.
Порой кончается все плохо, и причины этого бывают ясны. Когда специалисты говорят со специалистами, будь они представителями одной дисциплины или разных, они всегда объясняют свою позицию недостаточно хорошо. Причина этого понятна: слишком подробные объяснения для другого специалиста могут стать серьезным оскорблением – “Мне что, объяснить на пальцах?”, – а оскорблять коллегу-эксперта никому не хочется. В результате, чтобы не рисковать, люди склоняются к неполным объяснениям. В основном это происходит непредумышленно, а воздержаться от такого практически невозможно – и это даже к лучшему, поскольку никому не повредит непринужденная вежливость. Но подобное великодушное предположение о том, что уважаемая аудитория на самом деле умнее, чем она есть, имеет печальный побочный эффект: специалисты часто не слышат друг друга.
Простого выхода не существует: сколько ни проси всех специалистов, присутствующих на семинаре или конференции, объяснять свои позиции предельно подробно и сколько ни выслушивай их обещаний, ничего из этого не выйдет. Станет только хуже, потому что в таком случае люди будут особенно осторожны, боясь ненароком кого-нибудь оскорбить. И все же есть довольно эффективный способ с этим справиться: нужно, чтобы все специалисты излагали свои взгляды небольшой группе любопытных неспециалистов (здесь, в Университете Тафтса, мне везет общаться со способными студентами), в то время как другие специалисты слушали бы их со стороны. Подслушивать при этом не надо – в этом предложении нет ничего коварного. Напротив, все могут и должны понимать, что суть этого упражнения заключается в том, чтобы участникам было комфортно говорить в тех терминах, которые понятны всем. Обращаясь к студентам (ложной аудитории), выступающие вообще не будут опасаться оскорбить специалистов, ведь они обращаются не к специалистам. (Полагаю, они, возможно, будут опасаться оскорбить студентов, но это уже другой вопрос.) Если все идет хорошо, специалист А объясняет дискуссионные вопросы студентам, в то время как специалист Б его слушает. В какой-то момент специалист Б может просиять. “Так вот о чем вы говорили! Теперь я понимаю”. Возможно, положительный эффект наступит лишь тогда, когда настанет очередь специалиста Б объяснять проблему тем же студентам, в процессе чего озарение снизойдет на специалиста А. Порой все складывается не идеально, но обычно такое упражнение проходит хорошо и идет всем на пользу. Специалисты устраняют существующее между ними недопонимание, а студенты получают первоклассный урок.
Я несколько раз проделывал подобное в Университете Тафтса, благодаря великодушной поддержке администрации. Отбирая небольшое количество студентов (меньше дюжины), я объясняю им их роль: от них требуется не принимать на веру ничего непонятного. Они должны поднимать руки, перебивать профессора и указывать специалистам на все аспекты, которые кажутся им неочевидными или туманными. (При этом они получают список литературы для подготовки к семинару, чтобы немного ориентироваться в обсуждаемой теме, но оставаться заинтересованными непрофессионалами.) Им нравится эта роль – и удивляться здесь нечему, ведь они принимают участие в уникальных семинарах больших шишек. Специалисты тем временем часто отмечают, что, получая задачу (заранее) объяснить свою позицию в таких условиях, они находят наилучший способ донести собственные мысли. Иногда этих специалистов годами “прикрывали” коллеги-эксперты, молодые исследователи и способные студенты-магистры, поэтому им действительно нужно попытать свои силы.
8. Выпрыгивание
Сложно найти применение метле Оккама, поскольку она помогает отбросить в сторону неудобные факты, но еще сложнее достичь того, что Даг Хофштадтер (1979, 1985) называет выпрыгиванием (jootsing) – “выпрыгиванием из системы” (jumping out of the system). Эта тактика применима не только в науке и философии, но и в искусстве. Креативность – этот востребованный, но редкий дар – часто представляет собой до той поры невообразимое нарушение правил некоторой системы. Это может быть система классической гармонии в музыке, законы размера и ритма в сонетах (или даже в лимериках) или “каноны” вкуса и формы в других художественных жанрах. Это могут быть также аксиомы и принципы какой-либо теории или исследовательской программы. Креативность проявляется не просто в обнаружении чего-то нового – это под силу каждому, ведь новизну можно найти в любой случайной близости вещей, – но в умении заставить эту новизну выпрыгнуть из системы, которая долгое время считалась устоявшейся, и не без причины. Когда художественная традиция достигает точки, в которой “все дозволено”, стремящиеся к креативности сталкиваются с проблемой: нет ни фиксированных правил, против которых стоит бунтовать, ни очевидных ожиданий, которые не хочется оправдывать, нечего свергать и нечего использовать в качестве фона для создания чего-либо неожиданного и значимого. Чтобы сломать традицию, ее лучше всего хорошо изучить. Именно поэтому так мало дилетантов и любителей предлагают что-то поистине креативное.
Сядьте за фортепиано и попробуйте сочинить хорошую новую мелодию. Вскоре вы поймете, насколько это сложно. Перед вами все клавиши, и нажимать их можно каким угодно образом, но пока вы не найдете, на что опереться, пока не выберете какой-нибудь стиль, или жанр, или нотный рисунок и не используете его либо не сошлетесь на него, пока не поиграете с ним, у вас не выйдет ничего, кроме шума. И не всякое нарушение правил поможет вам достичь желаемого. Насколько мне известно, по меньшей мере два джазовых арфиста сумели добиться успеха – или хотя бы удержались на плаву, – но вряд ли стоит надеяться сделать себе имя, исполняя Бетховена на бонго. В этом искусство похоже на науку: в любой теоретической дискуссии всегда остается множество неисследованных предположений, однако, пытаясь опровергнуть их по очереди в поисках самого уязвимого, вы не добьетесь успеха в науке или философии. (Это все равно что взять мелодию Гершвина и изменять в ней по одной ноте, надеясь получить что-то стоящее. Удачи! Мутации почти всегда пагубны.) На самом деле все сложнее, но порой людям везет.
Советовать человеку идти вперед, выпрыгивая из системы, сродни тому, чтобы советовать инвестору покупать дешево и продавать дорого. Да, конечно, в этом и смысл, но как этого добиться? Обратите внимание, что совет по инвестициям нельзя назвать совершенно бесполезным и неприменимым, а призыв к выпрыгиванию даже более содержателен, поскольку он объясняет, как выглядит ваша цель, если вы ее хоть раз видели. (Все знают, как выглядят больше денег.) Когда перед вами стоит научная или философская задача, выпрыгивать, как правило, приходится из системы, которая настолько хорошо внедрилась в повседневность, что стала невидимой, как воздух. Как правило, когда длительная полемика ни к чему не приводит, а обе “стороны” упрямо настаивают на своей правоте, проблема часто заключается в том, что они заблуждаются в чем-то, что не вызывает у них разногласий. Обе стороны считают это слишком очевидным, чтобы вообще уделять этому внимание. Искать эти невидимые хитрости нелегко, поскольку то, что кажется очевидным враждующим специалистам, обычно кажется очевидным и всем остальным. Совет не упускать из виду подразумеваемые допущения вряд ли здесь действительно поможет, но вы с большей вероятностью найдете проблему, если надеетесь ее найти и имеете хотя бы примерное представление о том, как она должна выглядеть.
Иногда бывают зацепки. Несколько прекрасных примеров выпрыгивания предполагают отказ от общепризнанной вещи, которой, как оказалось, и не было вовсе. Флогистон считался элементом огня, невидимый, самонепроницаемый флюид или газ теплород, как предполагалось, был основным ингредиентом тепла, пока их существование не опровергли, как произошло и с эфиром в качестве среды, где свет в воде и воздухе идет по пути, по которому уже прошел звук. Но другие прекрасные выпрыгивания стали дополнениями, а не изъятиями: микробы, электроны и – возможно даже – многомировая интерпретация квантовой механики! Сначала никогда не понять, стоит ли выпрыгивать из системы. Мы с Рэем Джекендоффом выдвинули предположение, что нужно отказаться от почти всегда признаваемой аксиомы о том, что сознание представляет собой “высший” или “центральный” из всех психических феноменов, а я выдвинул предположение, что пора забыть о типичной и необоснованной привычке думать о сознании как об особой среде (наподобие эфира), в которой осуществляется преобразование или перевод содержимого. Вместе со многими другими мыслителями я также заметил, что если вы считаете совершенно очевидной несовместимость свободы воли и детерминизма, то делаете большую ошибку. Подробнее об этом позже.
Еще одна зацепка: иногда проблема возникает, если кто-то однажды сказал “давайте чисто теоретически предположим…” и все согласились – чисто теоретически, – а затем в ходе последующей пикировки забыли, с чего все началось! Думаю, порой – по крайней мере в моей сфере философии – оппонентам так нравится спорить, что ни одной из сторон не хочется прекращать спор, внимательно изучив его истоки. Вот два старинных примера, которые, само собой, вызывают полемику: (1) “Почему существует нечто, а не ничто?” – глубокий вопрос, требующий ответа. (2) “Выбирает ли Бог добро, потому что оно благое, либо же добро – благое, потому что выбрано Богом?” – другой важный вопрос. Полагаю, было бы чудесно, если бы кто-то сумел предложить хороший ответ на любой из этих вопросов, а потому признаю, что называть их псевдопроблемами, недостойными внимания, не слишком справедливо, хотя это и не доказывает мою неправоту. Никто не говорит, что истина должна быть любопытной.
9. Три вида гулдинга: скорейность, нагромождения и тустеп Гулда
Покойный биолог Стивен Джей Гулд виртуозно создавал и использовал упорные башмаки. Вот три прекрасных вида рода гулдинг, который я назвал так в честь человека, использовавшего их лучше всего.
Скорейность – это способ быстро и безболезненно отойти от ложной дихотомии. Классическая формулировка скорейности такова: “Дело не в том, что тотоито, как утверждают консерваторы, а скорее в том, что этоэтоиэто, и это все меняет”. В некоторых случаях скорейность работает отлично, потому что вам предлагается выбрать между двумя доступными альтернативами – в этом случае дихотомия оказывается не ложной, а истинной и неизбежной. Но в других случаях скорейность не ограничивается ловкостью рук, поскольку слово “скорее” предполагает – бесспорно, – что между двумя утверждениями есть важное несоответствие, которое разводит их в стороны.
Вот прекрасный пример скорейности, который Гулд использовал при описании своей теории прерывистого равновесия:
Изменения обычно происходят не в результате незаметной постепенной эволюции всего вида, а скорее [курсив мой] в результате изоляции небольшой популяции и ее геологически мгновенной трансформации в новый вид. [1992b, p. 12]
Этот фрагмент заставляет нас поверить, что эволюционные изменения не могут быть одновременно “геологически мгновенными” и “незаметно постепенными”. Само собой, это не так. На самом деле именно такими и должны быть эволюционные изменения, если только Гулд не утверждает, что эволюция идет скачками (в проектном пространстве), но в других обстоятельствах он заявлял, что не одобряет гипотезу о скачкообразном развитии. “Геологически мгновенное” видообразование может произойти за “короткий” период времени – скажем, за пятьдесят тысяч лет, период времени, едва заметный в большинстве геологических пластов. За этот краткий миг рост типичного представителя вида может увеличиться, скажем, с полуметра до метра, продемонстрировав 100-процентный прирост, но происходить это будет со скоростью миллиметр в столетие, что кажется мне незаметной постепенной эволюцией.
Давайте придумаем несколько других примеров скорейности, чтобы хорошенько разобраться с природой этого трюка.
Дело не в том, что люди – просто “влажные роботы” (как говорит Дилберт, с которым соглашается большинство исследователей в когнитивной науке), а скорее в том, что люди наделены свободой воли и несут моральную ответственность за свои хорошие и плохие поступки.
И снова – почему нужно выбрать только одно? Не хватает утверждения, что “влажные роботы” могут также быть людьми, наделенными свободой воли и несущими моральную ответственность за свои поступки. Этот пример основан на распространенном – но спорном – утверждении. Вот другой:
Религия не опиум для народа, как сказал Маркс, а скорее глубокое и утешительное проявление того факта, что человечество признает неизбежность смерти.
И снова – почему религия не может быть опиумом и одновременно утешать? Думаю, вы уже ухватили суть, а потому находить скорейности в документе вам даже легче, чем ложные дихотомии, которые никогда не бывают настолько очевидны: просто напишите “скорее” в строке поиска и изучите результаты. Не забывайте: не все “скорее” представляют собой скорейности, некоторые из них вполне обоснованы. А в некоторых скорейностях не используется слово “скорее”. Вот пример, в котором применяется конструкция “_________, а не _________”. Я составил его из элементов, позаимствованных из работ нескольких идеологов когнитивной науки.
Следует считать, что нервные системы активно генерируют пробы своей среды, а не просто работают, как компьютеры, пассивно обрабатывая поступающие от органов чувств данные.
Кто сказал, что компьютеры, обрабатывающие поступающие данные, не могут активно генерировать пробы? Этот знакомый контраст между ужасно “пассивными” компьютерами и чудесно “активными” организмами до сих пор не получил должного подтверждения, но при этом стал одним из самых типичных известных мне блокировщиков воображения.
Вариацию скорейности, часто используемую Гулдом, можно назвать нагромождением:
Мы говорим о “марше от монады к человеку” (и снова старомодный язык) так, словно эволюция шла по бесконечным путям развития вдоль непрерывных линий наследования. Ничто не может быть дальше от реальности. [1989a, p. 14]
Что не может быть дальше от реальности? На первый взгляд может показаться, будто Гулд говорит, что не существует бесконечной, непрерывной линии наследования между “монадами” (одноклеточными организмами) и нами, но это, само собой, не так. Не существует более надежного следствия великой идеи Дарвина. Так о чем же говорит Гулд? Похоже, акцент надо ставить на фразу “пути развития” – именно (и только) вера в развитие “далека от реальности”. Пути наследования действительно бесконечны и непрерывны, но наследуется не (мировое) развитие. Это верно: по (непрерывным) бесконечным линиям наследуется (в основном) местное развитие. Когда мы читаем это высказывание Гулда, нам кажется – если только мы не проявляем особенной осторожности, – что он показал нам, будто стандартное утверждение теории эволюции о едином пути развития (по непрерывной линии наследования) от монад к человеку содержит в себе серьезный изъян. Но, говоря словами самого Гулда, “ничто не может быть дальше от реальности”.
Еще один фокус – тустеп Гулда – я несколько лет назад описал в одной из опубликованных работ, после чего специалист по эволюционной теории Роберт Триверс (частная переписка, 1993) присвоил ему имя в честь его изобретателя:
На первом этапе вы подменяете тезис и “опровергаете” его (этот трюк всем знаком). На втором (и это гениально) вы сами привлекаете внимание к тому, что сделали первый шаг – что ваши оппоненты на самом деле не разделяют мнений, которые вы им приписали, – но интерпретируете их высказывания как недовольные ответы на ваш выпад! [Dennett 1993, p. 43]
В своем письме редактору New York Review of Books (1993), где Гулд двумя месяцами ранее раскритиковал прекрасную книгу Хелены Кронин “Муравей и павлин” (выпуск от 19 ноября 1992 г.), я привел три примера тустепа Гулда. Вот самый универсальный из них:
Наиболее прозрачный случай – предложенный Гулдом “экстраполяционизм”, который описывается как логическое продолжение “адаптационизма Кронин”. Именно доктрина панпреемственности и панградуализма удачно – и вполне тривиально – опровергается фактом массового вымирания. “Но если массовые вымирания представляют собой настоящие разрывы преемственности, если медленный процесс адаптации в обычное время не приводит к предсказуемому успеху, невзирая на массовые вымирания, то экстраполяционизм терпит поражение, а адаптационизм гибнет”. Я не вижу ни одной причины для любого адаптациониста безрассудно поддерживать идею вроде “экстраполяционизма” в настолько “чистом” виде, дабы отрицать возможность или даже вероятность, что массовое вымирание играет важную роль в подрезке древа жизни, как выражается Гулд. Очевидно, что самый совершенный динозавр погибнет, если комета столкнется с его планетой с силой, в сотни раз превышающей мощность всех когда-либо изготовленных водородных бомб. Ни единое слово из книги Кронин не подтверждает его уверенность, что она допустила эту ошибку. Если Гулд и полагает, что роль массовых вымираний в эволюции имеет отношение к какой-либо из проблем, обсуждаемых Кронин, в частности к половому отбору и альтруизму, то он не объясняет, каким образом и почему. Когда в последней главе Кронин обращается к центральному вопросу теории эволюции, на котором она не делала акцента, а именно к происхождению видов, и замечает, что ответа на него по-прежнему нет, Гулд называет это запоздалым откровением, ироничным признанием поражения ее “панадаптационизма”. Возмутительно! [p. 44]
Исследователям риторики могу предложить прекрасное упражнение: пересмотреть огромное количество публикаций Гулда и каталогизировать все типы упорных башмаков, которыми он пользовался, начиная со скорейности, нагромождений и тустепа Гулда.
10. Оператор “безусловно”: ментальный блок
Читая или просматривая доказательные эссе, особенно написанные философами, вы можете воспользоваться одним трюком, который сбережет вам время и силы, тем более в наш век простого компьютерного поиска: поищите в документе слово “безусловно” и проверьте каждый полученный результат. Не всегда (и даже не в большинстве случаев), но часто слово “безусловно” становится маячком, указывающим на слабые места в рассуждениях, предупреждением о вероятном использовании упорного башмака. Почему? Потому что этим словом автор отмечает то, в чем он совершенно уверен и в чем, как он надеется, будут уверены его читатели. (Если бы автор был абсолютно уверен, что все читатели с ним согласятся, он вообще не стал бы об этом говорить.) Стоя на перепутье, автор должен был решить, стоит ли вообще упоминать об этом спорном моменте или приводить доказательства, и – поскольку жизнь коротка – решил сделать голословное утверждение, вероятно, имея все основания полагать, что оно не вызовет разногласий. Именно в таких местах и стоит искать не слишком хорошо изученные “истины”, которые на самом деле неверны!
Впервые я заметил эту полезную функцию “безусловно”, комментируя эссе Неда Блока (1994), в котором содержалось несколько прекрасных примеров, направленных против моей теории сознания. Вот один из них, который Блок намеренно выделил курсивом[11], чтобы типографскими средствами подчеркнуть его очевидность:
Безусловно, утверждение, что некоторые умственные представления достаточно устойчивы, чтобы воздействовать на память, контролировать поведение и т. д., есть не что иное, как биологический факт о людях, а не культурный конструкт. [p. 27]
Предполагалось, что это сразу – без лишних споров – развенчает мою теорию человеческого сознания, в соответствии с которой сознанию, по сути, надо учиться, поскольку оно представляет собой набор когнитивных микропривычек, не гарантированных человеку при рождении. “Всякий раз, когда Блок говорит «безусловно», – заметил я, – ищите так называемый ментальный блок” (Dennett 1994a, p. 549). Блок едва ли не чаще остальных философов использует “безусловно”, но к нему то и дело прибегают и другие мыслители, и каждый раз при этом должен звучать тревожный сигнал. “В этот момент происходит непреднамеренное передергивание, когда ложную посылку всеми правдами и неправдами протаскивают мимо цензоров” (Dennett 2007b, p. 252).
Недавно я решил проверить свои догадки о “безусловно” несколько более систематически. Я просмотрел десятки статей по философии сознания на сайте philpapers.org – всего около шестидесяти – и проверил их на наличие слова “безусловно”. В большинстве статей это слово вообще не встречалось. В тех же, где оно встречалось (от одного до пяти раз в моей выборке), в основном оно использовалось невинно. Несколько случаев я счел спорными, а еще шесть раз отчетливо услышал тревожный сигнал (мне он показался звонким). Само собой, представления других людей об очевидном могут отличаться, поэтому я и не стал сводить в таблицу “данные” этого неформального эксперимента. Я призываю скептиков провести собственные исследования и оценить результаты. Один вопиющий пример использования оператора “безусловно” я подробно разберу далее, в главе 64.
11. Риторические вопросы
Остерегаясь “безусловно”, стоит также наметать свой глаз на риторические вопросы, возникающие в ходе спора или полемики. Зачем? Дело в том, что, подобно использованию “безусловно”, они говорят о желании автора срезать углы. Риторический вопрос оканчивается вопросительным знаком, но ответа на него не предполагается. Иными словами, автор и не думает ждать, пока вы ответите на вопрос, поскольку ответ настолько очевиден, что вам будет стыдно его озвучить! Получается, что большинство риторических вопросов представляет собой сжатые варианты доведения до абсурда, которые слишком очевидны, чтобы проговаривать их целиком. Если вам встретится хороший риторический вопрос, удивите своего собеседника, ответив на него. Помню, много лет назад эта тактика была прекрасно проиллюстрирована в комиксе Peanuts. Чарли Браун задал риторический вопрос: “Кому решать, что верно и неверно?” – и на следующем рисунке Люси ответила: “Мне”.
12. Что такое глубокость?
Мой покойный друг, специалист в области информатики Джозеф Вейценбаум, хотел стать философом и на закате своей карьеры попытался отойти от частностей к глубокомыслию. Однажды он рассказал мне, как за ужином, когда он после долгих раздумий ударился в разглагольствования, его дочь Мириам воскликнула: “Ого! Папа только что сказал глубокость!” Какой прекрасный термин![12] Я решил позаимствовать его и найти ему более аналитическое применение.
Глубокостью называется утверждение, которое кажется важным и истинным – и мудрым, – но добивается этого за счет своей двусмысленности. На первый взгляд, она очевидно неверна, но потрясла бы мир, окажись она верной; на второй – верна, но банальна. Неосторожный слушатель выхватывает зерно истины из второго прочтения и сокрушительную важность из первого и думает: “Ого! Да это глубокость”.
Вот вам пример. (Лучше присядьте, это не для слабонервных.)
Любовь – всего лишь слово.
Ого! Невероятно. Фантастика, правда? Нет. На первый взгляд, это очевидная глупость. Я не знаю, что такое любовь – возможно, чувство или эмоциональная привязанность, возможно, межличностная связь, а возможно, высочайший уровень человеческого сознания, – но всем нам прекрасно известно, что она не просто слово. Любовь в словаре не найдешь!
Мы можем снова прочитать это утверждение, использовав правило, которое очень важно для философов: говоря о слове, мы ставим его в кавычки, а потому
“Любовь” – всего лишь слово.
Это правда. “Любовь” – слово русского языка, но всего лишь слово, а не предложение, к примеру. Оно начинается на букву “Л”, состоит из шести букв и находится в словаре между “любезным” и “любознательным”, которые тоже всего лишь слова. “Чизбургер” – всего лишь слово. “Слово” – всего лишь слово.
Но это неправильно, скажете вы. Безусловно, человек, сказавший, что любовь – всего лишь слово, имел в виду совсем другое. Несомненно. Но он этого не сказал. Может, он имел в виду, что “любовь” – это слово, которое вводит людей в заблуждение, заставляя их поверить, что им обозначается нечто чудесное, чего на самом деле вообще не существует, на манер слова “единорог”, а может, он хотел сказать, что это слово настолько туманно, что никто не может знать, означает ли оно конкретную вещь, связь или событие. Но ни одно из этих утверждений нельзя считать достаточно правдоподобным. Возможно, дать определение слову “любовь” непросто, а в состоянии любви сложно быть хоть в чем-то уверенным, но эти утверждения очевидны, не слишком информативны и не мудры.
Не все глубокости так легко анализировать. Недавно Ричард Докинз рассказал мне о прекрасной глубокости архиепископа Кентерберийского Роуэна Уильямса, который описал свою веру как
молчаливое ожидание истины, смиренное пребывание в тени вопросительного знака.
Предлагаю вам самим проанализировать этот пример.
Резюме
Умело используемый инструмент становится частью вас, подобно рукам и ногам, и это особенно верно в отношении инструментов мышления. Вооружившись этими простыми универсальными инструментами мышления, вы будете лучше подготовлены к последующим изысканиям: вы будете видеть возможности, слышать предупредительные сигналы, чуять подвохи и остерегаться ошибок, которые могли бы сделать в ином случае. Вам стоит также держать в уме некоторые максимы – к примеру, правила Рапопорта и закон Старджона, – которые будут нашептывать вам советы, подобно говорящему сверчку, напоминая о необходимости контролировать свою агрессию, когда вы вторгнетесь в дебри, размахивая оружием. Да, инструменты мышления можно считать оружием, поэтому сравнение с битвой вполне уместно. Дух соперничества, очевидно, представляет собой естественный побочный продукт интеллектуальных амбиций и дерзости, необходимой для работы над самыми сложными задачами. Мы увидели, что в пылу битвы даже великие мыслители порой обращаются к грязным трюкам в своем стремлении убедить вас принять их точку зрения, а конструктивная критика превращается в высмеивание, как только появляется возможность отпустить пару острот.
Мы будем рассматривать насущные вопросы смысла, эволюции, сознания и особенно свободы воли. При столкновении с некоторыми их аспектами вы почувствуете ужас или отвращение – и будьте уверены, вы в этом не одиноки, ибо даже именитые эксперты подвержены самообману и могут не видеть истины из-за убеждений, которые подкрепляются скорее эмоциональной привязанностью, чем логикой. Людям не все равно, наделены ли они свободой воли, каким образом сознание заключается в их теле и откуда смысл в мире, состоящем из одних атомов, молекул, фотонов и бозонов Хиггса, да и есть ли этот смысл вообще. Людям и должно быть не все равно. В конце концов, что важнее вопросов, кто мы в этом мире и что нам с этим делать? Так что будьте осторожны. Впереди зыбкая почва, а карты ненадежны.
III.
Инструменты мышления о значении или содержании
Зачем начинать со значения (meaning)? Я начинаю со значения, поскольку этот вопрос лежит в основе всех сложных проблем, и причина проста: этих проблем не возникает, пока мы не начинаем говорить о них друг с другом и с самими собой. Барсуков не заботит свобода воли – проблема сознания не волнует даже дельфинов, поскольку задавать вопросы вообще не в их репертуаре. Все мы знаем, что любопытной Варваре на базаре нос оторвали, но именно любопытство толкает нас, мыслящих людей, забираться в дебри трудностей. Возможно, это негативный аспект языка и мы были бы счастливее – как спокойные, здоровые млекопитающие, – если бы не обращали внимания на эти вопросы, как наши сородичи-обезьяны. Но у нас есть язык, поэтому нам никуда не деться от Великих Вопросов, и простыми они не кажутся – хорошо это или плохо.
Первым делом в любом успешном исследовании нужно как можно лучше понять, от чего мы отталкиваемся и какое оборудование используем. Слова имеют значения. Как это возможно? Мы пользуемся словами и обозначаем вещи, говоря о них. Как это возможно? Как мы вообще понимаем друг друга? Кажется, собаки тоже “понимают” (вроде бы) несколько слов, даже несколько сотен слов, но без учета этих одомашненных трюкачей и других видов, использующих рудиментарные сигнальные системы (приматов, птиц… даже каракатиц!), словами пользуется только человек – и именно слова отличают наше сознание (mind) от сознания других животных. Это разительное отличие, но все равно кажется, что другие животные – “высшие” животные – наделены сознанием, а следовательно, в какой-то степени, пускай и небольшой, взаимодействуют со значениями: со значениями их перцептивных состояний, их побуждений и желаний и даже их снов.
Порой нам кажется, что животные совсем такие, как мы, – будто они люди, одетые в костюмы кошек, медведей и дельфинов. Это характерно для любой человеческой культуры: животные представляются нам знающими, понимающими, желающими, дерзающими, опасающимися, решающими, жаждущими, помнящими и так далее. Иными словами, они кажутся такими же, как мы: наделенными сознанием, полным многозначных… вещей (идей? убеждений? ментальных представлений?). Как могут значения содержаться в мозге? Нам нравится думать, что, раз слова имеют значение, вероятно, и осмысленные вещи у нас в голове – и в голове у животных – подобны словам, составляются в мысленные предложения, выражают наши убеждения и так далее. Но если слова берут свои значения от сознаний, которые их высказывают, то откуда берут свои значения эти слова сознания (mindwords)? Хранятся ли в сознании животных слова сознания и их определения, собранные в своеобразный церебральный словарь? А если животные – по крайней мере “высшие” животные – всегда были наделены сознанием, полным слов сознания (mindwords), то почему они не умеют говорить?[13] Идея языка мышления глубоко проблематична, но наши мысли и убеждения должны из чего-то состоять. Из чего же еще?[14]
13. Убийство на Трафальгарской площади
Вот наш первый насос интуиции. Жак выстрелом убивает своего дядю на Трафальгарской площади; Шерлок ловит его на месте преступления; Том читает об этом в газете “Гардиан”, а Борис – в газете “Правда”. Опыт Жака, Шерлока, Тома и Бориса существенно различается – не говоря уже об их биографиях и перспективах, – но у них есть кое-что общее: все они считают, что француз совершил убийство на Трафальгарской площади. Они не говорили об этом, даже “самим себе”, эта фраза, как мы можем предположить, не “приходила им в голову”, а даже если бы и приходила, Жак, Шерлок, Том и Борис восприняли бы ее совершенно по-разному. И все же все они считают, что француз совершил убийство на Трафальгарской площади. Фактически это общее свойство можно рассмотреть только с одной, очень ограниченной точки зрения – с точки зрения народной психологии. Обычные народные психологи – все мы – без труда находят такие полезные сходства между людьми. Мы делаем это, практически ничего не зная о том, что находится в пространстве между ушами тех людей, которым мы приписываем такие убеждения. Мы можем полагать, что между четырьмя этими людьми есть еще что-то общее – сходным образом оформленное то-или-иное, что каким-то образом регистрирует это общее убеждение, – но в таком случае мы ступаем на нетвердую почву сомнительного теоретизирования. Какие-то нервные структуры действительно могут быть сходными – если все четыре мозга “сформулировали” утверждение, что француз совершил убийство на Трафальгарской площади, одинаковым образом, – но это необязательно и даже крайне маловероятно по причинам, которые мы кратко опишем ниже.
Предложения “Я голоден” и J’ai faim имеют кое-что общее, несмотря на то что они составлены из разных букв (или разных фонем при произнесении вслух), на разных языках с разными грамматическими структурами: они означают или описывают одно и то же – голод говорящего. Это общее свойство, значение (двух предложений на каждом из языков) или содержание (представлений, которые они выражают), играет основополагающую роль в философии и когнитивной науке. Очёмность (aboutness), свойственная, к примеру, фразам, картинам, утверждениям и (без сомнения) некоторым состояниям сознания, на философском жаргоне называется интенциональностью (от лат. intentio – намерение), и этот термин не слишком удачен, поскольку обыватели часто путают его с будничной идеей делать что-либо намеренно (как в вопросе “Благородны ли твои намерения?”). Вот как можно запомнить различия: сигарета не говорит о курении и вообще ни о чем не говорит, хотя и подразумевает наличие намерения ее выкурить; знак “не курить” говорит о курении, а следовательно, демонстрирует интенциональность; убеждение, что за деревом скрывается грабитель, демонстрирует интенциональность (оно говорит о – возможно, несуществующем – грабителе), но его возникновение явно не может считаться намеренным в традиционном смысле (вы не “думаете о нем намеренно”, оно просто приходит к вам); решив убежать от дерева, вы продемонстрируете намерение в традиционном смысле, но ни о чем таким образом не расскажете. Если вы просто возьмете в привычку заменять неуклюжим термином “очемность” философское понятие “интенциональности”, большинства ошибок удастся избежать. Не считая взаимного согласия, что значение и содержание представляют собой тесно связанные и взаимозависимые феномены – или даже один феномен (интенциональность), – единого мнения о том, что есть содержание (или значение) и как лучше всего его ухватить, пока не существует. Именно поэтому об этой теме следует говорить с осторожностью. В ней множество проблем, но мы можем подходить к вопросам постепенно, маленькими шажками.
Пример с четырьмя людьми показывает, что мозги этих людей могут иметь мало общего, при этом характеризуясь одной и той же “интенциональностью”, поскольку они верят “в одно и то же”. Жак был непосредственным свидетелем убийства – он сам убийца, – эмпирическая близость Шерлока к событию лишь немногим менее непосредственна, но Том и Борис узнали о нем совершенно иначе. Существует неограниченное количество способов получить информацию о том, что француз совершил убийство на Трафальгарской площади, и неограниченное количество способов использовать эту информацию себе во благо (отвечать на вопросы на викторинах, играть на ставках, дразнить французских туристов в Лондоне и т. д.). Далее мы узнаем, есть ли достаточное основание полагать, что все эти источники и следствия обрабатываются в одинаковых структурах мозга, но пока нам не стоит торопиться с выводами.
Прежде чем закончить с этим насосом интуиции, нам стоит последовать совету Дага Хофштадтера и покрутить регуляторы, чтобы понять, как работают его элементы. Почему я выбрал именно такую посылку? Потому что мне нужно было достаточно запоминающееся и из ряда вон выходящее событие, чтобы о нем сообщили на разных языках вдали от места преступления. Важно упомянуть, что большую часть знаний мы получаем совершенно иным путем. К примеру, Жак, Шерлок, Том и Борис разделяют неограниченное количество других представлений, которые возникли не столь драматично: скажем, все они верят, что стулья больше ботинок, что суп жидкий и что слоны не летают. Если бы я попытался сообщить вам, что лосось в дикой природе не пользуется слуховыми аппаратами, вы бы ответили, что и так это знаете, но откуда? Вы не родились с этим знанием, не получили его в школе – и крайне маловероятно, что вы вообще когда-либо формулировали в голове такое утверждение. В связи с этим, хотя и может показаться очевидным, что Борис узнал о французе, “просто загрузив” соответствующее русское предложение из “Правды” себе в голову и затем переведя его на, хм, рассудочный, нет никаких оснований предполагать, что мозг Бориса провел такую же операцию (перевод с какого на рассудочный?) над фактом о лососе.
Вот еще один регулятор: допустим, что собака Фидо и голубь Клайд тоже были непосредственными свидетелями убийства. Они могут что-то запомнить об этом событии, в результате чего в их мозгу произойдет изменение, которое окажет влияние на их дальнейшее поведение, но запомнят они не факт, что француз совершил убийство на Трафальгарской площади, хотя информация об этом факте и может передаваться светом и звуком, улавливаемыми их органами чувств. (Видеозапись события, к примеру, может стать надлежащим доказательством свершившегося факта, но Фидо и Клайд ее не поймут.) Таким образом, этот насос интуиции может привнести антропоцентрический уклон в наше исследование значения. В качестве типичных проводников значения выступают слова и предложения, однако животные ими пользоваться не умеют, а идея о том, что их мозг все равно их использует, кажется притянутой за уши – что, впрочем, не доказывает ее ложности. Если она окажется истинной, это станет поразительным открытием, но делать такие открытия нам не впервой.
Феномен интенциональности одновременно совершенно привычен – и так же свойственен нашей повседневной жизни, как пища, мебель и одежда, – и крайне трудноуловим в научной перспективе. У нас с вами редко возникают сложности с тем, чтобы отличить поздравление с днем рождения от смертельной угрозы, но представьте себе стоящую перед инженерами задачу разработать надежный детектор смертельных угроз. Что общего у всех смертельных угроз? Казалось бы, только их значение. А значение не похоже на радиоактивность или кислотность – одно из свойств, легко определяемых хорошо настроенным детектором. Ближе всего мы подошли к созданию универсального детектора значений, когда разработали компьютер IBM Watson, который сортирует значения гораздо лучше более ранних систем искусственного интеллекта. Однако обратите внимание, что все не так просто: даже этот компьютер (вероятно) не заметит ряд смертельных угроз, которые под силу уловить ребенку. Даже маленькие дети понимают, что, когда один ребенок, хохоча, кричит другому: “Ну держись! Еще раз так сделаешь – убью!” – он на самом деле не грозит никому смертью. Внушительные размеры и сложность компьютера Watson хотя бы косвенным образом показывают, насколько трудноуловимо знакомое нам свойство значения.
14. Старший брат из Кливленда
И все же значение нельзя считать совершенно непостижимым свойством. Так или иначе структуры в нашей голове каким-то образом “хранят” наши убеждения. Когда вы узнаете, что пуду – млекопитающие, нечто в вашей голове должно измениться; нечто должно закрепиться в том положении, в котором оно не было закреплено, прежде чем вы об этом узнали, и это нечто так или иначе должно обладать достаточной очёмностью, чтобы объяснять вашу новообретенную способность определять, что пуду состоят в более близком родстве с бизонами, чем с барракудами. Несомненно, весьма заманчива идея о том, что убеждения “хранятся в голове”, подобно тому, как данные хранятся на жестком диске, зашифрованные систематическим кодом, который может быть уникальным для каждого человека, как уникальны отпечатки пальцев. Убеждения Жака будут записаны в его голове по-жаковски, а убеждения Шерлока – по-шерлоковски. Но эта привлекательная идея проблематична.
Допустим, мы вступили в золотой век нейрокриптографии, когда “когнитивные микронейрохирурги” получили возможность путем несложных операций помещать убеждения в мозг человека, записывая необходимую посылку в нейронах, само собой с использованием местного ментального языка. (Если мы сумеем научиться читать ментальные записи, вероятно, мы сумеем и писать на ментальном языке, используя достаточно тонкие инструменты.) Допустим, мы хотим поместить в мозг Тома следующее ложное убеждение: “У меня есть старший брат, который живет в Кливленде”. Допустим, когнитивный микронейрохирируг сумеет сделать необходимую перенастройку – настолько глубоко и аккуратно, насколько вам хочется. Эта перенастройка либо повредит базовую рациональность Тома, либо нет. Рассмотрим оба варианта. Том сидит в баре, и друг спрашивает его: “У тебя есть братья или сестры?” Том отвечает: “Да, у меня есть старший брат, который живет в Кливленде”. Друг продолжает: “Как его зовут?” Что теперь? Том может ответить: “Зовут? Кого зовут? Боже, что я вообще несу? Нет у меня старшего брата! На мгновение мне показалось, что у меня есть старший брат и он живет в Кливленде!” Или же он может сказать: “Я не знаю, как его зовут” – и далее станет отрицать, что знаком с этим братом и говорить что-то вроде: “Я единственный ребенок, а мой старший брат живет в Кливленде”. Ни в одном из случаев наш когнитивный микронейрохирург не преуспел с внедрением в мозг нового убеждения. В первом случае нетронутая рациональность Тома вытесняет (одинокое, не имеющее поддержки) чужеродное убеждение, как только оно заявляет о себе. Мимолетное желание сказать “У меня есть старший брат, который живет в Кливленде” на самом деле даже нельзя назвать убеждением, поскольку оно скорее напоминает тик, подобно проявлению синдрома Туретта. Если бедный Том упрямится в своей убежденности, как во втором случае, его очевидная иррациональность по вопросу о старших братьях лишает его права считаться убежденным. Человек, который не понимает, что невозможно быть единственным ребенком и иметь при этом старшего брата, живущего в Кливленде, на самом деле не понимает произносимого им предложения, а человек не может быть убежденным в том, чего он по-настоящему не понимает, хотя и может повторять эту посылку, как попугай.
Этот пример из сферы научной фантастики подчеркивает безмолвную презумпцию ментальной компетентности, которая лежит в основе проверки подлинности всех убеждений: если вы не располагаете неограниченным репертуаром способов использования проверяемого убеждения (если это действительно убеждение) в различных контекстах, его нельзя считать убеждением ни в каком из знакомых нам смыслов. Если хирург сделал свою работу аккуратно, сохранив функции мозга, этот мозг сведет на нет его работу, как только представится случай, или же патологически окружит работу хирурга многочисленными цветистыми фантазиями (“Его зовут Себастьян, он цирковой акробат и живет в воздушном шаре”). Подобные фантазии известны науке: люди, страдающие от синдрома Корсакова (амнезии, которой часто подвержены алкоголики), могут невероятно убедительно рассказывать истории о собственном прошлом, в которых нет ни капли правды. Но само возникновение таких под�