Заир бесплатное чтение
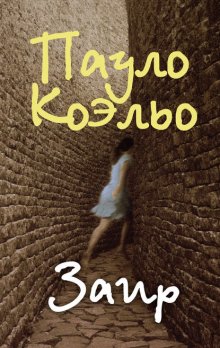
Посвящение
В машине я сказал, что завершил первый вариант моей книги – вот этой самой книги. А когда начали подъем на одну из гор в Пиренеях – на ту, которую оба считали священной и где нам случалось проживать необыкновенные минуты, – добавил: «Разве тебе не интересно узнать, о чем эта книга, как она называется?» «Интересно, – ответила ты, – но боюсь спросить, хотя, когда узнала, что ты завершил работу, обрадовалась – очень обрадовалась».
И я сказал тогда, о чем эта книга и как она называется. Мы продолжали путь в молчании. Вокруг, слетая к нам с верхушек голых, лишенных листвы деревьев, шумел ветер, и от этого дуновения гора снова явила нам свое могущество, показала свою магию.
Потом пошел снег. Я остановился и вгляделся в эту картину: падающие хлопья, свинцовое небо, лес и ты рядом. Ты была рядом со мной, ты всегда рядом со мной.
Я хотел сказать тебе об этом, но решил дождаться, когда ты в первый раз перелистаешь эти страницы. Эту книгу я посвящаю моей жене – тебе, Кристина.
Автор
По утверждению писателя Хорхе Луиса Борхеса, понятие Заир связано с традицией ислама и возникло в XVIII веке. По-арабски оно означает нечто видимое, присутствующее, то, что не может остаться незамеченным. То, что, войдя однажды с нами в контакт, будет мало-помалу занимать все наши мысли до тех пор, пока не вытеснит все остальное. Это можно счесть святостью – или безумием.
Фобур Сен-Пер. Энциклопедия фантастики, 1953 г.
Я – свободен
Она: Эстер, военная корреспондентка, только что вернувшаяся из Ирака, где в любой миг могут начаться боевые действия. Тридцать лет. Замужем, детей нет.
Он: личность не установлена. По виду – 23–25 лет. Волосы темные, монголоидный тип лица.
В последний раз обоих видели в кафе на улице Фобур Сент-Оноре.
Полиция располагает сведениями о том, что они встречались и раньше, хотя неизвестно, сколько раз. Эстер всегда говорила, что этот человек – она называла его Михаил, но едва ли это его настоящее имя – очень важен для нее, хотя никогда не поясняла, в каком смысле: в профессиональном или в личном.
Начато расследование. Рассматриваются версии: похищение с целью выкупа, похищение и последующее убийство, что совершенно не удивительно, если учесть, что в силу своих профессиональных обязанностей, то есть для получения информации, Эстер неоднократно приходилось вступать в контакт с представителями террористических организаций. Установлено, что в течение нескольких недель, предшествующих ее исчезновению, она регулярно снимала со своего текущего счета значительные суммы денег. Можно предположить, что это связано с оплатой предоставляемых ей сведений. Вещи и одежда оставлены, но паспорт, как ни странно, не обнаружен.
Он: неизвестный, очень молод, нигде не зарегистрирован, никаких следов или примет, по которым можно было бы установить его личность.
Она: Эстер, две международные премии по журналистике, тридцати лет, замужем.
Моя жена.
Меня тут же взяли под подозрение и задержали – поскольку я отказываюсь сообщить, где находился в день ее исчезновения. Но вот надзиратель открывает дверь камеры и сообщает, что я – свободен.
Почему же я свободен? Да потому, что в наши дни всем все про всех известно, стоит лишь запросить информацию, как ее вам предоставят – где мы расплачиваемся кредитными карточками, где бываем, с кем спим. А в моем случае все еще проще: некая журналистка, подруга Эстер, разведенная – стало быть, может без проблем сообщить о наших с ней близких отношениях, – узнав, что меня арестовали, с готовностью подтвердила мое алиби. Она предоставила неоспоримые доказательства того, что была со мной в день исчезновения моей жены.
Я разговариваю с комиссаром – он возвращает мои вещи, извиняется, сообщает, что мой скоропалительный арест был произведен на законных основаниях и что у меня не может быть причин жаловаться или подавать иск на государство. Объясняю, что и в мыслях такого не держу, ибо знаю – любой и каждый находится под подозрением и круглосуточным наблюдением, даже если и не совершал ничего противозаконного.
– Вы свободны, – повторяет он слова надзирателя.
А в самом деле, осведомляюсь я, не могло ли чего-нибудь случиться с моей женой? Она ведь не раз говорила, что из-за своих обширных контактов с террористическим подпольем порою чувствовала за собой слежку.
Комиссар молчит. Я настаиваю, но он ничего мне не отвечает.
Спрашиваю, может ли она ездить по миру со своим паспортом? Отчего же нет – раз она не совершила никакого преступления, то имеет право в любой момент покинуть страну или вернуться сюда.
– Значит, не исключено, что ее уже нет во Франции?
– Вы полагаете, она бросила вас из-за того, что вы ей изменили?
Это вас не касается, отвечаю я. Комиссар, секунду помолчав и посерьезнев, говорит, что мой арест был необходим – таков порядок, – но по-человечески он мне очень сочувствует. У него тоже есть жена, и, хотя ему не очень нравятся мои книги (Ах, вот как! Он, оказывается, знает, кто я! Не такой невежда, каким кажется!), легко может поставить себя на мое место и понимает, как мне трудно.
Ну и что я должен теперь делать? Он протягивает мне свою визитку: «Если что узнаете, звоните». Знаю, знаю, видел в кино, и меня это не убеждает, полицейские всегда знают больше, чем говорят.
Он спрашивает, не встречал ли я того молодого человека, с которым в последний раз видели Эстер. Отвечаю, что знаю его имя – кличку, прозвище, псевдоним, – но лично с ним не знаком.
Он спрашивает, как складывалось наше супружество. Отвечаю, что мы с Эстер уже десять лет вместе и что проблем у нас не больше и не меньше, чем у других пар, и это обычные проблемы.
Он спрашивает – как можно деликатнее, – не было ли у нас в последнее время разговоров о разводе, не собиралась ли моя жена оставить меня. Отвечаю, что эта тема не возникала вовсе, хотя – и опять же как у всех супругов – случались время от времени и споры, и ссоры.
Время от времени или часто?
Я же ясно выразился: «Время от времени».
Он спрашивает – еще деликатней, – подозревала ли Эстер о том, что я завел роман с ее подругой. Отвечаю, что переспал с ней в первый и последний раз в жизни. Какой там роман, тут и говорить не о чем, просто день выдался какой-то хмурый, скучный, и заняться после обеда было нечем, а игра в обольщение неизменно воскрешает нас к жизни, вот мы и оказались в постели.
– Вы оказались в постели, потому что день выдался хмурый?
Меня так и тянет сказать, что вопросы подобного рода выходят за рамки расследования, но мне надо заручиться поддержкой комиссара – и сейчас, и на будущее, – и ведь, в конце концов, невидимое учреждение под названием Банк Услуг всегда оказывалось мне очень полезно.
– Бывает. Женщина ищет сильных чувств, мужчина – приключений, и вот – пожалуйста… Наутро оба делают вид, будто ничего не произошло, и жизнь идет своим чередом.
Он благодарит, жмет мне руку, говорит, что в его мире все не так гладко. Есть и скука, и уныние, возникает и желание переспать с приглянувшейся тебе женщиной, однако воли своим чувствам давать не принято, и никто не делает того, о чем думает или чего хочет.
– Должно быть, у художников нравы куда свободней, – замечает он.
Я отвечаю, что мир, к которому он принадлежит, мне известен, но я не хочу углубляться сейчас в сравнения того, как по-разному мы с ним воспринимаем род людской. И в молчании жду, когда он сделает следующий ход.
– Кстати о свободе… вы можете идти, – говорит комиссар, немного разочарованный тем, что писатель продолжать беседу с полицейским отказывается. – Теперь, после личного знакомства с вами, прочту ваши книги: я сказал, что они мне не нравятся, но, по правде говоря, я их не читал.
Не в первый и, надо думать, не в последний раз слышу я эту фразу. Что ж, по крайней мере, у меня появился еще один читатель. Прощаюсь и выхожу.
Итак, я – свободен. Из тюрьмы выпустили, жена исчезла при загадочных обстоятельствах, на службу к такому-то часу приходить не надо, я общителен, знаменит, богат, и если Эстер в самом деле меня бросила, ей очень скоро отыщется замена. Я – свободен и независим.
Но что есть свобода?
Мне следовало бы понимать смысл этого слова, потому что большую часть своей жизни я был свободы лишен. С детства отстаивал я свободу, добивался ее как самого главного сокровища. Боролся с родителями, которые хотели, чтоб я стал не писателем, а, например, инженером. Боролся с одноклассниками, которые с самого начала пытались сделать меня мишенью для своих мерзких шалостей, и лишь после того, как много крови было пролито из носу у них и у меня, после того, как мне частенько приходилось прятать от матери полученные в драке царапины и синяки, – ибо свои проблемы каждый должен решать сам, без посторонней помощи, – я овладел искусством сносить трепку без слез. Боролся за то, чтобы получить работу, которая бы меня прокормила, и устроился в магазин скобяных изделий, чтобы избавиться от пресловутого семейного шантажа: «Мы дадим тебе денег, но ты обязан будешь делать то-то и то-то».
Боролся – хоть и не победил в этой борьбе – за девочку, которую любил в отрочестве и которая любила меня; в конце концов она поверила родителям, твердившим, что у меня нет будущего, и мы расстались.
Боролся с «агрессивной средой» журналистики: мой первый хозяин заставил меня три часа ожидать приема, а внимание на меня обратил лишь после того, как я начал рвать в клочки книгу, которую он читал: взглянув на меня с изумлением, он увидел перед собой человека, способного проявить упорство и дать отпор врагу, а эти качества совершенно необходимы хорошему репортеру. Боролся за идеалы социализма и загремел в тюрьму, вышел оттуда, и продолжал бороться, и чувствовал себя героем, отстаивающим права рабочего класса, – но тут услышал «Beatles» и решил, что рок намного интересней Маркса. Боролся за любовь своей первой, и второй, и третьей жены. Боролся за то, чтобы обрести смелость расстаться с первой, со второй и с третьей, потому что любовь минула, а я должен был идти вперед, чтобы найти ту единственную, которая явилась в этот мир для встречи со мной, – ни первая, ни вторая, ни третья ею не были.
Боролся, чтобы решиться бросить работу в газете и приняться за рискованное предприятие – начать свою книгу, зная при этом, что в моей стране литературой прожить невозможно. От этой затеи я отказался через год, сочинив больше тысячи страниц, казавшихся мне абсолютно гениальными по той причине, что даже я сам не понимал написанного.
И покуда я боролся, люди вокруг меня с жаром говорили о свободе, и чем больше защищали они это единственное в своем роде право, тем глубже увязали в рабстве: одни были рабами родителей, другие – супружеского союза, при заключении коего обещали оставаться вместе «до гробовой доски», рабами режима и строя, рабами званых обедов с теми, кого не желаешь видеть. Рабами роскоши, и видимости роскоши, и видимости видимости роскоши. Рабами жизни, которую не сами себе выбрали, но которой вынуждены были жить, ибо кто-то долго убеждал и наконец убедил их, что так будет для них лучше. И вот тянутся дни и ночи, неотличимые друг от друга, и слово «приключение» можно лишь прочесть в книжке или услышать с экрана неизменно включенного телевизора, а когда оно возникает перед ними в нежданно распахнувшейся двери, говорят: «Неинтересно. Не хочу».
Да откуда ж им знать, хотят они или нет, если даже ни разу не попробовали?! Но что толку вопрошать – на самом деле они страшатся любых перемен, способных встряхнуть привычный уклад.
Комиссар сказал: «Вы свободны». Да, я свободен и сейчас, и был свободен за решеткой, потому что по-прежнему выше всего на свете ценю свободу. Да, разумеется, это заставляло меня порой пить вино, которое приходилось мне не по вкусу, делать то, что было не по нраву и чего я впредь делать не стану; и от этого на теле моем и на душе – множество шрамов, и я сам наносил людям раны – пришло время, когда я попросил у них прощения, ибо со временем понял: я могу делать все, что угодно, кроме одного: не дано мне заставить другого человека следовать за мной в моем безумии, в моей жажде жизни. Я не жалею о перенесенных страданиях, я горжусь своими шрамами, как гордятся боевыми наградами, я знаю, что цена свободы высока – так же высока, пожалуй, как цена рабства, и разница всего лишь в том, что ты платишь с удовольствием, с улыбкой, пусть даже эта улыбка – сквозь слезы.
Я выхожу из полицейского участка. Погожий воскресный день, но солнце не в силах разогнать мрак у меня в душе. Мой адвокат поджидает меня на улице с букетом в руке и со словами утешения на устах. Он говорит, что обзвонил все больницы, все морги (каждый из нас поступает таким образом, когда кто-то из близких не возвращается домой к определенному часу), но Эстер не обнаружил. Говорит, что благодаря его стараниям журналисты не пронюхали, где я сижу. Еще говорит, что нам следует обсудить ситуацию, выработать стратегию, которая защитит меня от тяготеющих надо мной обвинений. Я благодарен ему за внимание, хоть и знаю, что дело вовсе не в стратегии, а просто он не хочет оставлять меня в одиночестве, потому что понятия не имеет, какой фортель я способен выкинуть (напьюсь и снова попаду в полицию? Устрою скандал? Попытаюсь покончить с собой?). Отвечаю, что у меня много важных дел и что он не хуже меня знает: никаких проблем с законом не возникнет. Адвокат настаивает, я не уступаю – ведь, в конце концов, я – свободен.
Свободен. Свободен пребывать в отверженности и одиночестве.
Беру такси, еду в центр, прошу остановиться у Триумфальной арки. Иду по Елисейским Полям в сторону отеля «Бристоль», где мы с Эстер пили горячий шоколад всякий раз, когда кто-нибудь из нас возвращался из-за границы. Это сделалось своего рода ритуалом: мы дома, мы погружаемся в любовь, которая нас соединяет, хотя жизнь с каждым днем все больше разводит по разным дорогам.
Шагаю дальше. Прохожие улыбаются, дети радуются, что вдруг, в разгар, можно сказать, зимы на несколько часов нагрянула весна, плавно движется поток машин и всё вроде бы в порядке, если не считать одного обстоятельства: никто в этом городе не знает, или делает вид, что не знает, или это просто никому не интересно, что я только что потерял жену. Что же они, в самом деле не понимают, как мне тяжело?! Все должны испытывать печаль и сострадать человеку, чья душа кровоточит от любви, а они продолжают смеяться, они по-прежнему барахтаются в своих мелких и никчемных жизнях, ликуя оттого, что настал уик-энд.
Забавная мысль: у многих из тех, кто идет мне навстречу, тоже душа в клочьях, а я не знаю, почему и как они страдают.
Захожу в бар купить сигарет, а бармен отвечает мне по-английски. Захожу в аптеку за любимыми мятными пастилками, а девушка за стойкой говорит со мной по-английски. И ведь в обоих случаях я обращался к ним по-французски. Неподалеку от моего отеля меня останавливают двое парней – только что из Тулузы, – они ищут нужный им магазин, расспрашивают всех подряд, но никто не понимает, что они говорят. Что случилось? За сутки, проведенные мною в камере, на Елисейских Полях сменился язык?
Индустрия туризма и деньги способны творить чудеса, но как же я не замечал этого раньше? Видимо, дело в том, что мы с Эстер давно уже не пили горячий шоколад в этом отеле, хотя много раз уезжали и возвращались. Всякий раз оказывалось, что есть более важное дело. Всякий раз на это время бывала назначена встреча, которую отменить невозможно. Ничего, любимая, в следующий раз мы непременно выпьем нашего шоколаду, возвращайся поскорей, ты ведь знаешь, как важно для меня это интервью, я не могу встретить тебя в аэропорту, возьми такси, мой сотовый включен, звони, если что-нибудь срочное, а если нет – вечером увидимся дома.
Мобильник! Я достаю его из кармана, нажимаю кнопку, и он сразу же начинает звонить, и от каждой трели у меня замирает сердце, и на дисплее я читаю имена тех, кому я нужен, но не соединяюсь ни с кем. Господи, хоть бы высветилось «абонент не установлен», и тогда я пойму, что это ты, потому что мой номер знают человек двадцать, не больше, и они клятвенно пообещали никому его не передавать. Нет, не высветилось – все это номера друзей или коллег. Наверное, хотят узнать, что случилось, чем помочь (чем? и как?), не надо ли мне чего-нибудь.
А телефон звонит. Ответить? Встретиться с кем-либо из этих людей?
Нет. Пока не пойму, что происходит, останусь один.
Я вхожу в «Бристоль». Эстер, помнится, всегда говорила, что это один из немногих парижских отелей, где к клиентам относятся как к гостям, а не как к бездомным бродягам. Со мной здороваются сердечно и приветливо, я выбираю столик напротив красивых часов, слушаю пианиста, гляжу в сад за окном.
Надо рассуждать здраво, рассмотреть варианты. Жизнь продолжается. Велика важность – жена бросила! Не я первый, не я последний. Но отчего же это случилось в такой ясный день, когда люди на улицах улыбаются, дети что-то распевают, весна подает о себе первые весточки, солнце светит и водители тормозят перед «зеброй»?!
Беру салфетку. Все, что крутится в голове, я сейчас распишу по пунктам на бумаге. Сантименты – в сторону, надо определиться. Итак:
А. Допустим, что Эстер в самом деле похищена и ее жизнь в опасности. Я – ее муж, ее спутник в горе и радости, должен горы свернуть, но отыскать жену.
Ответ: она забрала свой паспорт. А кроме него – о чем полиции не известно – кое-что из мелочей и футляр с изображениями своих святых: она всегда возит его с собой, когда уезжает. И сняла деньги со счета.
Вывод: к отъезду она готовилась.
Б. Допустим, что Эстер поверила в какое-то обещание, то есть позволила заманить себя в ловушку.
Ответ: она много раз попадала в опасные ситуации – они были частью ее работы. Но всегда предупреждала меня об этом, поскольку я был единственным человеком, которому она могла доверять полностью и безоговорочно. Она сообщала, где будет, с кем намерена встретиться (чтобы не ставить меня под удар, чаще всего, правда, называла условное имя) и что мне надлежит делать в том случае, если к такому-то сроку не вернется.
Вывод: она не предполагала встречаться ни с кем из своих информаторов.
В. Допустим, что Эстер встретила другого мужчину.
Ответ: нет ответа. Но из всех прочих гипотез только эта имеет значение. И я не могу принять ее, не могу поверить, что моя жена вот так взяла да ушла, даже не сказав, почему уходит. Мы с нею всегда гордились тем, что все трудности встречаем вместе. Страдаем, мучаемся, но никогда не врем друг другу – хотя, по правилам игры, просто не упоминаем наши увлечения на стороне. Да, я заметил, что после знакомства с этим Михаилом она сильно переменилась, но это еще не повод рвать десятилетние супружеские узы.
Ну, пусть даже влюбилась в него, переспала с ним, но неужели, прежде чем решиться на такой бесповоротный шаг, она не положила на другую чашу весов все, что мы пережили вместе, все, чего достигли? Она была вольна ездить по всему миру, часто находилась среди солдат, изголодавшихся по женщине, и я никогда ни о чем ее не спрашивал, а она ничего не говорила. Мы оба были свободны и гордились этой свободой.
И все же Эстер исчезла. Исчезла, оставив тайный, мне одному видимый знак: «Я ушла».
Почему?
Стоит ли отвечать на этот вопрос?
Нет. Ибо в самом вопросе уже скрыта моя неспособность удержать рядом с собой любимую женщину. Стоит ли разыскивать ее, чтобы убедить вернуться? Умолять, выклянчивать еще один шанс на спасение нашего брака?
Какая нелепость – уж лучше страдать, как страдал я раньше, когда те, кого я любил, бросали меня. Страдать и зализывать раны. Сколько-то времени я буду неотступно думать об Эстер, буду упиваться горечью, буду раздражать своих друзей тем, что говорить со мной можно только об этом. Я буду пытаться объяснить, оправдать случившееся, буду по минутам вспоминать жизнь с нею, а потом приду к выводу, что она поступила со мной жестоко, тогда как я старался изо всех сил. Появятся другие женщины. На улице в каждой встречной мне будут мерещиться черты Эстер. Я буду страдать днем и ночью, ночью и днем. И так будет продолжаться неделями, месяцами, и займет, наверно, чуть больше года.
Но вот в одно прекрасное утро я проснусь и поймаю себя на том, что думаю о другом, и пойму – худшее позади. Рана в сердце, сколь бы тяжкой она ни была, затянется, ко мне вернется способность наслаждаться красотой жизни. Так бывало раньше, так, я уверен, произойдет и на этот раз. Недаром сказано: «Если один уходит, то для того, чтобы дать место другому» – и я вновь встречу любовь.
А пока можно посмаковать мой новый статус – ведь я теперь холостяк-миллионер. Могу ухаживать за кем пожелаю, никого не стесняясь. Могу вести себя на вечеринках так, как никогда прежде себе не позволял. Слухом земля полнится, и уже очень скоро многие женщины – юные и не первой молодости, богатые и не очень, умные или, по крайней мере, достаточно образованные, чтобы сказать то, что, по их мнению, мне приятно будет услышать, – постучат в мою дверь.
Хочу верить, что это прекрасно – быть свободным. Снова быть свободным. Готовиться к встрече с истинной любовью, с любовью на всю жизнь, с той, кто ждет меня и никогда не заставит вновь пережить нынешнее унижение.
Допиваю шоколад, смотрю на часы, сознавая, что рановато еще предаваться приятному ощущению того, что я снова – часть человечества. На мгновение тешу себя мечтой о том, что Эстер вот сейчас появится в дверях, пройдет по этим дивным персидским коврам, молча сядет рядом, закурит, устремит взгляд за окно, сожмет мою руку. Проходит полчаса, полчаса я верю в только что выдуманную мной историю, а потом понимаю, что это – очередная игра воображения.
Я решаю домой не возвращаться. Подхожу к стойке портье, прошу дать мне номер, зубную щетку, дезодорант. Отель переполнен, но управляющий ухитряется предоставить мне прекрасный «люкс» с видом на Эйфелеву башню. Крыши Парижа. Светятся окна – семьи собираются за воскресным ужином. Ко мне возвращается ощущение, испытанное не так давно на Елисейских Полях: чем прекрасней все вокруг, тем более отверженным я себя ощущаю.
Никакого телевизора. Никакого ужина. Я сижу на террасе и вспоминаю свою жизнь, – жизнь человека, который с юности мечтал стать знаменитым писателем, а потом вдруг увидел, что реальность разительно отличается от мечты: он пишет на языке, на котором почти никто не читает, – в его стране, как утверждают, вообще нет читателей. Родители настаивали, чтобы он поступил в университет («да не все ли равно, сынок, в какой – лишь бы получить диплом, а без диплома ты в жизни не пробьешься»). Он бунтует, становится хиппи, странствует по свету, встречает некоего музыканта, пишет тексты для его песен и неожиданно начинает зарабатывать куда больше своей сестры, которая слушалась папу с мамой и стала инженером-химиком.
Я сочиняю новые и новые стихи, певец пользуется все большим успехом, покупаю несколько квартир, ссорюсь с певцом, но это уже не страшно – у меня достаточно денег, чтобы несколько лет прожить не работая. Первый брак: жена старше меня, я многому учусь у нее – и тонкостям секса, и английскому, и тому, что утро может начинаться далеко за полдень. Но дело кончается разводом, ибо, по ее мнению, я – «существо эмоционально незрелое и не пропускаю ни одной грудастой девчонки». Женюсь во второй, потом в третий раз – я доверяю этим женщинам, я обретаю с ними душевное равновесие, но, достигнув того, чего хотел, сознаю, что это вожделенное равновесие сопровождается тоской и скукой.
Еще два развода. И снова – свобода, вернее, ощущение свободы, ибо она – не в отсутствии обязательств, а в возможности выбирать – перед кем лучше всего эти обязательства нести.
Продолжаю искать любовь и сочинять стихи. Когда меня спрашивают, кто я, отвечаю: писатель. Когда мне говорят, что знают лишь тексты моих песен, отвечаю, что это – лишь часть моего творчества. Когда собеседник, извинившись, сообщает, что не читал моих книг, отвечаю: я работаю над неким проектом. Это ложь. На самом деле у меня есть и деньги, и связи, нет лишь одного – отваги написать книгу, ибо моя мечта с течением времени стала неосуществимой. Если я попробую и провалюсь, то не буду знать, как прожить после этого остаток жизни, так что лучше лелеять свою мечту, чем взять и своими руками загубить ее.
Однажды я давал интервью некой журналистке – ее интересовало, как это так получается, что мое творчество известно по всей стране, а меня не знает никто, ибо «светился» в СМИ только мой певец. Она была красива, умна, немногословна. Вскоре мы опять встретились на какой-то вечеринке, и, раз уж она была «не при исполнении», я попытался в тот же день затащить ее в постель. Я влюбился, а она решила, что я – «под дозой». Отказ. Телефон неизменно занят. Чем упорней она сопротивляется, тем сильней меня к ней влечет.
И вот наконец мне удается уговорить ее провести со мной уик-энд в моем загородном доме (бунтарь, изгой, паршивая овца, однако же единственный из всех моих друзей обзавелся к тому времени подобием виллы).
Трое суток мы провели с глазу на глаз. Смотрели на море, я стряпал, она рассказывала мне всякие забавные случаи из своей журналистской практики и вот в конце концов влюбилась в меня. Вернулись в город, она стала регулярно ночевать у меня. Как-то утром она ушла раньше обычного, а вернулась со своей пишущей машинкой: с этого дня, без объяснений и признаний, мой дом стал превращаться в ее дом.
Пошли обычные и привычные споры и ссоры – как и всем ее предшественницам, ей хочется стабильности, верности, а я вечно ищу приключений и новых, неизведанных ощущений. Но на этот раз связь получилась длительной, и все же спустя два года мне показалось, что настало время ей перевезти обратно свою машинку и все прочие вещи.
– Думаю, это будет правильно.
– Но ведь ты меня любишь, и я тебя люблю. Разве не так?
– Не знаю. Если спросишь, хорошо ли мне с тобой, я отвечу: «Да». Но если спросишь, смогу ли я жить без тебя, я отвечу то же самое.
– Я никогда не жалела, что не родилась мужчиной, мне нравится быть женщиной. В конечном счете все, чего вы требуете от нас, – это умение сносно готовить. А вот мы требуем от мужчин всего, всего решительно – чтобы добычу приносил, и любовником был, и защищал, и оберегал, и кормил, и чтобы при этом был человеком успешным.
– Не о том речь – я сам себя вполне устраиваю. Мне хорошо с тобой, но я уверен, что ничего из этого не получится.
– Тебе хорошо со мной, а с самим собой – не очень. Ты все время ищешь приключений, чтобы отвлечься от чего-то важного. Тебе нужно постоянно впрыскивать в кровь адреналин, ты забываешь, что в жилах должна течь кровь – и ничего больше.
– Я не отвлекаюсь от важного. Да и что, по-твоему, важно?
– Написать книгу.
– Я могу взяться за это хоть сейчас.
– Вот и возьмись. Потом, если захочешь, мы расстанемся.
Ее подначка кажется мне полной чушью – я способен написать книгу в любой момент: у меня есть знакомые издатели, журналисты, люди, многим мне обязанные. Эстер боится меня потерять, этим все и объясняется. Довольно, говорю я, наши отношения подошли к концу, и речь не о том, что она считает, будто делает меня счастливым. Речь о любви.
А что такое любовь, спрашивает она. Больше получаса я распространяюсь на эту тему, а потом понимаю, что определить любовь не могу.
Что ж, говорит она, если не можешь определить, что такое любовь, попробуй написать книгу.
При чем тут книга? Что общего между книгой и любовью? Я сегодня же уйду отсюда, а она может оставаться здесь, сколько ей будет угодно. Я поживу в отеле, пока она не подыщет себе другое жилье. Отлично, говорит она, с ее стороны возражений нет, я могу идти хоть сию минуту, и не позднее, чем через месяц, она отсюда съедет. Собирай чемоданы, а она пока почитает. Уже поздно, уеду завтра утром. Нет, она предлагает не тянуть и не откладывать, утром я могу потерять решимость. Ты так мечтаешь от меня избавиться, спрашиваю я. Со смехом она отвечает, что это моя инициатива. Мы идем спать, а утром мне уже не так сильно хочется уйти, я считаю, что должен все хорошенько обдумать. Эстер, однако, вовсе не считает, что вопрос исчерпан: подобные эпизоды будут повторяться, она будет несчастна и тогда в свой черед захочет бросить меня. Но только в этом случае намерение немедленно будет претворено в жизнь, и она тотчас сожжет за собой мосты. В каком смысле, спрашиваю я. Влюблюсь, заведу любовника.
Она уходит в свою редакцию, а я решаю устроить себе выходной (помимо сочинения текстов, я работаю в компании грамзаписи) и усаживаюсь за машинку. Потом встаю, листаю газеты, отвечаю на письма: сперва – на важные, а когда важных не остается – на все прочие. Записываю дела на завтра, слушаю музыку, слоняюсь по улицам моего квартала, завожу разговор с булочником, возвращаюсь домой. День прошел, а я не сумел выдавить из себя ни единой фразы. И прихожу к выводу, что ненавижу Эстер, которая заставляет меня делать то, что мне делать не хочется.
Вернувшись из редакции, она, ни о чем не спрашивая, уверенно говорит, что я ничего не написал, потому что взгляд у меня сегодня – такой же, как вчера.
Работать буду завтра, думаю я, но все же вечером вновь сажусь за письменный стол. Потом читаю, смотрю телевизор, слушаю музыку, опять возвращаюсь к машинке – и так проходят два месяца: стопа бумаги с «первой фразой» растет, а я не в силах завершить абзац.
Исчерпаны все мыслимые объяснения: в этой стране никто ничего не читает, я еще не придумал сюжет, я придумал превосходный сюжет, но пока не знаю, как его развить. Помимо всего прочего, я страшно занят – я сочиняю очередную статью или стихи для очередной песни. Проходит еще два месяца – и вот Эстер появляется на пороге, держа в руке авиабилет.
«Хватит, – говорит она. – Хватит притворяться, что ты занят, что ты ответственнейшим образом относишься к своим служебным обязанностям, что все человечество нуждается в том, что ты делаешь. Улетай на время».
Я могу стать главным редактором газеты, где время от времени печатаю репортажи, а могу – президентом компании, для которой мастерю тексты и где меня держат потому лишь, что не хотят, чтобы переманили конкуренты. Я всегда могу вернуться и заняться тем же, чем занят сейчас. А вот мечта моя больше ждать не может. Надо либо исполнить мечту, либо позабыть ее.
И куда же мне лететь?
В Испанию.
Разбиваю несколько стаканов, доказывая, что билеты стоят дорого, что я не могу сейчас отлучиться, что это поставит под удар мою карьеру, что потеряю партнеров, что проблема не во мне, а в наших отношениях. Если я захочу написать книгу, никто и ничто мне не помешает.
«Ты можешь, ты хочешь, однако же не пишешь, – говорит Эстер. – А поскольку, что бы ты ни утверждал, дело все-таки в тебе, будет лучше, если какое-то время ты побудешь один».
Она показывает мне карту. Итак, я долечу до Мадрида и там сяду в автобус, который отвезет меня в Пиренеи, на границу с Францией. Там начинается проложенная еще в Средневековье дорога – Путь Сантьяго: ее придется одолеть пешком. В конечной точке Эстер будет ждать меня. А сейчас она согласна со всем, что я говорю: и что я разлюбил ее, и что еще недостаточно прожил, чтобы без остатка посвятить себя литературе, и что думать больше не желаю о том, чтобы стать писателем, и что все это – не больше чем отроческие мечты.
Да это просто бред какой-то! Женщина, с которой я связан уже два долгих года – целая вечность для романа! – решает за меня, определяет мою жизнь, заставляет меня бросить работу и пешком пересечь целую страну! К такому бреду следует отнестись серьезно. И несколько дней подряд я пью, и напиваюсь, причем Эстер, которая терпеть не может спиртного, пьет вместе со мной. Я делаюсь зол и раздражителен, твержу, что она просто завидует моей независимости и что эта безумная идея появилась только потому, что я решил ее бросить. А она отвечает, что все зародилось, когда я еще ходил в школу и мечтал стать писателем, а теперь пришла пора делать выбор – либо я одолею себя, либо до конца своих дней так и буду жениться, разводиться, рассказывать чудные истории о своем прошлом – и опускаться все больше, падать все ниже.
Само собой разумеется, я не могу признать, что Эстер права – хоть и допускаю, что это так. И чем яснее я сознаю ее правоту, тем сильней злюсь. Она кротко сносит мои приступы – и только напоминает, что день отлета близится.
И вот однажды ночью, незадолго до вылета, она впервые отвергла мои домогательства. Я выкурил целую самокрутку с гашишем, опорожнил две бутылки вина и, так сказать, отрубился посреди комнаты. А проснувшись, понял, что достиг самого дна и теперь мне ничего не остается, как начать подъем на поверхность. И я, так гордившийся своей отвагой, сполна осознал, до чего же я трусливый, косный, посредственный человек. В то утро я разбудил Эстер поцелуем и сказал, что согласен.
Я улетел в Испанию и тридцать восемь дней шел по дороге Сантьяго. Прибыв в Компостелу, понял, что только теперь и начинается настоящее путешествие. Я решил обосноваться в Мадриде, живя на «авторские» и сделав так, чтобы между мною и плотью Эстер пролег океан – мы еще не разведены официально и по телефону говорим регулярно и довольно часто. Это удобно – быть женатым мужчиной, знающим, что можно в любой момент вернуться в супружеские объятия, и при этом пользоваться всеми прелестями полной независимости.
Я последовательно увлекся сначала ученой каталанской дамой, потом аргентинкой, мастерившей ювелирные изделия, потом девушкой, певшей в метро. Отчисления продолжают поступать – и в количестве, достаточном для привольной праздной жизни, так что времени у меня сколько угодно, хватит и на то, чтобы написать книгу.
Но книга может подождать до завтра, потому что мэр Мадрида решил, что город должен превратиться в сплошное празднество, придумал забавный слоган – «Мадрид меня мочит», – и побуждает граждан кочевать всю ночь из бара в бар, все так забавно, так интересно, дни коротки, а ночи долги.
И в один прекрасный день мне звонит Эстер и сообщает, что собирается ко мне: по ее словам, мы наконец должны раз и навсегда выяснить отношения. Прилет назначен на следующую неделю, что дает мне возможность придумать целую цепь отговорок («Еду на месяц в Португалию», – говорю я девице, которая раньше пела в метро, а теперь живет в пансионе и каждый вечер вместе со мной наслаждается мадридским весельем).
Я прибираю квартиру, уничтожая малейшие следы присутствия женщины, заклинаю приятелей не проболтаться: «Сами понимаете – жена приезжает».
По трапу сходит неузнаваемая – коротко и ужасно остриженная – Эстер. Мы едем по Испании, осматривая маленькие городки, которые так много значат для одной ночи и которые забываешь, едва покинув. Посещаем бой быков и фламенко, я веду себя как самый образцовый супруг: мне хочется, чтобы у Эстер создалось впечатление, будто я ее все еще люблю. Не знаю, зачем мне это надо – может быть, потому, что в глубине души она сознает: мадридский сон когда-нибудь кончится.
Я сетую, что мне не нравится ее новая прическа, и она, спустя какое-то время обретя свой прежний облик, вновь хорошеет. До конца ее отпуска остается всего десять дней, я хочу, чтобы у нее были приятные воспоминания, а я останусь один в Мадриде, и все пойдет по-прежнему: коррида, дискотеки, начинающиеся в десять утра, нескончаемые разговоры об одном и том же, пьянство, женщины, и опять коррида, и опять женщины, и опять спиртное – и никаких, решительно никаких обязательств и обязанностей.
Как-то в воскресенье, по дороге в ресторанчик, открытый до утра, Эстер касается запретной темы – заговаривает о книге, которую я якобы сочиняю. Опорожнив бутылку хереса, задирая прохожих, пиная железные двери, я спрашиваю, стоило ли лететь в такую даль с единственной целью – превратить мою жизнь в кромешный ад? Она молчит, но мы оба понимаем: наш брак – на грани распада. Проспав всю ночь тяжелым сном без сновидений, а утром, высказав управляющему все, что я думаю по поводу скверно работающего телефона, а горничной – насчет того, что постельное белье не меняли уже неделю, приняв, как всегда, душ, призванный облегчить мне похмелье, я сажусь за машинку, чтобы всего лишь продемонстрировать Эстер: я пытаюсь, я честно пытаюсь работать.
И внезапно происходит чудо: я гляжу на эту женщину, которая только что сварила кофе, а теперь перелистывает газету, на эту женщину, в чьих глазах застыла усталость и безнадежность, – молчаливую, совсем не склонную выражать свою нежность словами или ласковыми прикосновениями, заставляющую меня произносить «да», хотя мне хочется сказать «нет», побуждающую меня бороться за то, что она – с полным на то основанием – считает смыслом моего существования, отказавшуюся от повседневного общения со мной, потому что она любит меня больше, чем самое себя, отправившую меня на поиски моей мечты. Я гляжу на эту тихую юную женщину – почти девочку, – чьи глаза говорят больше, нежели любые слова, на эту женщину, боязливую в душе и неизменно отважную в поступках, умеющую любить не унижаясь, не прося прощения за то, что она борется за своего мужчину, – и вот пальцы мои начинают стучать по клавишам.
Появляется первая фраза. За ней – вторая.
И двое суток я ничего не ем и сплю только по необходимости, а слова будто сами собой появляются неведомо откуда – так бывало раньше, когда я сочинял тексты для песен, когда после бесконечных перепалок и бессмысленных разговоров мы с моим напарником-композитором вдруг понимали: «Вот оно! Есть!» – и оставалось только занести находку на бумагу в виде слов или нот. Теперь я понимаю, что это «оно» рождается из сердца Эстер, и моя любовь воскресает: я пишу, потому что она существует, потому что пережила трудные дни, не жалуясь, не делая из себя жертву.
И я начинаю рассказ о том единственном за все последние годы впечатлении, что по-настоящему встряхнуло меня, – о Пути Сантьяго.
С каждой новой страницей я все отчетливей сознаю, что мои взгляды на мир меняются. На протяжении многих лет я изучал и практиковал магию, алхимию, оккультизм; меня завораживала мысль о том, что кучка людей обладает невероятным могуществом, которым они не могут поделиться с остальным человечеством, ибо отдавать этот чудовищный потенциал в неопытные руки просто опасно. Я входил в тайные сообщества, был членом экзотических сект, покупал за баснословные деньги учебники и трактаты, тратил очень много времени на ритуалы и заклинания. Я то и дело переходил из одного общества в другое, гонимый мечтой найти наконец того, кто откроет мне тайны невидимого мира, и переживал горчайшее разочарование, уясняя для себя, что большинство этих людей, хоть и руководствуются самыми благими намерениями, следуют всего лишь той или иной догме и чаще всего превращаются в фанатиков именно потому, что только фанатизм способен разрешить сомнения, беспрестанно томящие человеческую душу.
Я убедился, что многие магические ритуалы и в самом деле действуют. Однако убедился и в том, что люди, именующие себя магистрами, хранителями тайн бытия, утверждающие, что владеют техникой, позволяющей дать любому и каждому способность достигать желаемого, давно утратили связь с учением древних. Пройдя по Пути Сантьяго, общаясь с обычными людьми, открыв, что Вселенная говорит с нами на своем языке – знаками и знамениями, – для понимания которого достаточно непредвзято взглянуть на происходящее вокруг, я стал всерьез сомневаться, что оккультизм в самом деле единственный способ постижения всех этих чудес. И в книге о пройденном мною пути я заговорил об иных способах духовного роста, завершив повествование словами: «Надо всего лишь быть внимательным. Урок усваивается, когда ты готов к постижению, и, если ты обращаешь внимание на знаки и приметы, ты непременно поймешь, что необходимо для следующего шага».
Две трудные задачи стоят перед человеком – во-первых, знать, когда начать, во-вторых – когда закончить.
Спустя неделю я принялся за редактуру – первую, вторую, третью. Мадрид меня больше не мочит, пришло время возвращаться, я чувствую, что цикл завершился, и остро нуждаюсь в том, чтобы начать новый. Я прощаюсь с этим городом так же, как со всем в своей жизни, – держа в уме, что в один прекрасный день смогу передумать и вернуться.
Я возвращаюсь на родину вместе с Эстер, я уверен, что пора искать новую работу, но пока это не удается (а не удается, потому что нет необходимости), и я продолжаю править рукопись. Не думаю, что нормальному читателю будут интересны впечатления паломника, прошедшего по Пути Сантьяго – трудному, но романтичному.
Прошло еще четыре месяца, и, готовясь переписать рукопись в десятый раз, я обнаруживаю, что ее нет. Впрочем, нет и Эстер. В тот миг, когда я чуть было не лишился рассудка, на пороге с почтовой квитанцией в руке появляется моя жена. Оказывается, она отправила книгу своему бывшему возлюбленному, которому принадлежит маленькое издательство.
И бывший возлюбленный выпускает книгу в свет. В газетах – ни строчки, но несколько человек все же купили книгу. Прочли, посоветовали прочесть другим, а те – третьим. Так и пошло. Через полгода первое издание распродано. Через год книга выходит уже третьим изданием. Я начинаю зарабатывать литературой, о чем никогда и не мечтал.
Я не знаю, сколько продлится этот волшебный сон, и решаю проживать каждый миг жизни так, словно он – последний. Тут я замечаю, что успех первой книги открывает мне дверь в тот мир, куда я так долго мечтал войти, – другие издательства намерены опубликовать мою следующую работу.
Да, но ведь я не могу каждый год проходить Путем Сантьяго – так о чем же мне писать? Боже, неужели опять начнется этот кошмар – опять в бессилии часами сидеть за машинкой?! Нужно владеть искусством менять взгляд на мир и рассказывать о собственном опыте постижения жизни. Я пробую – иногда днем, а чаще ночью – и прихожу к выводу, что это невозможно. Но вот однажды вечером мне случайно (случайно ли?) под руку попадается «Тысяча и одна ночь», и одна из этих сказок кажется мне символом моей собственной жизни, помогающим постичь, кто я такой и почему так поздно принял решение, которое должен был принять. На основе этой сказки я сочиняю собственную историю о некоем пастухе, пустившемся на поиски своей мечты – добывать сокровище, спрятанное где-то у египетских пирамид. Я пишу о любви, которая ждет его, как ждала меня Эстер, покуда я кружил по жизни.
Но теперь я уже не тот, кто мечтал кем-то стать, – я стал, я состоялся. Я – пастух, пересекающий пустыню, но где тот алхимик, который поможет мне двигаться дальше? Дописав эту книгу, я и сам не вполне понимаю, что у меня получилось – что-то похожее на волшебную сказку для взрослых, а взрослых больше интересуют войны, секс и рецепты того, как добиться власти. Тем не менее издатель соглашается, книга выходит, и читатели снова заносят ее в список бестселлеров.
Проходит три года – моя супружеская жизнь безоблачна, я занимаюсь тем, что мне по душе, появляется первый перевод, за ним – второй, и успех – медленно, но верно – приходит ко мне со всех четырех сторон света.
Переезжаю в Париж – там кафе, там писатели, там средоточие культуры. Выясняется, что ничего этого больше нет и в помине: кафе, благодаря развешанным по стенам фотографиям тех, кому они обязаны своей славой, превратились в заповедники для туристов; большинство писателей озабочены формой куда сильней, чем содержанием, они тщатся быть оригинальными, а становятся неудобочитаемыми, ибо наводят смертельную тоску. Они варятся в собственном соку, и я узнаю любопытное выражение: «renvoyer l’ascenseur» , что в переводе с французского значит «отплатить той же монетой». Иначе говоря: я хвалю твою книгу, а ты – мою, мы с тобой создаем новое культурное пространство, совершаем революцию, творим новое философское мышление, страдая оттого, что нас никто не понимает, но, в конце концов, не таков ли удел всех гениев? Да, на то он и великий художник, чтобы оставаться непонятым своей эпохой.
Поначалу их тактика приносит свои плоды, ибо люди не решаются открыто бранить то, что им непонятно. Однако потом они сознают, что их обманывают, и тогда – отказываются верить критикам.
Интернет с его упрощенным языком очень способствует переменам в мире. И параллельный мир возникает в Париже: новые писатели стремятся к тому, чтобы их слова и их души были поняты. Я встречаюсь с этими новыми писателями в никому не известных кафе, потому что они еще не успели прославиться сами и прославить эти заведения. Я в одиночестве совершенствую свой стиль, а у своего издателя учусь «искусству сообщничества».
—Что такое Банк Услуг?
– Сам знаешь. Нет человека, которому это было бы неизвестно.
– Может быть, но я до сих пор не смог понять, что это значит.
– О нем было упоминание в книге одного американца. Это самый мощный банк с отделениями по всему свету.
– Я приехал из страны, где нет литературной традиции. Я никому не мог оказать услугу.
– Это не имеет ни малейшего значения. Вот тебе пример: я знаю, что ты растешь и когда-нибудь станешь очень влиятельным человеком. Знаю, потому что сам был таким, как ты, – независимым, честолюбивым, честным. Сейчас у меня уже нет прежних сил, но я собираюсь поддержать тебя, ибо не могу или не хочу останавливаться, мечтаю не о пенсии, а о борьбе, то есть – о жизни, о власти, о славе. И я инвестирую в тебя, но кладу на твой счет не деньги, а полезные связи. Знакомлю тебя с нужными людьми, помогаю заключать сделки – законные, разумеется. И ты передо мной в долгу, хотя я никогда не намекну об этом…
– Но в один прекрасный день…
– Вот именно. В один прекрасный день я попрошу тебя о чем-нибудь, и ты вправе отказать, но ведь ты должен мне. И ты выполнишь мою просьбу, а я буду по-прежнему помогать тебе, и люди узнают, что ты – надежный человек, и тоже начнут инвестировать в тебя – не деньгами, а связями, ибо миром нашим движут связи. Настанет день, и эти люди тоже тебя о чем-нибудь попросят, ты будешь уважать и поддерживать тех, кто помогал тебе, и с течением времени твоя сеть оплетет всю планету, ты познаешь все, что должен будешь познать, и твое влияние будет неуклонно возрастать.
– А если я откажусь выполнить просьбу?
– Что ж, это вполне возможно. Банк Услуг, как и всякий другой, осуществляет рискованные вложения. Ты откажешься, решив, что я тебе помогал, потому что ты этого заслуживал, потому что ты – единственный в своем роде и все мы обязаны признать твой талант. Что ж, я поблагодарю и обращусь к другому человеку, в которого тоже вкладывал. Но с этой минуты все будут знать – хоть я и словом об этом не обмолвлюсь, – что тебе нельзя доверять. И тогда ты реализуешься не больше чем на половину своих возможностей. В какой-то миг дела твои пойдут на спад: ты достигнешь середины, но не дойдешь до конца, ты будешь и доволен и печален, тебя нельзя будет назвать неудачником, но и на человека, реализовавшего свой потенциал, ты не потянешь. Ты будешь ни холоден, ни горяч, а так, тепловат, а ведь сказано в одной священной книге, что это неприятно на вкус[2]
На мой счет в Банке Услуг издатель положил немало. Связи крепнут и развиваются. Я одолеваю ученье, мои книги переводят на французский, и по традиции чужестранцу оказывают любезный прием. Мало того – чужестранец имеет успех! Проходит десять лет, у меня – просторная квартира с видом на Сену, меня любят читатели и ненавидят критики (а ведь как носились со мной, пока тиражи не перевалили за первую сотню тысяч, и тогда сразу вывели меня из разряда «непонятых гениев»). Я гашу кредиты точно в срок и потому получаю прибыль – полезные связи. Мое влияние растет. Я учусь просить и учусь делать так, чтобы меня просили другие.
Эстер получает разрешение работать по своей специальности – журналисткой. Если не считать обычных в супружеской жизни стычек, все идет нормально. Впервые сознаю, что все мои разочарования и неудачи прежних лет не имели никакого отношения к моим любовницам и женам, но проистекали исключительно от горечи, переполнявшей мою душу. Простая истина открылась одной Эстер – чтобы найти ее, мне требовалось сначала найти самого себя. Мы восемь лет вместе, я считаю, что она и есть «женщина на всю жизнь», и хотя время от времени (а по правде говоря, довольно регулярно) я влюбляюсь в женщин, пересекающих мой путь, мысль о разводе мне и в голову не приходит. Я даже не задаюсь вопросом, осведомлена ли Эстер о моих шашнях на стороне. Она по этому поводу не высказывается никогда.
И потому так безмерно мое удивление в тот день, когда, выйдя с женой из кинотеатра, я слышу, что Эстер предложила редакции своего журнала написать репортаж о гражданской войне в Африке.
– Что это значит?
– Это значит, что я хочу быть военным корреспондентом.
– Ты с ума сошла?! Зачем тебе это надо? Ты здесь занимаешься любимым делом, прилично зарабатываешь, хоть тебе и не нужны эти деньги. Благодаря Банку Услуг обзавелась полезными знакомствами. У тебя есть талант и уважение коллег.
– Ну хорошо, тогда я хочу побыть одна.
– Это из-за меня?
– Мы строим наши жизни вместе. Я люблю своего мужа, и он меня любит, хоть его и нельзя назвать образцом супружеской верности.
– Ты впервые заговорила об этом…
– Потому что для меня это не имеет особого значения. Что такое верность? Чувство обладания телом и душой, которые мне не принадлежат? А ты полагаешь, что я за все эти годы ни разу тебе не изменила?
– Мне это не интересно. Я не желаю об этом знать.
– Вот и я тоже.
– Ну так при чем тут война в какой-то Богом забытой стране?!
– Мне это нужно. Говорю же, мне это нужно.
– Чего тебе не хватает?
– У меня есть все, чего может пожелать женщина.
– Тебе кажется, что твоя жизнь идет не так?
– Вот именно. У меня есть все, но я несчастна. Я не одна такая: за эти годы я повидала множество разных людей – богатых, бедных, могущественных, успешных, – и в глазах у каждого я видела бесконечную горечь. Печаль, в которой иногда человек самому себе не признается. Но она существует, что бы он мне ни говорил. Ты слушаешь меня?
– Да. Я пытаюсь понять. Так по-твоему, счастливых людей на свете нет?
– Одни кажутся счастливыми, но они просто никогда не думали на эту тему. Другие строят планы – выйду замуж, обзаведусь двумя детьми, построю дом и виллу… Покуда их мысли заняты мечтами, они – как быки, атакующие тореро: руководствуются инстинктом, мчатся вперед, не разбирая дороги. Вот они покупают себе вожделенную машину – пусть даже это будет «феррари» – и видят в ней смысл жизни и никогда не задают себе никаких вопросов. Но глаза выдают, что душу их тяготит тоска, даже если они сами об этом не подозревают. Ты вот счастлив?
– Не знаю.
– А я знаю. Люди придумывают себе занятия и отвлечения – сверхурочную работу, воспитание детей, замужество, карьеру, диплом, планы на завтра, беготню по магазинам, мысли о том, чего не хватает в доме и что надо сделать, чтобы было «не хуже, чем у других». И так далее. И очень немногие отвечали мне: «Я – несчастен», большинство предпочитали сказать: «Я – в полном порядке, я достиг всего, чего хотел». Тогда я задавала следующий вопрос: «Что делает вас счастливым?» Ответ: «У меня есть все, о чем только может мечтать человек, – семья, дом, работа, здоровье».
Я спрашивала: «Вам уже случалось задумываться о том, заполняет ли это жизнь без остатка?» Ответ: «Да, заполняет!» «Стало быть, смысл жизни – работа, семья, дети, которые вырастут и уйдут из дому, муж или жена, которые с годами неуклонно превращаются из возлюбленных в друзей. А работа когда-нибудь кончится. Что тогда?» Ответ: нет ответа. Заговаривают о другом. Но на самом деле это значит вот что: «Когда мои дети вырастут, когда муж – или жена – станет мне другом, когда я выйду на пенсию, у меня появится время делать то, о чем я всегда мечтал, – путешествовать». Вопрос: «Но ведь вы сказали, что счастливы – счастливы сейчас? Разве сейчас вы делаете не то, о чем мечтали всю жизнь?» Мне говорят, что очень заняты, и переводят разговор на другое.
Но если проявить настойчивость, всегда выяснится, что каждому чего-то не хватает. Предприниматель еще не провернул желанную сделку, матери семейства хотелось бы большей независимости или денег на расходы, влюбленный юноша боится потерять свою подружку, выпускник университета ломает голову над тем, сам ли он выбрал себе стезю или это сделали за него, стоматолог хочет быть певцом, певец – политиком, политик – писателем, писатель – крестьянином. И, даже повстречав человека, который следует своему призванию, я вижу, что его душа – в смятении. В ней нет мира. Ну так вот, я повторяю свой вопрос: «Ты счастлив?»
– Нет. Я женат на той, кого люблю, я занимаюсь тем, о чем всегда мечтал, я обладаю свободой, которой завидуют все мои приятели. Путешествия, почести, лестные слова… Но вот в чем дело…
– Ну?
– Я чувствую, что если остановлюсь – жизнь утратит смысл.
– И ты не можешь перевести дыхание, взглянуть на Париж, взять меня за руку и сказать: «Я достиг, чего хотел, теперь будем наслаждаться жизнью, сколько бы ее ни было нам отпущено…»
– Я могу взглянуть на Париж, взять тебя за руку, а вот произнести эти слова – нет.
– Держу пари, что на этой улице все испытывают те же проблемы. Вот эта элегантная дама, только что прошедшая мимо, денно и нощно пытается остановить время, ибо думает, будто от этого зависит любовь. Взгляни на ту сторону – муж, жена и двое детей. Они переживают мгновения ни с чем не сравнимого счастья, выходя на прогулку, но в то же время подсознательно пребывают в ужасе и не могут отделаться от гнетущих мыслей: что с ними будет, если они потеряют работу, заболеют, лишатся медицинской страховки, если кто-то из их мальчиков попадет под машину?! Они пытаются развлечься и одновременно ищут способ освободиться от трагедий, защититься от мира.
– А нищий на углу?
– Этого я не знаю: никогда не говорила с ним. Он – живое воплощение несчастья, но глаза у него, как и у всякого нищего, что-то таят. Печаль в них – такая явная, что я не могу в нее поверить.
– Чего же им всем не хватает?
– Понятия не имею. Я часто листаю журналы с фотографиями звезд – все всегда так весело улыбаются, все счастливы… Но я сама замужем за знаменитостью и знаю, что это не так: на снимках они ликуют, но утром или ночью их мучают мысли: «Что сделать, чтобы опять появляться на страницах журнала?», или: «Как скрыть то, что мне не хватает денег для роскошной жизни?», или: «Как правильно распорядиться этой роскошью, как преумножить ее, как затмить с ее помощью других?», или «Актриса, которая вместе со мной смеется в объектив камеры, завтра уведет у меня из-под носа мою роль!», или «Я лучше одета, чем она? Почему мы улыбаемся, если нас презирают?», или «Почему мы продаем счастье читателям журнала, если глубоко несчастны мы сами – рабы славы?»
– Но мы – не рабы славы?
– Я ведь не о нас с тобой.
– Так что же все-таки случилось?
– Много лет назад я прочла одну книгу. Очень интересную. Предположим, Гитлер выиграл войну, уничтожил всех евреев в мире и убедил свой народ в том, что он в самом деле принадлежит к высшей расе. Переписываются труды по истории, и вот сто лет спустя наследникам Гитлера удается истребить всех индийцев до последнего. Проходит триста лет – и не остается ни одного чернокожего. Еще пятьсот – и вот могучая военная машина начинает сметать с лица земли азиатов. Учебники истории глухо упоминают о давних сражениях с варварами, но на это никто не обращает внимания – никому нет до этого дела.
И вот по прошествии двух тысяч лет от зарождения нацизма в одном из баров города Токио, уже пять веков населенном рослыми голубоглазыми людьми, пьют пиво Ганс и Фриц. И в какую-то минуту Ганс смотрит на Фрица и спрашивает его:
– Ты как считаешь, Фриц, всегда так было?
– Как – так? – уточняет Фриц.
– Ну, мир всегда был такой, как сейчас?
– Ну, ясное дело, всегда! Что за чушь тебе в голову лезет, – говорит Фриц.
И они допивают свое пиво, и обсуждают другие предметы, и забывают о теме своей беседы.
– Зачем так далеко заглядывать в будущее? Не лучше ли вернуться на две тысячи лет назад? Ты способна была бы поклоняться гильотине, виселице, электрическому стулу?
– Знаю, знаю, что ты имеешь в виду. Распятие – жесточайшую из казней, изобретенных человечеством. Помнится, еще Цицерон называл ее «отвратительной», ибо перед смертью казнимый на кресте испытывает чудовищные муки. И теперь, когда люди носят крестик на груди, вешают распятие на стенку в спальне, видя в нем только религиозный символ, они забывают, что это – орудие пытки.
– Или взять другое: двести пятьдесят лет должно было пройти, прежде чем кому-то пришла в голову мысль о том, что необходимо покончить с языческими празднествами, которые устраивались в день зимнего солнцестояния, когда солнце максимально удалено от земли. Апостолы и их преемники-последователи были слишком заняты распространением учения Христова – им и дела не было до древнеперсидского празднества в честь рождения солнца, празднества, устраиваемого 25 декабря. Но вот какой-то епископ счел, что оно представляет собой угрозу истинной вере, – и готово! Теперь у нас служат мессы, дарят подарки, читают проповеди и поют гимны, пластмассовых пупсов кладут в деревянные ясли, и все пребывают в совершенной и непреложной уверенности, что в этот день родился Христос.
– А вспомни елку! Знаешь, откуда она к нам пришла?
– Понятия не имею.
– Святой Бонифаций решил «христианизировать» ритуал в честь бога Одина: раз в год германские племена раскладывали вокруг дуба подарки, которые потом доставались детям. Язычники считали, что этот обряд тешит их суровое божество.
– Вернемся к Фрицу с Гансом: ты считаешь, что цивилизация, отношения между людьми, наши желания, наши завоевания – суть всего лишь скверно перетолкованная история?
– Но ведь ты, когда писал о Пути Сантьяго, пришел к этому же самому выводу? Разве не так? Ведь прежде ты был уверен, что значение магических символов понятно лишь кучке избранных, а теперь знаешь, что смысл этот открыт каждому из нас, просто мы его позабыли.
– Знаю, но это ничего не меняет: люди прилагают огромные усилия, чтобы не вспоминать его, чтобы не использовать огромный магический потенциал, которым наделены. Потому что это нарушило бы равновесие их обустроенных вселенных.
– И все же – неужто все обладают этой способностью?
– Все без исключения. Просто им не хватает отваги идти вслед за своей мечтой, внимать приметам и знакам. Не оттого ли и твоя печаль?
– Не знаю. Но я не утверждаю, будто постоянно чувствую себя несчастной. Я развлекаюсь, я люблю тебя, я обожаю свою работу. Но иногда мне и впрямь делается невыносимо грустно, и порой эта грусть сопровождается чувством вины или страха. Потом это проходит, но обязательно накатит вновь, а потом опять пройдет.
Я вроде нашего с тобой Ганса – тоже задаю себе вопрос, а поскольку ответить не могу, то просто забываю о нем. Я ведь могла бы помогать голодающим детям, создать фонд спасения дельфинов или попытаться наставлять людей на путь истинный во имя Христа – словом, делать что-нибудь такое, благодаря чему я чувствовала бы себя нужной и полезной. Но – не хочу.
– А как тебе пришла в голову мысль отправиться на войну?
– Просто я поняла, что на войне, когда в любой момент ты можешь погибнуть, человек ведет себя иначе.
– Я вижу, ты хочешь ответить на вопрос Ганса?
– Хочу.
И вот сегодня, сидя в прекрасном номере отеля «Бристоль» с видом на Эйфелеву башню, которая целых пять минут сверкает и переливается всякий раз, как часовая стрелка совершает полный круг, – бутылка вина так и не откупорена, а сигареты кончились, – вспоминая, как люди приветствуют меня, словно ничего особенного не случилось, я спрашиваю себя: а не в тот ли день, при выходе из кинотеатра, все и произошло? Как мне следовало поступить тогда – отпустить Эстер на поиски смысла жизни или же проявить твердость и сказать: «Выбрось это из головы! Ты – моя жена, мне необходимо твое присутствие и твоя поддержка!»
Что за вздор. Я знал тогда, знаю и сейчас, что мне не оставалось ничего иного, как позволить ей делать что вздумается. Скажи я тогда: «Выбирай – или я, или работа военного корреспондента», то предал бы все, что Эстер сделала для меня. Да, меня немного смущал мотив – «поиски смысла жизни», – но я пришел к выводу: ей не хватает свободы, она нуждается в том, чтобы вырваться из привычного круга, испытать сильные, яркие чувства. Разве не так?
И я согласился, но, разумеется, предварительно разъяснив ей, что она берет крупный кредит в Банке Услуг (какая нелепость, если вдуматься!). На протяжении двух лет Эстер вблизи наблюдала вооруженные конфликты – так это теперь называется, – переезжая с континента на континент. Всякий раз, когда она возвращалась, я думал: ну все, теперь уж она бросит это занятие, сколько можно обходиться без нормальной еды, ежеутренней ванны, без театра и кино?! Я спрашивал, отыскала ли она ответ на вопрос Ганса, и неизменно слышал: «Пока нет, но я на верном пути» – и вынужден был примиряться. Порой она уезжала на несколько месяцев, но, вопреки расхожим представлениям, разлука усиливала нашу любовь, показывая, как мы нужны друг другу. Наш супружеский союз после нашего переезда в Париж делался все более гармоничным.
Как я теперь понимаю, Эстер познакомилась с Михаилом, когда собиралась в одну из стран Центральной Азии и искала переводчика. Поначалу она отзывалась о нем едва ли не восторженно, говоря, что он наделен даром чувствовать, что видит мир таким, каков он на самом деле, а не таким, каков он должен быть в навязываемых нам представлениях. Михаил был на пять лет моложе Эстер, но обладал опытом, который она определила как «магический». Я выслушивал все это терпеливо, как подобает хорошо воспитанному человеку, притворяясь, что неизвестный молодой человек и его идеи мне интересны, но на самом деле мысли мои были далеко: я перебирал в памяти неотложные дела, формулировал идеи, которые должны были появиться в очередной книге, придумывал ответы на вопросы журналистов и издателей, прикидывал, как бы мне обольстить заинтересовавшуюся мною женщину, строил планы рекламных кампаний.
Не знаю, замечала ли она это. А вот я не заметил, с какого времени Михаил все реже упоминался в наших с Эстер разговорах, а потом и вовсе исчез. А она мало-помалу стала вести себя очень независимо – даже когда была в Париже, несколько раз в неделю уходила по вечерам под неизменным предлогом, что готовит репортаж о нищих.
Я пришел к выводу, что у нее начался роман. Неделю промучился, решая для себя – надо ли поделиться с нею своими сомнениями или лучше сделать вид, что ничего не происходит? Остановился на втором варианте, исходя из принципа: «Чего не видел, того не знаешь». Я был убежден, что ей и в голову не придет оставить меня – она приложила столько усилий, чтобы я стал тем, кем стал, так неужели же теперь отказаться от всего ради мимолетной страсти?! Абсурд какой-то.
Если бы меня вправду интересовало творящееся в мире Эстер, то я бы хоть раз осведомился, как там поживает переводчик с его «магической чувствительностью». Меня должно было бы насторожить это умалчивание, это полное отсутствие сведений. Я должен был хоть однажды попросить, чтобы она взяла меня с собой, отправляясь готовить свои «репортажи».
А когда она время от времени спрашивала, интересно ли мне то, чем она занимается, я неизменно отвечал одно и то же: «Интересно, но я не хочу влезать в твои дела – ты должна свободно осуществлять свою мечту, подобно тому как я с твоей помощью осуществил свою».
Разумеется, это свидетельствовало лишь о полном безразличии. Но поскольку люди всегда верят тому, чему хотят верить, Эстер удовлетворялась моей отговоркой.
Снова звучат у меня в ушах слова полицейского комиссара: «Вы – свободны». А что есть свобода? Это когда видишь, что твоего мужа ни капли не интересует то, что ты делаешь? Когда ощущаешь одиночество, не имея возможности ни с кем поделиться сокровенным, ибо твой спутник жизни целиком сосредоточен на своей работе, на своем трудном, важном, великолепном занятии?
Я снова смотрю на Эйфелеву башню – она вся сверкает и переливается, словно сделана из бриллиантов: значит, часовая стрелка совершила еще один оборот. Не знаю, в который раз уже она так сверкает, покуда я стою тут у окна.
Зато знаю, что ради свободы нашего союза я пропустил тот миг, когда Эстер перестала упоминать Михаила.
Потом он вновь возник в некоем баре и вновь исчез, только на этот раз – вместе с нею, оставив знаменитого и преуспевающего писателя в качестве подозреваемого в совершении преступления.
Или – что еще хуже – в качестве брошенного мужа.
Вопрос Ганса
В Буэнос-Айресе Заир – это обычная монета достоинством в двадцать сентаво; на той монете навахой или перочинным ножом были подчеркнуты буквы N и Т и цифра 2; год 1929 выгравирован на аверсе. В Гуджарате в конце XVIII века Захиром звали тигра; на Яве – слепого из мечети в Суракарте, которого верующие побивали камнями; в Персии Захиром называлась астролябия, которую Надир-шах велел забросить в морские глубины; в тюрьмах Махди году в 1892-м это был маленький компас, к которому прикасался Рудольф Карл фон Слатин… [3]Прошел год, и вот однажды я проснулся с мыслью об истории, рассказанной Борхесом: есть на свете такое – если прикоснешься к нему или увидишь его, оно будет занимать все твои мысли, пока не доведет до безумия. Мой Заир – это не романтические метафоры со слепцами, компасами, тиграми или медной мелочью.
У него есть имя, и имя это – Эстер.
Не успел я выйти из тюрьмы, как снимки мои появились на обложках скандальных журнальчиков: все статьи начинались одинаково – писали, что я могу быть замешан в совершении преступления, но, чтобы я не вчинил им иск за диффамацию, неизменно добавляли, что обвинения с меня сняты (можно подумать, что они были мне предъявлены!). Проходила неделя, издатели убеждались, что журнальчики бойко раскупаются. (Еще бы! Репутация у меня была безупречная, так что всем хотелось узнать о том, как это у писателя, чьи книги посвящены духовному миру человека, вдруг обнаружилось двойное – и такое зловещее – дно.) И начиналась новая атака: уверяли, что жена бросила меня, узнав о моих изменах; какой-то немецкий журнал прозрачно намекал на мою связь с одной певицей, лет на двадцать моложе меня, с которой якобы мы встретились в Осло (чистая правда, только дело-то все в том, что встреча эта произошла из-за Банка Услуг, по просьбе моего друга, и он был на том нашем единственном совместном ужине третьим). Певица уверяла, что между нами ничего не было (а раз не было, какого дьявола помещать на обложку фотографию, где мы сняты вместе?!), и не упустила случая сообщить о выходе своего нового альбома, использовав и меня, и журнал – для рекламы. И я до сих пор не знаю, объясняется ли ее провал тем, что певица прибегла к такому дешевому пиару (альбом, в сущности, был вовсе не так уж плох: все дело испортило ее интервью).
Однако скандал со знаменитым писателем продолжался недолго: в Европе, а особенно во Франции, супружеская неверность не только принимается, но и служит, пусть негласно, предметом восхищения. И кому же понравится читать о том, что завтра может случиться и с тобой тоже?!
Вскоре эта новость исчезла с первых полос и с обложек. Однако в домыслах недостатка по-прежнему не было: похищение, бегство из дому по причине дурного обращения (тут же помещено фото официанта, утверждавшего, будто мы часто спорили – и это правда: я припоминаю, как однажды мы с Эстер яростно сцепились из-за одного латиноамериканского писателя, ибо наши мнения о нем оказались диаметрально противоположны). Британский таблоид предположил – и хорошо еще, что это не вызвало сильного резонанса, – что Эстер, поддерживавшая террористическую исламскую организацию, перешла на нелегальное положение.
Но прошел еще месяц, и широкая публика позабыла про эту тему – и без нее наш мир переполнен изменами, разводами, убийствами, покушениями. Многолетний опыт учит меня, что подобными сенсациями моего читателя не отпугнуть и он все равно сохранит мне верность (помню, как однажды аргентинское телевидение выпустило на экран журналиста, клявшегося, что располагает «доказательствами» того, что в Чили у меня была тайная встреча с будущей первой леди этой страны, – и ничего: мои книги остались в списках бестселлеров). Сенсация создана, чтобы продолжаться пятнадцать минут, как сказал один американский актер. Меня заботило другое: надо перестроить жизнь, найти новую любовь, вновь начать писать и сохранить в потайном ящичке, спрятанном на границе между любовью и ненавистью, какую-либо память о моей жене.
Вернее – о моей бывшей жене: так будет правильней.
Отчасти сбылось то, о чем я думал в номере парижского отеля. Какое-то время я не выходил из дому: не знал, как взгляну в глаза друзьям и скажу – просто так: «Жена меня бросила, ушла к молодому».
Когда же наконец решился, никто меня ни о чем не стал спрашивать, однако после нескольких бокалов вина я сам почувствовал, что обязан дать друзьям отчет о случившемся, словно был наделен даром читать чужие мысли, словно полагал, что нет у них других забот, как беспокоиться о переменах в моей жизни, хотя все они – люди хорошо воспитанные, никаких вопросов задавать не будут.
И вот, в зависимости от того, с какой ноги я вставал в тот или иной день, Эстер делалась то святой, которая заслуживает лучшей участи, то двуличной и коварной изменницей, по чьей милости я влип в тяжелейшую ситуацию и едва не попал в преступники.
Друзья, знакомые, издатели – словом, все те, кто оказывался за моим столом на бесчисленных торжественных ужинах, которые я был обязан посещать, поначалу слушали меня с любопытством. Но постепенно я стал замечать, что эта тема, прежде интересовавшая их, ныне уже не занимает их с прежней силой и они стараются завести речь о другом – об актрисе, убитой певцом, или о некоей совсем юной девице, сочинившей книгу о том, как она спала с известными политиками.
В один прекрасный день – дело было в Мадриде – я заметил, что поток приглашений на всякого рода приемы и ужины стал скудеть, и хоть мне нравилось облегчать душу, то втаптывая Эстер в грязь, то превознося ее до небес, все же начал понимать: я – кое-что похуже, чем обманутый муж, я – желчный раздражительный субъект, которого люди сторонятся.
И я решил отойти в сторону и страдать молча, и конверты с приглашениями вновь стали заполнять мой почтовый ящик.
Однако Заир , о котором я вспоминал то с нежностью, то с досадой, продолжал расти в моей душе. Во всех встреченных мною женщинах мерещились мне черты Эстер. Я видел их в барах, в кино, на автобусной остановке и не раз просил таксиста затормозить посреди улицы или ехать за какой-то женщиной, чтобы я мог убедиться – это не та, кого я ищу.
Заир занимал все мои помыслы, и я понял, что нуждаюсь в противоядии, в чем-то таком, что вывело бы меня из этого отчаянного положения.
Надо было завести любовницу.
Из трех-четырех заинтересовавших меня женщин я решил остановиться на Мари – тридцатипятилетней французской актрисе. Она – единственная – не говорила мне чепухи вроде: «Ты нравишься мне как человек, а не как знаменитость, с которой все мечтают познакомиться», или «Я бы хотела, чтобы ты не был так известен», или – еще хуже! – «Деньги меня не интересуют». Она – единственная – искренне радовалась моему успеху, поскольку сама была знаменита и знала, чего стоит популярность. Это – сильное возбуждающее средство, своего рода афродизиак. Быть рядом с мужчиной, чье имя у всех на слуху, сознавая, что он выбрал из многих именно тебя, приятно щекочет самолюбие.
Нас теперь часто видели вместе на всяких вечеринках и приемах, о нас ходили слухи, которые мы не подтверждали и не опровергали, и фоторепортерам оставалось только запечатлеть момент поцелуя – однако они этого не дождались, ибо и она и я считали нестерпимой пошлостью подобные публичные зрелища. У нее шли съемки, у меня была моя работа; иногда я приезжал к ней в Милан, иногда она появлялась у меня в Париже, мы чувствовали, что близки, но не зависели друг от друга.
Мари делала вид, будто не знает, что у меня на душе. Я притворялся, что понятия не имею о том, что и она – женщина, способная заполучить любого, кто понравится, – страдает от несчастной любви к женатому мужчине, своему соседу. Мы сдружились, мы приятельствовали, мы вместе посещали разные увеселительные заведения, и рискну даже сказать, что между нами возникло нечто, напоминающее любовь – только какую-то особенную, совсем непохожую на ту, которую испытывал я к Эстер, а Мари – к своему избраннику.
Я снова стал раздавать автографы в книжных магазинах, участвовать в пресс-конференциях, появляться на благотворительных обедах и в телевизионных программах, поддерживать проекты для начинающих артистов. Одним словом, занимался чем угодно, только не тем, что мне было предназначено, – я не писал .
Впрочем, меня это не волновало: в глубине души я считал, что моя писательская карьера окончена, если уж рядом со мной больше нет женщины, которая заставила меня начать ее. Покуда я творил, я рьяно и ревностно осуществлял свою мечту, и немногим посчастливилось достичь того, чего достиг я, а потому остаток жизни могу с полным правом посвятить развлечениям.
Такие мысли приходили мне в голову по утрам.
А днем я понимал, что хочется мне только одного – писать. Когда же наступал вечер, я снова пытался убедить себя, что уже исполнил свою мечту и теперь надо попробовать чего-нибудь новенького.
Наступавший год был особым – так происходит всякий раз, когда день Святого Иакова, празднуемый 25 июля, выпадает на воскресенье. В кафедральном соборе Сантьяго Компостельского есть специальная дверь, которую не закрывают 365 дней в году: по традиции считается, что вошедший через нее во храм будет осенен благодатью.
В Испании затевались разнообразные, так сказать, мероприятия, и я, памятуя, как благотворно сказалось на мне паломничество, решил принять участие в одном, по крайней мере, – в январе в Стране Басков намечался «круглый стол». Чтобы разорвать ставшую привычной цепь: попытка писать – вечеринка – аэропорт – прилет к Мари в Милан – ужин – отель – аэропорт – Интернет – интервью – аэропорт – я решил проделать путь в 1400 километров в одиночку, на машине.
Все напоминает мне о моем Заире – даже те места, где я никогда не бывал раньше. Как интересно было бы Эстер взглянуть на это, думаю я, как бы ей понравилось в этом ресторанчике, как приятно было бы ей пройтись берегом этой речушки. Ночую в Байонне, и прежде чем уснуть, включаю телевизор и узнаю, что на французско-испанской границе из-за снежных заносов застряло около пяти тысяч автомобилей.
Первая моя мысль наутро – надо возвращаться в Париж. Причина более чем уважительная, и организаторы дискуссии поймут меня: дороги обледенели, пробки чудовищные, правительства Франции и Испании убедительно рекомендуют до конца недели не пользоваться автотранспортом, поскольку велик риск попасть в аварию. Положение еще хуже, чем вчера. Утренняя газета сообщает, что на другом отрезке магистрали застряло 17 тысяч человек, поднятые по тревоге части гражданской обороны пытаются доставить им продовольствие и одеяла, поскольку у многих машин уже кончилось горючее и, стало быть, не работает отопление.
В отеле мне объясняют, что если я ВСЕ ЖЕ ДОЛЖЕН ЕХАТЬ, если это – вопрос жизни и смерти, то ехать лучше в объезд, по узкой проселочной дороге. Это – лишних два часа, и никто не знает, в каком состоянии покрытие. Но я инстинктивно решаю двигаться по автостраде: что-то словно толкает меня вперед – на скользкий бетон, ко многим часам покорного стояния в пробках.
Может быть, это «что-то» – название городка, в который я направляюсь: Витория. Может быть, мысль о том, что я чересчур привык к комфорту и утратил способность принимать нестандартные решения в критических ситуациях. Может быть, энтузиазм людей, в эту самую минуту восстанавливающих кафедральный собор, построенный много столетий назад, – именно для того, чтобы привлечь внимание к их усилиям, и пригласили нескольких писателей на «круглый стол». А может быть, то самое, что заставляло конквистадоров повторять: «Плыть – необходимо, жить – не обязательно».
Вот я и плыву. Потратив много времени и много нервов, прибываю в Виторию, где меня ждут люди, нервничающие еще сильнее. Говорят, что подобного снегопада не было последние тридцать лет, благодарят за то, что я все же пробился, а теперь надо следовать официальной программе, которая включает в себя посещение собора.
Девушка с каким-то особым блеском в глазах начинает рассказывать мне его историю. Вначале была стена. Потом ее использовали для постройки часовни. Прошли десятки лет, и часовня превратилась в церковь. Минул еще век, и церковь стала готическим собором. Он познал мгновения славы, потом начал кое-где разрушаться, потом какое-то время пребывал в забросе, пережил не одну перестройку, исказившую его структуру, и каждое следующее поколение считало, что уж оно-то решило задачу, – и перекраивало первоначальные замыслы. И с течением лет тут пристроили стену, там убрали балку, где-то еще укрепили опоры, а витражи то закрывали, то открывали вновь.
Собор же перенес все.
Я прохожу вдоль его каменного остова – нынешние архитекторы уверяют, что нашли наилучшее решение. Повсюду металлические опоры и крепления, собор – в лесах, грандиозные планы на будущее, сдержанная критика того, что сделано предшественниками.
И вдруг, когда я остановился посреди центрального нефа, меня осенило: собор – ведь это же и я сам, и каждый из нас. Мы растем и меняем очертания, мы обнаруживаем в себе слабости и недостатки, требующие исправления, и не всегда находим наилучшее решение, но, несмотря ни на что, пытаемся стоять прямо и правильно, оберегая не стены, не окна и двери, но пространство внутри – пространство, где мы лелеем и чтим все, что нам важно и дорого.
Да, это несомненно: каждый из нас – храм. Но что заключено в пространстве моего храма?
Эстер. Заир .
Она заполняет его. Она – единственная причина того, что я еще жив. Я оглядываюсь вокруг и понимаю, почему сейчас я стою в центральном нефе, почему мчался по обледенелой автостраде и томился в пробках – для того, чтобы помнить, что надо ежедневно перестраивать себя; для того, чтобы – впервые в жизни – признать: я люблю другого человека больше, чем самого себя.
Возвращаясь в Париж – погода уже улучшилась, – я пребываю в некоем трансе: ни о чем не думаю, а лишь слежу за дорогой. Приехав, прошу прислугу никого ко мне не впускать и несколько ближайших дней пожить у меня, готовя мне утренний кофе, обед и ужин. Я наступаю ногой на маленькое устройство, позволяющее выходить в Интернет, и вот уже от этого приборчика остались одни обломки. Я срываю со стены розетку телефона. А мобильник кладу в пакет и отправляю своему издателю с просьбой вернуть мне его не раньше, чем я сам лично приду за ним.
Неделю кряду я брожу по набережным Сены, а потом запираюсь у себя в кабинете. Так, словно мне диктует стоящий за плечом ангел, я пишу книгу – вернее, письмо, бесконечное письмо женщине моей мечты, женщине, которую люблю и буду любить всегда. Когда-нибудь эта книга попадет тебе в руки, но даже если этого не произойдет, я – в ладу со своей совестью, с миром в душе. Больше я не сражаюсь со своей уязвленной гордостью, больше не отыскиваю Эстер на улицах и в барах, в кино и на приемах, в Мари и строчках газетной хроники.
Напротив, мне довольно самого факта ее существования – это доказывает, что я способен испытывать неведомую прежде любовь. Это осеняет меня благодатью.
Я принимаю Заир . Пусть ведет меня к святости или к сумасшествию.
Книга, названием которой стала строчка из Екклезиаста «Время раздирать и время сшивать», вышла в конце апреля. Через две недели она уже заняла первое место в списке бестселлеров.
Литературные критики, которые никогда со мной особенно не церемонились, на этот раз оказались просто беспощадны. Кое-что я вырезал и вклеил в тетрадь рядом со статьями, посвященными прочим моим книгам. Писали примерно одно и то же, менялось только заглавие:
«…мы живем в такие бурные и беспокойные времена, автор же, рассказывая любовную историю, снова заставляет нас бежать от действительности» (можно подумать, человек способен жить без любви);
«…короткие фразы, поверхностный стиль» (можно подумать, длинные фразы – свидетельство стилистической глубины);
«…автор открыл секрет успеха – маркетинг» (можно подумать, я родился в стране с богатой литературной традицией и обладал средствами для «раскрутки» своей первой книги);
«…хотя она будет раскупаться не менее успешно, нежели все предшествующие, это доказывает лишь то, что человек не готов воспринять окружающую нас трагедийную действительность» (можно подумать, критик знает, что это такое – готовность к трагедии).
Появилось, впрочем, и другое: к приведенным выше фразам рецензенты добавили кое-что новенькое – о том, например, что я, стремясь заработать как можно больше, использую прошлогодний скандал. Как всегда бывает, бранные отзывы только подогрели интерес публики. Мои верные читатели покупали книгу, а те, кто уже успел позабыть скандал с исчезновением Эстер, теперь вспомнили и поспешили обзавестись экземпляром, чтобы узнать мою версию происшедшего (а поскольку в книге об этом не было ни слова, а воспевалась любовь, они, надо думать, испытали разочарование и признали правоту критики). Издательства всех стран, где публиковались мои книги, немедленно купили права и на эту тоже.
А Мари, которой я отправил рукопись раньше, чем своему издателю, не обманула моих ожиданий: она не стала ревновать или пенять мне на то, что я, мол, открываю душу всем и каждому, а наоборот – одобрила меня и поддержала, и была ужасно рада успеху книги. В ту пору она читала труды одного мистика, никому почти не известного, и ссылалась на него в каждом нашем разговоре.
– Когда нас хвалят, надо особенно тщательно следить за своим поведением.
– Критики никогда меня не хвалили.
– Я говорю о читателях: ты получаешь от них неимоверное количество писем и в конце концов можешь решить, что ты – лучше, чем ты сам о себе думал, и тогда тебя охватит ложное чувство уверенности. Тебе покажется, что ты защищен от всего, а это очень опасно.
– По правде сказать, побывав в соборе, я в самом деле переменил мнение о себе к лучшему, и письма читателей тут ни при чем. Я, как это ни странно, обнаружил в своей душе любовь.
– Ну и прекрасно. Больше всего меня радует, что в своей книге ты ни разу не обвинил Эстер. И себя тоже.
– Я научился не тратить на это время.
– Вот и славно. Вселенная берет на себя труд исправлять наши ошибки.
– Ты считаешь, что исчезновение моей жены – нечто вроде «исправления»?
– Я не верю в целебные свойства страдания и трагедии – они случаются потому, что это часть нашего бытия, и потому не стоит воспринимать их как кару. Вселенная указывает нам на наши заблуждения, когда лишает нас самого важного – наших друзей. Если не ошибаюсь, именно это с тобой и происходит.
– Вот что я понял недавно: истинные друзья – это те, кто оказывается рядом, когда происходит что-то хорошее . Они радуются нашим победам. Ложные друзья появляются в трудные минуты и с печалью на лице демонстрируют, что они – «с нами», хотя на самом деле наше страдание служит им в их убогой жизни немалым утешением. В прошлом году, например, рядом со мной возникли люди, которых я никогда прежде не видел. Они желали меня «поддержать». Мне это ненавистно.
– Так бывало и со мной тоже.
– Я благодарен судьбе за то, что ты появилась в моей жизни, Мари.
– Рано благодарить: наши отношения еще не обрели ни прочности, ни достаточности. А я между тем подумываю, не перебраться ли мне в Париж. Или, может быть, попросить тебя пожить в Милане? И в том, и в другом случае на нашей работе это отразится не слишком сильно. Ты и так всегда работаешь дома, а я – в других городах. Обсудим это или поговорим о другом?
– Второе предпочтительней.
– Будь по-твоему. Знаешь, твоя книга написана очень смелым человеком. Больше всего меня поразило, что ты нигде, ни разу не даешь слова этому юноше.
– Он меня не интересует.
– Еще как интересует. Уверена, что ты нет-нет да и спросишь себя: «Почему она предпочла его?»
– Нет.
– Врешь. Я вот спрашиваю себя, почему мой сосед не разведется со своей женой – невзрачной, с вечной улыбкой на лице, с вечными заботами о доме, о еде, о детях, о счетах. Я спрашиваю – значит, и ты тоже.
– Тебе хотелось бы, чтобы я сказал, что ненавижу его, – он увел у меня жену.
– Нет. Мне хотелось бы, чтобы ты его простил.
– На это я не способен.
– Это и вправду очень трудно. Но выбора нет: если не простишь – будешь постоянно думать о том, какое страдание он тебе причинил, и эта боль не пройдет никогда. Пойми, я вовсе не считаю, будто ты должен любить его. Я не говорю, что ты должен разыскать его. Я не предлагаю тебе сделать из него ангела. Как, кстати, его зовут? Какое-то русское имя, если не ошибаюсь.
– Не важно.
– Вот видишь?! Ты даже не хочешь осквернить уста его именем. Из суеверия?
– Ты хочешь знать, как его зовут? Пожалуйста – Михаил.
– Энергия ненависти бесплодна. Энергия прощения, выраженного через любовь, способна преобразить твою жизнь.
– Знаешь, ты напоминаешь мне сейчас какого-то тибетского мудреца, чьи рассуждения очень хороши в теории, но неприменимы на практике. Не забывай – я много раз был ранен.
– Да, внутри тебя до сих пор живет мальчик, который плакал тайком от родителей и был самым слабым в классе. Ты до сих пор отмечен чертами того юноши, которому не давались спортивные достижения. Который не пользовался успехом у сверстниц. В твоей душе еще остались шрамы от того, как несправедливо обходилась с тобою жизнь. Ну и что в этом хорошего?
– Откуда ты знаешь, что все это было со мной?
– Да уж знаю. По глазам вижу. Еще раз говорю – ничего хорошего тебе это не принесло. Ничего, кроме постоянного желания жалеть себя, ибо ты становился жертвой тех, кто сильнее. Или метнуться в другую крайность – выступить в обличье мстителя, готового ранить еще сильней, чем ранили его самого. Тебе не кажется, что ты даром теряешь время?
– Мне кажется, что я веду себя как человек.
– Это так. Но не как человек умный и рассудительный. Береги время, отпущенное тебе на этом свете, помни, что Господь прощал,– прости и ты.
Оглядывая толпу людей, собравшихся в огромном супермаркете на Елисейских Полях, чтобы получить мою книгу с автографом, я размышлял: скольким из них пришлось пережить то, что пережил я по милости Эстер?
Немногим. Одному-двоим. И все равно – большинство сочтет, что эта книга написана про них.
Писательство – дело одинокое. Мало найдется профессий, которые предполагали бы такое одиночество. Раз в два года я сажусь перед компьютером, вглядываюсь в неведомое море моей души и вот, заметив в нем островки мыслей, требующих развития и исследования, всхожу на корабль под названием «Слово» и решаю плыть к ближайшему острову. Одолеваю течения, встречные ветры, шторма и шквалы, однако плыву на исходе сил, хоть и сознаю: я отклонился от курса и остров, к которому я направлялся, больше не виден на горизонте.
Я сознаю это, но назад не поворачиваю – надо двигаться вперед, иначе я застряну посреди океана, и в этот миг перед глазами у меня проносится череда ужасающих картин: всю жизнь теперь я буду обречен вспоминать свои былые триумфы или желчно брюзжать по поводу молодых писателей, потому что мне не хватает отваги опубликовать новые книги. Но разве я не мечтал быть писателем? И значит, должен ставить слово к слову, сочинять абзац за абзацем, главу за главой, писать до самой смерти, не давая успеху или провалу вогнать меня в столбняк. В противном случае жизнь моя потеряет всякий смысл – тогда уж лучше купить мельницу на юге Франции да возделывать свой сад[4] Читать лекции – ведь это куда легче, чем писать? Удалиться от мира каким-нибудь замысловато-таинственным образом, оставив вместо себя легенду, которая будет тешить мою душу?
И вот под воздействием этих пугающих размышлений я обнаруживаю в себе силу и отвагу, о которых и не подозревал: они помогают мне дрейфовать в неведомую сторону моей души и в конце концов бросить якорь у желанного острова. Дни и ночи я описываю то, что предстает моему взору, спрашивая себя, почему я так поступаю, ежеминутно повторяя себе, что усилия мои напрасны, что мне больше никому ничего не надо доказывать, что я уже достиг всего, чего хотел, – да нет, гораздо большего: того, о чем и не мечтал.
Я замечаю, что все происходит в точности так же, как с первой книгой: просыпаюсь в девять с намерением выпить кофе и сразу же сесть за компьютер; читаю газеты, выхожу на прогулку, заглядываю в ближайший бар поговорить с людьми, возвращаюсь, гляжу на компьютер, вспоминаю, что надо позвонить туда-то и туда-то, гляжу на компьютер, а время уже к обеду, я ем, сокрушаясь при мысли о том, что должен был бы писать с одиннадцати утра, но теперь надо немного поспать, и просыпаюсь в пять, и вот наконец включаю компьютер, проверяю почту, выясняю, что не могу выйти в сеть, и что же остается, как не отправиться в ближайшее интернет-кафе, находящееся в десяти минутах ходьбы от моего дома, но неужели же перед этим, хотя бы для того, чтобы избыть чувство вины, я не смогу поработать хотя бы полчаса?!
И я начинаю писать – по обязанности, но вдруг увлекаюсь и уже больше не останавливаюсь. Прислуга зовет меня ужинать, я прошу не мешать и не отвлекать, через час она приходит снова, мне хочется есть, но – еще слово, еще строчку, еще страницу. Сажусь за стол, торопливо проглатываю простывшую еду и возвращаюсь к компьютеру – я больше не контролирую свои шаги, и остров появляется передо мной из мглы, меня тащит по его тропинкам, и я встречаю такое, чего никогда не видел, о чем никогда не мечтал. Кофе, потом еще кофе, и вот в два часа ночи останавливаюсь, потому что глаза устали.
Ложусь и еще больше часа записываю то, что может пригодиться в новом абзаце – и не пригождается, как показывает опыт, никогда: все эти заметки служат лишь для того, чтобы опустошить голову и заснуть. Обещаю самому себе, что завтра в одиннадцать утра вновь примусь за работу. И на следующий день все повторяется сначала – прогулки, беседы, обед, сон, чувство вины, досада на то, что связь не установить, попытки выжать из себя первую страницу и т. д.
Внезапно оказывается, что пролетели две, три, четыре, одиннадцать недель, я знаю, что уже недалеко финал, меня охватывает чувство пустоты, известное каждому, кто вкладывал в сочетания слов то, что лучше было бы хранить для себя. Но я должен дойти до последней фразы – и дохожу.
Когда прежде я встречал в биографиях писателей слова «Книга пишется сама, писатель лишь заносит ее на бумагу», мне казалось, что они приукрашивают свое ремесло. Сейчас я знаю, что это – чистейшая правда: никто не знает, почему течение вынесло его к этому острову, а не к тому, на который он стремился попасть. Начинаешь как одержимый править и вычеркивать, а когда не в силах больше читать по сто раз одно и то же, отправляешь рукопись издателю – пусть еще раз отредактирует и выпустит в свет.
И – к твоему несказанному и непреходящему удивлению – другие люди, которые тоже искали этот остров, находят его в твоей книге. Один рассказывает другому, и вот протягивается звено за звеном таинственная цепь, и то, что писатель считал плодом своего затворнического труда, превращается в мост, в корабль, благодаря которым, как говорится, сердце сердцу весть подает.
И с этой минуты я уже не тот затерянный в бурном море человек: благодаря моим читателям я встречаюсь с самим собой, ибо понимаю написанное мною, лишь когда это поняли другие – никак не раньше. В те редкие мгновения, подобные тому, которое вот-вот наступит, я могу поглядеть кому-то из этих «других» в глаза и понять, что моя душа не одинока в этом мире.
В назначенный час я начал подписывать свои книги, лишь на мгновение встречаясь глазами с теми, кто протягивал мне свой экземпляр, но испытывая уважительную радость сообщника и единомышленника. Рукопожатия, письма, отзывы. Спустя полтора часа прошу дать мне десять минут передышки, и никто не выказывает недовольства, а мой издатель (по уже устоявшейся традиции) угощает шампанским всех, кто стоит в очереди за автографом. (Я пытался было распространить эту традицию и на другие страны, однако слышал в ответ, что французское шампанское очень дорого, так что приходилось ограничиваться стаканом минеральной воды, что, впрочем, тоже знак внимания к ожидающим.)
Возвращаюсь за стол. Проходит два часа, но вопреки тому, что могли бы подумать наблюдающие за этой церемонией, я нисколько не устал, полон энергии и готов продолжать работу хоть всю ночь напролет. Но доступ в магазин прекращен, двери заперты, а внутри остается человек сорок, вот их уже тридцать… двадцать… одиннадцать… пять… четыре… три… два… – и наконец я встречаюсь глазами с последним.
– Я хотел дождаться конца. Мне надо вам кое-что передать.
Не знаю, что ответить. Издатели и книготорговцы ведут оживленный разговор, вскоре мы пойдем ужинать, пить после такой эмоциональной встряски, рассказывать о всяких забавных происшествиях, случившихся во время раздачи автографов.
Я никогда не видел этого человека, но знаю, кто это. Взяв у него экземпляр, пишу: «Михаилу – на добрую память».
Все это – молча. Боюсь спугнуть его – неосторожное слово, фраза, движение, и он скроется, исчезнет навсегда.
В долю секунды успеваю сообразить, что он – и только он – спасет меня от этого благословенного или проклятого наваждения, ибо этот человек – единственный, кто знает, где обретается ныне Заир, и я смогу наконец задать вопросы, которыми столько времени терзал себя.
– Хочу, чтобы вы знали: с нею все обстоит благополучно. И весьма вероятно, она прочла вашу книгу.
Мои спутники приближаются. Поздравляют меня, обнимают, говорят, что все прошло необыкновенно удачно. Теперь мы поужинаем, выпьем, отпразднуем успех, обменяемся впечатлениями.
– Я хочу пригласить вот этого читателя, – говорю я. – Он был в очереди последним, он будет представлять всех тех, кто был с нами здесь сегодня вечером.
– Не могу, – произносит он. – У меня встреча, которую нельзя отменить или перенести. – И, повернувшись ко мне, добавляет немного испуганно: – Я всего лишь должен был передать вам кое-что.
– А что именно? – спрашивает кто-то из книготорговцев.
– Наш автор никогда никого не приглашает! – говорит мой издатель.– Воспользуйтесь приглашением! Едем ужинать!
– Благодарю, но по четвергам я занят. У меня встреча.
– В котором часу?
– Через два часа.
– И где она должна состояться?
– В одном армянском ресторане.
Мой водитель – армянин по национальности – уточняет, в каком именно, и сообщает, что это всего лишь в пятнадцати минутах езды от нашего ресторана. Все стремятся сделать мне приятное, полагая, что, если я приглашаю кого-то, он должен быть польщен и растроган, а все прочие дела отложить.
– Как вас зовут? – спрашивает Мари.
– Михаил.
– Михаил, – говорит она, и я вижу, что она все поняла. – Поедемте с нами хотя бы на часок: ресторан, в который мы собираемся, совсем рядом. Потом шофер отвезет вас, куда захотите. А можно поступить иначе – отменим наш заказ и все вместе поужинаем в армянском ресторане: тогда вам не надо будет торопиться.
Я не свожу глаз с этого человека. Он не особенно красив, но и вовсе не безобразен. Не высок, но и не приземист. Одет во все черное, просто и элегантно – а под элегантностью я понимаю полное отсутствие «лейблов».
Мари подхватывает Михаила под руку и ведет к выходу. В магазине еще осталась целая пачка книг для тех, кто не смог прийти, но я обещаю подписать эти экземпляры завтра. Ноги у меня дрожат, сердце бухает в груди, а нужно делать вид, что все обстоит прекрасно, что я всем доволен, что с интересом выслушиваю те или иные замечания. Мы пересекаем Елисейские Поля, за Триумфальной аркой садится солнце, и я, сам не умея объяснить почему, понимаю – это знак, причем добрый знак.
Почему же мне так нужно поговорить с ним? Мои спутники – сотрудники издательства – о чем-то спрашивают меня, я отвечаю машинально, никто не замечает, что я – далеко отсюда и в толк никак не возьму, почему я окажусь за одним столом с человеком, которого должен бы ненавидеть. Потому что хочу знать, где находится Эстер? Потому что хочу отомстить этому юноше – такому растерянному, такому неуверенному в себе и однако же сумевшему разлучить меня с любимой женщиной? Потому что хочу доказать себе самому, что я лучше, гораздо лучше, чем он? Потому что хочу очаровать его, подчинить своей воле, чтобы он убедил Эстер вернуться?
У меня нет ответа ни на один из этих вопросов, да и все это вообще не имеет ни малейшего значения. До сих пор я произнес единственную фразу: «…хочу, чтобы он поужинал с нами…» Сколько раз я воображал себе нашу встречу – представлял, как хватаю его за горло, бью кулаком, унижаю на глазах Эстер: пусть видит, что я не только страдаю, но и сражаюсь за нее. Много чего я представлял себе – и мордобой, и притворное безразличие, – однако ни разу не пришли мне в голову слова: «…хочу, чтобы он поужинал с нами…»
Зачем спрашивать себя, что я намерен делать дальше, – все, что мне следует делать, это наблюдать за Мари, которая идет в нескольких шагах впереди под ручку с Михаилом, будто его возлюбленная. Она не дает ему уйти, но почему же она помогает мне – ведь знает, что встреча с этим юношей может открыть мне местонахождение Эстер?
Пришли. Михаил делает попытку сесть подальше от меня: должно быть, хочет избежать разговора под шумок общего застолья. Весело. Шампанское, водка и икра, я смотрю в меню и с ужасом вижу: только закуски обошлись владельцу книжного магазина почти в тысячу долларов. Идет общий разговор, Михаила спрашивают, как понравилась ему презентация. Очень понравилась. А книга? Книга тоже очень ему понравилась. Потом про него забывают, и внимание переключается на меня – спрашивают, доволен ли я организацией вечера, хорошо ли действовала охрана. Сердце у меня по-прежнему колотится, но я не показываю вида, благодарю за все, рассыпаюсь в похвалах и самому замыслу, и тому, как его осуществили.
Полчаса беседы, сопровождаемой большим количеством водки, и я замечаю – Михаил уже не так напряжен, как раньше. Он – не в центре внимания, ему ничего не надо говорить: можно посидеть еще немного и уйти. Знаю – он не солгал насчет армянского ресторана, и теперь у меня есть след. Значит, моя жена – по-прежнему в Париже! Я стараюсь быть с ним любезным, стараюсь завоевать его доверие, и вот – первоначальное напряжение исчезает.
Проходит еще час. Михаил смотрит на часы: собирается уходить. Мне надо что-то сделать, причем немедленно. Каждый раз, когда я взглядываю на него, он представляется мне все более и более ничтожным и незначительным, и я все меньше понимаю, как могла Эстер променять меня на человека, который кажется столь далеким от действительности (помнится, она что-то упоминала о его «магических дарованиях»). Мне трудно будет изображать непринужденность, разговаривая с тем, кого считаю своим врагом, но что-то надо сделать.
– Надо бы нам побольше узнать о нашем читателе, пока он еще здесь, – говорю я, и за столом немедля воцаряется тишина. – Скоро ему уходить, а он так ничего и не рассказал о своей жизни. Чем вы занимаетесь?
Михаилу, хоть он немало выпил, удается собраться.
– Устраиваю встречи в армянском ресторане.
– То есть?
– То есть рассказываю со сцены разные истории. А потом заставляю делать это тех, кто сидит в зале.
– В своих книгах я делаю то же самое.
– Знаю. Именно это и сблизило меня с…
Сейчас он еще скажет с кем!
– Вы родились здесь? – перебивает его Мари, не давая закончить фразу («…сблизило меня с вашей женой»).
– Нет. Я родился в степях Казахстана.
Казахстан! Кто осмелится спросить, где это?
– А где это – Казахстан? – осведомляется кто-то из присутствующих.
Блаженны не боящиеся показать свое незнание.
– Я ждал этого вопроса, – в глазах Михаила мелькнуло подобие улыбки. – Через десять минут после того, как я назову свою родину, со мной заговаривают о Пакистане, об Афганистане… Моя страна находится в Центральной Азии. В ней всего 14 миллионов жителей, а площадь во много раз превосходит Францию с ее 60 миллионами.
– Иными словами, там никто не жалуется на скученность, – со смехом замечает мой издатель.
– В течение всего двадцатого столетия там вообще никто не имел права жаловаться ни на что. Во-первых, когда коммунисты отменили частную собственность, все поголовье скота оказалось брошено в степях, и 48,6% жителей погибли от голода. Представляете? В 1932–1933 годах почти половина населения вымерла.
За столом повисает молчание. Поскольку трагедии омрачают атмосферу нашего празднества, кто-то из присутствующих пробует заговорить о другом. Однако я требую, чтобы «читатель» продолжал рассказ о своей стране.
– На что похожа степь?
– Это огромные равнины, на которых почти ничего не растет. Разве вы не знаете?
Да знаю, конечно. Просто настал мой черед спросить что-либо для поддержания разговора.
– Я кое-что вспоминаю, – говорит мой издатель. – Не так давно мне прислали рукопись одного тамошнего писателя. Книга была посвящена ядерным испытаниям в степи.
– На земле нашей страны – кровь, и в душе ее – тоже. Она изменила то, что менять нельзя, и вот уже несколько поколений моего народа расплачиваются за это. Мы умудрились уничтожить целое море.
Тут вмешивается Мари:
– Никто не может уничтожить море.
– Я живу на свете двадцать пять лет, и уже на моей памяти воды, существовавшие на протяжении тысячелетий, превратились в пыль. Наши коммунистические правители решили изменить течение рек Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, чтобы они орошали хлопковые поля. Цели своей они не достигли, но было уже слишком поздно – море исчезло, а возделанная земля стала пустыней. Отсутствие воды привело к изменению климата. Мощнейшие пыльные бури ежегодно приносят 150 тысяч тонн соли и песка. Пятьдесят миллионов человек в пяти странах пострадали от этого безответственного и необратимого решения советских бюрократов. Оставшаяся вода загрязнена и стала источником всякого рода болезней.
Я отмечал про себя все, что он говорил, – может пригодиться для каких-нибудь лекций. Михаил же продолжал, и я понял, что речь уже не об экологии, а о настоящей трагедии:
– Мне рассказывал дед, что в старину Аральское море называлось Синим из-за цвета воды. Теперь воды там нет вовсе, но люди не хотят оставлять свои дома и перебираться на новое место: они все еще мечтают о волнах, о рыбах, они все еще хранят удочки и снасти и разговаривают о лодках и наживке.
– А насчет ядерных взрывов – это правда? – допытывался мой издатель.
– Думаю, что все, кто родился в моей стране, знают, что пережила их земля – она вся в крови. Сорок лет подряд наши степи сотрясались от взрывов атомных и водородных бомб, а прекратились испытания лишь в 1989 году, и к этому времени было взорвано 456 зарядов. Из них 116 – в атмосфере, и совокупная сила этих зарядов в две с половиной тысячи раз превосходит мощность бомбы, сброшенной на японский город Хиросиму во время Второй мировой войны. В результате многие тысячи людей пострадали от радиоактивного заражения и таких его последствий, как рак легких, а многие тысячи детей родились умственно или физически неполноценными – проще говоря, уродами.
Он взглянул на часы:
– Прошу прощения, но мне пора.
Половина из тех, кто сидел за столом, огорчилась – разговор принял новый и интересный оборот. Другая половина была явно обрадована: зачем портить такой веселый вечер трагическими историями?!
Михаил делает общий поклон, а меня обнимает. Но не потому, что испытывает ко мне особо теплые чувства, а чтобы шепнуть на ухо:
– С ней все в порядке. Не беспокойтесь.
– Он еще смеет мне говорить: «Не беспокойтесь!» Действительно, чего мне беспокоиться из-за того, что меня бросила жена?! Меня таскали в полицию, мое имя трепали в желтой прессе, я места себе не находил, я растерял всех своих друзей и…
– …и написал «Время раздирать и время сшивать». Прошу тебя, мы с тобой – взрослые люди, не вчера родились. Так что не будем себя обманывать. Разумеется, ты очень хотел знать, как поживает Эстер. Более того – ты хотел ее увидеть.
– Если ты знала это, то зачем подстроила, можно сказать, мою встречу с этим Михаилом? Теперь у меня есть зацепка: каждую неделю по четвергам он выступает в армянском ресторане.
– Вот и хорошо. Сделай следующий шаг.
– Ты меня не любишь?
– Больше, чем вчера, меньше, чем завтра, – как написано на почтовой открытке, которые мы покупаем в писчебумажных магазинах. Нет, я люблю тебя. Сказать по чести, я без ума от тебя, я подумываю о том, чтобы круто изменить жизнь, о переезде в Париж, в эту вот огромную и необжитую квартиру, но как только я завожу об этом речь, ты… меняешь тему. И все же я забываю о своем самолюбии и обиняками даю тебе понять, как важно нам быть вместе, но слышу, что рано, и думаю, что ты боишься потерять меня, как потерял Эстер, или просто ждешь ее возвращения, или слишком дорожишь своей свободой. Тебе одинаково страшно и остаться в одиночестве и быть со мной. Короче говоря, полное сумасшествие. Но раз уж ты спросил, отвечу: я очень люблю тебя.
– Тогда зачем ты это сделала?
– Потому что не могу бесконечно находиться рядом с тенью женщины, которая ушла от тебя безо всяких объяснений. Я прочла твою книгу. И верю, что лишь после того, как ты найдешь Эстер и распутаешь этот узел, твое сердце будет по-настоящему принадлежать мне. Именно так произошло с моим соседом: мы были близки настолько, что я получила возможность убедиться, как трусливо он ведет себя со мной, как страшится добиться желанного, ибо считает, что это слишком опасно. Ты много раз говорил, что абсолютной свободы не существует, есть лишь свобода выбора, а сделав выбор, ты становишься заложником своего решения. Чем ближе я была к своему соседу, тем больше удивлялась тебе: вот человек сделал выбор и предпочел любить женщину, которая оставила его, которая знать его не хочет. И он не только выбрал это, но и заявил об этом во всеуслышанье. Вот кусок из твоей книги, я знаю его наизусть: