Игорь. Корень Рода бесплатное чтение
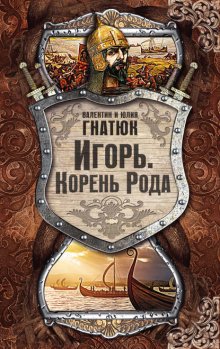
© Гнатюк В., Гнатюк Ю., 2016
© ООО «Издательство АСТ», 2019
Светлой памяти Михаила Николаевича Задорнова посвящается
Вступительное слово
Роман «Игорь. Корень Рода» является третьим в цепочке повествования о первых новгородско-киевских князьях периода становления и развития Русского княжества в IX–X веках. Читатель уже знаком с романами «Рюрик. Полёт Сокола» и «Руны Вещего Олега», написанными нами в соавторстве с Михаилом Николаевичем Задорновым. К великому сожалению, тяжёлая болезнь и преждевременный уход из жизни не позволили Михаилу Николаевичу принять участие в написании книги о князе Игоре. Поэтому данный роман мы посвящаем светлой памяти талантливейшего человека и нашего литературного друга.
Князь Игорь – первый древнерусский князь, чьё имя известно как византийским, так и западным источникам.
В летописях он предстаёт, как князь-неудачник, которого греки сожгли лодейным огнём, а потом, одержимого ненасытностью, убили древляне.
Однако ряд фактов позволяет нам оценить описываемые события под несколько иным углом зрения.
Никто из историков не уделил внимания тому очевидному факту, что после «поражения» греческим огнём, дружина Игоря не обратилась в позорное бегство, как это описывают греческие хроники, а принялась крушить побережья Стенона (так византийцы называли Босфор), предавать огню и разграблению азиатские византийские фемы – «и почаша воевати Вифиньския страны, и пленоваху по Понту до Ираклия и до Фофлагоньскы земля, и всю страну Никомидийскую пополониша, и Судъ весь пожьгоша» (ПВЛ[1]). И длилось это три месяца – с июня по сентябрь. Так, из переписки двух митрополитов, Александра Никейского и Игнатия Никомидийского, мы узнаем, что россы хозяйничали во всей «Никомидийской стратигиде» (феме Оптиматов), доходя до ее столицы – Никомидии, находящейся на побережье залива Мраморного моря примерно в 100 км к юго-востоку от устья Босфора. Кроме того, письмо Константина VII Багрянородного, обладавшего в то время титулом императора-соправителя, к его другу и наставнику Феодору, митрополиту Кизика, свидетельствует, что нашествие россов парализовало морское сообщение между европейскими и азиатскими провинциями Империи.
Урон, нанесённый князем Игорем Византийской империи, был сопоставим разве что с уроном после голода и крестьянских восстаний 928-932 годов под руководством Василия Меднорукого. Роман Лакапин велел казнить Василия и в 932 году его сожгли на площади Амастриан, тем самым положив конец мятежу.
В 941 году пришедший за данью флот Игоря был частично сожжён греческим огнём, а пленные русы казнены на форуме Быка. Однако это не стало устрашением, а послужило причиной яростной мести со стороны русов, разорением азиатских фем и последующей экономической блокадой Константинополя. Только собранные со всех концов Империи войска и вернувшийся из Средиземноморья флот смогли одолеть русов и вынудить их уйти.
Именно по этой причине, когда Игорь через два года собрал большое войско вместе с союзниками-печенегами, Империю охватил ужас от недавних воспоминаний «кровавого пиршества россов». И поэтому «лучшие люди» Романа Лакапина поспешили навстречу в Болгарию, где у Дуная император предложил Игорю через своих посланников «дань, юже ималъ Олегъ, и придамъ еще къ той дани» (ПВЛ). Всем известно, какую великую дань взял у греков Олег Вещий в 907 году. И добровольно предлагать «ещё большую» можно было только при особых обстоятельствах. Такими обстоятельствами и был поход Игоря в 941 году, повторения которого Византия никак не могла допустить.
Вскоре после выплаты дани император Роман Лакапин «присла…послы къ Игореви построити мира перваго; Игорь же глаголавъ съ ним о мире. Посла Игорь мужи свои къ Роману» (ПВЛ). То есть, важнейшим направлением византийской дипломатии этого периода было заключение мира с русами, к которым император по собственной инициативе отправил своих послов. Этот договор между «русами и христианами» «на вся лета, дондеже солнце сияеть и весь миръ стоить» и был заключён в 944 году после обмена посольствами и взаимных клятв пред ликами своих богов.
В 1950 году в Придунавье румынские учёные обнаружили камень с так называемой Добруджанской надписью. Речь идёт о каком-то важном событии 6451 года (943 г.), связанном с Византией (начало не сохранилось). М.Н. Тихомиров[2] предположил, что в надписи говорится о походе Игоря на Византию (поход действительно состоялся в 943 году, а не в 944, как о том говорит ПВЛ, и договор Игоря с греками датируется, соответственно, 944 годом). Академик Б.А. Рыбаков предложил вариант реконструкции надписи: «Дань взял князь Игорь на грецех в лето 6451 при Димитрии жупане». Добруджа называлась ещё Русским островом, так как была населена в основном выходцами из славянских народов. И не случайно сын Игоря Святослав Хоробрый пришёл в эти места и легко занял «80 городов по Дунаю», основав новую столицу Переяславец.
В ту же осень (по летоисчислению ПВЛ это был уже 945 год, поскольку начало года наступало 1 сентября), Игорь идёт за данью к древлянам, «замыслив» увеличить её, чтобы одеть свою «нагую» дружину. Вы представляете себе, читатель, размер богатства, только что взятого у греков? «Нагой» дружина Игоря быть никак не могла. Иное дело – порядок, по которому князь должен идти в полюдье. Из источников известно, что Игорь предоставил право своему воеводе Свенельду собирать дань с уличей и тиверцев, которых он покорил. Теперь же он поручил воеводе собрать дань также и с древлян, что вызвало недовольство со стороны дружинников. Далее разворачивается детективная история «жадности и покарания», описанная автором ПВЛ. Однако опять же факты – вещь упрямая. По византийским источникам (письмо императора Цимисхия к князю Святославу) оказывается, что Игоря убили не древляне, а германцы, казнив его своим «готским» способом. Воевода Свенельд возвращается цел, невредим, а князь Мал отчего-то сразу после убийства засылает к Ольге сватов. Ольга же со Свенельдом расправляются со всеми древлянскими посланниками, а затем дотла сжигают Искоростень, словно разом избавляясь от всех свидетелей.
В данном романе мы изложили свою версию событий, которая кажется нам логично оправданной.
Князь Игорь, названный впоследствии Старым, вложил свой камень в зиждительство Русского княжества, достойно оборонял его и укреплял, не утратив ничего из завоёванного ранее его отцом Рарогом-Рюриком и дядькой Олегом Вещим. Он положил начало династии Рюриковичей, правивших на Руси более шестисот лет. Последний из Рюриковичей – сын Ивана Грозного Фёдор не имел детей и скончался 7 января 1598 года в Москве. После его смерти стал править Борис Годунов.
Валентин и Юлия Гнатюк
Часть первая. Хвалисское море
Пролог. Корень рода
Лета 6370 (862), г. Рарог, Вагрия
Князь Рарог отправился в Священную рощу. Он хотел один на один поговорить с волхвом Ведамиром, который в отрочестве был наставником и его, и Синеуса с Трувором.
– Доброе и великое дело задумал твой мудрый дед Гостомысл, – выслушав ободритского князя, молвил старый кудесник. – Объединение Руси, укрепление её славных родов. Мыслю, в Новгородчине есть много лепых словенок, с которыми упрочился бы род Варяжской Руси? – с лукавинкой спросил волхв, как в душу заглянул.
Помолчали.
– Отче, – с усилием молвил Рарог, – я в поход собрался, хотел благословения у тебя и богов на дальний путь испросить. А мне нынче все о Роде твердят. Отчего-то смущение на душу легло, – признался князь. – Что посоветуешь, отче?
Ведамир поглядел куда-то вдаль.
– Скоро праздник Жатвы на острове Руян, тот великий день, когда раз в году Свентовид пророчествует. Испроси у Великого Бога совета, как тебе лепше поступить, – предложил учитель. И Рарогу показалось, что лукавая искорка опять мелькнула в очах старика.
Проходя на пристань с женой, матерью, братьями, Ольгом и верными охоронцами к лодиям, чтобы плыть на остров Руян, князь заметил странного человека, который сидел на колоде у дороги, ведущей к причалу. Вокруг него вились детишки, словно воробьи у случайно рассыпанного кем-то зерна. Человек показался ему знакомым, но вспомнить, где же он его видел, не мог. Рарог оглянулся, ища Вольфганга, молодого рыжего франка, который многое ведал о разных людях.
– Я здесь, княже, – будто услышав его мысли, откликнулся франк, появляясь из-за спин рослых ободритов. Словенская речь его была почти чистой.
– Скажи, кто это? – кивнул Рарог на худого нескладного человека.
– Так это же тот самый черпальщик, которого вы спасли с горящего драккара, – ответил Вольфганг.
– А почему вокруг него дети? – спросил князь, замедляя шаг.
– Он режет из дерева дудочки, свиристелки да игрушки разные, вот детишки вокруг и вьются. Ещё разговоры ходят, что те игрушки и свистки непростые, будто от всяких напастей они защищают, вроде обережников.
– Так он теперь тем живёт, что продаёт эти поделки?
– Нет, княже, он просто раздаёт всё детям.
Рарог, заинтересованный, пошёл к бывшему рабу и стал подле, наблюдая, как неспешно, но ловко старый почерневший нож с выщербленной ручкой вырезает добрую и потешную зверушку. Сделав последнее точное движение, нож замер, а морщинистая тёмная длань протянула зверушку девочке, которая глядела на неё, как на чудо, широко открытыми сверкающими радостью очами.
Черпальщик поднял очи на князя, и этот взгляд удивил Рарога. Он глядел на него и одновременно куда-то очень далеко, будто в сём взгляде помещалось всё, что было, что есть и что будет, и ещё много чего, людям неведомого.
– Как тебя зовут? – спросил Рарог.
Человек безразлично пожал плечами.
– Люди зовут Черпальщиком. – Потом взял из вороха лежащих рядом сучков и обрезков деревяшку и, показав её собеседнику, спросил: – А как ты назовёшь это? – Теперь пожал плечами Рарог. – Если я вырежу из неё оленя, ты назовёшь его оленем, а если ежа, то ежом, если птицу – птицей, не так ли? – продолжал вопрошать Черпальщик. – Так что я держу в руке?
Рарог развёл руками:
– Я вижу корень…
– Корень Рода, – закончил бывший черпальщик и сделал несколько движений ножом. – Держи, князь, это твоему сыну, пока он будет при нём, ничего худого с ним не случится.
– Эге, человече, – рассмеялся Рарог, вертя в руках маленькую странную фигурку, – ты ошибся, у меня дочь.
– Это для твоего сына, – снова ровным голосом повторил Черпальщик и ещё раз так глянул на князя своими очами без страха, зависти, радости или горя, что Рарог покорно взял маленького деревянного человечка и зажал его в своей крепкой длани.
– Почему ты не берёшь плату за свою работу?
– Вы меня спасли не за плату. От этого и моя душа стала другой, такой, что может творить чудо, а это нельзя мерить никакими деньгами. Это чудо – божий подарок, князь, вот я и делюсь им с другими. Не забывай то, что я тебе сказал…
– Чудной человек, да и, в самом деле, побывав рабом-черпальщиком на драккаре викингов, либо тронешься разумом, либо станешь мудрецом, не знаю, какой здесь случай, – сказал спутникам Рарог, продолжая свой путь к причалу и сжимая в руке странного деревянного человечка.
Глава первая. Годовщина Свена
Лета 6420 (912), г. Киев
– Гляди, снова к Фарлафу воины скачут, да все не простые, поди, темники да тысяцкие! – Судачили промеж собой соседи воеводы Варяжской дружины, когда мимо, взметая крепкими конскими копытами облачка снега и расшвыривая его заиндевевшие куски по сторонам, проскакивали именитые киевские дружинники в сопровождении своих стременных и охоронцев.
– Никак, стряслось что? – спросил один из зевак, отступая в сугроб, чтоб пропустить очередного конника.
– Гляди, а то не сам князь ли пожаловал? – второй указал рукой на ватагу из пяти всадников, с ходу въезжающих в раскрытые с самого утра резблённые ворота добротных владений воеводы. Один из них – широкоплечий, статный, в дорогом облачении, едва спрыгнув с седла, сбросил с плеч бобровую шубу, но тяжёлые меха даже не коснулись избитого конскими копытами снега, а были тут же подхвачены ловкими руками молодого стременного.
– Точно, это он, сам князь Игорь! – подтвердил второй киянин. – По важному, видать, делу собираются!
Следом за верховыми к крыльцу терема подкатили небольшие, но искусно сработанные расписные сани. Возница, натянув вожжи, остановил крепкого конька, а скакавшие следом охоронцы спешились и помогли сойти молодой жене в роскошной собольей шубе и горностаевой шапке.
– Так князь не сам, а с женой своею, княгиней Ольгой пожаловал! – продолжали судачить кияне.
Седмицу тому воевода Варяжской дружины Фарлаф пригласил дорогих гостей почтить своим присутствием семейное торжество: полетье долгожданного внука. Это было важным событием, когда младенца показывают посторонним, ведь дети часто умирают до исполнения сего срока. Воеводу Фарлафа и его сына темника Айка князь Игорь уважал за смелость и верность, с которой они служили ему так же, как некогда отец Фарлафа Свен служил Рарогу. Суровые северные воины Варяжской дружины всегда восхищали Игоря, являясь как бы противовесом материнскому началу в его натуре, поскольку ворожея и целительница Ефанда продолжала иметь большое влияние на сына, даже когда он стал взрослым. Правда, после женитьбы, Ольга несколько оттеснила свекровь. А со дня смерти дядьки Олега Вещего мать стала ещё более молчаливой, будто ушла в свои миры, никому, кроме неё неведомые, где вела долгие разговоры с теми, кого уже давно нет в яви.
Известие о смерти именитого дядьки для Игоря было столь неожиданным, что он долго не мог прийти к согласию с самим собой. С одной стороны, он всегда хотел быть самостоятельным, каким, по рассказам дружинников, был его отец Рарог, и таким же прославленным мирными и воинскими подвигами, как Олег Вещий. Однако, с другой стороны, он привык к постоянной, – явной, а чаще более незримой защите опытных дядьки и матери. И вот теперь он один. Правда, мать из далёкого Нов-града вернулась, да, видно, крепко переживает гибель родного брата, раз молвила, что в дела княжеские отныне не будет входить, и всё теперь ему, Игорю, решать предстоит. Да, с дядькой Ольгом нелепо как-то получилось, какая-то чёрная змея, выползшая из конского черепа, мать даже толком и речь о смерти его не желает. Мрачнеет враз и в себя уходит, будто в раковину прячется. Теперь всё сам, и отвечать самому, – непривычно, и даже где-то тревожно, хоть и не юный отрок давно.
Может, собрать сейчас вкруг себя верных изведывателей, как то было в обычаях Ольга, да они могут начать указывать, что да как делать, скажут: вот, мол, дядька твой всегда так поступал и так, а он ого-го, сколь опытен был, не тебе чета. Нет, не стоит, пусть своими изведывательскими делами занимаются, а в княжьи им нечего соваться. Вот Айк, сравнительно молод ещё, с ним можно и суровым быть, и приказать, да и исполняет он всё без возражения, даже тогда, когда видно, что поручение ему не по нраву. И отец его, Фарлаф, надёжен и опытен. А вот Олег-младший верх привык держать, а сейчас, после смерти дядьки, может и вовсе на княжеский трон посягнуть, как его сын и наследник…
Игорь крепко задумался: кого же из друзей именитого дядьки стоит приблизить к себе, а кого нет. И чем более размышлял об этом, тем яснее понимал, сколь сложную ношу ему отныне предстоит взвалить на свои, в общем-то, во многом беспечные плечи. Он, наконец, осознал в полной мере, что прежняя жизнь закончилась, и возврата к ней больше никогда не случится, как не бывает возвращения умерших из нави. Они могут приходить только во снах, а как поступать в яви, надо решать самому.
Посему приглашение воеводы Фарлафа и темника Айка на весёлый семейный праздник Игорь, да и Ольга, которой скучно было сидеть целыми днями в тереме, восприняли с душевной отрадой.
Когда Игорь с Ольгой, разрумяненные с морозца, вошли в большую хоромину, все присутствующие встали, встречая княжескую чету радостными приветственными возгласами.
Рыжеволосый малец с внимательными, похожими на рысьи очами, ещё нетвёрдо, но деловито перебегал от одного воина к другому, тянул ножны меча или кинжала, а то и, всем на потеху, вцеплялся своими крепкими ручонками в усы кому-либо из варяжских военачальников, которых тут было немало. По случаю праздника одет он был в тёмные порты и шёлковую белую рубаху, вышитую обережными рунами, перепоясан ремешком с ножнами, из которых торчала рукоять маленького деревянного меча. К всеобщему восторгу именинник скоро извлёк меч и стал махать им, попадая по ногам и выставленным рукам взрослых, которые хохотали и ещё больше подзадоривали именинника.
К приходу княжеской четы, пир и разговоры были уже в разгаре. Раззадоренные мёдом и греческим вином воины, седоусые и молодые, невысокие рыжебородые выходцы из нурман и могучие, с бритыми подбородками воины из Варяжской Руси, русо- и темноволосые киевские дружинники старались убедить друг друга, в чём-то находя согласие, а в чём-то горячо споря.
– Да на Царьград, я тебе реку, идти надо, вот где добыча, вот где злато и паволоки! – убеждал рыжебородый воин, явно из свеев или норвегов, своего соседа со смоляными кудрями.
– На что нам тот Царьград сдался, коли у нас и земли, и зерна, и воска, и льна доброго в достатке, а рыба, а пушнина, а… – возражал темноволосый.
– Верно, брат, Прослав, что земля даёт, то и наше, а как говаривали в старину, от лишнего пусть боги нас избавят, ведь от лишнего человек сам всем лишним становится, – закивал русой головой третий собеседник.
Появление Игоря с Ольгой на время погасило горячие споры, и воины, сначала немного вразнобой, а вдругорядь и в третий раз дружно гаркнули:
– Слава князю с княгиней!!!
– Где ж наследник твой, темник? – обратился Игорь к Айку, когда они с Ольгой заняли отведённые им места во главе стола.
– Да вот он, – Айк подвёл мальца.
– Как назвал?
– Свенгельдом, в честь прадеда.
Стоявший рядом воевода Фарлаф одобрительно кивнул, явно любуясь и гордясь долгожданным внуком. «Жаль, старый Свен не дожил, чтоб потешиться правнуком. Вот он, такой же шустрый и рыжеволосый, как все в нашем роду», – с теплотой думал Фарлаф.
Игорь, произнося здравицу младшему Свену, поднял его на руки, желая ему быть настоящим воином и защитником.
– А это подарки от нас, – молвил князь, доставая серебряный медальон, заказанный специально для именинника, и расшитую рубашонку, – сии обережные узоры княгиня сама вышивала, – похвалился Игорь.
– Великий Триглав, который приносит удачу в бою воину, охраняет от колдовства и несчастий! Да хранят вас боги, пресветлые князь и княгиня! – восхищённо воскликнул Айк, разглядывая тонкий витиеватый рисунок серебряного оберега, исполненного в виде трёхконечного переплетённого между собой змеевика.
– Это не простой оберег, он похож на наш древний скандинавский Мьёлльнир, – молвил растроганный воевода Фарлаф, подходя к сыну и рассматривая затейливый узор, сплетённый с трёхконечным змеевиком. – Символизирует корни Дерева Иггдрасиль, объединяющего три мира, – небо, землю и страну мрака. Помню, у отца был схожий….
Мать тем временем, дабы сделать приятное княгине, тут же, под одобрительные возгласы гостей, переоблачила мальца в мягкую рубаху из лучшего северного льна.
– Ого, Свен, да ты теперь будешь охраняем мужской и женской силой, самая надёжная защита! – воскликнул могучий светловолосый полутемник Воля.
– А то, не каждому рубаха достаётся, самой княгиней вышитая! – подхватил круглоликий киянин из купцов.
Однако подарки оставили малыша равнодушным. Он принялся разглядывать переливающуюся золотом фибулу на одежде князя, а потом его внимание привлёк неказистый старый амулет из простого дерева на коротком шнурке, который при вздымании князем вверх руки с кубком, выпростался из разреза рубахи и оказался снаружи. Малец ухватился пухлой, но цепкой ручонкой за чудной не то корешок, не то изображение человечка, никак не желая отпускать его. Мать Свена-младшего, пытаясь замять неловкость, хотела забрать своё чадо, но тот вмиг надулся, засопел, а потом разразился обиженным плачем, не отпуская понравившуюся игрушку. Видно непростой была рука спасённого некогда рарожичами черпальщика, вырезавшего сей амулет, и не просто так вкруг него, как заворожённые, всегда толпились детишки.
К делу уже хотел подключиться отец мальца, но Игорь остановил его.
– Ладно, не реви, воин, пусть теперь тебя хранит сей оберег, а мне моей дружины и собственного меча достаточно, – промолвил князь, и, сняв шнурок, одел его на шею именинника. – Пусть это будет ещё одним подарком к твоему сегодняшнему первому лету жизни! – В сей миг незримый ветер времени коснулся души князя, и по телу прошла какая-то неприятная волна то ли расслабления, то ли усталости…
«Мамо, а верно рекут, что ты можешь зреть судьбу человеческую, и мою тоже, расскажи о ней», – попросил юный Ингар, находясь в своём уютном резном ложе, перед тем, как после дневной беготни окунуться в сладкий сон.
«Того делать не можно, сыне, – погладила по голове ласковая материнская рука. – А тебе волноваться нечего, пока с тобой отцовский обережник, ничего худого с тобой не приключится, спи»….
Князь тряхнул головой, отгоняя наваждение, и обратился к застольным разговорам своих верных дружинников. Ведь праздник годовщины младшего Свена был ещё и поводом за доброй чарой поговорить промеж собой воеводам, боярам да темникам, порешать с князем Игорем, как ныне, после ухода старого Ольга Вещего, быть дружине, куда направить стопы свои и копья.
Ольга, почуяв, что мужу не до мальца, забрала его и посадила себе на колени, а тот и не обратил на сие никакого внимания, потому как был занят своей новой игрушкой, продолжая её усердно разглядывать, вертеть в ручонках так и эдак, а потом привычно потянул в рот. Супруга Айка, Нора, направилась было к княжеской паре, чтобы освободить её от непоседливого дитяти, да заметив, с какой нежностью прижала мальца к себе княгиня, поняла, что этого делать пока не стоит.
– Гляди, как княгиня с мальцом тетёшкается, – шепнула ей подруга.
– Так ей-то уже своих давно пора нянчить, а детишек боги всё не дают! – Тихо ответила Нора, незаметно поглядывая на княгиню, которая бережно касалась рыжих вихрастых волос на голове малого Свена.
– А что, княже, не сходить ли нам ещё супротив кичливой Визанщины, чтоб науку киевскую крепче помнили? – повеселев после хмельного мёда, снова молвил рыжебородый темник Руав. – Зазря, что ли, в Корчеве, пять сотен больших морских лодий стоят?
Игорь тоже всё время подумывал, как бы ему лепше показать себя настоящим воином и князем. Большая часть его немалой дружины, особенно варяги и нурманы, жаждали настоящих походов, богатой добычи и славы воинской, то есть того же, чего желал и он сам.
– Царьград крепость серьёзная, чтобы на неё в поход идти, много сил надо, и конных и пеших, и привлечения союзников-толковинов, а значит, для всего этого много серебра и злата потребуется, да с болгарами и уграми договориться, – подал веский голос воевода Олег-младший. Был он в мать – кареглаз, темноволос, да и станом гибок, как Велина, но в поведении, в манере говорить, даже в движениях, неспешных и точных, он более походил на своего прославленного отца.
– С ромеями Олег Вещий только недавно мирный договор заключил, они дань исправно платят, пока нет повода против них идти, – неохотно возразил Игорь, больше чтоб пресечь Олега-младшего и показать, кто теперь главный.
– Разве на ромеях свет клином сошёлся? – молвил Фарлаф, кивнув невестке в сторону княгини Ольги, которую малец уже стал теребить за грудь, явно желая подкрепиться. – На море Хвалисском много богатых градов, которые разжирели на торговле с Асией, их можно хорошо потрясти. Серебра у нас мало, арабы нынче почти не идут в Киев.
Жена Айка уже и сама заметила требовательные движения сына и смущение княгини и, быстро подойдя, забрала своё уже начавшее капризничать чадо.
– У меня сейчас с полсотни вильцев службу начали, недавно с моря Варяжского прибыли, так около десятка из них в последнем походе на море Хвалисское участвовали, что четыре лета тому был, – продолжил воевода Фарлаф. – Они рекут, что там места не менее богатые, чем Царьград-Византий. Добра взяли немеряно.
– Погоди, воевода, а как же они мимо Итиля туда и обратно прошли? – спросил князь, недоумённо приподняв левую бровь.
– Они с жидовинами хазарскими договорились, – ответил воевода.
– Вот в это верю, – тряхнул кудрями киевский полутемник Воля, – жидовины за плату и бога своего продадут, не то, что проход через Итиль обеспечат. Небось, варяги им полонников по сходной цене уступили?
– Подробностей договора я не выспрашивал, – молвил Фарлаф. – Но коли нужно, всё разузнаю.
Долго спорили воины, забыв об имениннике, который уже давно крепко спал в дальней горнице, сладко улыбаясь во сне и всё ещё сжимая в маленькой ручонке неказистый деревянный оберег.
Уехала на своих санях и Ольга, сопроводить её до терема взялся воевода Олег со своим стременным и несколькими охоронцами. Игорь этому был даже рад, присутствие более опытного в воинском деле Старшего несколько мешало в жарких разговорах с темниками и боярами. Сын Олега с детства постоянно опекал его, потом ходил с отцом на Царьград, а он, Игорь, оставался в Киеве. Теперь расклад изменился, он сел во главу стола Киевской и Новгородской Руси, и решающее слово должно быть княжеским, пусть это запомнят все!
Олег сопроводил Ольгу до самого терема и, отпустив охоронцев, прошёл за ней сначала в сени, а потом в гридницу, ярко освещённую хоросами, которые теремные слуги зажгли, едва услышав приближение хозяйки. Ольга любила, когда много тепла и света, оттого в тереме всё сияло, и жарко топились печи.
– Ну, вот я тебя и доставил в целости и сохранности, – молвил воевода.
Ольга повернулась к нему, раскрасневшаяся от мороза, в собольей шубе и горностаевой шапке, которая сбилась чуть набок, и воевода мельком отметил, что зима к лицу его землячке. Если на полудне жёны расцветают и становятся краше всего весной, то полуночных дев красит мороз да снег. Живо вспомнилось, как северные красавицы после крепкого пара в мовнице, называемой у них вепсским словом «банька», с мокрыми волосами, рассыпавшимися по округлым девичьим раменам и упругим розовым персям, с весёлым визгом и хохотом выскакивают из дверей этой самой баньки в глубокий и чистый снег. Невольно представив среди них Ольгу, он подумал, что Младший не ценит того счастливого дара, который преподнесли ему боги, соединив с Прекрасой.
– Погоди, – видя, что воевода собрался уходить, взяла его за руку Ольга, – рассыпался сон от мороза, будто и не ночь сейчас, а утро, совсем спать не хочется. А Игорь ещё не скоро вернётся, он со своими темниками да воеводами теперь долго беседовать будет, посиди со мной, земляк, края наши полночные вспомним.
– А я всё время помню, – молвил Олег, сбросив шубу и шапку на лаву и помогая разоблачиться Ольге, – как тебя впервые увидел, когда с отцом, Скоморохом и Сивером приехал в вашу Выбутовскую весь тебя сватать. И теперь будто по стопам за тобой иду, – тихо молвил воевода. – Вот ты замуж вышла, а через время и я женился…
– Да уж не знаю, кто за кем по стопам… У тебя жена при родах умерла, и оттого наследника нет, и мне боги дитя не дают, – подходя к горячему боку печи и согревая озябшие руки, грустно заключила Ольга. – А что, показалась я тебе тогда? – вдруг игриво обернулась княгиня, склонив голову и приподняв светлую бровь.
– Ещё как показалась, я даже Игорю по – доброму позавидовал…
– Ну да, – опять погрустнела Ольга, – кто же тогда ведал, что у меня с детками так получится. Коли бы заранее знал, небось, не завидовал? – кинула быстрый вопросительный взгляд жена.
– Я бы всё одно счастлив был, – ответил совсем тихо Олег, глядя куда-то перед собой, будто боялся, что собеседница его услышит. В гриднице наступила тишина. Согрев руки, Ольга села на лаву, устланную медвежьей шкурой. Под лавой что-то зашуршало, и гибкая небольшая тень возникла у ног княгини. Домашний хорёк Нырка пепельного цвета с белой мордочкой, став на задние лапки, заглядывал в очи хозяйке, словно пытаясь понять, что её огорчило. Ольга взяла его на колени и принялась гладить, чуткое животное успокоилось и, свернувшись калачиком, задремало.
Олег подошёл и сел рядом.
– А, может, тебе к матери Ефанде обратиться, она многим жёнам в сём деле помогла…
– Нет, к ней не стану обращаться, – вмиг гордо выпрямив стать, посуровела Ольга, и воевода понял, что не след более говорить с ней об этом. Они сидели бок о бок, очарованный воевода и посуровевшая, но оттого не менее прекрасная, княгиня со спящим хорьком на руках. Вдруг она как-то обмякла и, склонившись к плечу Олега, тихо по-женски всхлипнула.
В княжеский терем возвращались далеко за полночь. Ночь вызвездила чёрный небосвод щедрой россыпью ярких самоцветов, лунная богиня Макошь ткала тонкую серебряную пряжу, облекая ею весь подлунный мир, и призрачный свет её отражался от такого же холодного снега, который звонко скрипел под конскими копытами, а от дыхания коней и людей клубился густой белесый пар.
– Давай напрямую, через овражек! – предложил Игорь. Разгорячённому выпитым хмельным мёдом и разговорами со своими военачальниками о будущих славных победах, князю вдруг страсть как захотелось навестить живущую тут недалече справную вдовицу, у которой он порой при случае согревал одинокую постель. Отношения с Ольгой давно уже вошли в привычку, а горячая вдова, соскучившаяся по мужской ласке, так радовалась нежданно выпадавшему счастью, что с ней он забывал многое. Ольга уже, поди, давно спит после доброго застолья, а он мог задержаться с темниками и до утра, не впервой, пусть привыкает, что у него теперь много важных княжеских дел.
Молодой стременной, который с полуслова понял князя, тронув серого в яблоках коня, первым направил его по склону. Придерживая за повод храпящего и скользящего скакуна, лихо спустился на дно овражка, а потом, поддав пятками сапог по бокам, птицей полетел на противоположную сторону. На заснеженном гребне конь снова судорожно заработал передними ногами, однако задние копыта предательски скользнули по боку овражка и, выгнув шею, вращая испуганными очами, скакун завалился на белый снег, придавив всадника. Он вскочил почти сразу, храпя и мотая головой, тут же выскочил обратно к остальным всадникам, а его седок остался лежать на дне овражка.
Двое из охоронцев немедля бросились к лежащему.
– Зимород, ты как, руки-ноги целы, чего молчишь? – Засуетились воины вокруг лежащего на снегу молодого соратника.
– Что с ним? – Встревожено спросил князь.
– Жив, но двигаться не может, сейчас вытащим и на коня положим…
– Погодите, оставайтесь при нём, осторожно его на спину переверните и никуда пока не тащите, – быстро повелел Игорь, спускаясь вниз. – Похоже, хребет повредил…везти его поперёк конской спины сейчас нельзя, – упавшим голосом молвил князь. – Вы, двое, за возом. Ты, – оборотился князь к последнему из охоронцев, – в терем немедля, вели топить мовницу, да матерь Ефанду извести о сей беде! – Князю было отчаянно жаль своего совсем молодого, но ловкого стременного. Как и все в его ободритском роду, он уважал смелых людей и щедро награждал их, несмотря на возраст и положение. А тут ещё чуял себя виноватым из-за своей задумки ехать напрямик.
Охоронцы под зорким присмотром князя внесли стонущего стременного в мовницу, уложив в предбаннике на широкой лаве, и принялись острыми ножами разрезать на нём одеяние, чтоб не тревожить снятием повреждённый хребет. Затем, сняв рубахи и оставшись в одних портах, Игорь с охоронцами с величайшей осторожностью внесли юношу в парную и уложили на полку лицом вниз.
– Эх, пару маловато, не успела мовница прогреться, я сейчас поболее дров подкину, – молвил один из охоронцев.
– Погоди, большого пару и не надобно, – остановил его князь. – Как только на теле у Зиморода крупные капли пота появятся, можно звать мать.
Но в предбаннике послышались голоса, и в парную вошла Ефанда в длинной льняной рубахе с обережной вышивкой по подолу и оплечью. На чреве большая руна здравия, и на спине такого же размера руна тайных знаний, что связывают разум яви и дух нави в единое целое. На поясе висел её старинный мешочек с огамическими рунами, выжженными на дереве. Ворожея ни на кого, кроме лежащего перед ней увечного, не глядела, зелёные очи её были сосредоточены. Запустив десницу в мешочек, она высыпала на полку рядом со стременным несколько рун. По знаку Игоря один из охоронцев поднёс масляный греческий светильник ближе. Ефанда глянула на выпавшие руны, но ни слова не произнесла. Князь же с двумя гриднями и вовсе затаили дыхание.
Мать-Ефанда, как называли её все в тереме, да и во всём Киеве, прикрыла очи и, опустив десницу на хребет несчастного, осторожно повела тремя перстами от основания черепа вниз, время от времени что-то ощупывая и поправляя из позвонков. Два гридня стояли подле, готовые по велению Ефанды перевернуть или придержать покалеченного юношу.
Чародея то останавливала движение перстов, что-то невнятно проговаривая при этом, то снова чутко двигались ими по спине болезного. Сколько это продолжалось, никто сказать не мог, время будто стало вязким и густым, как тягучий мёд, казалось, ещё немного, и оно вовсе остановится.
– Всё! – коротко молвила мать князя и смахнула с чела обильный пот. – Осторожно поднимайте и несите в предбанник, а пока он там отдыхать будет, приготовьте ложе, только не мягкое, а положите на доски сложенный вчетверо холст, и всё, – ни перин, ни сена не подстилать. Мазь нужную я принесу и умащу спину ему, потом сами будете мазать каждый вечер.
Ефанда проследила, как переносят и укладывают юношу в предбаннике из светлого дерева, украшенного резьбой и плетением, где было светло от многих свечей и светильников, поправила полотно с обережными рунами. Гридни пошли готовить ложе. Игорь затворил за ними дверь и повернулся к матери.
– Ну что, мамо, Зимород ходить будет? – с надеждой вопросил он.
Ефанда устало взглянула на сына и вдруг замерла.
– Где твой оберег? – спросила она, уже предощущая беду.
– Так это… мальцу Айка… он плакал, вот и подарил, да что тут такого особенного? – сначала запинаясь, а потом уже твёрже возразил Игорь.
– Ты его подарил? – чужим голосом уточнила Ефанда.
– Так вчера…малому Свену на годовщину… – пробормотал князь, чувствуя, сколь сильно мать расстроена его поступком. Игорь любил мать, она всегда была рядом, оттого стремился не обижать её, особенно после смерти дядьки Ольга. Осторожно тронув мать за руку, Игорь тихо молвил: – Ну, не мог же я отобрать у дитяти…
– Если подарил, то забирать нельзя. Оберег нельзя украсть или завладеть им силой, его можно только передать по доброй воле. Только не надо было дарить именно этот оберег, это ведь отцова память и защита твоя… – шептала она, глядя куда-то перед собой тем взором, от которого Игорю всегда становилось не по себе.
– Моя защита – меч и дружина, – повторил Игорь слова, сказанные вчера, не признаваясь в том, что чувствовал себя неуютно без отцовского оберега, а теперь ещё этот случай со стременным…
– Будет ходить твой Зимород, – устало молвила Ефанда. – Приглядывай пока, а я домой, мазь привезу.
Глава вторая. Мойша Киевский
Лета 6420 (912), г. Киев
– Так что, воевода, с кем вильцы четыре лета тому договаривались за проход мимо Итиля в море Хвалисское? – спросил, как бы походя, Игорь Фарлафа спустя некоторое время после празднования полетья его внука.
– Они договаривались с купцом, который большей частью тут, в Киеве, на Хазарском подворье обретается. Зовут его Мойша, а все Мойшей Киевским кличут. Рекут, что через родичей своих в Итиле он к самому Беку вхож, но может и врут, кто же этих жидовинов разберёт. Так что, княже, – понизил голос рыжебородый кряжистый начальник Варяжской дружины, – попробовать поговорить с сим рахдонитом, может и мы, как те вильцы, сходим погулять на море Хвалисское? Рахдонит – это по-персидски «знающий дорогу», – пояснил военачальник, – так называют опытных иудейских купцов, водящих караваны из Китая на Запад. Благодаря своей пронырливости, они баснословно обогащаются, в Китае берут шёлк, на севере меха, а потом всё это обращают в серебро да злато. Но самый главный товар, приносящий наибольший доход – это, конечно, рабы.
– А поговори! – молвил горячо Игорь, и опытный Фарлаф заметил хищный огонь в княжеских очах. Оттого с охотой взялся воевода исполнять поручение, найдя того самого Мойшу Киевского и вступив с ним в беседу.
Только беседа оказалась не такой простой.
– О, грозный воевода, конечно, я могу передать твои пожелания своим хорошим знакомым, которые вхожи к великому Хамалеху… – Пожилой жидовин помедлил, то ли для того, чтобы собраться с мыслями, то ли желая подчеркнуть особую важность вопроса, и, глядя тёмными очами куда-то мимо Фарлафа, проговорил всё тем же услужливо-подобострастным тоном восточного торговца: – Почтенные купцы могут так решить это важное дело, что удовольствие будут иметь все, – и ты, и твои могучие воины, и люди Хамалеха, и сам великий Каган. Но это очень трудное дело лично для меня и моих людей, ты сам понимаешь, насколько это опасно. Одно дело просто торговать, а совсем иное, решать княжеские вопросы… – голос Мойши стал тихим, проникновенным, почти заговорщицким, голова склонилась набок, чёрные очи испытующе поглядели на воеводу, седые кустистые брови выгнулись дугой, и сильнее обозначились большие мешки под очами. Казалось, даже лысый череп, прикрытый сверху небольшой шапочкой из тёмно-зелёного бархата и сжатый с двух сторон курчавыми, наполовину поседевшими волосами, выражал ожидание. Облачён купец был то ли в халат, то ли в кафтан с большими – в целую длань – тиснёными цветами и золотым шитьём на рукавах и груди. Под халатом виднелось ещё несколько одежд. Фарлаф знал, что жители пустынь всегда одеваются в многослойные одежды, как зимой, чтобы сохранить тепло, так и летом, чтобы не так страдать от палящего солнца. «Оттого от них и дух недобрый исходит», – мимоходом успел подумать воевода.
– Коли всё сладится, после похода ты получишь возможность первым покупать невольников, захваченных моей Варяжской дружиной, – пообещал воевода, немного отстраняясь от заглядывающего прямо в очи купца. Фарлаф с малых лет рос и мужал среди варягов, россов, словен и вепсов, кои все любили мовницы и баньки, блюдя чистоту, и оттого запах давно немытого тела, исходящий от пожилого жидовина, воеводе не нравился. Ладно бы жил в пустыне, где влаги не хватает, а в Киеве то на каждом шагу водное изобилие.
– Рабы – это, конечно, хорошо, – кивнул Мойша. – Но ты же понимаешь, храбрый воевода, – за всё нужно платить, и платить сразу. Никто даже не подумает запрячь коня, имея в суме одни обещания…
– Ты хочешь сказать, купец, что заплатить нужно сейчас? – недовольно сдвинул густые пегие брови воевода.
– Мне самому ничего не нужно, я так уважаю киевского кагана Ингара и тебя, почтенный воевода, что готов всё сделать почти задаром, но ты же знаешь наших купцов – они шагу не сделают просто так. Ты бы знал, могучий воин, какие это скаредные и мелочные люди! – воскликнул Мойша, в возмущении вскидывая вверх руки своего дорогого, однако лоснящегося на локтях и у запястий одеяния.
«Да уж, знаю я вашу бессеребренность», – в сердцах про себя думал Фарлаф, напряжённо соображая, как бы ему сейчас уйти от предоплаты. Ведь если дать жидовину деньги, то назад их уже не получишь, даже если никакого договора с Хазарией не случится.
– Так я же тебе рёк, купец, что по самой дешёвой цене уступлю невольников, а это большой, очень большой барыш; вы же невольников потом во много раз дороже продаёте, так? – попытался надавить на торговца Фарлаф.
– Так я же согласен, но деньги нужны будут сейчас, а рабы появятся только после похода, да ещё неизвестно, сколько и каких, может совсем худых да ленивых, – никак не уступал торговец.
Они долго спорили, каждый доказывал свою правоту и обосновывал свои расходы. Наконец сговорились о сумме, которую из княжеской казны нужно было заплатить Мойше Киевскому, чтобы он послал в Итиль своих людей.
– Мне же ещё дружину к походу готовить, а это, представляешь, какие траты? – горячился обычно невозмутимый нурман.
– Разве ж я не понимаю? – всплёскивал рукавами расшитого кафтана жидовин, потрясая короткими толстыми пальцами с дорогими перстнями на них. – Разве Мойша бросит своего сотоварища, а мы таки теперь с тобой сотоварищи в этом деле, воевода! Спроси во всём Киеве и во всём Итиле, и вообще, где хочешь, спроси, когда такое было, чтобы Мойша кого обманул или отказал в помощи? Ой, вэй, такого никогда не было, я тебя уверяю! – Округляя свои и без того большие «абсолютно честные» очи, восклицал торговец. – Я дам тебе эти деньги, которые ты должен мне сейчас заплатить, в долг, только ты будешь должен мне немножко больше, ну, а как же иначе, таков закон торговли, почтеннейший воевода…
Голова Фарлафа, не раз выдержавшая крепкие удары по шелому, стала слегка кружиться от того потока слов, который лился с языка купца. Воевода чувствовал, что разум его начинает слегка туманиться, как у раненого охотником вепря. Упрямо мотнув потяжелевшей головой, чтобы прогнать туман, воевода снова ринулся в спор с Мойшей.
– Ты хочешь две с половиной тысячи дирхем сейчас, но это очень много, купец, это сто гривен серебром! Мы платим в год, заметь, Мойша, в год, триста гривен храму Свентовида, и за эти деньги рыкари и жрецы священного храма, которых почитают все племена на Варяжском море, обеспечивают безопасность нашей Ладоги и всей Северной Словении!
– Сравнил, воевода, то ж рыкари храма, которые берут чисто условную дань, а это торговцы, которым надо платить сполна! – возбуждённо воскликнул Мойша.
– Ага, да к тому же жидовины! – не сдержался сын викинга.
– Что да, то, да! – Неожиданно совершенно спокойно согласился купец, и оба спорщика рассмеялись.
– Ладно, ты мне так лёг на душу, дорогой Фарлаф, что я готов уладить дело даже за две тысячи дирхемов. Ну, подумай, вы получите в походе столько добычи, что эти несчастные две тысячи покажутся слезами моей покойной бабушки на могиле её любимого осла в Семендере. Заметь, я не прошу серебром в слитках-гривнах, достаточно будет дирхемов. Конечно, хорошо бы старых полновесных, которые идут двадцать за один динар или за ту же гривну, но если нет такой возможности, я и тут готов пойти навстречу, – всплёскивал рукавами халата купец, – пусть это будет новый лёгкий дирхем, что идёт двадцать пять монет за динар или гривну! Даже можно часть всякой мелочью – векшами-веверицами или резанями. Мне ведь придётся расплачиваться с разными людьми, порой не очень именитыми, таким беличьи шкурки или часть монеты в самый раз. Мало того, воевода, я возьму из этих двух тысяч только половину, причём часть мелочью, а тысячу отдаю тебе на подготовку дружины, я же честный человек, воевода, – проникновенно и доверительно говорил Мойша, заглядывая в очи, и по его словам выходило так, что он, купец, благодетельствует воеводу.
Но Фарлаф на остатках разума да каком-то чувстве скрытой опасности, которое не раз спасало его в смертельных схватках, продолжал отбивать лукавые извороты торговца.
– Погоди, купец, давай сразу договоримся, чтобы потом не было спора, – упрямо тряхнул головой, уже изрядно потяжелевшей от разговора с изворотливым жидовином, Фарлаф, – давай считать в гривнах, одна гривна кун – это двадцать пять дирхемов…
– Или двадцать ногат, тех самых полноценных старых дирхемов, – тут же подхватил словоохотливый Мойша Киевский. – А новых, да, двадцать пять дирхемов, или пятьдесят резаней, или сто пятьдесят вевериц. Золотая монета идёт как две серебряных. Всё просто, всё можно быстро пересчитать. Да ты не сомневайся, доблестный воевода, мы же с тобой живём здесь, в Киеве, и друг друга не обманем, я тебя уверяю, всё будет как надо, – радушно улыбаясь, сыпал своим знанием цен на товары и переводом одних денег в другие Мойша. От всех этих дирхемов, кун, динаров, вевериц и ногат в голове воеводы снова затуманилось.
Словесная боротьба шла долго.
– Ладно, – подытожил купец. Сняв свою маленькую шапочку, он левым рукавом дорогого халата отёр лысину и чело и снова водрузил шапочку на темя.
«Так вот отчего рукава его одежды лоснятся», – мелькнула догадка у воеводы.
– Значит, так, – молвил купец устало, – завтра ты приносишь денег и мехов только на сорок серебряных гривен, а остальные шестьдесят положенных мне гривен пустишь на вооружение своей дружины, а после похода отдашь мне эти шестьдесят, верно?
– Так, – мотнул головой в знак согласия Фарлаф.
– А ещё рост за шестьдесят моих гривен, что я даю тебе на сбор дружины, это будет ещё восемнадцать гривен. И это я тебе скажу, воевода, очень хороший, совсем небольшой рост, как своему, как брату.
– Треть роста, это как брату? – изумился Фарлаф. – Я слышал, Мойша, – молвил совсем замороченный воевода, – что твоя вера запрещает давать деньги в рост братьям.
– Ой, вэй, дорогой Фарлаф, мы только исполняем то, что начертано. – Кстати о начертании, давай запишем наш договор, не всё, а только то, сколько ты мне должен. Не потому, что я тебе не доверяю, ни боже ж мой, а просто потому, что такой у нас, купцов, порядок! А князю передай наше искреннее и глубокое почтение и непременно скажи, что вся хазарская община Киева в каждый миг готова помочь могучему воину и храбрейшему из каганов, если ему понадобятся деньги или что иное на его великие дела.
Когда Фарлаф наконец вышел из жидовского торгового двора, он раз и другой глубоко вдохнул чистый морозный воздух, столь желанный после кислого запаха жилища Мойши. Проходя мимо небольшого строения, Фарлаф захватил с низкой крыши полную пригоршню снега и с наслаждением отёр чело и лик, зарычав при этом от удовольствия. – «Как же так получилось, – пытался понять бывалый воин, у которого разум немного прочистился морозом, – денег на оснащение дружины я у Мойши не получил, а должен ему остался ещё больше, чем тот просил на «начало дела». Всю жизнь считал, что мы, норманны, своего никогда не упустим, и, как купцы, торговаться умеем, а вот, поди ж ты, и денег нет, и долг за них уже вырос, а всё вроде бы верно»…
Он вспомнил, что завтра должен занести Мойше сорок гривен, а после похода отдать шестьдесят гривен, якобы полученные у купца на подготовку дружины, да ещё восемнадцать гривен росту. Всего сто восемнадцать гривен, – да ведь это почти три тысячи дирхемов, а он вроде согласился за две… Ерунда какая-то, – идя к своему коню и терпеливо ждавшему стременному, ругался про себя на языке свеев Фарлаф, – и деньги отдам, и долг получу, снаряжение сам куплю, да ещё лучших рабов с будущего похода сему Мойше продать придётся. Как-то всё с ног на голову переворачивается! Эх, сам надоумил князя связаться с этими хитрыми жидовинами, а теперь уже деваться некуда – договор подписал собственноручно. – Ничего, – успокаивал себя воевода, направляясь к княжескому терему, – если что, припугнём сих рахдонитов, чтоб исполняли обещанное, главное, чтоб всё сладилось, а там уж мы возьмём своё!»
Итиль, 913 г.
Главный раввин явился к беку, как всегда в предобеденное время. Одет он был в привычную одежду первосвященника, – перепоясанный бархатным поясом халлук лаван – белый шёлковый халат с широкими рукавами, обшитый голубыми полосами и длинной бахромой голубого цвета – цицит, издавна служившей иудеям оберегом. На голове белая круглая каракулевая шапка, опять же отороченная по нижнему краю голубым шёлком. На руках перстни с бирюзой. Голубой цвет, цвет неба – «Престола славы» небесной – издавна использовался в оформлении Скинии Завета и в одеждах иудейских первосвященников; также драгоценные камни голубого цвета – сапфир и особенно бирюза использовались в качестве защиты от нечистой силы.
Собеседники уселись за маленькие шестигранные столики, которые разнились по цвету. Перед беком стоял столик, инкрустированный красным деревом, а перед раввином – чисто белый, с золотым ободком по краю столешницы. По две медные жаровни с коваными переплетениями стеблей и цветов диковинных растений стояли по обе стороны от собеседников так, чтобы сидящие за столиками могли протянуть руку и погреть её над краснеющими в чашеобразных жаровнях углями. Если беседа длилась долго и угли подостывали, бдительные рабы тут же приносили другие жаровни, а остывшие уносили, держа их за деревянные рукояти, насаженные на медные стержни.
Поговорив о Талмуде и Писании – таков был заведённый порядок – перешли к делам мирским. Из самых отдалённых и сопредельных стран, княжеств и земель к главному раввину стекались известия от его многочисленных подчинённых раввинов, которые, в свою очередь, собирали их среди своей паствы, разбросанной во всех земных уголках, где только есть рынки и торговля.
– Как обстоят дела наших общин в Кустандии, Святейший? После смерти Льва на трон взошёл его брат Александр, которому, говорят, по сердцу больше развлечения, чем государственные дела. Можем ли мы использовать это, чтобы наше влияние на тех, кто правит Восточной Римской империей, стало сильнее, чем ненавистных нам армян, до сего времени цепко удерживающих императорский престол? – спросил бек, опираясь правым локтём на узорчатые парчовые подушки.
Аарон Второй, сын Вениамина, невысокого роста, лет сорока от роду, в молодости был заядлым любителем скачек, поджар и быстр в движениях. После того, как стал беком, в скачках сам не участвовал, меньше двигался и обзавёлся округлым чревом, которое было малозаметным, когда он сидел, и проявлялось, когда Аарон вставал во весь рост. Лик его и шея, как ни странно, совершенно не носили признаков полноты, оставаясь вполне подтянутыми. Лик был обрамлён подстриженной на византийский манер бородой, нетронутыми оставались только пышные волосы у висков – пейсы. Одет он был, как и большинство богатейших людей и высших чиновников Хазарии, в некую помесь персидского и византийского платья. Под красным шёлковым халатом с широкими рукавами виднелась узорчатая туника, расшитая у ворота и на груди золотыми и серебряными нитями, одетая, в свою очередь, на белую тунику из чистого льна. Макушку бека, обрамлённую тёмными чуть волнистыми волосами, покрывала парчовая шапочка, украшенная жемчужинами и самоцветными камнями.
– Да, Великий хамалех, мы стараемся укрепить наше влияние в Восточной Римской империи. Борьба в верхах Империи идёт, но потеснить там армянское влияние пока не удаётся, к глубокому сожалению, – отвечал главный раввин, часто моргая выцветшими подслеповатыми очами. Его редкая седая борода в виде узкого клина иногда подрагивала, как у большинства старых людей, но разум был ясен, и память пока не подводила. Старик махнул двумя перстами, подзывая стоящих поодаль слуг, и повелел им поставить жаровни ещё ближе, – его бренное тело уже плохо держало телесное тепло. После этого он продолжил свою речь, то и дело, согревая бледно-жёлтые руки над мерцающими углями. – Лев Шестой, как и его отец, Василий Македонянин, продолжал притеснения наших братьев, требуя принимать крещение и жить строго по христианским обычаям. Иудеям в Кустандии по-прежнему запрещено иметь рабов-христиан, проповедовать свою веру, занимать государственные должности, присутствовать на публичных церемониях, им приходится постоянно терпеть прочие унизительные для нашего народа попрания. И сейчас ничего не меняется, хотя новый император, легкомысленный Александр, действительно государственным делам предпочитает развлечения и женщин.
– Так может сделать так, чтобы очередной «избранницей» Александра стала настоящая иудейка? – Оживился бек, и в глубине его тёмных очей блеснула искра. – Наши женщины традиционно обучены угождать чужестранным мужьям и при этом незаметно управлять ими, внушая нужные нам мысли и решения. Именно так мы почти бескровно завоевали для наших сердец Хазарию. В своё время Великий Булан, наследником которого являюсь и я – да хранит его Всевышний! – сделал многое, но военная власть оставалась в руках тюрко-хазарской знати, с которой нелегко было сладить. И тогда в ход пошла любовь. Чтобы добиться желаемого, нам понадобился не один десяток лет. Мы старались выдать замуж своих прекрасных дочерей за ханов и их родственников. Благо, в Хазарии разрешено многожёнство, и иудейки пополняли гаремы. Появилось множество детей от смешанных браков. А поскольку у нас принадлежность к роду определяется по матери, их сыновья, оставаясь тюркскими царевичами, становились членами иудейских общин. Благодаря Светлейшему Обадии, теперь вся власть сосредоточена в наших руках. Думаю, и императору Кустандии Александру сможем подобрать хорошую пару…
– Боюсь, хамалех, что ему уже не до женщин. Император до дна испил чашу плотских наслаждений, его детородные члены теперь просто гниют заживо, думаю, ему недолго осталось, – в своей неторопливой манере отвечал седовласый иудейский раввин, почти незаметно ухмыльнувшись.
– Что ж, тяжёлый недуг властелина – ещё более удобный повод, чтобы облегчить участь наших людей в империи. Может, возжечь в новом кагане урусов из Куявы Ингаре желание повторить подвиг его дядьки Хельга и ещё раз основательно пограбить Империю? – задумчиво вопросил бек, попивая из голубой китайской пиалы горячий душистый чай и откусывая то кусочки нежного щербета с орехами, то лакомясь сушёными фруктами. – Пусть урусы и воины Империи хорошо «покрошат» друг друга, и тогда ослабнут сразу два наших недруга. Даже у волка, если он ранен, шакалы могут отобрать часть добычи, как мыслишь, равви?
– Насчёт «покрошат друг друга» ты прав, хамалех, недавно из Куявы пришла очень любопытная весть, – довольно улыбаясь, проговорил главный раввин, с удовольствием потирая согревшиеся от тепла жаровень руки. Заметив, как опять заинтересованно блеснули тёмные очи бека, продолжил. – Каган Ингар уже загорелся походом, только не на Кустандий, а на других наших торговых соперников – Джурджан, Хорезм и города, подчинённые Халифату.
– Откуда это известно? – рука бека в перстнях с большими камнями остановилась, не донеся до уст большой, почти чёрный финик.
– Это верные сведения, мудрейший. Наш рахдонит Мойша Киевский через своих людей передал, что каган урусов ищет возможности договориться с нами о проходе его воинов мимо Итиля за часть добычи, – отвечал главный раввин, шумно прихлёбывая «огонь жизни», как называют сей дивный напиток китайцы и за который приходится платить золотом и лучшими лошадьми; но он того стоит, особенно в зимнее время, когда разгоняет кровь по жилам, изнутри так приятно согревает тело и дарует бодрость.
– Вот как… – Бек задумался на кое-то время. – Здесь проход войск урусского кагана напрямую зависит от нас.
– Новый каган урусов воин, как и его предки, а воина можно легко поймать на победу, как рыбу на хорошую наживку. Почему бы не доставить ему возможность одержать, как говорят римляне, «викторию» на Гургенском море? – рассудительно молвил первосвященник, с удовольствием отправляя в рот дольку чин-кана, китайского золотого яблока, выдержанного в меду так, что плод стал полупрозрачным и имел восхитительный кисло-сладкий вкус и необычайный аромат.
– Как ты мудр, равви, – округлил очи бек. – В самом деле, пусть урусы побьют, как следует, наших врагов в Шерване и Хорезме. Пусть покрошат мусульман-дейлемитов, которые закрыли для нас путь в Багдад. А мы ничего не можем с этим поделать, потому что большая часть наёмников в нашей гвардии – гургенцы, соседи дейлемитов, не желающие сражаться с единоверцами. От похода урусов нам будет двойная польза: своим набегом они ослабят наших торговых соперников, и тогда больше товаров из Асии потечёт к нам, давая новые доходы в казну, а сверх этого мы ещё и часть добычи получим, – радостно потёр руки бек. – Надо потребовать не менее трети всей добычи! Пусть Мойша Киевский скажет им эти условия.
– Я думаю, мудрейший, не стоит торопиться с условиями, пусть они придут сюда, уже горя предчувствием победы и богатой добычи, а тогда мы и решим, сколько с них взять, – неторопливо молвил главный раввин, оглаживая свою редкую, но весьма ухоженную бороду и глядя, как молчаливый молодой слуга наполняет его пиалу новой порцией ароматного чая.
– Что ж, равви, пусть будет так. Передай наше решение Мойше, когда его люди станут хлопотать об этом деле, и пусть Всевышний поддержит нас. – Аарон, отправив пухлыми пальцами в рот кусочек вяленой бухарской дыни, поднял очи к небу, а Первосвященник огладил жёлтыми перстами свою жидкую бороду и забормотал благодарственную молитву.
Глава третья. Новгородская дружина
Лета 6421 (913), г. Киев
Отшумели святки Великого Яра. Опустела недавно столь шумная и праздничная Перунова гора. Только два неразлучных содруга – волхвы Могун и Велесдар, отдавшие много сил тому, чтобы праздник был для люда киевского не просто весельем, но и наполнен силой и смыслом, устало расположились на уложенных тут и там по склону горы стёсанных сверху колодах, весьма удобных для сидения и раздумий у священного места.
– Ну вот, закончились Ярилины святки, теперь большая часть кудесников киевских потянутся в леса на свои заимки, а нам с тобой, брат Велесдар, остаётся служение волховское в Киеве нести, – задумчиво молвил Могун, глядя в кострище неугасимого пламени. Его сотоварищ по волховской стезе молчал, размышляя о чём-то. Потом заговорил, и в его голосе чуткий собеседник уловил некую виноватость.
– Прости, брат, только и я в это лето решил податься из Киева, у леса и неба мудрости попросить, что-то тут в суете подрастерял я её, да и людям не только в Киеве волховской совет да лечёба нужны. Поставлю шалаш, мне на лето другого жилища и не надо, а по осени возвернусь. Прости, что на рамена твои всю тяжесть взваливаю, только надо мне наедине с богами побыть…
Могун перевёл взор на собрата и легко прочёл в его очах истинную причину, отчего решил уйти на лето из Киева Велесдар.
– Что ж, надо, так надо. А за рамена мои не переживай, – повёл широкими плечами Верховный кудесник, – выдюжат.
В свои четыре с половиной десятка лет Могун по-прежнему обладал не только могучей статью и налитыми многолетними занятиями мышцами, но ещё и замечательным умением управлять ими, соединяя волю, тело и мысль в единое целое. Тому обучил его ещё волхв Хорыга, учитель и наставник, которого нагло убили нурманы Аскольда, захватившего в своё время власть в Киеве.
– Когда уходишь, и где решил обосноваться? – вопросил Могун.
– После Семикова дня, когда Семиярилу проводим. Мыслю в это лето далеко не ходить, а поискать пристанище в Берестянской пуще, – и глухомань знатная, и от Киева не так далеко, вдруг мне или тебе помощь какая понадобится, – и Велесдар поглядел на сотоварища с некой затаённой грустью.
Высокий сухощавый ободрит шёл по дороге, что вилась по краю обширного поля мимо Берестянской пущи. Омывшись чистой водой из холодного ключа, он шагал бодро и размашисто, прислушиваясь к щебету птах, воспевающих только что взошедшее солнце. Посох с дивно изогнутой рукоятью-корневищем, напоминающим голову быка, мерно отсчитывал шаги, лёгкий Стрибог приносил полевые запахи вперемешку с лесными, а верхушки деревьев о чём-то перешёптывались с ветром и промеж собой. Птичьи пересвисты, шелест листвы, мягкие переливы речушек и ручейков, кажется, воспринимали уже не просто очи, уши и кожа – все эти звуки, дуновения, запахи теперь беспрепятственно проходили сквозь волхва, настраивая его, как музыкальный инструмент, на этот общий вселенский лад. Неприятные помыслы и связанные с ними зажимы растворялись и уходили из тела, и оно, очищаясь, становилось, как молодая лоза, гибким и чутким к окружающему миру.
«А ведь уже тридцать лет минуло, как живу я на Киевской земле, ставшей не менее родной, чем земля моей Вагрии, где я родился и проходил обучение у самого волхва Ведамира. У него же познавал волховскую науку и князь Рарог с братьями. Давно нет их на свете, а два лета тому и Олег Вещий к ним в навь отправился. Ушло столько лет и жизней, а я в свои пятьдесят пять, слава богам, чую себя здравым и крепким, и родины не забыл, и этой землёй Киевской налюбоваться не могу», – вдохнув полной грудью живительный дух поля и леса, проговорил сам себе волхв.
В заплечном мешке из прочной парусины, кроме нехитрых съестных припасов, находилась пила в берестяном чехле, а за пояс был заткнут небольшой топор.
«Мне нужно место, где эту музыку Миростроя можно слышать особенно ясно, чтобы, сверяясь с нею, очищаться самому и нести чистоту и здравие нуждающимся в помощи людям!» – не то произнёс вслух, не то просто подумал волхв. Ноги будто сами собой замедлили шаг, а затем вдруг свернули в лес. Велесдар не противился, он разумел, что сам дал задание телу, и оно, воспринимая зраком, слухом и внутренним ощущением неисчислимые знаки, сейчас движется по этим приметам. Любые посторонние мысли могли сбить тонкий настрой поиска нужного, а это сейчас было главным, а не вопрос о возможной ночёвке или встрече с диким зверем.
Волхв шёл по едва заметным звериным тропам, спускался в сырые низины, выходил на светлые лесные поляны. Наконец, он остановился и, осмотревшись, узрел, что стоит на лесном взгорбке, окружённом густым древним лесом. Огромные ели, будто суровые воины, высились поодаль нестройным колом и глядели на нежданного пришельца. На одной из вершин хрипло прокаркал ворон. Велесдар взглянул вниз, на себя, стоящего на взгорбке, очами ворона, а потом огляделся вокруг зорким оком чёрной птицы.
Невдалеке блеснуло лесное озерцо, а вон там, внизу, совсем близко отсюда, чистая ключевая криница. За ней тянулась лощинка с щедрыми зарослями разнотравья и терновника, а с противоположной солнечной стороны начинался смешанный лес. Всё тут излучало древнюю силу земли, воды и неба, неспешно струящуюся от родников, могучих дерев, целебных трав, густых кустарников и живущих своей жизнью лесных обитателей.
– Добрые, не тронутые человеком места, и водица рядом ключевая, и озерцо лесное, лучшее место для мовницы. И взгорбок для встречи Солнца и разговора с Богами, – всё будто нарочно подготовлено, – проговорил сам себе довольный волхв, оглядевшись вокруг уже своими, а не птичьими очами.
Засыпая на мягкой и душистой постели из травы и еловых лап, он решил, что надобно послушать небо и землю, что они скажут, да попросить у лесных и озёрных жителей позволения поселиться здесь, ведь если не будет с Лесовиками да Водяными согласия и доброго лада, то и жизни спокойной не жди. Оттого ближайшую седмицу, а может и две надобно посвятить знакомству с окрестьями, поглядеть, с какой стороны ближе к жилью людскому, где лепше на дорогу езженную выйти. Со зверями да птахами, живущими по соседству, дружбу завести, обозреть, где их тропы хоженые и логовища, чтобы ненароком не потревожить без нужды. «А то, что ж ты за гость, ежели, хозяевам жить мешаешь», – рассуждал, уносясь в волшебную страну снов, волхв Велесдар.
Множество народу высыпало на пристань Почайны, чтобы встретить Новгородскую дружину. Неспешно, одна за другой, причаливали добротно просмолённые северные лодьи к деревянной пристани града Киева. Было их немного, числом около полутора десятков.
– Узнаю строгую руку Свентовидова воина, – восторженно молвил князь Игорь, наблюдая, как идут новгородцы, – расстояние меж лодьями, что стежки у лучшего кравца, одинаковые. – Князь крепкой дланью огладил свой бритый по варяжскому обычаю подбородок, что выказывало его явное довольство увиденным.
– А причаливают-то как ладно, ни тебе единого лишнего движения вёсел, ни криков, ни суеты! – Одобрительно вторил ему рыжебородый воевода Фарлаф, в котором ровный строй боевых лодий возбуждал древнюю родовую память викинга.
Только Огнеяр, начальник княжеской охороны, молчал, и за намеренно серьёзным, даже хмурым видом старался скрыть волнение. Сей молодой муж был красен станом и пригож ликом. Ему очень шла добрая византийская броня, из-под варяжского шлема выбивались золотистые кудри. Черты гладко выбритого лика были правильны, словно выточены добрым резчиком, нос прямой, очи небесно-голубые. Муж то и дело бросал придирчивые взгляды на своих подопечных и одновременно внимательно следил за приближающимися к пристани лодьями. Беспокойство его усилилось, когда на деревянный настил стали сходить люди. А когда на пристань шагнул седовласый могучий воин в начищенных до блеска доспехах, в белом плаще на широких плечах и с большим копьём в богатырской деснице, сердце юноши особо гулко забилось в груди. Он, уже почти не отрываясь, глядел, как остальные воины выстраивались в ряд одесную от седовласого богатыря. Подошёл черёд второй, третьей, четвёртой лодьи…
Наконец, все суда были притянуты прочными концами к причалам, воины замерли в ровных рядах, и седовласый мощным громовым гласом рыкнул:
– Князю Руси Киевской и Новгородской, Игорю свет Рарожичу…
На несколько мгновений наступила тишь, а потом окрестья вздрогнули от мощного троекратного возгласа:
– Слава! Слава! Слава!
Кияне с нескрываемым интересом глядели на сие действо с прибрежных холмов и пригорков.
– Да ведь это сам воевода Руяр! – восторженно передавали они весть друг другу. – Наш именитый богатырь с Руяна, верный соратник Олега Вещего. Гляди, крепок ещё Свентовидов воин! Знать, не зря в Киев пришёл с новгородцами!
Казалось, годы протекали мимо сего воина, служившего в молодые годы одним из трёхсот рыкарей в храме Свентовида на священном острове Руян. По ранению от службы освобождён был и пришёл в Новгородскую дружину. Там ему и дали имя Руянец Ярый, то есть Руяр. Высокорослый, крепкого сложения, налитый силой, как могучий зверь, с пронзительным взглядом синих, как Варяжское море, очей. Сей взор не всякий опытный поединщик мог выдержать.
Воевода Руяр, передав своё копьё и щит высокорослому воину, что стоял от него одесную, направился к стоящим поодаль киевским военачальникам во главе с князем.
– Здрав будь, княже светлый! Принимай дружину свою Новгородскую, прибывшую для участия в походе, – проговорил негромко могучий воевода, слегка склонив седую голову и приложив десницу к левой стороне богатырской груди.
Игорь, явно растроганный слаженной силой и воинской выправкой северных воинов, шагнул к богатырю и обнял его. Следом с Руяром обнялись Воля и Фарлаф. Наконец очередь дошла и до Огнеяра, возглавлявшего ныне личную охранную сотню князя Игоря.
– Здравствуй, сыне, – тихо прогудел седовласый воевода, обнимая своего вконец разволновавшегося пасынка, широкоплечего и статного, как его отец Божедар, и гибкого, как мать Дивоока. Объятия их задержались чуть дольше. Только после этого сотник, опомнившись, оглянулся на князя. Тот, улыбаясь, одобрительно кивнул. И Огнеяр громко повелел чуть дрогнувшим голосом:
– Воеводе Новгородскому и славной дружине его с прибытием на землю Киевскую… Слава!
– Слава, слава, слава! – прогремела в ответ княжеская сотня.
– Как было уговорено, княже, со мной малая часть дружины, остальная под рукой Крапивника в урочный час будет ожидать нас у Переволока, – молвил богатырь, и князь согласно кивнул.
Военачальники собрались в просторной княжеской гриднице, чтобы за добрым ужином порешать все дела по предстоящему походу в море Хвалисское.
– А скажи, воевода, – обратился негромко на свейском к Фарлафу молодой сотник Новгородской дружины Рудкар, что, судя по огненно-рыжему цвету волос, было его родовым именем, – кто сей воин, сидящий по десную руку от нашего Духа Вотана, я слышал, как воевода называл этого молодца сыном?
– Это и есть его сын, только не единокровный, – так же негромко на языке нурман стал рассказывать Фарлаф любопытному сотнику. – Вскоре после того, как мы пришли в Киев, византийцы с папскими людьми задумали убить князя Олега Вещего, но отец Огнеяра, эллин Божедар, который служил в княжеской сотне под началом Руяра, в одиночку схватился с убийцами и большую часть их уничтожил. Хоть и сам погиб в той неравной схватке, но покушение на Ольга Вещего отвратил. Тогда и дал сотник князю слово, что будет заботиться о семье своего погибшего воина. Вот оттого, когда родился Огнеяр, а родился он уже после гибели Божедара, и стал Руяр его отцом-восприемником, а потом и воинским наставником. А отчего вы его Духом Вотана зовёте? – полюбопытствовал Фарлаф.
– Оттого, воевода, что и ростом он богатырь, силён и крепок, как Иггдрассиль священный, и копьём владеет, как сам Великий Вотан. А ещё более могуч духом своим, говорят, бывали случаи, когда он опытных бойцов одним взглядом останавливал, и те не могли двинуться, будто к земле прирастали. Он Свентовидов воин, а по-нашему Дух Вотана, – с величайшим уважением и гордостью молвил Фарлафу рыжеволосый собрат из племени свеев.
Воины меж тем обсуждали предстоящий поход.
– Мы, княже, – с расстановкой молвил Руяр, – разделились так, чтобы те, кто пошли Ра-рекой, больше людей взяли, а мы с собой только гребцов. Теперь можем воев Киевской дружины в наши лодьи посадить.
– Добре, нам ведь надобно все пять сотен лодий в Корчеве воями снабдить, а ваши люди в морском деле сведущи, и по Варяжскому морю, и по Белому, а кое-кто и в Срединное хаживал, – молвил князь. – Выйдем сразу после Купалы, а к Перунову дню мы должны встретиться на Итильском Переволоке. Поспеет Крапивник-то?
– Думаю, княже, он даже раньше прибудет. Ему сподручнее через озеро Нево по Свири, а там как захочет: то ли через Оять на Суду, а уж оттуда по Шексне прямиком в Ра-реку; то ли через Онегу пойдёт, а оттуда по Вытегре и через переволок в Ковжу, что прямиком в Белозеро впадает. А с Белозера Шексна и понесёт лодьи прямиком в Ра-реку священную, только правь да за мелями гляди, а та уже доставит на своей длани до самого Итиля, что мать дитятко к колыбели. Купцы наши обычно до Итиля за три седмицы спокойно доходят.
– А нам, главное, пороги одолеть да в Корчеве быстро управиться, – размышлял Игорь. – Я уже послал своих людей, чтоб всё заранее подготовили. Придём, пересядем на морские насады – и, айда к Итилю! Хазары согласны пропустить нас за часть добычи, там уже всё договорено. И поплывём в море Хвалисское! А богатства, сказывают, там превеликие имеются, да и отроки из Руси через хазар туда немалым числом попадают, знать, заслужили покупатели отмщения праведного! – сын Рюрика весь горел предвкушением доброго воинского похода.
– Как я рад, отец, тебя видеть, думал, ты на покой ушёл, а ты вон воеводой стал! – радостно молвил своему наставнику Огнеяр.
– Того, сыне, я и сам не ожидал. Вместо воеводы Дана, что в Волхове утонул, поставил князь Олег Вещий темника Гудима, которого после похода на Царьград, когда он полотнища из древесной шерсти за крапивную материю принял, стали называть Крапивником. Так вот, – погрузился в воспоминания Руяр, – когда мы в землю северскую шли, всю дорогу из Киева был князь задумчив. А поглядел на дружину Новгородскую, вдруг и речёт, что, мол, нет у неё той выучки и строгости воинской, как в моей княжеской сотне. «А возьмись-ка ты, брат Руяр, да наведи ряд добрый, а Гудим Крапивник будет тебе надёжной опорой и первым помощником». Сказано было сие при дружине и всех её темниках да тысяцких, что для смотра княжеского в Ратном стане выстроены были. Так и стал я Новгородским воеводой. А теперь поспешил по зову князя Игоря снаряжать лодьи к дальнему походу. Коль понадобилась Новгородская дружина сыну Рарога, то крепче и надёжней опоры ему не найти! С охотой сбираются варяги и словенцы в море Хвалисское, потому как воинственному народу крепко поднадоело относительное спокойствие мирной жизни. – Седой богатырь глядел пронзительными голубыми очами, в которых, как на волнах в солнечный день, плясали задорные блики.
– А что с князем Ольгом Вещим стало, как он умер? – вмешался в разговор киевский воевода Олег-младший, сидевший напротив. Богатырь помедлил.
– После того, как мы пришли в Новгород, я занялся дружиной, а князь с охороной малой отправился в родное Приладожье. А потом вернулись охоронцы и поведали, что загинул наш князь от укуса змеи чёрной, и то подтвердила сестра князя, с ними приехавшая. Вот и весь сказ…
Поглядел Олег на Руяра и понял, что могучий воин храма Свентовида, как никто иной, крепко тайны хранить умеет, особенно те, которые поклялся не открывать никому. Оттого не стал более заводить разговоры о гибели отца. А богатырь молвил дальше о предстоящем походе и о том, какие задачи теперь стоят перед княжеской сотней во главе с Огнеяром.
– Ты, сыне, крепкую связь держи с изведывателями княжескими, они по-своему дело делают, а ты по-своему, оттого вы должны, как две руки доброго бойца, согласовано трудиться, – советовал Руяр.
– Из всех изведывателей, пожалуй, только Гроза остался, он и возглавляет нынче изведывательскую сотню, а более никого, – вполголоса ответил Огнеяр. А потом добавил: – Только и он не в Киеве. Как отправил его князь Ольг в Таврику, когда собирался лодьи морские строить, так он там со своей сотней и находится, селение лодейщиков под Корчевом от хазар да греков бережёт.
Свентовидов воин глянул на сына и только крякнул огорчённо.
– Тогда с Грозой будь в согласии, ибо то, что знают изведыватели, всегда пригождается, – молвил Новгородский воевода.
– А как не возьмёт его в поход князь? – засомневался Огнеяр.
– Возьмёт, – отозвался воевода Олег, – то уж я решить постараюсь.
– Коли не сладится, я его в свою Новгородскую дружину возьму, – решительно молвил Руяр, и в очах старого воина снова сверкнули задорные искорки.
– Сдвинем чары за нашего неустрашимого Духа Вотана! – послышалось с другого конца стола, где сидели варяжско-нурманские военачальники. Молодой рыжебородый поднялся и, глядя восторженными очами на Руяра, воздел серебряную чару с хмельным мёдом. Его радостно поддержали, застолье оживилось.
– А, правда, отец, что ты одним взором можешь человека обездвижить, так что он клинка поднять не в силах, коли ты на него особым взглядом зришь? – восхищённо вопросил Огнеяр.
– Ну, как тебе сказать, сыне… Коли ты в себе силу Прави истинной чуешь, то бывает, сила эта волей Свентовида такие чудеса творит, что и самому не верится, – тихо отвечал могучий воевода, а в его синих очах сиял тёплый и радостный свет от того, что он, наконец, снова зрит рядом родного человека и близких друзей. Ведь кому, как ни бывалому воину, одному из трёхсот прославленных рыкарей храма Свентовида на Руяне, ведать, насколько прочнее бывают духовные связи, нежели кровные!
– Что, Олег, не рад походу? – вперил взор в Старшего князь, когда они остались одни.
– Не рад, брат, не нравится мне сия задумка, и договор с хазарскими жидовинами тоже не нравится, – откровенно ответил Олег.
– Ну, мы тоже не из мякины свалены и не лыком подшиты, не глупее сих жидовинов, – упрямо мотнул головой Игорь.
– Знаешь, вспоминается наш с отцом разговор, который я крепко запомнил, – задумчиво молвил Старший. – Рёк мне тогда отец, что как каждый человек для свойственного ему дела рождён, так и народы разные.
– Ты это к чему? – с подозрительным прищуром глянул на него Младший.
– К тому, что деньги считать, торг вести – это у жидовинов в крови, пусть тем и занимаются. А вот то, что хазарам, будет ведомо, куда идёт дружина Киевская, мне не нравится. Когда мы на Царьград походом собирались, то делали так, чтоб о том до поры до времени никто и догадаться не мог. К тому ж изведыватели печенегов сговорили на Хазарию набеги в час нашего похода совершать.
– А я кочевников задабривать не собираюсь, их время от времени бить крепко надо, тогда они и будут послушны, а всякие изведывательские уловки моей дружине ни к чему! – ответил, мрачнея, князь. Его, как всегда, уязвило невольное сравнение с прославленным родичем, из тени которого он всё время исподволь стремился вырваться. – Да ведь те же хазарские купцы рекут, что и дядька Ольг их услугами пользовался, и тоже деньги перед походом на Царьград брал для подготовки дружины.
– Может и брал отец у них деньги, – в раздумье отвечал Олег, – только кроме сильной дружины у него волхвы да изведыватели с обозами шли, и сам он чутьё имел против разного рода хитростей. А что сейчас мыслят о предстоящем походе волхвы и мать Ефанда?
Упоминание о мнении волхвов и матери укололо самолюбие Игоря не менее, чем сравнение с дядькой, но он смирил свой гнев и раздражение, помолчал, рассматривая ножны и рукоять своего скрамасакса, будто видел их впервые, а потом молвил сердито, но сдержанно.
– Ну, воля твоя, оставайся, коль так, в Киеве, на случай гостей незваных. – А про себя подумал, что так оно, наверное, и лепше: славу делить на двоих – только раздоры сеять. «Гляди, как Старшой-то обрадовался, виду не подал, да я чую, теперь никто не будет ему мешать на Ольгу пялиться. Пожалуй, предупрежу её строго, чтоб ни-ни».
– Об одном тебя попрошу, брат, – молвил примирительно Олег, – не хочешь брать изведывателей, возьми в поход с собой хоть Грозу, под его началом изведывательская сотня, что у Корчева приглядывает за судами нашими.
– Отчего это ты за него просишь? – спросил Игорь, глядя куда-то в сторону.
– Брата и любимую он ищет, которых хазары похитили, когда ему ещё лет пятнадцать было. Всю жизнь ищет, тем и живёт, и оттого во все дальние походы просится. Возьми; Гроза хоть и в возрасте, но сотник добрый, к тому же и по-хазарски, и по-гречески разумеет, он ведь из тавро-русов.
– Я что-то такое слышал, – задумчиво проговорил Игорь. Потом покачал головой с некоторым удивлением. – Скажи-ка, уже в возрасте, а суженую и брата до сих пор ищет! – в очах князя мелькнуло нечто незнакомое, но через миг он уже овладел собой. – Ну ладно, коль просишь и поруку за него даёшь, возьму, – молвил он снисходительным тоном, довольный тем, что Старший обращается к нему, как к князю.
Не стала более увещевать сына и Ефанда, мол, делай, как решишь, а за своё решение сам и ответишь. Не понял тогда Игорь значения материнских слов. Власть, обретённая после смерти дядьки Ольга, не только тяжким грузом давила на плечи, но и хмельным мёдом кружила голову.
– Поход твой на Хвалисское море не одобряю, но и удерживать боле не смею, прошу только, возьми с собой отцовский Болотный меч, он ведь не простой, а заговорный, пусть с тобой всегда будет, как прежде амулет.
– Хорошо, возьму, – хмурясь, ответил Игорь.
После Купалина дня, как шесть лет тому, Киев провожал своих воинов в дальний поход. Снова расцвела Почайна парусами многими, будто синий Сварожий луг цветами. Двинулись вниз по синей Непре лодьи Киевской, Варяжской и Новгородской дружин. Только сегодня во главе их не седой могучий Ольг Вещий, а его племянник Игорь, коего варяги по-своему Ингардом кличут. А воевода Олег на этот раз остаётся в Киеве, ведь нельзя оставлять грады и веси Руси без крепкой охороны и умелых воинов. На душе Олега, глядящего на уходящие воинские лодьи, было как-то неуютно, как утром в стылой горнице при нетопленной печи.
Великий Могун правил службу на Перуновой горе, а Велесдар ещё с Семиярилина дня ушёл в Берестянскую пущу, дабы там, в уединении творить молитвы русским богам да лечить окрестный люд огнищанский.
Глава четвёртая. Переволок
Гроза любил море. Особенно нравилось ему в утренний или предвечерний час в тихую погоду, сидя на берегу, слушать его живой шёпот в нескольких шагах. Свежее дыханье Стрибога приносит запахи рыбы, морских водорослей и ещё много чего, каким-то образом созвучного человеческой душе. Мерные, как само время, волны задумчиво шуршат перекатываемой ими галькой. Вот уже, кажется, не море шуршит галькой, а сама вечность пересчитывает время. Мысли становятся лёгкими и начинают скользить по волнам, подобно резвой игре дельфинов, – удивительных существ, которые, погружаясь и выныривая в согласии друг с дружкой, уносятся всё дальше от берега.
Море – одна из немногих радостей, что остались в его жизни. Да ещё друзья-товарищи, с которыми он, Гроза, несёт службу по охране морских лодий князя Олега Вещего. Вон они, все в целости и сохранности, дремлют в тихом заливе. Два лета уже так стоят, не поднимая ветрил и не оглашаясь воинским кличем. Сколько ещё ждать, – и лодьям, и ему, Грозе? Может, о них забыли и не позовут уже никогда? Олег Вещий не успел использовать флот, а вдруг князю Игорю он и не нужен? «Похоже, Гроза, ты уже навсегда причалил к своей пристани. Кто тебя позовёт, и куда, шестой десяток уже, седой весь. Хорошо, хоть на родном берегу опять оказался. Только от этого не исчезла пустота из души».
Звук волн завораживает и убаюкивает. Взглянув в сторону пристани, где горели костры, на которых готовилась еда, и дозорные переговаривались с лодейщиками, Гроза, зевнув, прилёг на тёплую сухую траву, привычно подложив правую руку под голову.
– Сотник, вставай, – спустя время тронул кто-то его за плечо, – тут народ из Киева пожаловал…
– Какой ещё народ, зачем пожаловал? – садясь на своём жёстком ложе и растирая сонный лик, хрипловатым спросонья голосом спросил Гроза.
– Рекут, что князь Игорь лодьи к походу готовить велел, во как! – проговорил круглолицый десятник Смурной.
Сон вмиг слетел с сотника. «Неужто, свершилось, и князь Игорь решил взять под свою руку не только клочок берега под Корчевом, но и всю Таврику?!»
Перед очами вновь ожила картина, как почти семь лет тому назад он вместе с тайными воинами Олега Вещего прибыл в Киев и встретился с самим князем в изведывательском доме на краю Ратного Стана.
– Спрашивай, – кивнул могучий князь, почувствовав на себе пристальный взгляд Грозы.
– Знать хочу, княже, пойдёшь ли ты дружиной своей в Таврику? Вопрошаю, потому что, считай, уже третью сотню лет мы ждём подмоги, самим с греками, хазарами и прочими ворогами не справиться.
– Его суженую и брата хазары в полон взяли и за море продали, – тихо шепнул Ольгу Молчун.
– Что до сих пор не пришли на помощь братьям тавро-русам, то не наша вина, сама Северная Словения от врагов многих защищаться была вынуждена. От нурман и саксов, франков и тех же хазар, – неторопливо молвил князь. – А чтоб единение наших земель приблизить, хазар да византийцев укоротить, надобно, брат Гроза, трудиться, себя не жалея, во благо дела общего. Готов ли ты, сможешь?
– Готов, княже, я жалость к себе давно забыл. Одного хочу, чтоб Таврика опять русской и вольной стала.
– Что ж, мысли благие, душа чистая. Много горя испившая, да не сломленная. Знать, быть тебе, Гроза, изведывателем и служить делу Руси Великой! – веско заключил Ольг. Потом добавил. – После застолья идите в княжескую оружейную и велите от моего имени подобрать новому изведывателю добрую зброю, чтоб и в руке укладиста была, и в вашей службе тайной удобна.
– Да и пастушью одёжку сменить надобно, только старую не выкидывать, она для «прогулок» по ворожьей земле очень сгодится, – добавил обстоятельный старший изведыватель Мишата.
«Может и в самом деле близка к исполнению мечта тиверцев, и князь Руси Игорь, продолжая дело отца своего Рарога и дядьки Ольга Вещего, освободит от чужеземного гнёта родную Таврику. А коли так, то, перво-наперво, нужно выяснить, какими силами могут встретить русскую дружину хазары и греки. Где там моя пастушья сума да одёжина»?
Седой пастух с синими, ничего не выражающими очами, ловко управляясь с небольшим стадом, перегонял его вдоль берега. Он только изредка покрикивал для порядка то на животных, то на худощавого загорелого помощника с бритой головой, одетого ещё хуже самого пастуха. Стадо направлялось в Коршу, как именовали Корчев хазары, что на их языке означало «торговля».
– Видал, брат Хорь, не так много времени прошло, как Варяжская дружина разогнала хазарские посты да отряды в этой части Таврики, а они опять все по местам своим возвернулись, – мрачно молвил пастух своему бритоголовому помощнику, когда они прошли очередной хазарский пост.
После Царьградского похода Хорь отвёз своего раненого наставника Береста домой. Тот вскоре поправился, а там решил и род свой продолжить, женился. Хорь почуял себя как бы лишним в его доме и подался в Киев к изведывателям, а оттуда уже по велению князя Олега Вещего они отправились в Таврику готовить место для постройки морских лодий. Тех самых, что, как зеницу ока, теперь они с Грозой стерегли два лета, пока, наконец, дождались гостей из Киева.
– Хазары не решились тронуть ни поселения наши, ни корабли, хоть воев тут не более двух сотен осталось, оттого что помнят дружину Олегову, опасаются, что наши могут в любой час вернуться, – отвечал «подпасок».
– Да уж, как подойдёт дружина киевская, я погляжу, сколько страху будет у хазар да греков, как задрожат их торговые души, – сжав зубы, промолвил «пастух».
Прибывшие из Киева лодейные мастера принялись споро проверять да ладить корабли для похода, не говоря, для какого именно; трудились с раннего утра и до позднего вечера, подсмаливали бока, проверяли паруса и оснастку. Первые сомнения поселились в душе Грозы, когда он увидел, что мастера принялись ладить рамы и колёса для лодий. «Зачем в Таврике колёса для лодий? Князь Игорь хочет забрать лодьи в Киев? Или опять Царьградский поход замышляет?»
На расспросы Грозы мастера только хитро усмехались.
Когда небольшие суда подошедшей Киевской дружины заплясали на свежей морской волне перед Корчевом, в самом деле, беспокойство обуяло жителей, а более всего хазарских воинов на их заставах и постах по обеим сторонам Боспора Киммерийского. Но вскоре все успокоились: русы вели себя хоть и шумно, но вполне миролюбиво. Было видно, что они спешили, пересаживаясь с малых судёнышек на пятьсот больших морских лодий, построенных Олегом Вещим для нового похода на Царьград. Однако тогда хватило и устрашения, – греки подписали мирный договор, а лодьи так и остались в Корчеве.
Теперь они послужат в другом море, в Хвалисском! Князь Игорь идёт в поход на берега Асии! А колёса понадобятся для большого переволока судов из Дона синего в Ра-реку великую.
Узнав об этом, сотник Гроза сник, в душе потух огонёк надежды на скорое вызволение родной Таврики от ненавистных хазар и византийцев. Стержень надежды ослаб и изогнулся, подобно стеблю в знойной пустыне, лишённому живительной влаги.
Сотник сидел на прибрежном камне, бесстрастно наблюдая, как суетятся воины и лодейщики на берегу. Но вот от них отделился один, богатырской стати, и направился в его сторону. Гроза поднялся, он узнал воеводу Руяра.
– Ну, что, брат Гроза, поднадоела спокойная жизнь на берегу морском, небось, как старая лодья, ракушками обрастать стал? – Сверкнув задорно очами, молвил Свентовидов воин, который, как и большинство варягов, ожил в предчувствии настоящих сражений и, кажется, скинул не менее десятка лет. – Готовься, твоя изведывательская сотня будет сопровождать дружину! – сразу огорошил Руяр. Огляделся и, уверившись, что никого поблизости нет, негромко добавил: – Воевода Олег передаёт тебе повеление заботиться о безопасности князя Ингарда в походе. Обо всём сообщай немедля Огнеяру, в согласии с ним будь, как прежде Мишата со мной, когда я состоял сотником личной охороны князя Ольга Вещего.
– А князь Игорь, он…
– У князя и так забот хватает, с Огнеяром всё решай, – негромко, но убеждённо молвил новгородский воевода. От поселения к ним торопился воин. – Ну, доброго тебе моря, сотник, – молвил Руяр и зашагал большими уверенными шагами навстречу посланнику. Гроза постоял ещё немного и последовал вслед за Хорем, загорелый череп которого уже почти затерялся в волнах. Кто знает, когда ещё удастся так беззаботно побыть наедине с морем…
Солёная вода приятно охватила перегретое за знойный день тело, сделала его невесомым, смывая дорожную пыль, овечий запах и скопившуюся за день усталость. Отплыв на полсотни саженей, он перевернулся на спину, раскинул блаженно руки и ноги и, расслабив мышцы, отдался на волю убаюкивающих волн, которые то легко вздымали тело на свои округлые вершины, то мягко опускали в уютную водную «колыбель». Гроза прикрыл веки и, кажется, задремал на какое-то время, незаметно растворившись в бесконечном мерном колебании моря, пока из-под очередной волны живым поплавком не вынырнула голова десятника, с шумом выдохнув воздух.
– Хорь, разбудил, леший! – вырвавшись из объятий морской дрёмы, встрепенулся сотник. – Давай, брат, поторопимся, сотню к походу готовить велено! – молвил он десятнику. Перевернулся на живот и сильными гребками устремился к берегу.
Великая ответственность, как боевая кольчуга, привычно легла на плечи и вернула Грозе уверенность, ясность разума и особенную изведывательскую выверенность движений.
Погрузилось на каждое судно едва по полсотни воев, – больше людей не было, да и для добычи следовало оставить место, а что добыча будет щедрой, в том никто не сомневался. Очень уж красноречиво описал арабские богатства Мойша Киевский. Миновав Киммерийский Боспор, флот русов двинулся через Сурожское море, называемое у греков Меотидой, вошёл в устье Дона и, умело играя парусами, стал подниматься вверх по течению.
Когда достигли Переволока и стали причаливать к левому берегу у хазарской крепости Саркел, к Игорю поспешил воевода Фарлаф.
– Хазары денег за проход в Ра-реку требуют, – доложил он, – не боятся, что мы им накостыляем?
– Купцам барыш важнее жизни, а сии хазарские посты всегда более торговлей заняты были, нежели воинским делом, как о том мне поведал человек сведущий, – молвил Руяр, бросив мимолётный взгляд на сотника Грозу.
– Ведают, подлые, что нам через Итиль идти, а оттого бить их сейчас никак нельзя! – с досадой молвил князь. – Что ж, Фарлаф, поговори с ними, сколько хотят.
– Эх, княже, – в сердцах молвил воевода, едва взобравшись обратно на борт княжеской лодьи, – упёрлись, что твои бараны. Удалось только немного скостить плату от первоначальной, но заплатить всё ж придётся!
– Ничего, не так велика плата за проход без товара, – узнав, о каких деньгах идёт речь, молвил князь, – мы своё возьмём на берегах моря Хвалисского.
Вои водружали свои большие лодьи на заготовленные рамы и колёса и, налегая на канаты, почти семь десятков вёрст тащили в Ра-реку. А малые толкали, подкладывая деревянные кругляки. Хазары издали следили за русами, но никакой помехи не чинили. Широкая гладь великой реки, соединяющей многие племена и народы, приняла лодьи киян, а с берега им принялись призывно махать.
– Наши, гляди, Дух Вотана, наши уже тут! – Хрипло воскликнул рыжебородый новгородский сотник, обращаясь к могучему воеводе.
И в самом деле, вскоре киевские дружинники и шедшие с ними новгородцы во главе с Руяром попали в радостные объятия собратьев.
– Да мы уже скоро седмицу как стоим, бока отращиваем на жирной рыбе, которой тут не менее, чем у нас на полуночи, – рёк Гудим-Крапивник.
– Братья, воины Руси Варяжской, Новгородской, Киевской! – обратился к своим дружинникам Игорь, когда все собрались на берегу. – Сегодня мы идём вызволять своих полонённых братьев, которые стонут во вражьем рабстве, пусть же те, кто их истязает и унижает, испробуют наших клинков и сами окажутся в оковах невольничьих! Почти все товары, которыми славится Хорезм, Халифат и все города побережья моря Хвалисского, сделаны руками наших жён и мужей. Оскоплённые славянские дети и прекрасные наши жёны заполняют их гаремы. Пришло время за всё посчитаться. Что принесём мы убийцам наших детей и жён, тем, кто держит в неволе и калечит наших мужей? – горячо рёк князь Игорь своей дружине.
– Смерть! Мы принесём им смерть! – Дружно почти в двадцать тысяч глоток вскричали возбуждённые горячей речью князя воины.
После доброй и сытной вечери из юшки выловленного новгородцами двухсаженного осётра, воины разбрелись, – кто готовился ко сну, кто рассказывал землякам про то, как шли через пороги Непры, кто, наоборот, как добирались до Шексны. А воеводы во главе с князем устроили совет, решая порядок движения лодий к Итилю.
Рано утром флот русов, воздав славу Хорсу и призвав на помощь Одина и Перуна со Стрибогом, двинулся к стольному граду Хазарии.
Столица Каганата, раскинувшаяся на двух берегах реки Итиль, вернее, на берегах двух рукавов Великой реки, один из которых был собственно Итиль, или Атиль, а второй именовался Ахтуба, в переводе с тюркского «ак-тюбе» означало «Белые холмы». Западная часть на правом берегу Итили носила прозвище Ханкалык – Ханский город, а восточная на левом берегу Ахтубы именовалась Сарашен – Жёлтый город, в котором обитали купцы, ремесленники, рыбаки, люди разных верований – мусульмане, христиане, иудеи и язычники. В то время как Ханкалык занимала иудейская верхушка Хазарии, и только хорезмийские стражники – лариссии, которые выговорили себе условие, служа Кагану и Беку, оставаться мусульманами, были единственными иноверцами Ханского города. Поэтому кроме самой высокой постройки – иудейской синагоги, здесь стояла мечеть для тех же лариссиев. Оба здания были каменными. Также каменная хорошо укреплённая стена окружала эту часть города, защищая её со стороны степи.
Между двумя рукавами посреди устья Великой реки находился остров размером три на три фарсаха в восточном измерении. Здесь, за стенами крепости, стояли два великолепных дворца из обожжённого красного кирпича, сложенного на белом известковом растворе, среди которых Камлык – дом Кагана, и рядом подобный ему дворец Бека. Красные кирпичные стены из ровного обожжённого кирпича размером локоть на локоть и шириной в ладонь с белыми прожилками известкового раствора выглядели особенно красиво, а чтобы никто не вздумал соперничать с величием дворцов Кагана и Бека, всем прочим горожанам было запрещено строить дома из обожжённого кирпича.
Итиль встретил русов настороженной тишиной по берегам. Река от Каганского острова до Ханского города была перегорожена мостом из различных плотов и лодок. На стенах крепостей с обеих сторон хмурым частоколом стояли воины в полном боевом снаряжении. Отборные хорезмийцы, отчаянные и неустрашимые, потому как при поступлении в лариссии давали клятву не отступать никогда. В противном случае воин терял не только высокое жалование, но и свою голову.
Чужестранцам к острову Кагана было запрещено причаливать, поэтому лодья воеводы бросила якорь ближе к правому берегу Итиля. На небольшой лодке воевода Фарлаф и ещё двое темников причалили вначале к правому берегу Ханкалыка, а потом уже пешком и без оружия, по наплавному мостку из лодок и плотов отправились на разговор с Каганом. Не с самим Каганом, конечно, а только с его представителем.
Фарлаф, хорошо изучив хитромудрого Мойшу Киевского, не стал соглашаться на то, что в Итиле его встретит какой-то родственник Мойши и «всё уладит, как надо». Он почти силком впихнул жидовина в свою лодью и повёз с собой в Итиль. Всю дорогу несчастный купец жаловался на то, что он оставил торг, а значит, потерпел большие убытки, сетовал на жуткие неудобства походной жизни и весьма раздражал всех своими причитаниями. Теперь, когда воевода с двумя темниками и измученным долгой дорогой и мыслями об убытках Мойшей, в сопровождении десятка могучих варягов-охоронцев отправились на остров Кагана, Игорю и остальным начальникам киевского воинства оставалось только ждать.
Время шло, солнце уже давно перекатилось за полдень, а никто не возвращался. Воины-итильцы ни на какие вопросы киян не отвечали. Наконец, показались переговорщики. Жидовина с ними не было. Вид воеводы и темников был суров, вернее не просто суров, а злобен. Русские и нурманские ругательства вперемешку то и дело слетали с уст разгневанного Фарлафа.
– Что стряслось? – помрачнел князь.
– Проклятый Мойша, появится в Киеве, собственными руками задушу, – прорычал воевода, а потом добавил. – Каган требует не четверть, и даже не треть добычи, как обещал сей жидовинский лис, а половину от всего нами добытого! И нужно до вечера сообщить решение, – закончил он вконец раздосадовано, – итильская охрана не разрешает оставаться на ночь, – либо вечером проходим через посты, либо надо возвращаться к Переволоку…
Все, и князь в том числе, на какое-то время приуныли.
– Ладно, не возвращаться же назад с пустыми руками, – молвил, наконец, Игорь, перекрывая злой ропот военачальников, – половина, значит половина. Иди, воевода и реки, что мы согласны.
Через хазарский Итиль проходили сторожко, держа оружие наготове. И снова хазары ничем не выдали своей враждебности, кроме недобрых взглядов, которыми провожали вооружённых русов.
Глава пятая. Шерван
Гроза глядел то на предвечернюю воду, то поглядывал на идущие следом лодии, особенно на те небольшие, в которых плыли его изведыватели. Воды великой Ра-реки уже смешались с солёными водами Хвалисского моря. Позади остался хазарский Итиль и напряжение, которое испытали воины игоревой дружины, проходя через сей град, но всё обошлось, хотя теперь они по возвращении должны отдать Кагану половину добычи.
Сотник изведывательской сотни, приданной в личное распоряжение князя, глядел на воду и старался разобраться в неясных сомнениях и тревогах, что помимо воли роились в его голове. Вода журчит за кормой, и мысли так же смешиваются и текут, подобно морским струям.
Даже не заметил, как пролетели последние семь лет с тех пор, как он нежданно-негаданно для себя стал изведывателем князя Ольга. Пережил трудные и опасные походы, где тело, мысль и душа свиваются воедино, как тетива лука, и так же звенят от напряжения в час опасности. Пожалуй, это были лучшие годы. Жизнь после потери любимых людей – суженой Звениславы и брата Калинки, ставшая похожей больше на существование, вдруг превратилась в осмысленную и трудную борьбу за родную Таврику и за единую Великую Русь. Он крепко сдружился со многими отчаянными и такими же не ведающими иной цели соратниками. Знойное лето сменялось студёной зимой, а цветущая весна осенними дождями и распутицей, пролетая в заботах тайных воинов, как короткие дни.
Всё изменилось после ухода князя Ольга Вещего. Игорь не очень жалует Тайную службу, изведывателей ни разу к себе не призвал. Они какое-то время находились как бы сами по себе, пока их не взял под свою руку воевода Олег-младший. Но князь Игорь тем был явно недоволен, может, опасался, что Олег станет слишком силён? Да и варяги с нурманами, которые при князе Игоре стали иметь большое влияние, рекли князю, что всё решает добрая битва, а коли языка ворожьего понадобится взять, так они не хуже на то способны, нежели сии непонятно чем занимающиеся бездельники, что зовутся изведывателями. В конце концов, служба была распущена, якобы за ненадобностью, а при воеводе Олеге осталась изведывательская сотня, в обязанности которой входила обычная разведка при движении дружины, обнаружение засад и разъездов противника, а также доставка языка. Огнеяр рёк, что и его, Грозу, Олег-младший отстоял только потому, что в службе Тайной Гроза не так давно, да и всё одно не он, так другой будет во главе дозорной сотни. Ещё из прежних десятник Хорь остался, тот и вовсе не успел в изведывателях князя Олега походить, о нём и разговора не было. От таких изменений недобро было на душе у Грозы.
– Сотник, – вырвал из задумчивости Грозу один из его воинов, – лодьи к берегу повернули, на ночёвку.
– Добре, как выйдем на твердь, сразу дозоры выставить и местность вокруг осмотреть, – распорядился Гроза.
Когда стан уже затих, и только дозорные стерегли его сон на высотках и холмах, Гроза бросил наземь две бараньих шкуры и улёгся на них. Теперь можно до полуночной проверки постов спокойно поспать, на таком ложе ни змея, ни ядовитый паук или скорпион не осмелятся потревожить, это Гроза знал ещё с пастушьих времён. Но сон не шёл, снова не давали заснуть мысли и глубоко затаённая неясная тревога.
Когда он услышал от Руяра про дальний поход, то, как всегда, встрепенулось сердце. Видно, не умерла ещё робкая надежда, что удастся узнать что-то о дорогих ему людях. Сколько раз он их вспоминал и думал: живы ли? И перед всяким дальним походом ярче разгоралась в душе надежда.
Как и полагается у изведывателей, сразу принялся выяснять всё, что мог, о местах, где предстоит побывать, народах, там живущих, их обычаях, еде, одежде. Поговорил с теперь уже бывшими изведывателями, с купцами знакомыми и охоронцами, что в тех краях бывали. Многое узнал и многое понял. Сейчас самое время всё это уложить в голове в связную цепочку, ведь уже завтра будем проходить Семендер, а там Дербент, дальше на полудне Джуржан или Гурген, смотря на каком из местных языков произносить название града. Прибрежный город Гурген более всего знаменит своими коврами. По-армянски «горг» как раз и означает ковёр. Однако название Гургенское море получило от одноименной реки – Гурген, что означает на тюркском «малая вода», оттого что в засушливые годы река высыхает, не доходя до моря.
Итак, Гурен, потом Рей, Казвин. От Гургена купцы по суше достигают Багдада. Дербент, Шерван, подчинены Халифату. Купцы сказывали, что ещё лет двадцать – тридцать тому у русов в Гургене и Рее уже были свои торговые поселения. Остров Абаскун – крупный порт. – Надо всё это сейчас вспомнить, – Гроза прикрыл очи и принялся расслаблять тело, чтобы скорее заснуть. – Завтра будет новый походный день. Добре, что идём освобождать своих братьев, давно то сделать надо было. Плохо только, что пока хазар не можем, как следует, взгреть, ведь кто тех людей захватил и в рабство чужестранное продал, как Звениславу с Калинкой? – с этими думами изведыватель заснул коротким, глубоким и одновременно чутким сном.
Когда грозное двадцатитысячное войско русов на больших и малых лодьях с бортами, уставленными боевыми щитами, появлялось возле очередного приморского града, страх охватывал непривычных к такому зрелищу жителей. Вперёд выходил кто-либо из воевод и толмач. Разговор был прост и краток.
– Выпускайте наших славянских рабов и платите откуп за то, что живы останетесь. Ежели признаем сей откуп достаточным, то не тронем вашего града, если не согласны, будет битва, и тогда каждый из вас получит либо смерть, либо участь рабскую.
Семендер, который был под Хазарией, не тронули, прошли мимо. А вот уже Дербенту досталось от русов, потому как не пожелали выполнять требования «склавинов» воины могущественного Шервана, находясь под защитой высоких каменных стен толщиной в пять локтей и высотой более двадцати локтей. Огромные неприступные стены полностью закрывали сухопутный проход всего в три версты между морем и горным хребтом, причём закрывали с двух сторон, так что град был защищён очень хорошо и мог выдержать долгую осаду. Но дружина Игоря и не думала приступом брать высоченные каменные стены, что тянулись от моря аж на горный хребет и там замыкались неприступной цитаделью. Корабли русов ворвались в порт.
Шерваншаху Али ибн Хайсаму пришлось дать бой на море, хотя он не имел хорошего флота. Хайсам направил против великолепных морских воинов – нурман, варягов, словен и русов – своё войско на барках и торговых судах.
Воины Игоря не стали ждать противника, а сами ринулись в битву. Один вид грозных боевых лодий, надёжно прикрывших свои борта круглыми щитами, ощетинившихся копьями, баграми, двигающихся в плотном боевом строю, уже сам по себе сеял страх и растерянность у противника, который шёл навстречу на разномастных, в основном, торговых судах и лодках.
Умело маневрируя, рассекая силы шерваншаха, лишая их возможности действовать согласованно и, в конечном итоге, по-настоящему сопротивляться, северные воины начали жестокую битву. Подобно грозным волкам, с ходу влетающим в овечью отару, врезались большие морские суда русов в неровный рыхлый строй разномастного флота апшеронцев, разя воинов и поджигая горящими стрелами сухие борта, мачты и настилы. Засвистели в воздухе абордажные крюки, впиваясь в брусья и доски обшивки, вскинулись ввысь и упали на борта шерванских судов мостки и брусья. Обнажив клинки, под прикрытием стрел и сулиц, ринулись, русы на противника, так неразумно решившегося оказать сопротивление и потому уже обречённого на гибель. Русы просто разметали скоропалительно созданный флот Али ибн Хайсама, сотни и тысячи его воинов упокоились на дне Хвалисского моря.
На головной лодье высился новгородский воевода Руяр. Огромный рост и тяжёлое копьё, которым он владел, как будто оно было из пустотелого камышового прута, дополняли его схожесть с Духом Вотана. Рядом шла лодья нурманских воинов во главе с сотником Рудкаром. На плечах его была наброшена медвежья шкура. Ни сам новгородский воевода, ни его воины, казалось, вообще не имели понятия о страхе, они вступали в схватку, не разбирая, вдвое, втрое или вдесятеро больше врагов перед ними.
Сеча была жестокой, но недолгой, уже к вечеру сопротивление шерванцев было сломлено.
– Где же этот самый, как ты его назвал, Али, сын Хайсама? – Спросил князь Игорь у Фарлафа, руководившего Варяжской дружиной, когда их лодьи после морской битвы сошлись борт о борт. Рядом стали лодьи начальников Воли и Руяра.
– Пока не ведаю, скорее всего, ушёл с теми, кому удалось вырваться из наших железных когтей, – ответил Фарлаф, довольно оглядывая остатки горящих и покалеченных судов шерванцев.
– Несколько быстроходных лодий ушли к берегу, едва мы начали рассекать и теснить их корабли, – прогудел новгородский воевода.
– Что ж, пусть сам себя сей Хайсамович и винит, не стал бы против, так и сражения не было бы, – заметил, сверкнув азартно горящими очами, князь.
Как стальные морские волны хлынули на берега Дербента блистающие доспехами воины Игоря, карая тех, кто пытался сопротивляться и захватывая добычу и пленников в приглянувшихся богатых домах, торговых лавках, на базарах, в храмах, мечетях и синагогах.
Весть об ужасных беспощадных русах, подобно пожару, разом охватила град. Всяк житель спешил укрыться или спешно покинуть дом, но далеко не всем сие удавалось. Несколько дней претерпевал Дербент нашествие северных воинов. Наконец, собрав добычу и пленных, с осевшими от тяжести чревами судов, они двинулись дальше вдоль берега, сея страх и разорения в некогда тихих зажиточных и благополучных градах побережья.
Гарнизоны этих градов и островов, привыкшие не столько сражаться, сколько играть на посту в кости, не смогли оказать серьёзного сопротивления норманнам, варягам и русам, а кто всё-таки осмеливался, того ждала участь быть немедля разбитым, а значит – либо умереть в бою, либо пополнить отряды пленников.
В иных местах, где русов-рабов было много, они расправлялись со своими хозяевами, вооружались и присоединялись к воинам Игоря.
Князь, стоя на лодье, оглядывал море. Яркое полуденное солнце щедро изливало свет, зелёная морская волна билась о каменистый берег, поросший невысокими кустами, по склонам теснились дома из жёлтого и белого ракушечника с плоскими крышами.
– Хорошее место здесь, много товаров и податей с них можно получать, владея хотя бы частью Хвалисского моря и сухопутными караванными тропами. Сии края ревность у хазарских владык давно вызывают, потому как на пути из Асии в Европу лежат, оттого и первая дань, и лучшие товары тут, – молвил задумчиво Игорь. – Давайте расположимся пока на островах, соберём в одном месте всё добро и полонённых, чтоб распределить потом по лодьям.
– На Абаскуне лучше всего, сухопутным ворожьим дружинам, коли такие объявятся, непросто будет туда добраться, – поддержал Руяр. – Здесь самая крупная гавань на всём полуденно-заходном побережье Хвалисского моря, а недалеко вверх по реке расположен торговый град Гурген.
Вскоре толпа понурых шерванских пленников под присмотром полусотни крепких суровых русов в блестящей броне и прочных кольчугах уныло потянулась с причаливших к Абаскуну торговых судов и лодий к загонам для скота, который обычно привозили сюда купцы для перепродажи.
– Осмотреть всё окрест, выяснить, не осталось ли где воинов шерваншаха. Особое внимание обратить на хозяев лодий, что ещё уцелели. Богатые дома и дворцы под особой опекой должны быть, к вечеру мне всё про град сей расскажете, – наказывал своим десятникам сотник Гроза. Когда десятники пошли к своим воинам, он остановил Хоря.
– Брат Хорь, поставь в десятке своём кого за старшего. Ты в Царьграде Хорезмийцем добрым был, помнится… – Худощавый десятник привычно оборотился весь в слух и внимание.
Один из пленников, худощавый, бритоголовый, едва шёл, обхватив руками чрево, видно, ему было плохо. Он всё более отставал, пока не оказался в последних рядах несчастных. Наконец он вообще споткнулся и упал на пыльную каменистую дорогу. Охоронец-рус, шедший в конце вереницы, подошёл к корчившемуся на земле и попытался поднять его за шиворот пёстрого халата, но худощавый неожиданным ударом в подколенный сгиб обрушил руса наземь, вскочил и бросился бежать через немногочисленную толпу торговцев и зевак расположенного чуть выше пристани торжища. Двое русов устремились было в погоню, но они были при полном боевом вооружении, а бритоголовый шерванец мчался налегке, только полы его халата разлетались по сторонам, как крылья странной птицы. Перепрыгнув один, потом второй ряд торговцев, беглец исчез, как будто провалился сквозь каменистую земную твердь.
Сердито погрозив кулаками в сторону, куда исчез шустрый пленник, преследовавшие его русы вернулись к унылой толпе, ругаясь и грозно потрясая оружием, чтобы ещё кто не вздумал бежать.
Глава шестая. Хорь и Юлдуз
После морского боя с шерваншахом прошёл ещё месяц.
Русы гуляли по берегам Хвалисского моря, стаскивая дорогую посуду, украшения, восточные ткани и конечно монеты – золотые и серебряные – на Абаскун и другие острова, где расположили свои станы. Железным вихрем прошли через Гилян, Дейлем, Табаристан, Апшеронский полуостров и Аран, а потом устремились на большой город Баку. Дважды за это время приходилось им схватываться в настоящей жестокой сече то с хорезмийцами, то с войсками халифата, и всякий раз победа была за русами. Остальные города и поселения предпочли откупиться от русов, щедро заплатив им за обещание не разорять и не грабить жилищ и не брать в полон жителей. Почти все добытое в удачном набеге было собрано на островах, оставалось подготовиться к обратной дороге, чем и занимались воины Игоря.
Мрачный, осунувшийся, погружённый в свои мысли Гроза шёл по берегу, не переставая по привычке замечать всё, что происходило вокруг. Поход и в самом деле был пока удачным, хоть часть войска полегла в больших и малых сражениях. Но более всего обидно было, что обещание освободить из рабства своих братьев, очевидно, никого из воевод, да и князя особо не волновало. Первым делом была добыча, а собратьев если и освобождали из полона, то, только походя, или они сами бежали к русам, пользуясь суматохой и страхом местных хозяев. Да что говорить, если даже их земляки – русы, что обитали отдельными поселениями в купеческих градах Гургене, Рее и прочих, не очень были рады приходу собратьев. Грабёж и разорения никому не приносили пользы, а торговому люду особенно. Тем более, что часть из тех, кто жили здесь не одно поколение, приняли ислам, чтобы не платить обязательную для иноверцев пошлину-джизию. В конце концов, из освободительного похода всё превратилось в обычный грабительский набег. Это совсем не похоже на деяния Олега Вещего, к которому он, Гроза, пришёл и по велению души стал изведывателем.
Здесь, в чужой стороне, тайным воинам не раз уже удавалось отвести беду от князя. Ведь по местным порядкам, когда вопрос не решается в открытой битве, то противника стараются устранить хитростью и исподтишка. Но Гроза о том не распространялся, к тому их ещё ушедший князь приучил. Об Олеге Вещем никто из соратников по Тайной службе никогда не говорил слова «умер», только «ушёл», или «не стало». Никто из них не видел князя мёртвым. А у изведывателей исстари принято, что мёртвым считать можно только тогда, когда есть свидетели гибели, либо мёртвое тело.
Сотник размышлял, а очи сами по себе замечали, и цепкая память запоминала всё, что происходило вокруг. На душе было неспокойно. Он с нетерпением ожидал возвращения Хоря.
Даже в самом сердце базарной площади в полдень было не людно, в том числе и у лавки продавца ковров. Разномастные полотнища были развешены на жердях так, что образовывали некое подобие пёстрой изгороди. Такой же цветистый и узорчатый полог был растянут над входом в лавку, прикрывая его сверху от палящего солнца. Сам хозяин, почтенный Муса, сидел на небольшой каменной возвышенности, устланной коврами, перед маленьким столиком из светлого дерева, пил зелёный чай, вытирая иногда потное чело, да время от времени для порядка покрикивал на своих, как ему казалось, ленивых рабов. Хотя солнце не падало на пятачок, на котором восседал Муса, но развешенные вокруг ковры не пропускали набегавшего со стороны моря освежающего ветерка, и в лавке висел неколебимый пыльный зной.
Нищий оборванец с загорелым бритым черепом, пристроившись под спасительный полог тени, безучастно сидел неподалёку от входа на голых пыльных камнях, скрестив под собой ноги и бормоча каждому прохожему прошения о милости людской во имя Аллаха. В старой тюбетейке с торчащими из неё нитями, когда-то представлявшими узор, лежала мелкая медная монета, и пока никто из правоверных мусульман, христиан или последователей учения Заратуштры, проходящих мимо, не торопился пополнить скудную казну нищего.
– На, возьми! – послышался вдруг тонкий голосок. Оборванец поднял очи и увидел перед собой мальца лет пяти с курчавыми волосами и тёмными очами, который протягивал ему кусок лепёшки.
– Благодарю! Да хранит тебя Всевышний! – улыбнулся нищий. – А кто тебя послал?
Но, малец не ответил и, путаясь в полах своего одеяния, побежал в сторону лавки напротив, торгующей разными тканями.
В это время человек в богатом персидском халате, подпоясанном красным поясом и в красной чалме, украшенной брошью в виде золотого пера, остановился напротив лавки с коврами, огляделся вокруг, задержав на мгновение взгляд на мерно бубнящем что-то себе под нос нищем, и направился к хозяину.
– Здоровья и благоденствия тебе и твоему дому, почтенный Муса, хороша ли твоя торговля? – приветствовал хозяина состоятельный купец, войдя в отгороженное коврами пространство.
– И тебе здравия, почтеннейший Хаким, да продлит Аллах твои дни! А торговля… Да, какая сейчас может быть торговля, так только, по привычке сижу здесь и жду каждую минуту, что налетят эти сумасшедшие урусы и заберут все мои товары просто так, – жалуясь, отвечал торговец и кивнул рабу принести чай для гостя.
– А может это жалкий нищий, что сидит у твоей лавки, отпугивает покупателей? – молвил гость, присаживаясь напротив лавочника за низенький столик.
– Это легко исправить, почтенный Хаким, – согласно кивнул торговец и щёлкнул двумя перстами. – Прогони нищего, что сидит у моей лавки, – повелел Муса рабу, который поспешил на его зов.
– Давай, проваливай отсюда! – послышалось через миг из-за ковра, что отделял лавку от рынка. Несчастный нищий что-то пробормотал в ответ, но поднятый за шиворот дырявого халата поплёлся прочь от негостеприимной лавки торговца коврами.
Пройдя дальше, нищий вдруг замедлил шаг, скосив взор на одну из лавчонок с женскими украшениями, у которой он узрел человека в новой узорчатой тюбетейке и добротном тёмном халате, внимательно перебиравшего предложенный ему товар. Бродяга видел только лик покупателя сбоку и верхнюю часть плеч, но в первое мгновение оборванцу показалось, что он увидел знакомца. Когда же тот заговорил неожиданно высоким, похожим на женский, голосом, нищий понял, что ошибся. Он тут же уселся напротив лавки с женскими украшениями и положил перед собой прямо в пыль некогда расшитую тюбетейку. Когда обладатель высокого голоса, наконец, вышел из-за прилавка, нищий совсем уверился, что ошибся.
Посидев ещё немного, бродяга поднялся и, согнув худые плечи, шаркающей походкой поплёлся в конец базара, где, набрав воды из находящегося тут глубокого колодца, наполнил свою пустую тыкву, достал поданный мальцом кусок лепёшки и принялся за неторопливую трапезу в жидкой тени придорожных кустов.
К вечеру, когда базар опустел, нищий тоже подался прочь с торжища. Он поплёлся по улицам, а потом, оглянувшись несколько раз, вдруг неожиданно быстро скользнул в приоткрытую калитку одного из дворов.
– Что, брат Хорь, удачен ли сегодня у тебя был сбор меди? – спросил круглолицый пожилой десятник Смурной, сидевший на широкой лаве под раскидистым тутовым деревом.
– Меди почти не собрал, а вот слухов больше. Заговор, по всему, зреет. Пришёл какой-то важный муж в красной чалме к торговцу коврами Мусе, но о чём говорили, услышать не удалось, гость осторожным оказался, повелел нищего от лавки прогнать. Зато в других местах кое-что ухом поймал, надо с сотником говорить, по всему, что-то скоро случится может.
– И у меня недобрые вести, брат Хорь, – вздохнул пожилой десятник. – Иди, отмывайся да переодевайся, скоро Гроза явится, тогда и порешим, что делать.
– Одного местного сегодня встретил, в первый миг подумал, что наш сотник в их платье переоделся, так похож. Да услышал речь его, – голос высокий, будто женский, а потом гляжу, ростом выше Грозы, сутуловат к тому ж, да и выглядит моложе, а так крепко похож, особливо очами, аж не по себе стало, – молвил Хорь, сбрасывая грязное облачение и подходя к небольшому мраморному бассейну с морской водой.
– Волхвы рекут, у каждого человека близнецы бывают, только где и в каких краях неведомо.
– У каждого? – недоверчиво вопросил молодой десятник. – А отчего так?
– А отчего у человека два ока, два уха, две руки и ноги? – в свою очередь спросил Смурной.
– Ну, если одно повредится, другое чтоб взамен было… – молвил Хорь, погружаясь в добре прогретую солнцем воду.
– Верно, – подтвердил старший. – Так и с людьми. Отец Сварог, когда людей сотворял, тоже каждого по два сделал, видно, чтоб важное по божьему замыслу дело было непременно выполнено, даже коли один из тех Сварожьих близнецов от болезни или меча вражеского загинет, – неторопливо пояснил Смурной торчащей из воды голове Хоря.
Когда молодой, омывшись, вышел, он узрел на лике пожилого некое беспокойство.
– Ты сотнику не говори о том, что похожего на него человека встретил, – глухо молвил Смурной, подавая местное удивительно мягкое полотнище из древесной шерсти.
– Отчего же? – удивился Хорь, вытираясь.
– Оттого что Сварожьим близнецам в яви встречаться нельзя, один из них вскорости после такой встречи в навь уйти должен, – мрачно закончил пожилой десятник.
– Ну, а что тебе поведал хитрый торговец сплетнями? – спросил Гроза у Смурного, когда они втроём уселись под тутовым деревом на широкой лаве, и Хорь отчитался о том, что узнал на базаре.
Так сложилось в сотне, что совет перед важным решением Гроза обычно вёл с двумя своими десятниками – пожилым Смурным и молодым Хорем, которого учил трудному изведывательскому делу сам Берест, человек удивительный. С ним изведыватели и князь Ольг ходили в поход на Царьград.
– Если верить торгашу, – отвечал Смурной, – то в доме этого самого Мегди Аль-Салеха, что возле каменной крепости, собираются заговорщики, которые хотят нас порезать, причём, в первую очередь князя, темников да тысяцких. Где и кто из начальников наших воинских расположился, им ведомо.
– Может, наврал хитрец, чтоб ты ему денег дал, а, в самом деле, только сплетни на базаре собрал? – с сомнением молвил Хорь, оглаживая десницей свой бритый загорелый череп.
– Да, деньги он любит более жизни своей, хоть и трусоват изрядно, но я ему дал только часть, а остальное отдам, ежели весть его тайная правдой окажется, а потому сомневаюсь, что врал торговец, – возразил пожилой.
– Смурной прав. И ты, Хорь, не зря в грязном халате по торжищу медяки клянчил, изведанное вами одно к одному сходится. Знать бы только, когда они опять соберутся, – задумчиво молвил Гроза, – да заявиться в гости к этому Мегди всей нашей сотней!
– Я завтра постараюсь ещё разговоров послушать, – молвил Хорь, – потому как без верных сведений действовать опасно.
И Гроза согласился с ним.
На следующий день Хорь, дабы не привлекать излишнего внимания, не пошёл к лавке Мусы, а пристроился подле одного из торговцев благовониями, где стояли сосуды с мазями, маслами и помадами, а также разнообразные средства для умащивания кожи, приготовленные из львиного жира, пальмового вина, шафрана и душистых масел. На Востоке любят наряжаться, особенно в пятницу перед намазом, и душиться, потому благовония являлись частью их убранства. Также лежали палочки мисвака – «жевательного дерева», которым местные чистили зубы, что дополняло их приятный внешний вид.
Молодая женщина в длинной свободной дурре тёмного цвета с широкими рукавами и разрезом спереди и накинутом на голову тонком шёлковом изаре тёмно-синего цвета, что могло означать, что она вдова, выйдя из тканой лавки, привычно закрыла нижнюю часть лика, стала около того места, где вчера сидел нищий и растерянно оглянулась по сторонам: попрошайки не было. Женщина прошла дальше по базару и увидела его около лавки торговца благовониями – он сидел, подогнув под себя ноги, мерно раскачиваясь и бормоча то на тюркском, то на арабском просьбу о милости.
Она не подошла к нему, а сначала вошла в лавку, рассматривая и нюхая благовония и исподволь бросая короткие оценивающие взоры на сильные жилистые руки, тонкий стан и бритую голову оборванца. Наконец, она вышла из лавки и, запустив в свою корзинку руку, протянула несчастному кусок лепёшки и гроздь янтарного винограда. Бормоча благодарности, нищий взял подношение, их руки на миг встретились, и женщина почувствовала, будто неведомая волна пробежала по её перстам и потом по всему телу. Она замерла от неожиданности, а потом, быстро отдёрнув руку, заторопилась к выходу с базарной площади. Нищий проводил её задумчивым взором, потом встал, надел грязную тюбетейку, поправил рваный халат и последовал за ушедшей.
Он шёл так, чтобы женщина не видела его, да она особо и не оглядывалась. Пройдя через улочки, она свернула к пустырю, поросшему чахлыми кустарниками, и пошла в сторону моря. Нищий, выждав некоторое время, двинулся по тропинке меж зарослей каких-то растений с цветками, похожими на зверобой – такими же мелкими, зеленовато-жёлтого цвета, но с плотными листками и стеблями, покрытыми шипами – не такими колючими, как у боярышника, но тоже довольно неприятными на ощупь. За зарослями открылось море и глинобитный дом на возвышенности у самой, как отсюда казалось, воды. Во дворе одинокого дома, ограждённого глиняным дувалом, росли деревья и виноградные лозы, ярко выделяясь сочной зеленью на синем ковре морских волн. Попрошайка повернулся и побрёл обратно на базарную площадь.
В ночи человек в тёмном одеянии беззвучно преодолел дувал, на некоторое время задержавшись на нём, потом так же неслышно соскользнул внутрь двора. Движения неизвестного были точны и осторожны, казалось, что это не человек в мягких кавказских сапожках и чёрном плаще а, в самом деле, лишь бестелесная тень. Изучив двор, человек в тёмном оценивающе окинул ведущую на плоскую крышу глинобитного дома деревянную лестницу, но подниматься по ней не стал, а, легко подтягиваясь на ветвях растущего рядом тутового дерева, осторожно заглянул на крышу. Здесь, разметавшись на разостланной постели, в полупрозрачной хилале до пят спала та самая женщина, что сегодня на базаре подала нищему лепёшку и виноград. Он узрел её без одеяний и обязательных платков, скрывающих густые, рассыпавшиеся по подушке волосы. Она была довольно молодой, с гибким станом и высокой грудью, очерченной тонкой тканью. В свете почти полной луны он, замирая от нахлынувшего трепетного наслаждения, некоторое время любовался очертаниями женского тела, пухлых уст и тонких пальцев. Однако едва она повернулась во сне, что-то невнятно пробормотав, человек в тёмном тут же неслышно соскользнул вниз и быстрой тенью перемахнул обратно через дувал.
На следующий день вдова появилась не мимоходом, как прошлый раз, а как-то не торопясь, как будто шла именно к нему. Она пристально поглядела в очи нищему, и от этого взгляда что-то взволновалось в душе тайного изведывателя.
– Ты аскер, ты сильный и ловкий, я видела, как ты сбил с ног крепкого уруса, а потом, как ветер, бежал через базарные ряды, отчего же ты просишь милостыню? – заговорила она. – Мне нужен помощник по хозяйству, нужно починить беседку, деревянную калитку, лестницу на крышу, ты сможешь? А я тебя буду хорошо кормить, и тебе не придётся клянчить подаяние на базарной площади, – закончила женщина свою явно подготовленную заранее речь.
– Хорошо, уважаемая ханум, я приду, как разойдётся базар, – чуть подумав, ответил нищий, скосив очи на лавку купца, к которому пожаловал очередной покупатель. Женщина довольно хмыкнула и протянула ему серебряный дирхем.
– Вот, возьми, хорошо вымойся и смени платье, – молвила она и ушла, ещё раз бросив на несчастного такой взгляд, от которого у него заколотилось сердце.
Когда бывший оборванец толкнул деревянную калитку, первый, кого он увидел во дворе, был малец лет пяти с большими карими очами. Они постояли, молча разглядывая один другого. «А ты не так проста, ханум, – подумал про себя работник, – оказывается, не только я за тобой, но и ты за мной наблюдала!»
В это время скрипнула дверь дома и показалась сама хозяйка, явно обрадованная появлению нищего, который в чистом халате и почти новой тюбетейке, мягких кавказских сапогах и шароварах из крашеного хлопка, выглядел вполне прилично. Лик её засветился, пухлые уста тронула улыбка. Руки несколько растерянно, явно не находя места от нахлынувших изнутри чувств, стали будто сами по себе двигаться, то перебирая наброшенный по-домашнему на плечи, а не надетый на голову изар, то всплеснули, будто две волны, вдруг пробежавшие лёгкой рябью по спокойной воде, то поправили большие серьги в порозовевших от волнения ушах. Свободная дурра из шерсти, надетая на оливкового цвета камиз, вышитый по круглому вороту, с положенным для женщины швом впереди, скрывали тонкий стан, но красочно расшитая тюбетейка не могла спрятать чудесные ниспадавшие тёмными волнами волосы. Рука по привычке скользнула к изару на плечах, чтобы покрыть голову и нижнюю часть лика, но остановилась, – зачем ей было прятаться от нищего у себя дома?
– Ты умеешь работать с деревом, с инструментом по дереву? У меня его много осталось от мужа, он был хорошим мастером, делал добротные лодки, и погиб в море…
Гость только молча кивнул, и хозяйка повела его в отдельное помещение, где, видимо, находилась мастерская её мужа. Она открыла одну половинку скрипучих двухстворчатых, похожих на небольшие ворота, дверей. После дневного солнца здесь казалось темно, только из расположенных почти под крышей узких окон струился свет, освещая добротный стол с разными зажимами, упорами и прочими приспособами для обработки дерева. На полках и вбитых в саманную стену деревянных кольях находился разный инструмент, под одной стеной лежали доски, а под другой какие-то мешки. Хозяйка придерживала открытую половинку двери, которая всё время норовила закрыться на просевших петлях. Гость, ещё раз быстрым и цепким взглядом окинув помещение, шагнул внутрь.
Проходя мимо вдовы, он снова ощутил то непонятное чувство, которое невидимым облаком окружало её стан, и опять, как утром на базаре, почувствовал её горячее желание, от которого в нём самом возгорелось нечто подобное, перед очами мелькнули цветные круги, а по телу растеклась непонятная истома. Он споткнулся о мешки, они были наполнены чем-то лёгким и мягким, то ли шерстью, то ли паклей. Хозяйка вошла следом, отпущенная дверь закрылась, стало ещё темнее. Вдова что-то говорила, но до слуха мужа, очарованного неведомой силой, долетали только отдельные слова, которые ни ей, ни ему были вовсе не важны. Он, не оглядываясь, даже прикрыв очи, ощущал её горячее гибкое тело, которое оказалось совсем близко, чуял, как эта молодая женщина истосковалась по мужской ласке, и как некая неведомая сила влечёт её к нему. Ещё мгновение, а тем более одно неосторожное прикосновение не только тела, но даже края её платья, – и он потеряет остатки рассудочности…
Быстрым движением новый работник ускользнул от опасно приблизившейся вдовы и оказался под небольшим оконцем, глянул на качающуюся за ним ветку жердели, глубоко вдохнул и, с усилием выдохнув, как после пропущенного удара в схватке, молвил ещё дрожащим, но обретающим твёрдость голосом.
– Я сейчас разберусь тут, что подточить надо, и начну с калитки, там один навес совсем разболтался, чтобы успеть, уважаемая ханум, заработать хотя бы на кусок твоей вкуснейшей лепёшки…
Вдова открыла было свои чувственные уста, намереваясь что-то сказать, поглядела ещё затуманенным взором, даже чуть качнулась, но устояла, ухватившись за пыльную поверхность ремесленного стола. Потом не то кивнула в знак согласия, не то мотнула головой, разгоняя остатки нахлынувших грёз и, медленно повернувшись, вышла из помещения.
С калиткой и лестницей работник провозился почти дотемна, темноокий малец всё время крутился подле, получая от молчаливого работника то обрезок небольшой дощечки, то золотистые закрученные стружки. Жена, готовя на стол под раскидистой шелковицей рядом с лестницей, одновременно ревниво и в то же время с явным удовольствием глядела на возню двух мужей, – большого и маленького.
– Ты можешь ночевать в мастерской или прямо под жерделой на старой широкой лаве, – молвила она работнику с затаённой надеждой в голосе, когда кормила его ужином.
– Прости, ханум, – со всей осторожностью, на какую только был способен, молвил он, – я аскер, как, ты верно заметила, к сожалению, у меня есть срочные мужские дела, хотя, честно говоря, не будь их, я никогда бы не уходил из этого двора. Надо будет ещё привести в порядок беседку. – Работник по мусульманскому обычаю провёл открытыми дланями от чела до подбородка, благодаря Аллаха за трапезу, потом потрепал по смоляной голове пятилетнего «помощника» и лёгким беззвучным шагом направился к калитке. Ещё раз проверил, как она теперь открывается и закрывается, явно остался доволен и слегка поклонился хозяйке с сыном.
– Масс салям, – попрощался он, и скрылся за калиткой.
– Ты где сегодня задержался, и почему в другой одежде? – спросил Гроза, когда уже в темноте Хорь вернулся в занимаемый изведывателями двор.
– Работу сыскал, после базара калитки да двери чинил, добрую еду получил, и имел возможность провести ночь с молодой вдовой, – как всегда спокойно молвил десятник, привычно сбрасывая халат и с великим удовольствием погружаясь в воду большой каменной чаши.
– Гляди, брат Хорь, жёны, они порой опаснее любой тайной службы бывают, стерегись таких, особенно красных, да в чужой земле! – предостерегающе проговорил Смурной.
– Сия вдова одежды шьёт для жён богатых купцов и вхожа к ним в дома, как я на рынок, никакая стража в тех домах ей не помеха, что столбы на калитке, – всё так же рассудительно отвечал молодой десятник. Даже самый внимательный взгляд не заметил бы в нём сейчас того волнения, которое он испытал днём в мастерской лодочника. – Пока я лестницу ладил, приходила молодая жена, как я понял, из гарема самого бека, спрашивала, когда будет готово платье для почтенной Гульсарии, матери молодого бека Мегди Аль-Салеха. За эту ночь мастерица должна закончить работу и завтра отнести заказчице. Платье, понятно, дорогое, будет щедрая оплата, и я постараюсь стать носильщиком и охоронцем моей госпожи Юлдуз.
– Хм, Юлдуз, говоришь, Звезда по-нашему, красивое имя, – потирая висок, проговорил в задумчивости сотник. – Это меняет всё дело. Ты вот что, на базар завтра, само собой, не ходи, ублажай свою Звезду, как хочешь, только чтоб она тебе поверила! От твоих сведений зависят многие наши жизни, и в первую очередь княжеская!
– В жёнах великая сила, – добавил Смурной, – и коли она полюбит, то для любимого сделает, что угодно. А коли воспылает обидой да ненавистью, ни себя, ни другого не пожалеет! Тут, брат, порой как по лезвию меча острого идти над пропастью, так и с жёнами дело иметь…
Долго в тот вечер не мог уснуть Хорь, все ворочался на своей жёсткой лаве, пока уже под утро не провалился в короткий, но крепкий сон.
– Салям аллейкум, Халим! – приветствовал, едва войдя во двор, работник серьёзного пятилетнего сына хозяйки, который, как и вчера, встретил его у калитки.
– Ва-аллекум ас-салям, Хурр! – Также важно по-взрослому ответил малец. – Мама говорила, что ты будешь чинить сегодня нашу беседку?
– Да, уважаемый Халим, работы много, поэтому я пришёл пораньше. – Всё в том же серьёзном тоне, как будто перед ним был не ребёнок, а зрелый мужчина, продолжил разговор с малышом работник. Он не очень-то покривил душой, назвав себя «Хурр», что очень походило на «Хорь», а на местном языке означало «Свободный». Он прошёл в мастерскую, повязал рабочий передник и, выйдя с молотком и топором, обратил внимание на ворота перед мастерской. Заглянув за забор в этом месте, увидел выложенный из камней жёлоб от ворот к морю, которое плескалось совсем рядом. «Ага, здесь мастер спускал новые лодки в море, толково сделано, может пригодиться, берег пустой совсем», – смекнул про себя Хорь и направился к беседке, состоящей из резных деревянных столбов и перекладин. Некоторые из столбов подгнили, но сложность состояла в том, что беседка была увита лианами с созревающими гроздями того самого золотистого винограда, каким его угощала хозяйка.
На душе вдруг стало как-то легко и свободно, руки, истосковавшиеся по обычной хозяйственной работе, с желанием принялись за дело.
Осторожно простукивая столбики и выявляя подгнившие, работник, подставив на время треугольником жердины под поперечную перекладину, отделял от неё топором опору и, выкопав столбик, отрезал подгнившую часть. Затем пилой и несколькими ловкими ударами топора превращал обрезанный конец в замок, наподобие ласточкиного хвоста, и вставлял такой же длины кусок от найденных в мастерской обрезков. Оставалось только подогнать обе части замка, чтобы они плотно вошли друг в друга. Маленький Халим с большим интересом смотрел на работу нового мастера, и его распахнутые детские очи, казалось, становились ещё больше от восторга и удивления. Ещё бы, старый прогнивший столб становился крепким и надёжным, и перекладина вместе с виноградом уже не грозила при сильном ветре, какие нередко налетали на Абаскун, свалиться на голову.
Хозяйка, вначале не очень понимавшая, на что собирается заменить подгнившие столбики беседки этот молчаливый работник, если запасных столбов такой же длины в её хозяйстве нет, проходя по двору, поглядывала на затею с сомнением. Но когда первый обновлённый столбик стал на своё место, как влитой, она с удивлением погладила своей чуткой рукой место стыковки.
– Ты, в самом деле, настоящий мастер, Хурр, мог бы стать весьма уважаемым на острове, как когда-то был мой муж… – Она ещё раз, почти с нежностью прошлась чуткой дланью по прочному соединению столбика, и в очах её блеснула паволока, выдававшая совсем другие мысли. Вдруг она встрепенулась, видно, вспомнив что-то важное, и заторопилась, явно собираясь уходить.
– Прости, ханум Юлдуз, ты, кажется, собралась куда-то идти, я мог бы тебя сопровождать, ведь я теперь твой работник, а на острове полно урусов, кто знает, что взбредёт в их головы при виде красивой женщины.
– Обычно меня сопровождает дедушка Салим, – отвечала хозяйка. Затем смерила работника игриво-оценивающим взором. – Хорошо, снимай передник и пойдём! – проговорила она весьма довольным тоном, как ребёнок, вдруг получивший занимательную и долгожданную игрушку.
Уверенно и гордо, как давно уже не ходила по улицам, швейная мастерица Юлдуз шла впереди, а следовавший сзади работник нёс аккуратный свёрток. Когда им навстречу попались несколько урусов, слуга ссутулился, опустил голову и превратился в послушного раба, несущего за госпожой её поклажу. Они подошли к дому бека. Крепкий стражник узнал мастерицу и только внимательно окинул строгим оком её работника, худого, с равнодушными, ничего не выражающими очами, какие обычно бывают у рабов. Опытный страж даже не стал спрашивать у Юлдуз ханум, кто это.
– Дом большой, каменный, в два яруса, на втором женская половина, на первом поварская, охрана, комнаты для встречи гостей и прочее, – доложился вечером Хорь.
– Это ты всё сам разглядел? – уточнил сотник.
– Нет, меня дальше лестницы не пустили, но я потом у своей ханум расспросил, ей очень хотелось свою приближённость к матери бека показать, вот и разговорилась на обратном пути. А места охраны, и как запираются ворота, я заприметил, когда входил и выходил, – молвил изведыватель. Он не стал рассказывать подробности, как они с ханум вернулись после посещения дома бека, зайдя по пути на базар. Накупив всего, что ей было нужно, Юлдуз шла весьма довольная: она получила хорошую плату за сшитое платье для матери бека, взяла заказы на ещё два платья для молодых жён из его гарема, купила всё, чего хотела и идёт с собственным работником, как настоящая госпожа. Все желания исполнены, кроме одного, самого сокровенного…
Когда обед был готов, Юлдуз покормила сына рассыпчатым пловом.
– Ты хорошо себя сегодня вёл, – сказала она мальцу, – поэтому я разрешаю тебе поиграть с Асатом и Муратом.
Радостный Халим убежал.
Юлдуз медленно, как бы невзначай прошла мимо согнувшегося над очередным столбиком работника, край одежды слегка задел его сосредоточенный лик, пахнуло ароматом дорогих благовоний. Она не смотрела на мужа, но ясно почувствовала, как струящееся от неё желание заискрило в молодом аскере и заставило затрепетать в ответ его тело и душу. Ступая так же грациозно и медленно, хозяйка прошла дальше, ловя спиной исподволь устремлённый на неё взор работника. Через некоторое время из мастерской послышались звуки некой возни и просительный голос:
– Эй, Хурр, помоги мне, я тут, кажется, за что-то зацепилась, ты слышишь?!
– Слышу, уже иду! – ответил работник вдруг осипшим голосом, отложил на край дорожки топор и так же, внешне не торопясь, но, всё более волнуясь внутри, пошёл на зов ханум.
– Я зацепилась своим платьем, боюсь двинуться, – с волнением проговорила Юлдуз, когда он открыл створку дверей-ворот. От передавшегося волнения у него пересохло во рту, а сердце заколотилось сильнее… Отпущенная дверь закрылась и Хурр, пройдя в мастерскую, почти ничего не увидел после яркого дневного света.
– Где ты зацепилась, ханум, тут темно, я сейчас открою дверь, – как сквозь перину услышал он собственный голос.
– Не надо дверь, пока откроешь, моё платье порвётся, вот моя рука, иди сюда… – просительно и в то же время повелительно прозвучали слова хозяйки, как это может сказать только женщина. Работник шагнул к смутному стану, ощутил прикосновение мягкой руки, и от этого прикосновения перед очами снова пошли круги, как тогда. Но сейчас он не может уйти, он не может обидеть женщину, да и не хочет…
Как сквозь вязкое пространство он приблизился к Юлдуз и ощутил её аромат, тепло, дыхание и трепет небольших высоких персий. Хурр замер, круги перед очами стали сплошной мягкой чернотой. Почти теряя сознание от нахлынувших чувств, он успел ощутить, как горячие женские руки обвили шею, а его собственные пылающие длани коснулись чувственной спины девы, её пылающих ланит и влажных уст. И, почти зарычав от внезапно охватившей обоих страсти, они, повалившись на мягкие мехи, сплелись воедино, как виноградные лозы в беседке, и утонули в безмерной пучине небывалой неги.
Когда изведыватель начал приходить в себя, он услышал рядом тихое, похожее на детское сопение. Открыв очи, узрел в жёлтом слегка мерцающем свете сального светильника себя на широком ложе с невероятно скомканным покрывалом, как будто тут прошёл табун лошадей. Деревянное ложе было слегка приподнято над полом. Расслабленное тело приятно утопало в толстом матрасе, плотно набитом сухой морской травой и источавшем приятный аромат моря. Рядом слева чудный лик ханум, показавшийся ему совсем юным. Она лежала на правом боку, левая рука обнимала его стан, а тонкая в щиколотке нога девы касалась его ноги. «Надо же, – с удивлением и огорчением подумал Хорь, – хороший же из меня изведыватель, коли почти не помню, как на ложе оказался, ведь темень страсти охватила в мастерской». Он осмотрелся. Обычная глинобитная постройка с полками, на которых красуется медная и глиняная посуда, в побеленных стенах – ниши, завешенные узорчатой тканью. На полу ковры и циновки, много вышитых подушечек с кистями. Он всё-таки пошевелился, женщина почувствовала его движение и приоткрыла свои чудные очи.
– А ты моложе, чем я думал, Юлдуз, – тихо прошептал он, нежно касаясь её роскошных волос и гладких, как плоды персика, ланит. – Сколько же тебе было, когда тебя выдали замуж?
– Я была уже взрослой, мне тогда исполнилось четырнадцать. Через год у меня родилась дочь, но умерла после родов. Потом родился Халим, а ещё через три лета муж погиб во время бури, когда перегонял заказчику сделанную лодку.
– Так тебе всего девятнадцать, Звёздочка, – он нежно поцеловал её уста.
– Я Звёздочка, а ты мой Месяц, и мы будем светить вместе, ведь правда?! – и она засмеялась тихо и счастливо.
В следующие два дня Хорь не смог прийти к Юлдуз. По всему ощущался накал обстановки в граде, и он должен был проследить за несколькими местными, а ночью, одев свою тёмную одежду и мягкие кавказские сапоги, наблюдал за домом, который весьма интересовал изведывателей. Только на третий день к полудню он появился у желанного дома.
– Салям аллейкум! – закричал обрадованный малец, едва Хурр вошёл в калитку. Работник ещё не успел толком ответить на приветствие, как тут же из двери выскользнула Юлдуз. Очи её были большими и влажными.
– У меня оборвалась полка, на которой лежит всё самое нужное для шитья, я не могу работать! – Недовольно проговорила суровая хозяйка вместо приветствия. Она широко растворила дверь в дом, пропуская работника, и следом закрыла её изнутри на засов.
– Ты где пропадал, тебя не было два дня, две ночи, и вот ещё половину дня, ты даже ничего не сказал, когда уходил, я не знала, вернёшься ли ты вообще…? – Она обвила жилистую шею Хурра руками и стала, плача, осыпать поцелуями его лик. Он в ответ целовал её и гладил по прекрасным волосам.
– Милая, у меня есть свои дела, но я люблю только тебя и больше никого, ты же это знаешь, ты чувствуешь это своим замечательным, самым чутким во всём Шерване и Хорезме сердцем. Прости, что ушёл, пока ты спала, не хотел тебя огорчать, Звёздочка моя!
Она потихоньку перестала всхлипывать, а потом поглядела на него лучащимися очами.
– Идём, мой вольный аскер, я покормлю тебя, не обращай внимания на женские слёзы. Просто я поняла, что ты не зря носишь такое имя, ты в душе действительно свободный, как дикий конь, я не находила места, пока тебя не было, а теперь счастлива. Пойдём, я угощу тебя очень вкусными кутабами с зеленью и сыром.
– Потом кутабы, давай сначала займёмся твоей полкой, – Хурр лукаво кивнул на широкое ложе. Оба засмеялись и крепко обнялись.
Спустя время послышался какой-то шум, и женский голос позвал хозяйку по имени. Она встрепенулась, вскочила с ложа и, прекрасная в своей наготе, бросилась искать одежду. Она не стала надевать нижнюю одежду и длинные до колен подштанники, которые носят на востоке и мужчины, и женщины, а одним движением впорхнула в просторные шаровары и накинула на себя только камиз. Она очень торопилась и волновалась, вдруг женщина пришла не одна, а вместе со старым Салимом, дедушкой её покойного мужа, который по обычаю надзирал от лица семьи мужа за ней и правнуком. Быстро накинула на себя широкую шерстяную дурру, одним движением повязала волосы нижним платком, и, не покрываясь изаром, стараясь показаться совершенно спокойной, вышла из двери дома. Снова прозвучал незнакомый женский голос и голос Юлдуз. Вскоре она вернулась, сияя счастливой улыбкой и держа в руках небольшой свёрток, который положила на стол с раскроенной материей.
– Как хорошо, завтра не нужно идти к жене бека, значит, сейчас можно не садиться за платье, а побыть ещё с тобой, мой волшебный Хурр! – и она радостно прильнула к груди своего долгожданного мужчины.
– Ты могла бы уехать со мной очень далеко, Звёздочка? – вдруг спросил он и замер в ожидании. Она как-то напряглась и даже немного отстранилась от него.
– У тебя там есть дом, где мы будем жить с тобой, Халимом и с другими детьми, которые у нас будут?
Он не ожидал такого вопроса. Врать возлюбленной он не мог, но и сказать, что нет у него дома, тоже не хотелось. Но она и так всё поняла.
– Лучше ты оставайся здесь, Халим тебя обожает, ты хороший мастер, я шью платья важным жёнам, мы будем жить безбедно. Оставайся, любимый, хватит тебе быть аскером, становись хозяином, отцом и мужем, разве этого мало для человека? Думаю, дедушка Салим, самый уважаемый человек в роду моего мужа, не будет против того, чтобы я снова вышла замуж. Он это говорил не раз, говорил, что мне одной трудно, а в их роду больше нет молодых и сильных мужей, – возбуждённо уверяла прекрасная Юлдуз, заглядывая в очи возлюбленного, а он не знал, что ей ответить. Как он мог объяснить этой восточной жене, что его семья – это дружина киевская, и что без своей суровой родины, которая бывает заснеженной, холодной, а порой и жестокой, он не мыслит жизни. Как он всё это мог объяснить женщине из другого мира, которую вдруг полюбил всей душой и всем сердцем? Он молчал и смотрел на неё, всё понимая разумом и страдая душой.
– Ты не шервандец, я это почти сразу поняла. Ты работаешь с деревом совсем не так, как мой муж, не так держишь в руках инструмент. Ты хорошо говоришь на нашем языке, но у тебя другой взгляд на женщину, и ведёшь ты себя со мной совсем иначе, чем наши мужи. Ты даже не мусульманин, ведь ты не обрезан…
– Да, я иной веры, – коротко выдохнул Хорь.
– Ты другой, но ты мне нравишься, я никогда никому не скажу об этом, только оставайся, Хурр! Я буду не просто женой, я буду твоей рабыней, буду делать всё, что ты прикажешь, и если ты прикажешь мне умереть, то я умру… – Она произнесла это с такой мукой в оборвавшемся голосе, что он ничуть не усомнился. – Захочешь ещё одну жену, я не скажу ни слова, даже если ты будешь любить её, я всё равно буду любить только тебя, не уходи, милый, необычный, единственный, умоляю тебя, не уходи!!! – Она глядела так просительно и так любяще, что Хорь уже и в самом деле не знал, что ему делать. Растерянный изведыватель постарался ласками успокоить Юлдуз. А когда она уснула, неслышной тенью выскользнул со двора.
Глава седьмая. Сварожьи близнецы
– Судя по тому, что ты пришёл под утро, у тебя всё ладится со Звездой? – с непонятным чувством то ли лёгкого осуждения, то ли скрытой ревности заметил сотник.
– Заговорщики соберутся в доме Мегди аль-Салеха после пятничной молитвы, – сообщил Хорь.
– Откуда ведомо?
– Вчера вечером к Юлдуз приходила одна из служанок, принесла украшения, которые надо нашить на платья. Юлдуз хотела пойти с примеркой в пятницу, на что служанка ответила, что в аль-Джума после намаза у хозяина будет много важных гостей, и он велел, чтобы никого постороннего в доме не было. Поэтому ей лучше прийти в день Первый, аль-Ахад.
– Гостей, значит, много будет важных? Хм, – потирая висок двумя перстами, как всегда, когда нужно было решить что-то важное, молвил сотник. – Добре, тогда и мы в гости заглянем, хоть нас-то как раз и не приглашали! – молвил он решительно. – О заговорщиках я князя упредил, он повелел крошить вражеское гнездо без пощады, кто жив останется – того в полон, дворец особо не рушить, там наша сотня по праву расположится.
– Только осторожней надо, на втором ярусе у него женщин много, и гарем большой, – напомнил Хорь. – А то местные вой поднимут, что мы воюем с жёнами.
– Не беспокойся, – как-то зло усмехнулся Гроза. – Тут народ таков, что чем более его стегаешь, тем он послушнее. Коли возьмём гарем бека, то более уважения к нам будет, потому как уважение здесь – это страх перед силой, а не почесть справедливости, как у нас.
– Да, в зреющем заговоре почтенный Мегди Аль-Салех не последний человек, – кивнул Смурной.
– Решено, ночью берём сих заговорщиков! – Как всегда кратко заключил Гроза. – А сейчас пойдём, при дневном свете получше его дворец разглядим, а Хорь нам подскажет, что где за оградой расположено. Только переоденься в воинское одеяние.
В сопровождении двух десятников и крепкого молчаливого воина Гроза отправился ко дворцу Мегди Аль-Салеха.
Неторопливо пройдясь вдоль высокого забора, сложенного из камней и промазанного глиной, они отметили, где находятся башни со стражниками, как укреплён сам дворец, и прикинули, откуда к нему лепше подобраться.
Встречавшиеся нечастые прохожие стремились либо поскорее укрыться в своих дворах, либо прошмыгнуть мимо русов, одетых, несмотря на жару, в свои железные кольчуги и вооружённых обоюдоострыми мечами, – предметом особого страха и зависти местных жителей и воинов.
Заканчивая «обход» дворца, за углом высокого каменного забора у старой крепости почти столкнулись с идущим навстречу высоким сутуловатым мужем, одетым в местную одежду. Гроза, думавший о предстоящей ночной схватке, остановился, а незнакомец и вовсе замер на месте от неожиданности. Шедший чуть сзади Хорь враз побледнел и глянул на Смурного. Тот тоже в полной растерянности переводил широко открытые серые очи с сотника на прохожего. Только молчаливый воин зашёл за спину местного и стал поодаль, чтобы видеть не только каждое движение незнакомца, но и всё, что делается вокруг.
Незнакомец и сотник несколько долгих мгновений разглядывали друг друга, и чем более замечали схожесть меж собой, тем больше недоумения рисовалось на их ликах.
– Ты кто? – спросил на местном наречии отчего-то вдруг встревожившийся сотник, а два его десятника стали с боков высокого. Оба изведывателя хоть и сделали это привычно, однако вид имели растерянный и бледный, что было заметно даже на загоревшем до черноты худощавом лике Хоря в надвинутом на самые очи шеломе с опущенным наносником.
Высокий муж в тёмно-синем халате и узорчатой тюбетейке отчего-то тоже молчал, продолжая глядеть на руса широко открытыми, такими же, как у сотника, голубыми очами. И носы у них были схожи, и уста, и слегка выпирающие скулы. Разве только у высокого были совсем седые волосы, да смуглая кожа.
– Зовут тебя, спрашиваю, как, и откуда будешь? – Уже настойчивее повторил сотник, чувствуя, как нарастает внутри уже давно забытое чувство непонятного волнения.
– Гроза, а может, он немой? У них ведь случается, в наказание язык отрезают, попадались нам такие, – предположил стоящий за спиной незнакомца воин. От этих слов лик высокого беспокойно дёрнулся, тени сомнения, радости и страха одна за другой отразились в его очах. Лик жалобно искривился, уста дрогнули, но он снова не произнёс ни звука.
– Вот, я же говорил, точно немой! – уверенно заключил крепкий воин.
Будто в подтверждение его слов, по загорелым ланитам незнакомца неожиданно потекли слёзы. Наконец, он заговорил странным, похожим на женский, голосом, но с хрипотцой крайнего волнения.
– Камил… меня зовут, – с трудом проговорил он на местном языке. А потом вдруг добавил на языке тавро-русов, но с сильным налётом чужого языка. – Теперь так кличут, а в детстве Калинкой мать называла… – он произнёс с разрывами, словно по слогам: Ка-лин-кой… – глядя на Грозу своими синими очами.
Всегда невозмутимый, уже изрядно поседевший к своим шести десяткам лет начальник изведывателей замер, будто вражеская стрела поразила его, и он сейчас рухнет на каменистую твердь улицы. Чело его побледнело, а в очах, в которых давно читалась пустота, вдруг мелькнула искра живой надежды.
– Калинка? Ты сказал… Калинка…. Может ли быть?! – Гроза шагнул вплотную к высокому, и они сколько-то времени глядели друг другу в глубину очей, где каждый увидел жизнь другого с той самой минуты, когда хазарские охотники за рабами горячим вихрем смерти влетели в их селение. – Так ты, выходит…не зря на меня похож… брат… – с трудом, почти пропавшим вдруг сиплым голосом молвил сотник, и непривычно неуклюже для своей крепко сбитой и подвижной стати обнял нежданно обретённого брата. Очи изведывателя подёрнулись туманом скупых слёз.
– Здрав будь, брат Калинка!
При этих словах Хорь и Смурной переглянулись меж собой и их лики, до того бледные и недвижные, стали оживать и обретать обычный вид.
Братья уселись в тени огромной старой чинары на больших плоских камнях подле заброшенной дороги, что прежде вела к источнику, который потом иссяк, и потому теперь по этой дороге почти никто не ходил.
Оба десятника и охоронец расположились поодаль, чтобы не мешать своему сотнику беседовать с нежданно обретённым родным человеком.
– Видал, брат Смурной, они-то настоящие оказались братья! – радостно воскликнул Хорь. – И как я сразу не догадался? Ведь знал, что Гроза родных ищет. Да ты меня рассказом о Сварожьих близнецах настращал.
– И то сказать: через целых сорок пять лет вдруг в чужом краю встретиться, когда уже всякая надежда давным-давно истлела, что ветхая холстина, чудо, да и только! – не менее радостно и с великим облегчением отвечал Смурной. – Я и сам испугался, когда по очам твоим и по виду незнакомца понял, что это тот самый, о ком ты рассказывал. Ну, думаю, всё, приехали с битыми горшками на торжище! А оно, слава Даждьбогу, вон как повернулось! – продолжал светиться довольной улыбкой пожилой десятник.
Десятники и молчаливый воин впол-ока поглядывали вокруг, чтобы никто не потревожил общение двух братьев, так долгожданно и так неожиданно встретившихся на чужой земле и даже как бы в чужой жизни.
Заросли высокой травы, которая покрывала большую часть острова за градом, кивали своими жёлтыми пятиконечными цветками-звёздочками в такт дуновению морского ветра. Правее виднелся край леса, а левее синело море.
– Гляди, этой травы на сём острове прорва, куда ни пойди за град, кругом растёт, – заметил Хорь.
– Так ведь это марена, краска, что из её корневища добывают, всем нужна, чтобы полотна яркими делать, спрос на неё велик, оттого местные её берегут, а может и специально разводят, – отвечал пожилой.
– Всё одно марена – название недоброе, смертью пахнет, – качнул головой Хорь.
Сидя под чинарой, Калинка, мешая слова, рассказал всё, что сохранила его тогда ещё детская память: хазарский плен, старого купца-жидовина, Калиновый мост на пути в навь и возвращение в мир явский, благодаря Звениславе. Потом путешествие в дальние края, продажу и тяжкую рабскую долю…
– Что с ней стало, брат? – более простонал, нежели проговорил Гроза.
– Она… она выходила меня, а сама…сама потом умерла от лихорадки, тогда многие умерли… вот, – тяжело молвил младший и, воздев обе ладони к небу, провёл ими сверху вниз по своему лику, прошептав что-то одними устами и опустив очи. Этот привычный для мусульманина жест кольнул старшего брата в сердце. – Она мне как мать и сестра была, без неё и меня бы не было, хотя зачем, всё равно моя жизнь ничего не стоит…
Сильные рамена Грозы поникли, очи повлажнели.
– Знаешь, брат, может, так оно и лучше, – рабская жизнь, тем паче девы пригожей, в сто раз тяжелее смерти… – тихо проговорил младший, не поднимая очей.
– Ничего, Калинка, теперь всё позади, отныне ты свободен, поедем домой! Желаешь, я твоего хозяина в рабы определю, а? – Гроза обхватил брата за плечи и привлёк к себе.
Калинка молчал, как-то настороженно затаившись в объятиях, как только что пойманный дикий зверёк. Потом, не поднимая очей, покачал головой.
– Я не поеду, брат…
– Отчего? – изумился Гроза, отстраняясь и растерянно удивлённо глядя на младшего.
– А зачем? – поднял исполненные жуткой тоски и боли очи Калинка. – У меня ни семьи, ни жены, ни детей своих быть не может… Зачем я такой там у нас, в Таврике, удивлять при таком росте своим женским голосом, в скоморохи идти? Тут я на своём месте, привык, оброс уже, как тот камень мхом за сорок то с лишним лет. Кому на родине нужна моя никчёмная жизнь? К тому же я мусульманин, так что и боги у нас теперь разные. – Младший сжал смуглый кулак, и сутулый его стан сгорбился ещё более. – Вот ты рёк, что покарал того хазарина, который Звениславу выкрал, и про смерть жидовина-купца, что продал нас в неволю вечную, поведал, да толку то? Ничего ведь уже не изменить…
– Мне ты нужен, брат! Я ведь вас со Звениславой всю жизнь, разумеешь, всю жизнь искал, и только ты один у меня теперь есть. Как же я тебя здесь брошу?
– Ладно, давай в другой раз договорим, мне идти надо, хозяин будет сердиться, – отвечал Калинка, вставая. Они снова крепко обнялись, прощаясь. Уже отойдя на пару шагов, младший обернулся и с ещё большей тоской глянул в очи старшего. – Уходить вам нужно отсюда, брат, иначе беда будет, тут своя жизнь, вы чужие! Скажи это своему князю, уходите, пока большинство из вас ещё живо!
Гроза растерянным взором проводил его высокую сутулую стать, быстро скрывшуюся за углом.
Глубокой ночью, когда жара спала, и с моря заструился лёгкий освежающий ветерок, изведывательская сотня неслышно потекла к старой каменной крепости и окружила подворье бека. Запели в ночи русские луки, и от метких стрел почти без стонов пали охоронцы, что расположились у ворот и в башенках по углам подворья. Несколько теней, поддерживая друг друга, проворно поднялись на стены, и вскоре ворота приотворились, впуская сотню. Часть изведывателей устремилась к дому бека, убирая по дороге метательными ножами и сулицами редких стражников, что попадались по ходу движения, а остальные быстро рассредоточились вдоль ограды, крепко заперев ворота.
– Помните, дом особо не рушить и не жечь, – напомнил Гроза перед решающим броском. – Из жён молодого бека две-три лепших пленницы князю отправить, как обычно, остальных воины берут себе, как добычу, – мрачно проговорил сотник. Очи его сами собой опустились долу, а по скулам пробежали желваки.
В дом по приказу Грозы ворвались сразу с нескольких сторон. Тяжёлые и окованные медью двери были закрыты изнутри, но вырезанные в виде сложных узоров деревянные решётки – шебеке – были не настолько прочны, чтобы выдержать могучий натиск русов. В доме, щедро освещённом множеством светильников, началась рубка. Прямо перед Хорем и его десятком, первым ворвавшимся в дом, встали около пятнадцати воинов, среди которых в добром вооружении с наплечниками и железными пластинами на груди и животе возвышался над прочими… высокий и сутуловатый брат их сотника.
Десятник тут же ринулся вперёд, по ходу уложив двух восточных воев. Худощавый Хорь, как и его наставник Берест, совсем не походил на грозного и опытного воина, и от него не исходила сила и мощь, потому любой, даже опытный боец не воспринимал его, как достойного противника. Так и вновь обретённый брат Грозы, решив разделаться с простаком одним мощным ударом, решительно взмахнул своим изогнутым мечом и… непостижимым образом промахнулся. Красивый меч полетел в сторону, а у собственного горла он ощутил острый клинок «худощавого».
– Ты брат нашего сотника, потому оставайся жить пока… – проговорил Хорь, глядя в голубые очи высокого неожиданно твёрдым взором. Рослый воин по знаку десятника сноровисто скрутил руки Калинки за спиной и толчком ступни в коленный сгиб заставил его стать на колено, тут же, прихватив конец верви за лодыжку пленника. А Хорь уже мчался далее, разя врагов или сбивая их с ног неуловимо скорыми, но мягкими движениями. Схватка с охраной бека продолжалась недолго. Когда подоспел сотник с несколькими воинами, основное уже было сделано.
– Гроза, молодой бек весьма ловок оказался, ускользнул через тайный ход, о котором мы не знали, но несколько главарей заговора взять удалось. Кстати, я и брата твоего прихватил, живым. Он в охране был, – доложил разгорячённый схваткой Хорь.
– Сотник, все жёны из гарема бека целы и невредимы, сейчас приведут, сам поглядишь! – крикнул второй десятник. Воины с верхнего яруса уже влекли перепуганных, закрывающих по привычке лики жён, с некоторых платки были сорваны, чтобы не прятали своей красы.
Лежавший ничком на узорчатом каменном полу, Камил-Калинка вдруг дёрнулся, перевернулся на бок и тонким женским голосом воскликнул на тавро-русском, но с сильным налётом чужого языка:
– Брат, вели не трогать мать молодого бека – Гульсарию, я прошу тебя, ты не можешь её обидеть, потому что она…она…
– Кто она…? – прохрипел сотник.
– Звенислава, – опустив очи долу, тихо молвил связанный.
Сотник на негнущихся ногах отошёл к лестнице и обессилено опустился на мраморную ступень. Всё, что происходило вокруг, ушло куда-то и с трудом пробивалось неясным гомоном сквозь звон и шум в его собственной голове. Он не внимал тому, как воины делили добытых в бою жён. Не слышал, как Хорь подошёл к связанному тучному купцу коврами – «почтенному Мусе», дрожащему от страха и просящему пощады в обмен на щедрую плату, которую они могут получить от родственников за его, Мусы, свободу. Он клялся, что пришёл сюда случайно, что ничего не знал о заговоре, но расскажет всё, что знает. Он даже не узнал в десятнике урусов жалкого нищего с базара.
– Ты же рёк сегодня днём, что она погибла от лихорадки, давно, ещё в молодости? – С трудом проговорил Гроза, обращаясь к брату.
– Я боялся, что ты заберёшь её с собой, а у меня кроме неё никого нет! – отвечал, извиваясь на мозаичном полу, Калинка.
Воины, оказавшиеся рядом и не понимавшие, что происходит, на некоторое время замерли. Хорь тоже отошёл от пленённых заговорщиков и стоял в ожидании приказа сотника. Только пожилой десятник Смурной вынул нож и, подойдя, несколькими короткими движениями освободил Калинку. Тот уселся тут же на полу и обхватил голову руками.
Гроза сидел на лестнице, вперив взор перед собой. Сколько раз за прошедшие годы он жил мечтой встретить любимую, рвался во все дальние походы, тайно, не признаваясь даже самому себе, надеялся на встречу. И вот, когда все надежды уже сами собой утекли вместе со временем, когда он уже почти смирился и ни на что не надеялся, когда уже и не просился в дальний поход, а его направили скорей по указанию воеводы Олега, теперь… – эта неожиданная встреча с братом, всполох надежды и… известие, что она умерла. А сейчас… Внутри было пусто и гулко. Как много всего вместил в себя этот бесконечный день!
Оба десятника и все находившиеся в помещении воины молчали, даже просящий о пощаде торговец коврами, уразумев, что урусам сейчас не до него, перестал причитать и умолк. Наконец, Смурной подошёл к освобождённому пленнику и что-то тихо сказал ему. Тот тяжело встал на ноги и, подойдя к сидевшему на ступенях брату, коснулся его плеча.
– Пойдём, брат, я провожу тебя к ней, – молвил негромко Камил-Калинка своим высоким голосом, беря светильник-хорос из рук безмолвного слуги. Гроза тоже с трудом поднялся, чуть помедлил, и, провожаемые пристальными взорами, братья двинулись вверх по лестнице, стараясь не ступать на брошенную женскую одежду на ступенях.
Десятники переглянулись и Хорь, кивнув бритой головой, прихватив факел, мягким как у кошки шагом направился следом. Они прошли на второй ярус дома в женскую половину со сводчатым коридором и через несколько поворотов оказались в большом плохо освещённом зале со множеством ковров и подушек на полу, с низкими столиками, поблёскивающими перламутром и серебром отделки, часть из которых была перевёрнута. Не останавливаясь, прошли через это большое помещение к одной из дверей, полукруглой, с небольшим оконцем-решёточкой.
Едва они приблизились, как дверь открылась, и из неё выскользнула неясная тень, которая при приближении света приняла очертания женской стати. Гроза и без того шёл на непривычно слабых ногах, гулкое биение сердца отдавалось в ушах так, что он почти не слышал ни звука шагов, ни скрипа открывающихся дверей. Когда же впереди возник женский образ, то он и вовсе оглох. Хорь с факелом отошёл вглубь большого зала, зорко следя вокруг, а младший брат Грозы, подняв опрокинутый низкий резной столик из чёрного дерева, поставил на него хорос и тоже отошёл, чтобы не мешать. Однако не ушёл совсем – правила Востока не позволяли оставлять женщину наедине с мужчиной, даже если это был собственный брат.
Ошалевший от нежданных событий Гроза смотрел на стоящую перед ним женщину, прикрывающую по местным обычаям низ лика перед незнакомым мужчиной, очи её были заплаканы, в них он узрел боль, тревогу и страх, – чувства, которые он изо дня в день видел в очах многих местных жителей. Огонь светильника подрагивал, потому что Калинка распахнул одно из многих окон с затейливым узором, и ночной мягкий поток воздуха с моря заставлял хорос трепетать. Оттого лик Звениславы – Гульсарии то резко высвечивался, то как бы отступал в темноту, и черты его становились почти неразличимы.
Это была совсем не та юная девица Звенислава, а настоящая восточная женщина зрелого возраста в тёмном одеянии и светлом платке, покрывающем голову и шею. На груди поблёскивало ожерелье. И только иногда в каком-то повороте головы или движении плеч можно было уловить нечто знакомое, давно позабытое. Она заговорила, Гроза не понял о чём, и не заметил её чужого выговора, он только услышал в этой речи родные нотки, пробивающиеся издалека, как колокольчик заблудившегося ягнёнка средь шума бури. В ушах отчаянного изведывателя зашумело, будто в них хлынули морские волны, он как бы утонул в этом шуме и уже не мог отделить, где прошлое, а где настоящее. Эта незнакомая женщина и та юная тринадцатилетняя Звенислава, они как-то присутствовали одновременно, да что они, он сам, Гроза, был сейчас пятнадцатилетним юнцом и одновременно нынешним усталым от долгой и трудной жизни воином. – Да, она совсем другая, совсем изменилась! – С удивлением и горечью думал он, и тут же сердито обрывал себя: а ты разве не изменился? Ты-то среди своих живёшь и сражаешься, а она одна в чужом краю, среди чужих людей, в тяжкой неволе, как его гордая Звениславушка могла такое выдержать? – И снова сердце его билось с большими перебоями, и в очах темнело. Где начинается явь, а где тени прошлого, сейчас было не разобрать. Они глядели друг на друга, не узнавая и узнавая, что-то сбивчиво говоря и не слыша ни своего голоса, ни ответа, и в то же время необычайно остро ощущая друг друга. Все сорок с лишком лет вложились в этот полуразговор, полувоспоминание, полубред или ещё что-то, чему даже нет названия.
Наконец, он с великим трудом совладал с собой и услышал её слова, которые ещё больнее резанули его кровоточащую душу.
– Ты едва не убил моего сына, Гроза. Только что рассказал мне, что отомстил тому хазарину, который украл меня и продал в рабство, но сам теперь пришёл на чужую землю так же, как тот хазарин, чтобы убивать и грабить чужие дома. Камил…Калинка, – тут же поправилась Гульсария-Звенислава, – он заботился о моём мальчике с самого рождения и всегда был рядом. Сегодня он защищал его с мечом в руках, а твои люди едва не убили обоих. Твои воины вытащили из перин спящих жён моего сына и сейчас, наверное, насилуют их. Зачем ты пришёл к нам? – Она отвернулась и зарыдала, более не в силах удерживать себя.
Вмиг осунувшийся и ещё больше постаревший сотник стоял, словно пригвождённый к полу, и не знал, что ответить возлюбленной из далёкой юности, к которой он стремился всю свою жизнь. Не рассказывать же ей про то, что князем Игорем, жаждущем славы своего отца Рарога и дядьки Ольга, более управляют привыкшие к разбойной жизни нурманы с варягами… Что он, Гроза, пришёл сюда с мыслью об освобождении соплеменников, а выходит всё по-иному… Или….
– Прости… – едва слышно, одними устами молвил сотник, так и не решившись произнести заветное слово «любушка», которое все эти годы лелеялось в душе огненным цветком, а сейчас вмиг поблекло и обратилось в пепел. Чуть раскачавшись и с неимоверным усилием оторвав непослушные ноги от пола, Гроза повернулся и, не поднимая плеч, понуро шагнул обратно. И в сей миг утомлённое, истрёпанное годами страданий и ожиданий сердце не выдержало, замерло, грудь сдавило, как тесным обручем, дыхание перехватило, и сотник рухнул на толстый гургенский ковёр…
Глава восьмая. Прощание
Юлдуз не спалось, Хурр снова не пришёл. Она лежала на плоской крыше своего глинобитного дома и, как ни исхитрялась, никак не могла призвать неуловимый сон. Она понимала, что любимый не пойдёт к другой, она чувствовала, что он, в самом деле, занят чем-то очень важным, но тревога не покидала молодую женщину. Он так неожиданно появляется и исчезает, а при последней встрече вдруг спросил, может ли она уехать с ним очень далеко. Признался, что иной веры. Кто он, христианин? Но она не заметила у него креста. Может, зороастриец? Здесь есть общины, которые не отрекаются от своей веры, предпочитая платить джизию. Но он не похож на местного. А вдруг он уже отправился туда, в своё далеко, и больше никогда не придёт к ней, не обнимет и не скажет ласковых и нежных слов? Слёзы опять затуманили глаза.
В негромком плеске морских волн и дуновении тёплого ветра послышались какие-то странные звуки и приглушённые голоса. Юлдуз приподнялась на своём матрасе, набитом сухой морской травой, вглядываясь в ночное море. Сегодня луна спряталась за облака, и было видно плохо, но кажется, она различила смутный силуэт лодки. После гибели мужа она боялась моря, оно казалось ей зловещим и пахло смертью. Шум послышался снова, да, это точно лодка, и она причалила за вторыми воротами, как раз в том месте, куда спускал готовые лодки её муж. Неужели он пришёл с того света, чтобы наказать её за то, что она разделила ложе с Хурром? Страх похолодил всё изнутри и сделал на время молодую женщину неподвижной, как будто она сама была вырезана из дерева. Глаза высохли и пристально вглядывались в темноту. Что-то большое двигалось от воды к дувалу, что это могло быть? Её стал бить озноб, несмотря на тёплую душную ночь. Ворота со стороны моря со скрипом распахнулись, и какие-то люди вошли во двор.
– Кто там? – Холодея от страха, не своим голосом прокричала испуганная женщина. – Стойте на месте, или я сейчас подниму шум на всю округу!
– Юлдуз, это я, Хурр, помоги, у нас больной, он без сознания, – послышался такой знакомый родной голос. Женщина обрела способность двигаться, и, набросив покрывало, лёгкой белесой тенью слетела по скрипучей деревянной лестнице с крыши, придерживаясь за ветки тутового дерева, пробежала по дорожке к стоящей впереди худощавой стати, и… остановилась в полном недоумении. Луна выскользнула из объятий туч, и Юлдуз увидела любимого. Но он отчего-то был в воинском облачении грозных урусов, что пару месяцев тому захватили остров Абаскун и всё побережье. Её аскер держал в руках концы двух жердей, на которых был закреплён ковёр, на ковре лежал ещё один человек в воинской одежде урусов, а с другой стороны эти жерди держал высокий сутулый муж. Да это же Камил, работник бека, вот уж кого не ожидала увидеть в своём дворе Юлдуз! Он тоже был в доспехах, только местных воинов. Но ещё более поразилась Юлдуз, когда во двор к ней вошла сама госпожа Гульсария, мать молодого бека! Может всё-таки она уснула, и ей это всё снится, нужно всего лишь крепко зажмурить и открыть глаза, как она делала в детстве, когда снились страшные сны? Она даже попробовала с усилием смежить веки, но проснуться не получилось.
– Юлдуз, – снова заговорил Хурр, – ты должна приютить у себя на время ханум Гульсарию, её охранника Камила и ещё вот этого человека, который сейчас без сознания. Открой дом, зажги светильник.
Хозяйка засуетилась, делая порой совершенно ненужные движения. Наконец все нежданные ночные гости оказались в доме. Хурр и Камил осторожно опустили носилки с незнакомцем на ковёр. Юлдуз подала небольшую подушку с кистями, и сама ханум Гульсария с величайшей заботой, подняв голову несчастного, подложила подушку так, чтобы незнакомцу было удобно.
– Что-нибудь нужно, почтенная ханум? – осмелилась спросить у матери бека хозяйка.
– Если есть, милая, то принеси уксус, воду и какую-нибудь тряпицу, только не шёлк, – проговорила Гульсария, осторожно щупая кровеносную жилу на виске лежащего на ковре человека.
– Да, конечно, ханум Гульсария, у меня хороший виноградный уксус, я его сама делаю. – Хозяйка дома быстро задвигалась по своему глинобитному жилищу, и через несколько мгновений всё нужное уже было на небольшом столике.
Хурр сделал знак, и Юлдуз вышла вслед за ним во двор.
– Этот человек – родной брат Камила, они не виделись около сорока лет. Никому не говори, что у тебя такие гости.
– Но ханум Гульсария и Камил, почему они здесь, и от кого прячутся?
– От урусов, – коротко ответил Хурр. Он не стал говорить о взаимоотношениях Звениславы-Гульсарии с человеком без сознания. Это не его тайна. Звенислава, если захочет, расскажет сама. Возможно, никто о ней знать и не должен.
– Ты спас их, и потому ты в одежде уруса, ты герой, мой аскер! – восхищённо прошептала Юлдуз.
– Я не герой, и это моя одежда, потому что я урус…
У Юлдуз закружилось в голове от всех разом свалившихся непонятных и тревожных событий. Хурр подхватил её, прижал к себе.
– Прости, Звёздочка, прости меня…
Она отстранилась от странной железной рубахи и посмотрела на него огромными очами, в которых смешалось всё: любовь, недоумение, страдание и страх.
– Так ты…кто ты, Хурр, ты меня обманывал, ты не Хурр?
– Меня зовут Хорь, это такой маленький, но очень ловкий и быстрый зверёк. Он любит свободу. Так что я всё равно Хурр. И я люблю тебя, как никто на свете. – Он взял её руки, заглянул в бездонные очи. – Ты поедешь со мной? Мы построим дом для нашей семьи, обещаю тебе!
Юлдуз не отвечала и только отрицательно качала головой, очи её затуманились.
– Я…я никуда не поеду…Мне надо прийти в себя…И… надо помочь госпоже Гульсарии.
– Почему, почему ты не хочешь поехать со мной? – почти задохнулся Хурр. – Да, я из другой страны, другой веры, но разве это преграда для нашей любви? Молись своим богам, поступай, как считаешь нужным, я никогда ни слова тебе не скажу! Ты говорила, что я могу иметь других жён, я не хочу других, да и по обычаям нашим не положено, мне нужна только ты, ты одна, понимаешь? У нас будет дом и всё, что захочешь, я разобьюсь в лепёшку, но постараюсь сделать всё, чтобы ты… чтобы мы были счастливы…
Она опять покачала головой.
– Ты аскер. Какая разница, в каком доме тебя не будет, в том или этом… Прости…
Он опять обнял её, на сей раз она не отстранялась, и они надолго замерли так, молча, понимая, что с каждой минутой близится неумолимый час расставанья.
– Скоро рассвет, – наконец, проронил со вздохом Хурр, – мне нужно будет уйти. Вот, возьми это, – он отвязал от пояса и протянул Юлдуз прочный сафьяновый кошель с монетами. – Камилу нельзя пока появляться на базаре, поэтому за всем необходимым придётся ходить тебе. Но это ненадолго, скоро урусы покинут остров…
Она открыла было уста, чтобы что-то спросить, но потом опустила голову и очи её опять налились слезами.
– Пойду, посмотрю, как там гости, не нужно ли чего… – Юлдуз отстранилась от Хурра и тяжело, будто враз постарев лет на двадцать, направилась к дому.
– Звёздочка! – окликнул Хорь. Она вздрогнула и замерла, словно ожидая удара. – Позови Камила, – тихо попросил он.
Хозяйка вошла в дом, непроизвольно держа в руке сафьяновый кошель, о котором от волнения совсем забыла.
Вскоре Хурр с Камилом, тихо переговариваясь, пошли к своей лодке, стоящей у каменного жёлоба за воротами напротив мастерской.
Гроза увидел пред собой Звениславу. Ту самую, тринадцатилетнюю, да и сам он, по всему, был молодым, потому что тела своего не ощущал. Ах, да…волхв Хорсовит говаривал, что в Ирии небесном все молоды, нет ни калек, ни убогих, потому что души человеческие не подвержены старению… Постой, что же это…выходит, его любимая тоже уже…
Опять всё потемнело, он куда-то то ли медленно падает, то ли летит. Вот немного просветлело, перед ним какая-то женщина, плачет, что-то говорит, а горючие слёзы из её очей капают ему на ланиты и чело. Постой, это же её очи, Звениславушки, только исполненные безмерной печали…
Тут он всё вспомнил и тихо застонал. Женщина улыбнулась сквозь слёзы, или ему так показалось.
– Что же ты, Гроза, так долго искал нас с Калинкой, для того, чтобы умереть на наших руках? – дрожащим голосом, мимолётно коснувшись своей мягкой рукой его чела, молвила Звенислава-Гульсария.
– Ну, сотник, напугал ты нас, мы уж думали – всё, не шевелишься, сердце еле бьётся… – послышался радостный голос десятника.
Гроза с трудом повернул голову, лежащую на узорчатой подушке с кистями, и узрел сидящих у двери Калинку и Хоря. Брат только, молча, моргал голубыми очами, и на лике его блуждала некая растерянность. В раскрытую дверь заглянул какой-то большеглазый малец лет пяти, с любопытством разглядывая лежащего незнакомца.
В небольшое помещение через открытое окно лился свет утренней зари. Это глинобитное скромное помещение совсем не было похоже на великолепный дворец бека Мегди Аль-Салеха. И отчего-то сильно пахло уксусом.
– Где я? – С трудом и тревогой проговорил Гроза. Брат и десятник переглянулись.
– Меня учил Берест, что в чужой стороне изведыватель непременно должен иметь свой укромный медвежий угол, – молвил Хорь, погладив жёсткой дланью свою бритую голову.
– Укромный угол в сём граде… – Гроза ещё соображал медленно. – Юлдуз? – наконец, догадался он. Хорь кивнул в ответ.
– А сотня… – начал было встревожено Гроза.
– За главного пока Смурной остался. Я взялся тебя к знакомому лекарю отвезти, а о том, чтобы Калинка и Звенислава тебя сопровождали, даже спору не было. Приехали мы сюда морем, миновав любопытные очи местного люда. Так что не волнуйся, сотник, всё, как надо, – успокаивающе пояснил десятник. – Главное, что ты, наконец, очнулся. – Помолчав и, наблюдая, как тревога немного сошла с лика Грозы, добавил: – Сегодня ас-Сабат, у местных день отдыха, вот и отдыхай. А я к нашим, весть радостную сообщу, что ты жив и поправляешься, ну и вообще, узнаю, как там Смурной справляется. – Хорь встал. – За едой на рынок Юлдуз сходит, они с Гульсарией о тебе позаботятся, а Калинка с Халимом чем не охоронцы? – Усмехнулся десятник, собираясь уходить, но Гроза остановил его.
– Хватит мне отлёживаться, сотня ждёт! – Он попытался встать.
– Погоди сотник, может, отойдёшь ещё малость, а тогда… – попробовал возразить Хорь, но, видя решительный настрой Грозы, более ничего не сказал, подставил своё плечо, и вдвоём с Калинкой они повели сотника к двери. Здесь он остановился, опёрся спиной о дверной косяк и долгим взором поглядел на свою бывшую возлюбленную, сидевшую у покинутого им ложа. Его очи смотрели на неё так, что никаких слов не надо было, да и что блеклые слова перед златоустием человеческих очей? Боль и страдание, просьба о прощении и последнее, как на самом пороге смерти, прощание; несбывшиеся мечты, надежды – вся долгая жизнь отразилась в этом едином непостижимом и бесконечном взгляде. Хорь и Калинка вышли, чтобы не мешать последнему разговору некогда родных людей.
Пошатываясь на ещё не совсем окрепших ногах Гроза, наконец, вышел из дома. Взглянув на Юлдуз и прижавшегося к ней маленького Халима, поблагодарил хозяйку за гостеприимство и двинулся к мастерской, где у ворот, ведущих к морю, уже стояли Хорь и Калинка.
Братья обнялись, обменялись глубокими взглядами одинаково синих очей, подёрнутых скупой мужской влагой, ещё дважды обнялись и похлопали друг друга по спинам. Юлдуз, что стояла с сыном поодаль, не могла слышать их тихой беседы и даже не поняла, на каком языке они говорили, но невероятная печаль и смертельная тоска этого прощанья задели её чуткое сердце. В этот миг Хурр обнял Юлдуз, да так крепко, что она едва не задохнулась. Он поцеловал её в уста, в огромные, полные слёз очи и, не в силах глядеть в них, перевёл взгляд на Халима, потрепал его по пышной копне чёрных волос.
– Масс салям, будь здрав, малыш! – он передал ему что-то и пошёл к Грозе. Они вышли за ворота, Калинка помог столкнуть лодку в воду, Хорь сел на вёсла и лодка стала быстро отдаляться от берега.
– Ну что, княже, можем готовиться в обратный путь, добра и пленников у нас достаток, – рёк довольный воевода Фарлаф. – Видишь, всё получилось так, как мы тебе рекли, жаль только, что половину такой ценной добычи придётся отдать Кагану.
Князь медлил с ответом.
– Хорошее тут место, – повторил он свою мысль. – То, что мы сегодня мечами добыли, можно без всякого сражения иметь постоянно, если оседлать сию золотую жилу.
Воеводы переглянулись меж собой.
– Каждый по-своему зрит, княже. Мы, как воеводы, а ты, как князь. Какую часть воинов велишь оставить здесь, чтоб держать в руках все эти грады и полуостров, а какой велишь с добычей идти домой? – Тут же спросил Фарлаф.
– Поразмыслил я просто, воеводы, может оно когда-то так и выйдет, да не сейчас.
Стоя в последней из уходящих лодий, Гроза глядел на покидаемый берег острова Абаскун, где кроме чужих стен оставлял он своих самых родных людей. Впервые за многие десятилетия очи его не были пустыми, они горели болью и страданием, болью, которая кажется, окончательно испепеляла в душе всё, что в ней осталось живого. Лодьи, одна за одной, стали огибать остров и уходить на полночь. Когда град уже скрылся за лесом и зарослями марены, на пустынном берегу у одинокого дома на возвышенности он увидел несколько человеческих фигур – высокую сутулую мужскую, две женские и одну маленькую. – Они! – перехватило в груди сотника, и он невольно переглянулся с Хорем, который тоже во все очи глядел на стоящих у одинокого дома.
Гроза понимал, что на сей раз прощается навсегда. Больше не будет надежды на встречу, никакой и никогда! Мимолётное прикосновение Звениславы жгло чело, а внутри звучали её слова: зачем ты пришёл к нам, как тот хазарин, чтобы убивать и грабить чужие дома?.. И хотя она простила его, и они расстались по-доброму, на душе было только чувство вины и непомерная горечь.
Старый мореход, который ведал из разговоров воинов, что у сотника на берегу остался родной брат, глядя на его терзания, молвил:
– Всё оно, рабство проклятое, виновато. Забирает не только людей, но и жизнь их калечит, и души. Будь доволен, сотник уже тем, что он жив и здрав…
– Я ведь хотел долю свою за сей поход Звениславе оставить, мне то оно зачем, да не решился, чуял, не возьмёт она! – горьким шёпотом выдохнул Гроза Хорю.
– О том и я подумал, и потому кое-что из нашей доли в лодку бросил, когда тебя, сотник, беспамятного доставлял, – так же негромко ответил десятник. – Перед рассветом мы с Калинкой тот сундук с добром в мастерскую занесли, и я слово взял с Калинки, что он скажет о нём женщинам только после нашего ухода…
– Добре, – кивнул сотник и привычно провёл дланью над ярлом. Ощутив под рубахой пустоту, молвил со вздохом: – Я вернул Звениславе её обережник. Столько лет хранил, и всё-таки он меня к ней привёл. Теперь пусть далее Звениславушку оберегает…
Хорь только кивнул. Его жилистая стать опять вытянулась в сторону берега, как будто к ногам были привязаны невидимые каменья, а тело стремилось вырваться из оков и умчаться ещё хотя бы на несколько сладких мгновений туда, в уютный дворик за невысоким дувалом, где сейчас плачет – он чувствовал это – его Юлдуз, рассыпав волнистые волшебные волосы по округлым плечам. Рядом с ней, насупившись, держит в руках последний подарок странного Хурра пятилетний темноокий малец. Маленькая лодочка в его руках качается и плывёт по невидимым волнам, как сейчас качается большая лодка с настоящими воинами, на которой Свободный уплывает всё дальше от Юлдуз и Халима, от острова Абаскун, от берегов Гургенского моря в свою далёкую северную страну…
Киев
После ухода дружины в дальний поход на Хвалисское море прошло два месяца. Последние летние дни выдались жаркими. Воевода Олег, разумея, что вернётся дружина поредевшей, основательно готовил молодых воинов, да и кочевники могли наскочить лихим вихрем в земли Руси, а опытных воев в Киеве осталось не так уж много. Варяжская дружина, что составляла ещё со времён Олега Вещего костяк Киевской дружины, ушла в полном составе с воеводой Фарлафом. Оттого у воеводы Олега под началом осталась не такая уж и большая сила: полки Подольский, Берестянский, Древлянский да Северский были полками более по названию, нежели по численности. И сии немногие силы нужно было сплотить так, чтобы при случае они могли дать добрый отпор. Потому старался воевода Олег держать свою невеликую дружину в полной готовности. Рабочих рук и так не хватало, а тут ещё учения и сборы, – действия киевского воеводы вызывали недовольство, но в душе каждый разумел, что без того и полевые работы, и собираемый урожай могут оказаться во вражьих руках.
Олег вообще забыл, когда ночевал в своём тереме; он поселился на это время в изведывательском доме в самом дальнем уголке Ратного стана. Он помнил уроки своего отца и разумел необходимость доброй Тайной службы, оттого в укромном доме появлялись иногда постаревшие изведыватели и вели с воеводой, как прежде с князем Ольгом Вещим, свои особые беседы. От Ерофеев изредка прибегала черноволосая молодая девица, востроглазая и гибкая, что тростинка. Она сообщала на словах, что велели передать отец и брат, приносила небольшую бересту или клочок тряпицы с непонятными для стороннего человека знаками. Это давало возможность Олегу знать замыслы кочевников, ромеев и иных ближних и дальних беспокойных соседей.
Вот и нынче Олег вернулся запылённый и пропотевший, первым делом ему хотелось освежиться. Раздевшись, с наслаждением погрузился в тихую воду небольшой непровской затоки. Грёб неторопливо и, немного поныряв, повернул назад. Вышел из воды умиротворённый и расслабленный. Едва успел надеть порты, как трижды прозвенел колокольчик, два раза подряд и один чуть погодя. Стременного нет, значит нужно идти открывать самому. Накинув рубаху и на ходу застёгивая пояс, пошёл отворять незаметную калитку в высокой изгороди, отделяющей Ратный стан от остального града. За калиткой узрел лукаво улыбающуюся младшую дочь Ерофея, в простом сарафане, с оберегом на загорелой шее и корзинкой, полной алой малины, в руках.
– Здравия, вуйко, вот матушка передала малины доброй, а то ведь у вас тут только тёрн да шиповник растут, – затараторила востроглазая девица. Олег, прежде чем затворить калитку, глянул на едва заметную тропку, по которой пришла его гостья.
– За мной никого, я поглядывала, как всегда, – шепнула девица.
– Пошли, расскажешь, как там отец с братом, всё торгуют в Таврике?
– Да скоро возвращаться должны, жена дядьки Стародыма матушке говорила, они на торжище встретились случайно, ей, как всегда, он подарок со знакомыми купцами передал, – всё так же беззаботно щебетала девица. Для стороннего человека их разговор был обычной болтовнёй, а на языке изведывателей это означало, что воеводе Олегу отец и брат передали через своих людей тайное послание.
– Посиди пока, а я малину пересыплю. – Олег пошёл с корзинкой в дом, а девица уселась на лаву в тени старой ветлы. В это время со стороны Ратного стана послышались шаги и недовольный женский голос. Кто-то шёл к дому – несколько человек, но недовольно возмущался только властный женский голос.
– Что за лишённые разума люди оставляют подле тропы столько терновника и шиповника, пройти невозможно, не изорвав одежду! – прозвучало неподалёку, и на полянку вышел воин, а за ним молодая жена среднего роста, ладно скроенная, с гордо посаженной головой. Одета она была в длинное белое платье, расшитое на оплечьях и по низу красными ромбовидными узорами, подпоясанное тонким серебряным поясом с обязательными женскими обережниками в виде малюсеньких ключиков, ложечек, гребешков и птичек. Ожерелья из цветных глазчатых бусин и серебряных лунниц покоились на высокой груди. На голове лишь лёгкая сорока с богато расшитым очельем, на ногах мягкие туфли из тонкой светлой кожи со швом наружу, схваченным серебристой нитью. Следом выступил ещё один молчаливый оружный муж, по всему, это были охоронцы разодетой жены. В это время из двери дома вышел воевода с корзинкой в руках.
Воины с достоинством приветствовали его, а добротно одетая жена всё тем же сердитым голосом молвила:
– Что, воевода, никак, по грибы собрался? Я его по всему Ратному стану ищу, а он за грибами…
– Доброго здравия, княгиня, рад тебя видеть. Отчего ж искать, в Ратном стане все ведают, где я обитаю, – спокойно отвечал Олег. – Огневица, – окликнул он девицу, что до того оставалась незаметной для пришедших, – передай матери, что малина и огурцы у неё лучшие в Киев-граде, и ещё передай ей сей плат узорчатый за то, что снабжает меня такой доброй огородиной!
Девица, будто черноголовая пташка живо выпорхнула из-под скрывавших её ветвей, приветливо поклонилась гостям и, ловко подхватив свою корзинку, в которой теперь лежал тонкий цветастый плат из древесной ткани, так же быстро исчезла за калиткой. Ольга несколько оторопела от столь неожиданной встречи и какое-то время не знала, что молвить, а потом, проводив легконогую посланницу взором, произнесла, не то с удивлением, не то с укором:
– Что это за девицы у тебя тут шастают прямо в Ратном стане? Подарки принимаешь и раздаёшь, будто не воевода, а сам Коляда новолетний… – Ольга перевела очи на Олега, разглядывая его, будто впервые увидела. Тёмные волосы на висках тронуты сединой, карие очи глядят пристально, а порой даже пронзительно, но с какой-то скрытой теплотой. Не получив ответа на свой вопрос, княгиня, наконец, вспомнила, зачем пришла.
– Что ж это такое, коли нет дома Игоря, так можно надо мной сколько угодно измываться, я что, в неволе, или как? – начала наступать она на воеводу, который так же спокойно слушал её громкие возмущения. Он только взглянул на охоронцев и, подозвав старшего из них, что-то негромко молвил. Тот кивнул, сделал знак сотоварищу, и оба ушли в сторону Ратного стана. Ольга, кажется, даже не заметила этого, она распалялась и от спокойствия воеводы, и от его невозмутимости, а может ещё более от женской обиды. Ольга помнила, как прошлой зимой воевода провожал её по морозному ночному Киеву, а потом в горнице рёк странные речи и глядел такими очами… Только в свои двадцать семь Ольга считала любого мужа на два десятка лет старше себя, настоящим стариком, и не обращала на таких внимания. Игорь тоже был старше её на десяток лет, но он был широкоплеч и кряжист, бритый череп с прядью волос на макушке, посвящённой по варяжскому обычаю Перуну, сильный и грубый, как нурманский викинг, он был для Ольги образцом настоящего воина, и потому разница в возрасте не столь ощущалась. Княгиня никак не ожидала, что обычно сдержанный и не особо разговорчивый воевода может быть обласкан вниманием жён, причём столь молодых, как эта дева, а может и её мать, о которой он так тепло упомянул. «Вот тебе и «старик», такая весёлая молодая девица в гостях, малину она принесла, как же!» Мысль, что тот, кто явно вздыхал о ней, сейчас, видно, тешится с другими жёнами и о ней не вспоминает, уязвила сердце Ольги.
– Отчего я не могу поехать к княгине северянской на праздник по её приглашению? – уже кричала она зло и с обидой. – Отчего я должна сидеть в душном тереме, как какая-то рабыня, а кто-то огурчиками да ягодками балуется в это время с молоденькими девицами! – Ольга вдруг замолчала, дыхание её прервалось, сине-серые очи наполнились обильной влагой, как озерца в час половодья. Княгиня отвернулась, и воевода услышал горькие всхлипыванья. – Никому я не нужна, сижу, как затворница, и никому до меня дела нет! – Ольга утёрла очи концом снежно-белого расшитого плата, который достала из рукава.
Показное спокойствие воеводы враз сменилось растерянностью. Он подошёл к Ольге, начал сперва словами, а потом и несмелыми лёгкими поглаживаниями успокаивать её, но та разрыдалась ещё более. Он обнял её за плечи, привлёк к себе, продолжая поглаживать, как ребёнка. Она сначала упиралась, но почувствовав неожиданную для неё силу в руках воеводы, как-то обмякла, теснее прижалась к его крепкой, закалённой постоянной работой с оружием груди, и стала плакать тише. А Олег вдруг понял, как он сейчас счастлив, оттого, что та, которую он провожал тайными взглядами, и о которой грезил глубоко и скрытно столько лет, сейчас так доверчиво прильнула к нему.
– Успокойся, Прекраса, тебе нужно успокоиться, – шептал он тихо, называя её прежним именем, – не до поездок сейчас. Дружина в дальнем походе, большой охраны дать тебе не могу, а с малой опасно, вдруг наскочат кочевники, нельзя сейчас в гости, никак нельзя, ладушка… – Олег нежно прикоснулся устами к шее Ольги, потом к розовой мочке уха с золотой серёжкой. Землячка не отстранилась. Тогда, дрожа всем телом от волнения, воевода горячими устами коснулся её пылающих, солёных от слёз ланит, потом трепетных уст и почувствовал ответный жаркий поцелуй и крепкие объятия. Он неожиданно легко подхватил обмякшее от нахлынувшей неги статное и крепкое тело на руки и понёс в дом, не в силах оторвать своих уст от её таких жарких, желанных и нежных.
После горячей близости они в изнеможении лежали на широкой лаве, застланной мягкими шкурами.
– А ты с летами ещё краше стала, – тихо молвил Олег. – Хотя я полюбил тебя ещё тогда, когда узрел впервые там, на реке Великой. Я так завидовал всегда Игорю…
– Зато он не завидует, больше на чужих жён глядит, я это вижу и чувствую, оттого и… – она запнулась, но оба поняли, о чём речь. Олег был счастлив, что подле него была сейчас та, которую он любил и не чаял получить от неё хотя бы ласковый взгляд или слово. Особенно с того вечера, когда провожал княгиню по морозному ночному Киеву, а потом недолго сидел подле в тёплой горнице, любуясь как его землячка играет с ручным хорьком, и глядел на руки её, белые и гибкие, под стать ловкому зверьку. Он тогда так ясно представил, как сии чудные руки так же нежно могли бы прикасаться и к его рукам или ланитам. Поймав себя на этой мысли, воевода встревожился не на шутку, и после той короткой посиделки стал избегать встреч с красавицей-землячкой, и вот… Хотя он уже начинал переживать за свой только что свершённый грех, как христианин, и просто как старший содруг Игоря, но мысли сии пока отгонял на потом, когда останется один.
– Переживаешь? – вдруг спросила Ольга и поглядела в упор своими глубокими теперь почти прозрачно-синими очами.
– А ты?
– Я-то в последние лета мужем не шибко обласкана, – вдруг призналась княгиня. – А теперь вообще одна да одна, под надзором свекрови, этой старой колдуньи, разумом двинуться можно… А что, ему можно с вдовушками тешиться, а мне сохни, что верба без воды? – горячо молвила она.
– Всё более уверяюсь, что имена людям не просто так дают. Ведь Ингард – это же значит «не ограждённый», тот, кому пределы не поставлены, безмежный, что ли. Вот он во всём и есть такой безмежный, – и в сражениях, и в женщинах, ему всегда будет мало того, что имеет, – в раздумье молвил Олег.
Блюдя осторожность, они по одному быстро омылись в реке, потом, изголодавшиеся, угощались нехитрым обедом, принесённым стременным ещё утром, и Олег впитывал каждый миг этого нежданного, тайного и греховно-сладкого счастья.
Ему было тяжко, как ножом по живому, расставаться с землячкой, но долгое отсутствие Ольги могло вызвать беспокойство, и они пошли на конюшню Ратного стана, где стоял вороной тонконогий конь княгини, на котором она сюда приехала.
– Моего кабардинца тоже седлай, – распорядился воевода конюшенному, пожилому обстоятельному воину из огнищан. По его слову быстро оседлали и подвели к воеводе и княгине их коней.
Сопровождаемые княжескими гриднями, почти всю дорогу до терема они проехали молча. Олега продолжали одолевать угрызения совести, он никогда не ожидал от себя, что так провинится перед Игорем.
Когда охоронцы отворили ворота, воевода попрощался с княгиней и, пришпорив коня, рысью поскакал обратно в стан. Внутри у него бурлили и одолевали друг друга разноречивые мысли и чувства.
Пару седмиц воевода Олег старательно молился, стараясь очистить душу от так нежданно случившегося греха, но стоило ему только оказаться на ложе, как снова чудилось рядом белое ядрёное тело Прекрасы, её горячее дыхание и нежное прикосновение желанных уст к его ланитам, груди, устам… Он тогда вскакивал и начинал ходить по небольшому своему жилищу или, выйдя, бросался в Непровскую воду и плавал до изнеможения. Потом с трудом, шатаясь, выходил из воды и только после этого забывался коротким и тревожным сном.
Олег не ведал, что думала и какие чувства испытывала его желанная, он хотел сам справиться с навалившимся на него горьким счастьем. Но однажды в обеденный час, когда дружина, по заведённым издавна порядкам, отдыхала после трапезы, а сам воевода сидел на лаве под сенью раскидистой ветлы, где две седмицы тому хоронилась от посторонних глаз посланница Ерофеев, до его слуха донеслись мерные всплески вёсел. Ещё немного погодя из-за камыша выскользнула небольшая лодчонка, в которой сидела жена. Ладно и умело, как бы не торопясь, она, тем не менее, уверенно гнала в затоку, прямо в направлении дома изведывателей, свою лёгкую посудину. Приглядевшись к жене на вёслах, он угадал знакомый стан. Сердце воеводы забилось, и все смиренные мысли и сожаления о совершённом грехе вмиг вылетели из головы, как сухая шелуха от обмолачиваемых зрелых колосьев. Это же она, его несравненная Прекраса! В висках у Олега застучали невидимые молоточки. Когда Ольга оглянулась, чтобы определиться, куда ей лучше пристать, он вышел из-под покрова ветлы и стал показывать, чтобы она правила прямо в затоку, под защиту старого раскидистого дерева.
– Погоди, я лодчонку твою сейчас вытащу, – тихо проговорил Олег, быстро подхватив Ольгу и усаживая её на широкой лаве под деревом, – а стременного в Ратный стан отправлю… – Он отошёл, оглянулся и, уверившись, что от тропинки не видать ни челнока, ни гостьи, быстро скрылся в доме. Через краткое время оттуда вышел молодой стременной воеводы и сноровистой походкой заторопился прочь. Едва он скрылся за колючими кустами, как воевода поспешил к укрывшейся под ветлой Ольге.
– Охоронцы то твои где? – спросил взволнованный от вспыхнувших чувств Олег.
– Повелела им меня в Ратном стане ждать, у меня разговор важный с воеводой, – молвила Ольга. Очи её затуманились, а белые сильные руки крепко охватили шею Олега… – Я всё это время о тебе думала, длани твои такие ласковые вспоминала, ты совсем не такой, как Игорь, ты нежный… – томно прошептала княгиня, тая от нахлынувших чувств и ласк воеводы и сама нетерпеливо растворяясь в них, как соль в воде, полностью и без остатка.
Глава девятая. Последняя битва
Итиль
Бек Аарон и главный раввин Хазарии, как всегда, удобно расположившись на узорчатых подушках, обсуждали последние громкие слухи, носившиеся по граду, как пронзительный суховей, что иногда налетал из безводной пустыни, безжалостно стегая всех подряд своими песчаными бичами.
Но сегодня воздух был недвижен, и солнце лило сверху тяжёлый зной, как густой и прозрачный мёд.
С беком были несколько его советников и казначей. Они сидели в беседке у небольшого канала, специально прорытого так, чтобы вода с журчанием переливалась по округлым камням. Но всё равно было жарко. Два юных темнокожих раба размеренно водили широкими опахалами из павлиньих перьев, возбуждая потоки воздуха, направленные на бека и раввина.