Монументы Марса (сборник) бесплатное чтение
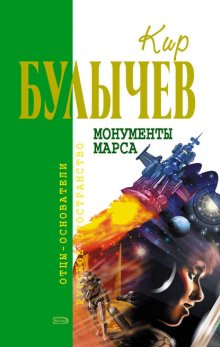
Так начинаются наводнения
За окном плыли облака. Таких облаков я раньше не видел. Снизу, с изнанки, они были блестящими, гладкими и отражали весь город – крыши, зеленые и фиолетовые, с причудливыми резными коньками, кривые улочки, мощенные кварцевыми шестигранниками, людей в кирасах и цилиндрах, идущих по улочкам, старомодные автомобили и полицейских на перекрестках. В углу у окна, у рамы, располагалось самое любимое из отражений – кусочек набережной, рыболовы с двойными удочками, влюбленные парочки, сидящие на парапете, женщины с малышами. И дома, и люди на облаках были маленькими, и мне часто приходилось додумывать то, чего я никак не мог разглядеть.
Доктор приходил после завтрака и садился на круглый табурет у моей постели. Он глубоко вздыхал и жаловался мне на свои многочисленные болезни. Наверное, он думал, что человеку, попавшему в мое положение, приятно узнать, что не он один страдает. Я сочувствовал доктору. Названия болезней часто были совсем непонятны и от этого могли показаться очень опасными. Даже удивительно, как это доктор еще живет и даже бегает по коридорам больницы, постукивая высокими каблучками по лестницам. Всем своим видом доктор давал мне понять: разве у вас ожог? Вот у меня зуб болит, это да! Разве это доза – тысяча рентген? Вот у меня в коленке ломота… Разве это удивительно – тридцать два перелома? Вот у меня…
Сначала я лежал без сознания. И это он выходил меня после первой клинической смерти. И после второй клинической смерти. Потом я пришел в себя и пожалел об этом. Правда, у них изумительные обезболивающие средства, но я ведь знал, что они все равно не справятся с тысячью рентген, – все это чистой воды филантропия. Не больше.
– Сегодня на рассвете один старик поймал в реке большую рыбину, – говорю я, чтобы отвлечь доктора от его болезней.
– Большую?
– С руку.
– Это вы в облаках рассмотрели?
– В облаках. Почему они такие?
– Долго объяснять. Да я и не смогу. Вот выздоровеете, поговорите со специалистами. Облака не круглый год. Месяца за два до вашего прилета было солнце. Тогда все меняется.
– Что?
– Наша жизнь меняется. Прилетают корабли. Но это ненадолго.
– К вам редко кто прилетает?
– Пассажирских рейсов нет. Да и откуда им быть? Расписания не составишь…
«Почему?» – хотел спросить я, но пришла сестра. Вместо этого я сказал:
– Доброе утро, мой милый палач.
И сразу забыл о докторе. Сестра – значит, процедуры.
Днем я заснул. Мне снова снилась катастрофа. Мне снилось, что я поседел. Но, наверное, мне никогда так и не узнать, поседел ли я на самом деле. Голова моя наглухо замотана – только глаза наружу.
– С Землей связались, – сказал доктор, заглянув ко мне вечером.
Он казался очень веселым, хотя мы оба знали, что с Земли лететь сюда почти полгода.
– Ну-ну, – вежливо сказал я и стал смотреть в потолок.
– Да вы послушайте. Нам сообщили, что «Колибри» заправляется на базе 12–45. Завтра стартует к нам. Это далеко?
Я хотел бы успокоить доктора, но он все равно узнает правду. Я сказал:
– Будут дней через сорок.
– Замечательно, – ответил доктор, не переставая широко улыбаться. Но ему уже было невесело. Он тоже понимал, что и сорока дней мне не протянуть. Но он был доктором, и поэтому он должен был что-то сказать. – У них на борту врач и препараты. Вас поставят на ноги в три часа.
– Тогда некого будет ставить на ноги…
По реке на облаках плыл вниз трубой длиннющий пароход, и белый дым из его трубы свисал с облака к самому окну.
– Надо быть молодцом, – сказал доктор.
Я не стал спорить.
Ночь была длинной. Я ждал рассвета, а его все не было. Сколько длятся их сутки? Если не ошибаюсь, двадцать два часа с минутами. И поделены они на периоды и доли. Об этом я читал в справочнике. Еще на базе.
Наконец стало светать. Я удивился, увидев на облаках, что улицы полны народу. Обычно прохожие появлялись часа через полтора после рассвета.
Открылась дверь, и вошел доктор.
– Вас еще не кормили? – спросил он.
– Нет, рано еще.
– Пора, пора, – сказал он.
– Сколько сейчас времени? – спросил я.
– Тринадцать долей третьего периода, – сказал доктор.
Я не стал просить разъяснений. Третьего так третьего.
– Мне придется вас покинуть, – сказал доктор. – Много работы.
Доктор вернулся через час и долго рассматривал ленты с записями моей температуры, давления, пульса и прочих штук, свидетельствующих о том, что я еще жив. Ленты ему явно не нравились, поэтому доктор начал насвистывать что-то веселое.
– Ну и как?
– Совсем неплохо. Жалко, что вам сбили режим. Головы за это отрывать надо!
– За что?
– За полную безответственность. Ему, видите ли, не хотелось с ней прощаться. Ну ладно, потом объясню. Кстати, вы не будете возражать, если к вечеру мы сделаем вам переливание крови?
– А мое возражение будет принято во внимание?
Доктор вежливо улыбнулся и ушел.
На следующий день мне стало хуже. Доктор сидел на круглом табурете и о своих болезнях ни гугу. За окном метет. Вчера еще было тепло и рыболовы покачивали над водой удилищами, как жуки усиками. А сегодня метет.
– Через полчаса кончится, – сказал доктор. – Недосмотрели.
– Вы управляете климатом? – спросил я.
– Да ничем мы не управляем, – вздохнул доктор. – Это не жизнь, а сплошное безобразие. Скорей бы облака уходили.
– Вы вчера что-то говорили о безответственности.
– Ах, вы об этом инциденте? Это неизбежно. Один молодой человек… Что с вами?
Мне было плохо. Я еще слышал доктора, но уже не мог удержаться на поверхности мира. Мне казалось, что я держусь за слова доктора, как за скользкие тонкие бревнышки, но вот слова выскальзывают и остаются на воде, а я ухожу вглубь, не смея открыть рта и вздохнуть…
Я очнулся. Они не знали, что я очнулся. Не заметили. И я слышал их разговор. Доктора и другого врача, специалиста по лучевой болезни.
– Два-три дня, не больше, – сказал специалист. – Очень плох.
Я знал, что говорят обо мне, но очень хотелось, чтобы слова эти не имели ко мне никакого отношения.
Вторично я очнулся ночью. Доктор сидел на своем табурете и раскладывал на коленях нечто вроде пасьянса из карт, похожих на почтовые марки. Мне показалось, что доктор осунулся и постарел. Я был благодарен доктору за то, что он не ушел ночью домой, за то, что он сидит у моей постели, и даже за то, что он осунулся всего-навсего оттого, что в его отделении умирает человек с Земли, с совсем чужой и очень далекой планеты.
– Спите, – приказал доктор, заметив, что я открыл глаза.
– Не хочу, – ответил я. – Еще успею.
– Не дурите, – сказал доктор. – Безвыходных положений не бывает.
– Не бывает?
– Еще одно слово, и я дам вам снотворное.
– Не надо, доктор. Знаете, что удивительно: я читал, что перед смертью люди вспоминают детство, родной дом, лужайки, залитые солнцем… А мне все чудится, что я чиню какого-то ненужного мне кибера.
– Значит, будете жить, – сказал доктор.
Я задремал. Я знал, что доктор все так же сидит рядом и раскладывает пасьянс. И мне, как назло, приснилась лужайка, залитая солнцем, та самая лужайка, по которой я бегал в детстве. Лужайка была теплой и душистой. На ней было много цветов, пахло медом и жужжали пчелы… Доктору я не стал говорить о своем сне. Зачем расстраивать?
Вошла сестра.
– Все в порядке, доктор, – сообщила она. – Проголосовали.
– Ну-ну?
– Сто семнадцать «за», трое воздержались.
– Чудесненько, – сказал доктор. – Я так и думал.
Он вскочил, и карты, похожие на марки, рассыпались по полу.
– Что, доктор?
– Жизнь чудесна, молодой человек. Люди чудесны. Разве вы этого не чувствуете? Ох, как у меня болит зуб! Вы не можете себе представить… У вас когда-нибудь болели зубы? Вы еще вернетесь на свою поляну. Она вам снилась?
– Да.
– Вернетесь, но со мной. Вам придется пригласить меня в гости. Всю жизнь собирался побывать на Земле, но недосуг как-то. Если мы с вами продержимся еще два дня, считайте, что мы победили.
И он не лгал. Он не успокаивал меня. Он был уверен в том, что я выживу. Это было странно, потому что неоткуда было взяться оптимизму.
– Сестра, приготовьте стимуляторы. Теперь не страшно. – Доктор взглянул на часы. – Когда начинаем?
– Через пять минут. Даже раньше.
Сквозь толстые стекла окон донесся многоголосый рев сирен.
– Через пять минут. Вы уже знаете? – сказал незнакомый врач, заглядывая в палату.
– Закройте шторы, – приказал доктор сестре.
Сестра подошла к окну, и я в последний раз увидел серебряную подкладку облаков. Я хотел попросить, чтобы они не закрывали шторы, объяснить им, что облака нужны мне, но неумолимая тошнота подкатила к горлу, и я, не успев уцепиться за воркование докторского голоса, понесся по волнам, задыхаясь в пене прибоя.
– …Так, – сказал кто-то по-русски. – Ну и состояньице!
Я не знал, к какому из отрывочных видений относится этот голос. Он не давал уйти обратно в забытье и продолжал гудеть, глубокий и зычный. С голосом была связана растущая во мне боль.
– Добавь еще два кубика, – приказал голос. – Трогать его пока не будем. Глеб, перегони-ка сюда третий комплект. Сейчас он очнется.
Я решил послушаться и очнулся. Надо мной висели черная широкая борода, длинные пушистые усы и брови, такие же пышные, как и усы. Из массы волос выглядывали маленькие голубые глаза.
– Вот и очнулся, – сказал бородатый человек. – Больше уснуть мы тебе не дадим. А то привыкнешь…
– Вы…
– Доктор Бродский с «Колибри».
Бродский отвернулся от меня и выпрямился. Он казался высоким, выше всех в комнате.
– Коллега, – перешел он на космолингву, – разрешите мне еще разок заглянуть в историю болезни.
Мой доктор достал ворох белых катушек с лентами записей.
– Так, – бормотал Бродский. – День одиннадцатый… день четырнадцатый… А где продолжение?
– Это все.
– Нет, вы меня не поняли. Я хотел спросить, где вторая половина месяца? Ведь не четырнадцать же дней он болеет.
– Четырнадцать, – ответил доктор, и в голосе его прозвучали звенящие нотки смеха.
– Сорок три дня назад мы стартовали с базы, – между тем гудел Бродский. – Мы сэкономили в пути трое суток, потому что больше сэкономить не могли…
– Я вам все сейчас объясню, – сказал доктор. – Но, кажется, приехал ваш помощник…
Через шесть часов я лежал на самой обычной кровати, без лат, без шин, без растяжек. Новая кожа чуть зудела, и я был еще так слаб, что с трудом поднимал руку. Но мне хотелось курить, и я даже поспорил, хоть и довольно вяло, с Бродским, который запретил мне курить до следующего дня.
– Давайте-ка все-таки распутаемся с этой штукой, – продолжал Бродский, склонившись над моей историей болезни. – Сколько же мы летели, и сколько наш больной пролежал у вас?
Бродский достал из кармана большую трубку и принялся ее раскуривать.
– Тогда вы сами не курите, – потребовал я. – А то отниму трубку. Ради одной затяжки я готов сейчас на преступление.
– Больной, – строго сказал Бродский. – Что дозволено Юпитеру, то не дозволено кому?
– Быку, больным, космонавтам в скафандрах, – ответил я. – У меня высшее образование.
Мой доктор слушал наш разговор, умиленно склонив голову к плечу. У него был взгляд дедушки, внук которого проглотил вилку, но в последний момент умудрился с помощью приезжего медика вернуть ее в столовую.
– Даже не знаю, с чего начать, – наконец сказал доктор. – Все дело в том, что наша планета – весьма нелепое галактическое образование. Большую часть года она целиком закрыта серебристыми облаками, которые полностью отрезают нас от внешнего мира.
– Но ведь мы же прилетели сюда…
– Корабль может пробить слой облаков, но этим обычно никто не хочет заниматься. И вот почему: облака каким-то образом нарушают причинно-следственную связь на поверхности планеты. Вы помните, как несколько дней назад в городе рассвело несколько позже, чем обычно?
– Да, помню, – сказал я. – Я решил сначала, что слишком рано проснулся.
– Нет, это запоздал рассвет. Один влюбленный молодой человек не хотел расставаться со своей возлюбленной. И что же он сделал? Он забрался на башню, на которой стоят главные городские часы, и привязал гирю к большой стрелке. Часы замедлили ход. В любом другом месте Галактики от такого поступка ровным счетом ничего бы не случилось. Ну, может быть, кто-нибудь и опоздал бы на работу. И все. А на нашей планете в период «серебряных облаков» замедлился ход времени. Рассвет наступил позже, чем обычно.
Доктор вдоволь насладился нашим изумлением и продолжал:
– Беда еще и в том, что в одном городе часы могут идти вперед, а в другом отстают. И рассвет наступает в разных местах по-разному. Чего только мы не предпринимали! Запрещали пользоваться личными часами – ведь время зависит даже от них, ввели обязательную почасовую сверку всех часов планеты… Но потом от всех мер такого рода отказались. Просто-напросто каждый житель планеты имеет часы. И раз на планете живут сто двадцать миллионов человек, то среднее время, которое показывают сто двадцать миллионов часов, правильно. Одни спешат, другие отстают, третьи идут как надо. Понятно?
– Значит, – спросил я, – если вы сейчас подведете свои часы вперед, то и время ускорит свой ход?
– Ну, на такую малую долю, что никто не заметит. А если ошибка становится крупной, достаточно чуть-чуть сдвинуть стрелки главных курантов – и все встанет на свои места.
– А ваш влюбленный об этом знал? – спросил Бродский.
– К сожалению, да. Об этом знают все.
– И часто случаются казусы?
– Очень редко. Мы волей-неволей дисциплинированны. Но, с другой стороны, мы знаем, что в случае крайней необходимости можем управлять временем. Так было и с нашим больным. Совет планеты принял решение спасти гостя. Мы знали – жить ему два, от силы три дня. Вашему кораблю лететь до нас сорок дней. Помните, я попросил сестру закрыть шторы?
– Да.
– Для того чтобы вас не смущало мелькание дня и ночи.
– Так эта мера очень болезненна для планеты?
– Мы сознательно пошли на некоторые трудности. Больше того, как сейчас выяснилось, «Колибри» пришел на пять часов раньше, чем мы предполагали. Значит, многие жители города сами подводили вперед ручные часы и будильники.
…Через три дня мы приехали на космодром. Доктор улетал с нами на Землю. Я еще был слаб и опирался на трость. Легкий снежок сыпался с серебряных облаков и мутил их гладкую поверхность. Впервые я увидел собственное отражение. Если задрать голову, то маленький человечек с палочкой тоже закинет голову и встретится с тобой взглядом.
Проводы затянулись, и я, устав, взялся рукой за круглую палку, привинченную к стене космовокзала. Так стоять было удобнее. Бродский говорил довольно длинную речь, в которой благодарил жителей планеты.
– Пора, – сказал стоявший рядом со мной капитан «Колибри». – Через пятнадцать минут старт.
Я обнимаюсь и раскланиваюсь с друзьями…
И тут вдалеке зародился невнятный, зловещий гул, словно кто-то заиграл на огромном контрабасе. Гул разрастался, дробился на отдельные звуки и приближался к нам.
Люди вокруг нас прервали разговоры, оглядывались. Послышался взволнованный женский голос:
– Крошка, где ты? Беги ко мне.
Мне показалось, что на горизонте, у далеких гор, поднимается стена тумана.
– Что такое? – взволновался доктор. – Что случилось?
Провожавшие, видно, разобравшись, в чем дело, бросились в укрытие космовокзала. Доктор по-птичьи покрутил головой и впился взглядом в меня.
– Сейчас же уберите руку! – крикнул он. – Что вы наделали!..
Я отдернул руку и, обернувшись, посмотрел на круглый предмет, за который я держался. Оказалось, самый обыкновенный ртутный термометр.
– Это не часы, – неловко пошутил я, – это термометр.
– Вот именно! – закричал доктор, схватив меня за руку и волоча к дверям космопорта. – Вы забыли о причинно-следственных связях.
Бродский тяжело топал сзади, оглядываясь через плечо на близкую уже стену тумана.
Я начал догадываться и, надеясь еще, что догадка моя ложна, спросил неуверенно:
– Что случилось, доктор? Что я натворил?
– Неужели вы не понимаете? Посмотрите на термометр. Вы же согрели его и подняли температуру на несколько градусов. Во всем городе! И снег растаял… Не теряйте же ни секунды. Скорее в корабль! Начинается наводнение!
Хоккей Толи Гусева
Разницу между днем и ночью улавливали только приборы. Для нас ничего не менялось. В любое время длинных, пятидесятичасовых суток человека, выбравшегося из тамбура «пузыря», встречали все та же фиолетовая мгла, черное переплетение мертвого леса да редкие снежинки – они всегда носились в воздухе, как комары.
Это была самая настоящая зимовка. Хуже полярной, потому что выйти без скафандра нельзя, потому что ближайшее человеческое жилье – наш «Зенит» – месяц назад ушло к соседней системе и вернется только через два месяца, через шестьдесят наших, или двадцать девять местных, дней.
Мы ждали, пока кончится зима. Оставалось еще недели две. Планета крутилась вокруг своей звезды по сильно вытянутому эллипсу; и зимой, когда она далеко уходила от звезды, смерзались облака и падали на поверхность сплошным ковром. И, разумеется, на ней все умирало. Или засыпало.
Когда нас высаживали, мы подсчитали, что еще недели две – и придет свет: облака должны растопиться, занять соответствующее место, и на планете наступит лето. Мы не отходили далеко от «пузыря». Пурга и замерзший лес окружали нас. Это не значит, что мы ничего не делали. Конечно, мы были заняты и узнали немало, но все-таки это была зимовка, и Толя Гусев решил сделать хоккей.
Есть такая детская игра, которая больше всего интересует детей в возрасте от двадцати пяти и выше. На большой доске прорезаны узкие пазы, в которых двигаются посаженные на штыри хоккеисты. Они гоняют шайбу, а игроки, то есть дети, играющие в хоккей, должны быстро и точно двигать взад и вперед прутьями, на концах которых вертятся хоккеисты.
Толя Гусев делал игру уже вторую неделю, и мы все принимали в этом самое активное участие. В основном мы давали советы и поставляли материалы. Вы не можете себе представить, как трудно достать нужные для детской игры вещи в «пузыре», рассчитанном на шестерых разведчиков и один вездеход. Как назло, не сбросили ничего лишнего. Доставание материалов превратилось в азартный спорт, иногда опасный для дальнейшего существования группы. И Глеб Бауэр, наш командир, каждый вечер, сидя в углу за шахматами, не спускал глаз с добровольных помощников лохматого Гусева.
Дно и бортики мы соорудили из пустых канистр. Прутья-поводки – из стального троса (Глеб сильно возражал). Кое-какие детали – винтики, скобы поводков и так далее – мы извлекли из кинопроектора. Он нам был не очень нужен, потому что запас картин, привезенный на планету, мы просмотрели по три раза в первые же дни. Глеб устроил нам крупный скандал, когда пропали кое-какие не очень важные детали поляризационного микроскопа. Мы их вернули. Зато уговорили его пожертвовать ради коллектива хорошей пластиковой обложкой большого журнала наблюдений. Ведь, в конце концов, не на обложке же мы запечатлевали наши великие открытия! В глубине души Глебу тоже хотелось, чтобы хоккей был готов, и он согласился.
Толя Гусев, худющий и растрепанный, разрешил звать себя народным умельцем, и кто-то пустил слух, что он еще на Земле, в университете, за каких-нибудь три года вырезал на рисовом зернышке полный текст «Трех мушкетеров» с иллюстрациями Доре. И до сих пор студенты читают это зернышко, пользуясь небольшим электронным микроскопом.
И вот наступил день, когда хоккейное поле было готово. Оставалось сделать игроков. Игроков было сделать не из чего. Вот-вот наступит рассвет, и, хотя мы были заняты подготовкой к первой большой экспедиции, хоккейный азарт не ослабевал. Глеб сам предложил вырезать хоккеистов из шахматных фигурок, но мы, оценив его жертву, отказались, потому что фигурки были пластиковыми и притом слишком маленькими для хоккея.
На столе у Варпета лежал кусочек местного дерева. Он, безусловно, пытался вернуть его к жизни, вырвать из зимней спячки и потому подвергал всяким облучениям и химвоздействиям.
– Дай попробую, как его нож берет, – сказал Толя.
– Оно мягкое, – ответил Варпет. – Только стоит посоветоваться с Глебом.
Глеб повертел щепку в руках.
– Там, у резервного тамбура, есть большой сук, отвалился, когда устанавливали «пузырь». Отпили кусок и работай, – сказал он.
– Я как раз собирался из него портсигар вырезать, – сказал я. – На мою долю тоже отпилим.
Древесина была теплого розоватого цвета, и портсигар должен был получиться красивым, главное – совершенно неповторимым.
Мы с Гусевым надели скафандры и вышли в ночь.
Лес, густой до невозможности, подходил почти к самому «пузырю». На ветвистых узловатых сучьях не было листьев, от холода деревья стали хрупкими, и если ударить по суку посильнее, он отламывался с легким звоном. Но мы не ломали леса – мы не были хозяевами на этой планете, мы еще с ней не познакомились.
– Представляешь, – сказал Гусев, поднимая за один конец тяжелый толстый сук, – весной все это расцветет, распустятся листья, защебечут птицы…
– Или не защебечут, – сказал я. – Может, здесь птиц нет.
– Я думаю, что должны быть. Только они на зиму зарывают яйца в землю, а сами вымирают. И звери есть, они закапываются в норы.
– Тебе хочется, чтобы все было как у нас?
– Да, – сказал Гусев. – Заноси тот конец к люку.
Мы помогали Толе Гусеву вырезать хоккеистов. Мы делали заготовки – чурбачки. Один, побольше, для тела и один, поменьше, для вытянутой вперед руки с клюшкой. Дерево было податливым и вязким. Оно оттаяло в тепле, хотя Варпет так и не обнаружил в нем признаков жизни. Я сделал заодно себе портсигар. Он получился не очень элегантным, но крепким и необычным.
Наконец человечки были готовы. Мы раскрасили их. Одних одели в синюю форму, других – в красную.
Хоккеисты были размером с указательный палец. Гусев высверлил в них отверстия для штырей. Работа эта закончилась поздно ночью – нашей ночью, земной, мы продолжали жить по земному календарю.
Мы поставили хоккеистов на места и положили деревянную шайбу на центр поля. Глеб свистнул, и началась игра. Хоккеисты бестолково, но послушно вертелись, размахивая клюшками, шайба как угорелая носилась по полю и не шла в ворота.
– Научитесь, – сказал Варпет.
Я играл против Гусева, и шайба остановилась перед моим нападающим. Я осторожно повернул его вокруг оси, чтобы шайба попала под клюшку, и резко вертанул прут. Хоккеист – фюйть! – ударил по шайбе, и она полетела в ворота, но не долетела, потому что гусевский вратарь вдруг сделал невозможное – вытянулся вперед и перехватил клюшкой шайбу, но и шайба увернулась от него и понеслась в сторону, к другому игроку, который стоял до этого в полной неподвижности, потому что я и не думал браться за его прут. Но и тот игрок задвигался, при этом странно вытянулся и, нагнувшись, потянулся к шайбе. В тот же момент все хоккеисты пришли в движение. Они будто взбесились, будто ожили. Они дергались, вертелись на своих штырях, вытягивались, цепляли друг друга клюшками; движения их были бестолковы, но быстры и энергичны.
Мы с Гусевым бросили прутья и инстинктивно отодвинулись от доски. Но ничего сказать не успели. Нас опередил Глеб, который в это время смотрел в иллюминатор.
– Пришла весна, – сказал он.
За иллюминатором оживал лес. На глазах таявшие облака изменяли его цвет, и он уже не был темным, он был разноцветным – каждый ствол переливался бешеными яркими красками. В просвете туч появилось солнце, и лучи его, падая на лес, вызывали в нем пароксизмы деятельности. Сучья трепетали, дергались, изгибались, переплетались, танцевали; и казалось, деревья вот-вот вырвутся с корнями и пойдут в пляс. Каждая частица, стосковавшаяся по солнцу, – а ведь наши хоккеисты тоже были частицами деревьев, – встречала весну.
На концах корявых ветвей набухали почки и тут же лопались, обнаруживая свернутые в трубку листья или бутоны цветов. Глаза не успевали фиксировать быстролетные перемены, мы лишь отмечали результаты их и перебрасывались растерянными короткими репликами:
– Смотри, цветок раскрылся.
– Словно пожар.
– Камеры включены?
– Ты видишь?
– С ума сойти!
– Где объектив?..
Из густой светлой листвы, из пляшущих цветов, из клубков лиан вылетали птенцы и многокрылые бабочки. Синий жук, вырвавшись из бушующего леса, словно пуля ударился в иллюминатор и боком, боком побежал к краю, кося на нас белым глазом.
На время мы забыли о хоккеистах. Мы столпились у иллюминатора. Пораженные, любовались красками и движениями леса, хотя и понимали, как трудно будет изучать эту дикую, стремительную жизнь, как трудно будет пройти эти леса.
А когда мы снова обернулись к хоккейному полю, то увидели, что шайба залетела в правые ворота, а деревянные человечки, сплетясь в кучу, отчаянно сражаются клюшками. Хотя это, наверное, нам показалось. Просто растительная энергия случайно приняла странную форму.
– Давайте свисток и удаляйте всех с поля, – сказал Глеб. – Хоккейный сезон кончился.
Когда вымерли динозавры?
В этом доме был современный лифт с голубыми самозакрывающимися дверями. Между створками была щель, настолько широкая, что можно было увидеть ярко освещенную белую стену кабины и современный плафон под потолком. Но влезть в щель было нельзя. Не только Полянову, но и мне, хотя я в два раза тоньше.
– Какой этаж? – спросил Полянов.
– Десятый, Николай Николаевич, – сказал я.
– А другой лифт есть?
– Нет другого. Может, я поднимусь, а вы постепенно ко мне присоединитесь?
– Как так постепенно? – спросил Ник-Ник. – Тебе одному нельзя. Он с тобой и разговаривать не будет.
Ник-Ник тяжело вздохнул и почему-то расстегнул пиджак.
Я бы отлично управился без него, но когда из лаборатории принесли глянцевые, тринадцать на восемнадцать, отпечатки, то принесли их не мне, а прямо к нему в кабинет, он меня тут же вызвал, и я впервые увидел их живописно разбросанными по столу Ник-Ника.
– Ты заказывал пленку печатать? – спросил он, изображая строгость.
– Заказывал.
– А что там, знаешь?
– Нет. Мне Грисман пленки прислал, я думал, может, что срочное, вот и отдал в лабораторию. Ведь по нашему отделу.
– Значит, не видел, говоришь?
– Не видел.
Я старался краем глаза разглядеть, чего там Грисман наснимал такого, что лаборант притащил прямо к Ник-Нику в кабинет. Может, запечатлел местных девчат на память и сейчас произойдет неприятный для меня разговор?
– Где письмо? – спросил Ник-Ник.
– Какое письмо?
– С пленками письмо от Грисмана было?
– Не было никакого письма, Николай Николаевич, – ответил я.
– Что же это такое? Присылает фотокорреспондент пленки – и к ним ни письма, ничего? Может, он и не хотел, чтобы их проявляли? Может, он хотел, чтобы их прямо в таком виде в музей отдали? Он где?
– Вы же знаете, на Саянах, в Парыкских болотах, там скелеты ящеров нашли. Сами же ему командировку подписывали.
– Что он должен быть в Парыкских, это я знаю, а вот где он в самом деле, не знаю.
Полянов сгреб фотографии в кучу.
Я воспользовался передышкой, чтобы убийственно посмотреть на лаборанта Леву. Чего-чего, а такого предательства я от него не ожидал.
У Левы были обалдевшие глаза, и он, по-моему, даже не понял, что я смотрю на него убийственно. Из-под широких ладоней редактора выглядывали уголки фотографий, и по уголкам ни о чем догадаться было нельзя.
– Пленки где? – спросил Полянов у Левы.
– В лаборатории остались.
– Быстро принеси, одна нога здесь, другая там. Как ты мог их оставить?
Дело серьезное, понял я.
Полянов постучал ладонью по отпечаткам, потом поправил массивные очки.
– Так, – сказал он ехидно, – когда вымерли динозавры?
– Что?
– Когда, спрашиваю, динозавры вымерли? Давно? Отвечай, ты же отдел науки.
– В меловом периоде, – сказал я.
– Вот-вот, и я так думаю, – сказал Ник-Ник. – А вот твой Грисман так не думает. Что же теперь делать?
– Знаете что, объясните мне, пожалуйста, – сказал я. – Ведь поймите мое положение…
– А я разве не рассказал? Я-то думал, что вы это на пару с Грисманом придумали, меня, старика, разыграть хотели.
Полянов провел ладонью по столу, и фотографии, прижатые к его поверхности, подъехали ко мне.
– Ты садись, – сказал мне редактор, – в ногах правды нет.
Я правильно сделал, что послушался Ник-Ника и сел раньше, чем взглянул на фотографии. Потому что фотографии были хорошие, качественные, некоторые на контражуре, с достаточной глубиной. Хоть тут же, без ретуши, ставь в номер. Но в номер их поставить было нельзя. Ни один уважающий себя редактор не сделал бы этого. На фотографиях были изображены динозавры. Динозавры в болоте, динозавры на фоне далеких гор, динозавры, лежащие на берегу. Самые обычные динозавры из учебника палеонтологии или из популярного труда «Прошлое Земли».
Я перебирал отпечатки, раскидывал их веером, как колоду карт, даже переворачивал на другую сторону в тщетной надежде увидеть объяснительные подписи на обороте.
– Трюк? – донесся до меня издалека голос Полянова. В голосе звучало искреннее сочувствие. Видно, мое изумление было достаточно очевидным.
– Что трюк? – спросил я. – Это? Это не трюк. Ведь, чтобы снять динозавра, надо иметь динозавра. Хотя бы искусственного, чучело, муляж. А откуда у него в лесу, в болоте чучело динозавра?
– Вот и я думаю, – согласился Полянов.
В дверь ворвался Лева, неся, как ядовитую змею за хвост, развевающуюся пленку.
– Она, – сказал он, – цела и невредима, а то вы сказали, и я заволновался.
За Левой в кабинет вошли Куликов и Галя, наша секретарша. Они встали за моей спиной, и ясно было, что не уйдут, пока тайна не разрешится.
– Ты на меня не того, – шепнул мне Лева, – я не мог, такое дело.
– Ладно, потом поговорим, – сказал я, не в силах оторвать глаз от блестящих глянцевых шей динозавров.
– Ты что же думаешь? – продолжал между тем Полянов, не глядя на нас. – Ты думаешь, я сейчас вот так и скажу: в номер? Нет, я этого не скажу.
Полянов аккуратно смотал пленку и, оторвав листок перекидного календаря, завернул ее в бумагу. Потом положил во внутренний карман пиджака.
– Николай Николаевич, – сказал я. – Голову даю на отсечение, это настоящие снимки. Посмотрите на задний план, и дымка, и все тут…
– Что советуешь? – спросил Полянов. И сам ответил: – Нужен специалист.
В кабинет между тем вошли еще человек пять из редакции. Сенсации быстро распространяются в журналистском мире.
– Мошкину позвонить надо, – сказал Сергеев из отдела литературы.
– Только не Мошкину, – ответил я. – Мошкин у Еремина в экспедиции ведал кадрами и хозяйством, а потом брошюру написал. А сам ничего не знает. Лучше самому Еремину. Хотя его сейчас нет в городе. У меня есть домашний телефон Ганковского. Если он здоров, это самый подходящий человек.
– Звони, – сказал Ник-Ник, пододвигая ко мне телефон.
Фотографии Грисмана летали по комнате из рук в руки, и кабинет был наполнен шепотом и шуршанием.
Доцент Ганковский согласился принять нас. Он любезно сообщил свой адрес и предупредил, что лифт может быть испорчен. И вот мы стоим в подъезде дома, где живут ученые из университета, и Полянов расстегнул пиджак, чтобы легче было дышать, когда будет подниматься на десятый этаж.
Мы поднимались быстро.
К десятому этажу сердце мое уже так затолкало легкие, что нечем было дышать. А Полянов шагал и шагал, будто забыл, что в нем сто три килограмма и у него гипертония.
Доцент сам открыл дверь. Видно, ему не было чуждо любопытство.
– Ну что ж… – сказал он, посадив нас в настоящие академические черные кожаные кресла.
Доцент был сух, опален ветрами пустынь и гор. Стены кабинета были заставлены стеллажами, а в промежутках между ними висели таблицы, изображающие белемниты в натуральную величину. На столе под коренным зубом мамонта лежали стопкой исписанные быстрым почерком листы.
– Мы бы вас не беспокоили, товарищ Ганковский, – сказал Ник-Ник. – Мы понимаем вашу загруженность, мы и сами загружены. Ответьте нам, когда вымерли динозавры?
– В конце мелового периода, другими словами, очень давно, – сказал доцент, и я подумал, что ему раз сто в жизни приходилось отвечать на этот вопрос.
– А сейчас динозавры есть? – спросил Ник-Ник.
Доцент посмотрел на Полянова укоризненно. Он ведь не знал, что у меня в конверте.
– К сожалению, это исключено, – сказал доцент. – Хотя наука от этого много потеряла.
– Еще не все потеряно, – сказал Полянов. – А вот еще один вопрос: почему вы, товарищ Ганковский, так уверены, что динозавры вымерли?
Доцент был человеком терпеливым. Хоть он и усомнился, что Ник-Нику можно доверить журнал, он виду почти не подал.
– Разрешите, я тогда не ограничусь простым ответом «да» или «нет». Во избежание дальнейших вопросов я в двух словах поведаю вам, кто такие динозавры и почему я так уверен, что они вымерли. Вы курите? А вы, молодой человек? Тогда курите, не стесняйтесь. Да, значит, динозавры. Английский ученый Ричард Оуэн в прошлом веке восстановил облик одного из этих ископаемых чудовищ и дал ему название динозавр, что значит – чудовищный ящер. Динозавры были очень многообразны. Среди них встречались и хищники, вооруженные громадными зубами, были и живые танки, закованные в тяжелый панцирь. Были среди динозавров и крупнейшие обитатели земной суши. Бронтозавры, диплодоки превышали в длину двадцать метров. Весь меловой период был эрой господства динозавров. До сих пор мы не можем с уверенностью сказать, сколько видов динозавров существовало тогда на Земле. Почти каждый год ученые открывают новых и новых ящеров – плавающих, летающих, прыгающих… Я, надеюсь, рассказываю достаточно популярно?
В любом другом случае, я уверен, Полянов бы смертельно обиделся, услышав такой вопрос, но сейчас он в отличие от доцента видел юмор во всей этой ситуации. Ведь он мог просто показать фотографии, и дело с концом. Но он с наслаждением оттягивал этот торжественный момент.
– Продолжайте, мы с интересом внимаем, – сказал он.
– Итак, меловой период – эра господства динозавров. Меловой период делится на две части: нижний мел и верхний мел. Так вот, верхний мел – важный момент в истории Земли. Именно тогда, шестьдесят миллионов лет назад, динозавры неожиданно вымирают.
– Как так неожиданно? – заинтересовался вдруг Ник-Ник.
– Я не преувеличиваю. С точки зрения истории Земли промежуток времени, в который полностью исчезли динозавры, очень невелик. Так что мы можем считать их гибель неожиданной. Все многообразие видов и форм этих хозяев нашей планеты исчезло, уступив место млекопитающим – мелким, слабым существам, которые в те времена и не могли мечтать о конкуренции с динозаврами.
– И в чем причина? – спросил Полянов.
– Ага, – торжествующе произнес доцент, – думаете, что вы единственный, кому это показалось странным? Нет. Это загадка, над которой уже десятки лет бьются ученые всего мира. Почему вымерли динозавры? Есть теория – я, правда, не сторонник ее, – что динозавры погибли в результате космической катастрофы, происшедшей в конце мелового периода. Например, Солнце проходит сквозь облако космической пыли. Уровень радиации на Земле резко повышается, и не приспособленные к таким резким изменениям условий существования динозавры погибают.
– А млекопитающие?
– Они теплокровны и поэтому более независимы от окружающей природы.
– А змеи, лягушки? Насекомые?
Мне казалось, что Ник-Ник задает чересчур уж много вопросов, но прерывать разговор не стал.
– Космическая теория многого не объясняет. Есть другая теория. Она связана с изменением климата на Земле к концу мелового периода, с тем, что уменьшилось количество влаги, стали пересыхать болота и реки, поредели леса. Но ведь не все динозавры жили в болотах. Были среди них и летающие, и такие, что могли отлично существовать в сухой местности. Миллионы лет до этого динозавры отлично приспосабливались к изменениям климата – иначе бы им не завоевать всю Землю. А тут вдруг им надоедает приспосабливаться, и они поднимают вверх свои лапы и говорят: «Хватит, мы уж лучше вымрем, чем терпеть и изменяться». Кстати, недавно установлено, что на этом климатическом рубеже появляются новые формы динозавров, отлично приспособленные для сухого климата. Поэтому и для такой теории, на мой взгляд, нет оснований.
– Так и не разгадано?
– Погодите, я еще не окончил. – Доцент вошел в роль лектора и забыл, что перед ним журналисты, а не его студенты. – Вы, наверно, слышали, что время от времени находят кладбища динозавров, чаще всего в тех местах, где раньше были озера, куда реки сносили трупы умерших или погибших ящеров. Находят также, что, казалось бы, более удивительно, громадные кладбища яиц, сотен тысяч. Что вы на это скажете?
– М-да, – сказал Полянов.
– Сотен тысяч, – повторил Ганковский и постучал указательным пальцем по коренному зубу мамонта. – И все яйца отложены приблизительно в одно время. Это говорит о том, что в какой-то исторический момент из яиц динозавров перестали выводиться динозаврята. Почему?
– Может, радиация, как вы говорили? – вмешался я.
– Допускаю, – сказал Ганковский, – хотя не верю. Наши же французские коллеги полагают, что причина тому семь резких, хотя и кратковременных, похолоданий. Похолодания не смогли повлиять на взрослых особей, но уничтожили более нежных зародышей. Если это так, то представляете себе трагическую картину? Еще живы последние старики динозавры, они еще плещутся в пересыхающих болотах, но на смену им уже не придут представители их рода. И теплокровные зверьки, такие мелкие, что динозавры и не подозревают об их существовании, переймут у них эстафету жизни на Земле.
– Картина, – сказал вполне искренне Полянов.
– Кстати, вы не слышали, что у нас на Саянах найдено громадное кладбище динозавров? В этом году там будет работать разведочная группа.
– В Парыке? – спросил Полянов.
– Там, там.
– Наш корреспондент прислал оттуда фотографии, – сказал Ник-Ник. – Мы потому к вам и пришли.
– Ах да, – сказал доцент. – Я совсем забыл. Ну и что он сфотографировал?
– Василий Семенович, покажи товарищу Ганковскому, – сказал Полянов торжественно.
Я протянул доценту конверт.
Доцент вытащил пачку блестящих отпечатков из конверта, надел пенсне и принялся разглядывать верхний снимок. Не говоря ни слова, отложил его, поглядел следующий. Мы с Ник-Ником замерли, не смея дышать.
– Диплодокус, – сказал наконец тихо, задумчиво и как-то робко доцент, и пальцы его нежно коснулись поверхности снимка. – Длина до двадцати пяти – двадцати семи метров. Верхний мел.
Отложив последнюю фотографию, Ганковский взглянул на нас сквозь пенсне и спросил:
– Необходимо мое просвещенное мнение?
– Да-да, – сказал Полянов, – вы понимаете…
– Очень хорошо, я бы сказал, крайне хорошо и убедительно выполнено. Это метод блуждающей маски?
– Это настоящие фотографии, – сказал я. – Сняты на Саянах нашим фотокорреспондентом Грисманом.
– Так наша группа еще не приехала туда.
– Он там один. И снял.
– Как так снял? – Доцент начал что-то понимать. – Подделка? – спросил он.
– Не думаю, – вздохнул Полянов.
– У Грисмана начисто отсутствует чувство юмора, – сказал я. – От него даже жена ушла.
Мой аргумент произвел на доцента впечатление.
– Жена, говорите… – сказал он. – А фотографии очень убедительны. Я на своем веку видел миллионы отпечатков, и весь мой опыт говорит, что это не подделка, не мистификация.
Доцент отложил фотографии и встал.
– У меня и пленка с собой, – сказал Полянов и тоже грузно поднялся с кресла.
– Какие приняты меры? – спросил Ганковский.
– Мы приехали к вам, – сказал Полянов.
– И все?
– Как только вы выскажетесь, мы примем меры, – сказал Ник-Ник.
– Можете воспользоваться моим телефоном, – предложил доцент.
…И Полянов воспользовался. Он не слезал с телефона в течение часа. Он связался с Парыком, он добился того, чтобы Грисмана, мирно отдыхающего в гостинице, вытащили из постели и привели к телефону, он истратил кучу денег на этот телефонный звонок. И своего добился.
Доцент нервно ходил по кабинету и время от времени снова принимался рассматривать фотографии.
– Невероятно, – бормотал он, доставая с полок толстые фолианты с изображениями чудовищных скелетов и сверяя относительные размеры шей и ног чудовищ.
– Есть Грисман, – сказал тут Полянов. – Это ты, Миша? – кричал он в трубку. – Полянов говорит. Ты мне скажи – снимки твои не липа? Нет, говоришь? Сам видел? Сам? Повтори! Так. Ты знаешь, что ты диплодокуса нашел? Живого. Далеко они отсюда? То-то я и говорю: диплодокуса, ди-пло-дока. Раньше не слыхал? Учиться надо! Так ты повтори: видел своими глазами?
Полянов подмигнул нам и сказал:
– Видел. Не врет.
Он повернулся к трубке и продолжал:
– Что? Нет, это не тебе, я тут товарищам из университета говорил. Так вот, далеко они от города живут? Ага. Километров сто, говоришь? А дорога туда есть? Сколько без дороги? Пятьдесят? Теперь слушай. Сейчас этим делом займутся ученые. Так что тебе там на месте помогут. С транспортом, с загонщиками… Понял?
– Пусть ничего не предпринимает. Завтра туда вылетим и я, и мои коллеги, – вмешался Ганковский. На него смотреть было страшно.
– Все ясно. Так ничего особенного не предпринимай. Без авантюр. Увидишь – наблюдай. Сам, говоришь? Ни в коем случае. А там как знаешь. Чтоб камеры из рук не выпускать. Каждый кадр на вес золота. Все. Жди дальнейших указаний.
Полянов передал трубку взволнованному доценту, а сам, переводя дух, уселся рядом со мной и прошептал:
– Ты видел, как я ему не то чтобы запретил организовать охоту, а только для порядка? Если наш человек первого диплодокуса поймает… Если Грисман сам обеспечит – готова сенсация в лучшем смысле этого слова. А с доцентом туда ты сам полетишь.
– Они отправят Грисмана к болотам сегодня же. У них вертолет есть, – сказал доцент, повесив трубку. – Невероятно. Ведь всего сто километров от районного центра, и охотники там бывали. Геологи. И хоть бы кто сообщил.
– Так как же: все динозавры вымерли, а эти диплодокусы остались? – спросил не без коварства Полянов.
– Не знаю, не беру на себя смелость ответить, – сказал доцент, снова снимая телефонную трубку. Он принялся звонить на кафедру.
– Может, они закапываются на зиму? Ведь морозы там.
– Чепуха, – ответил доцент.
На следующий день мы не улетели на Саяны. Была нелетная погода. Как нарочно. До этого две недели была летная. А когда срочно лететь, так нелетная. Мы полдня провели на аэродроме, надеясь на метеорологов, но те ничего сделать с погодой не смогли.
Время от времени репродуктор в зале ожидания неожиданно прокашливался и звал пассажиров лететь в Тюмень, Красноярск или Читу. В Парык он никого не звал. Журналисты и кандидаты наук быстро привыкли друг к другу и к залу ожидания, отгородили креслами самый уютный угол и время от времени уходили небольшими группами в буфет.
Нет ничего удивительного в том, что восемьдесят процентов разговоров в нашем углу касались динозавров и подобных им таинственных причуд природы.
– Я недавно читал, товарищи, – сказал кто-то, – что в Африку отправилась экспедиция за чудовищем, которое обитает неподалеку от озера Виктория. Местные жители его боятся.
– Не исключено, – поддержал рассказчика один из кандидатов наук. – В конце концов, мы не все знаем о нашей старушке Земле. Существует масса неисследованных областей, куда и не ступала нога человека. Почему бы не подтвердиться хотя бы части сведений о морских змеях, озерных змеях и так далее?
– Но, говорят, лабынкырское чудо оказалось мифом?
– Ну, на Лабынкыре чудовищу прокормиться нечем. И на Лох-Нессе тоже. Хотя океаны могут скрывать в себе…
– Но ведь и Парык-то не океан, – прозвучал чей-то трезвый голос.
Я оставил спорящих и отошел к телефону, чтобы позвонить Ник-Нику. Новостей от Грисмана не было.
Вернулся в редакцию я под вечер, когда стало ясно, что улететь раньше завтрашнего утра не придется. Полянов стоял с телефонной трубкой в руке и молчал. Зато все вокруг говорили не переставая. У Полянова одно ухо было малиновым от неоднократно прижимаемой к нему телефонной трубки, он осунулся, но вид у него был победоносный. Я понял, что случилось нечто важное.
– Сейчас говорил с Грисманом, – сказал он.
– Он вернулся?
– Почти. Они поймали ящера.
– Живьем?
– Живьем. Сейчас заказываю спецплатформу.
– А кормить его чем?
– Ученые сообразят. Так что отлет отменяется. Потом полетишь. Сам понимаешь.
И Полянов набрал номер телефона Ганковского, чтобы сообщить ему о первом подвиге Грисмана.
Все мы очень беспокоились, как диплодок перенесет столь длительное путешествие, как его доставят к железной дороге, как… как… как… Наш карикатурист уже подготовил к номеру карикатуру – поезд из одних платформ, а с последней свешивается на рельсы хвост чудовищного динозавра.
А утром, когда я, невыспавшийся и загнанный непрерывными звонками, совещаниями и поездками, вошел в редакцию, меня поразила тишина и пустота в коридоре.
Я посмотрел на часы. Девять. Вроде все должны быть на местах, вернее, должны метаться по коридорам и обсуждать нашу сенсацию. Но никто не метался. Я заглянул в кабинет к Ник-Нику. Кабинет был пуст. Брошенная второпях телефонная трубка тихо раскачивалась у самого пола. Я положил ее на рычаг. Телефон немедленно зазвенел.
– Какие новости от Грисмана? – спросил незнакомый голос.
– Не знаю, – сказал я. – Позвоните через полчаса.
Тяжелое предчувствие тревожило меня. Я вышел в коридор и прислушался. Со стороны зала, где обычно проводятся собрания, вечера и шахматные турниры, раздался взрыв голосов. Снова все смолкло.
Я побежал туда.
Там были все члены редакции и половина сотрудников университета. Я заглянул через головы стоявших в дверях.
На сцене стоял Полянов. Рядом с ним Грисман, обросший свежей, недельной давности бородкой. Между ними стул. На стуле находилось нечто вроде громадной, метра в полтора, стеклянной банки, видимо, взятой в какой-то химической лаборатории. В банке сидел, свернувшись кольцом, динозавр. Самый настоящий динозавр, сантиметров тридцать в длину.
– …И, несмотря на некоторое разочарование, которое испытали вы, товарищи, – заканчивал свою речь Полянов, – наука сегодня может сказать, что она сделала шаг вперед. Динозавры не окончательно вымерли. В болоте Парык сохранился и приспособился один из видов ископаемых чудовищ. Правда, он, сами, товарищи, можете убедиться при внимательном рассмотрении представленного объекта, сильно измельчал за последующие геологические эпохи.
Полянов не казался разочарованным. Если появление Грисмана с банкой и опечалило его, он уже успел взять себя в руки и извлекал максимум из того, что произошло. Лучше маленький динозавр, чем никакого динозавра.
Доцент Ганковский тянул шею, не мог дождаться счастливой минуты, когда сможет вцепиться в живое ископаемое.
Только мне почему-то стало грустно. Я поверил Грисману, я ждал появления платформы, с которой свисает хвост чудовища.
– А я-то сначала подумал, что такая ящерица уже науке известна, – сказал тут Грисман. Он переминался с ноги на ногу и почесывал молодую бороду. Фотокорреспонденту явно было не по себе под вспышками коллег-фотографов, под взглядами ученых и журналистов. Он говорил виновато, как человек, случайно дернувший тормозной кран и остановивший поезд. Грисман судорожно вздохнул и закончил: – На всякий случай пленку послал. А тут мне Николай Николаевич звонит и говорит: проследи и, если что, поймай. Ну и поймал, тем более мне помогли транспортом и посудой.
Поломка на линии
Дом наш старый. Настолько старый, что его несколько раз брали на учет как исторический памятник и столько же раз с учета снимали – иногда по настоянию горсовета, которому хотелось этот дом снести, иногда ввиду отсутствия в нем исторической ценности. Со временем его обязательно снесут, но, очевидно, это случится не скоро.
Лет триста назад в доме жила одна семья. Родственники боярина, который ничем не прославился. Потом боярин умер, потомки его измельчали и обеднели, и дом пошел по рукам. К концу прошлого века его разделили на квартиры – по одной на каждом из трех этажей, а после революции дом уплотнился.
В нашей квартире на первом этаже восемь комнат и пять семей. Сейчас в ней остались в основном старики и я, молодежь рассосалась по Химкам и Зюзиным. Меня же моя комната вполне устраивает. В ней двадцать три метра, высота потолка три тридцать, со сводами, и есть альков, в котором раньше стояла моя кровать, а теперь я завалил его книгами. Указывать мне на беспорядок некому. Мать уехала к отчиму в Новосибирск, а на Гале я так и не женился.
В ту ночь я поздно лег. Я читал последний роман Александра Черняева. Недописанный роман, потому что Черняев умер от голода в Ленинграде в сорок втором году. Сейчас, когда вышло его собрание сочинений, роман поместили в последнем томе вместе с письмами и критическими статьями.
Это очень обидно – ты знаешь, что читать тебе осталось страниц десять, не больше. И действие только-только разворачивается. И оно так и не успеет развернуться, и ты никогда уже не узнаешь, что же хотел сделать старик Черняев со своими героями, и никто уже не допишет этот роман, потому что не сможет увидеть мир таким, каким его видел Черняев. Я отложил том и не стал перечитывать ни критических статей, ни комментариев к роману одного известного специалиста по творчеству Черняева. Специалист делал предположения, каким бы был роман, если бы писатель имел возможность его закончить. Я знал, что Черняев писал роман до самого последнего дня, и знал даже, что на полях одной из последних страниц было приписано: «Сжег последний стул. Слабость». Больше Черняев не позволил себе ни одного лишнего слова. Он продолжал писать. И писал еще три дня. И умер. А рукопись нашли потом, недели через две, когда пришли с Ленинградского радио, чтобы узнать, что с ним.
Как видите, мысли у меня в тот вечер были довольно печальные, и герои книги никак не хотели уходить из комнаты. Они силились мне что-то сказать… И тут раздался звон.
Стены в нашем доме очень толстые. Наверно, конструктор конца семнадцатого века сделал запас прочности процентов в восемьсот. Даже перегородки между комнатами кирпича в три. Так что, когда соседи играют на пианино, я практически ничего не слышу. Поэтому я не сомневался, что звон раздался именно у меня в комнате. Странный такой звон, будто кто-то уронил серебряную вазу.
Я протянул руку и зажег свет. Герои книги исчезли. Тишина. Что бы такое могло у меня упасть? Я полежал немного, потом меня потянуло в сон, и я выключил свет. И почти немедленно рядом что-то громыхнуло. Коротко и внушительно.
Мне стало не по себе. Я человек абсолютно несуеверный, но кто мог бы кидаться всякими предметами в моей комнате?
На этот раз я зажег свет и поднялся с кровати. Я обошел всю комнату и даже заглянул в альков. И ничего не нашел. А когда я повернулся спиной к алькову, оттуда снова послышался звон. Я подпрыгнул и повернулся на сто восемьдесят градусов. И опять же ровным счетом ничего не обнаружил.
Позвякивание уже не прекращалось. Через каждые десять секунд раздавалось – дзинь. Потом пауза. Я отсчитывал – раз-и, два-и… После десятой секунды снова – дзинь.
Я, честно говоря, чуть с ума не сошел от беспокойства. У тебя в комнате кто-то звенит, а ты не можешь догадаться, что же случилось. Я начал систематическое исследование комнаты. Я ждал, пока раздастся звон, и потом делал шаг в том направлении, откуда слышался звук. Я уже догадался, что он доносится со стороны гладкого куска стены между альковом и дверью. После четвертого шага я подошел к самой стене и приложил ухо к ней. «Раз-и…» – считал я. На десятой секунде прямо рядом с ухом раздался четкий звон.
Так, решил я, будем думать, чем объясняется этот феномен. Стена выходит другой своей стороной в коридор, в глубокую выемку, в которой раньше стояли два велосипеда, а когда велосипеды уехали в Химки-Ховрино, то бабушка Каплан поставила туда шкаф под красное дерево. В этом шкафу, по общему согласию, мы всей квартирой хранили барахло, которое надо бы выбросить, но пока жалко.
Ясно. Надо выйти в коридор и посмотреть, что происходит в шкафу. Я и не ожидал ничего там увидеть – стена ведь толстая, а звон раздается у самого уха. Но все-таки надел тапочки и выглянул наружу. Все спали. Коридор был темен, я зажег лампочку и при свете ее убедился, что в коридоре никого нет. Я подошел к шкафу, приоткрыл его. Мне пришлось придержать детскую ванночку, полную довоенных журналов, которая сразу решила вывалиться наружу. Другой рукой я подхватил пустую золоченую раму и навалился животом на остальные вещи. В такой позе я стоял, наверное, минуты полторы. Наконец мне показалось, что я слышу отдаленный звон. Может быть, только показалось – уж очень сильно я прислушивался. В любом случае – звуки доносились не из шкафа. Я закрыл шкаф и вернулся в комнату. И только вошел, как тут же услышал – дзинь…
Наверное, целый час я прикладывал ухо к разным точкам стены, пока не убедился совершенно точно, что звук рождается за серым пятном на обоях на уровне моей груди, в восьмидесяти сантиметрах от угла алькова. Теоретическая часть моего истолкования окончилась. Теперь пора было переходить к эксперименту.
Мне уже совершенно расхотелось спать. Я подвинул к стене стул и принялся думать, отрывать мне обои или воздержаться. И не знаю, к какому бы я пришел решению, если бы не сильный удар, почти грохот, сменивший равномерное позвякивание. И тут наступила тишина.
Нож я взял на кухне. Со стола бабушки Каплан. Нож был длинный, хорошо заточенный (моя работа) и с острым концом. То, что нужно. Еще я взял молоток. Простукать стену. Странно, что я не догадался сделать этого раньше, но меня можно понять – не каждый день в вашей стене заводятся привидения. Я стучал по стене не очень громко. Все-таки соседи спят. В стене простукивался четырехугольник, семьдесят на семьдесят, за которым явно находилась пустота. Теперь сомнений не оставалось. Я взялся за нож и вырезал кусок обоев в центре этого квадрата. Обои отделились с легким треском, обнаружив под собой обрывки газеты и клочок голубой стены. Я вдруг вспомнил, что такой стена была во время войны, и даже вспомнил, какая у нас тогда стояла мебель, и вспомнил, что у нас было затемнение – черное бумажное полотно с мелкими дырочками – как звездное небо. И я его называл не затемнением, а просвещением, и мама всегда смеялась.
У самого уха снова что-то звякнуло. Я постучал острым концом молотка по синей краске и отвалил кусок штукатурки. Потом подумал, что надо бы подстелить газету на пол, но не стал этого делать – все равно уже насорил.
Из-за штукатурки выглянул розовый кирпич и желтоватая полоска раствора вокруг. Кирпич сидел крепко, и я провозился с ним минут десять, пока он не зашатался и не покинул привычное место.
За кирпичом была черная дыра. Я зажег спичку и посветил внутрь. Спичка осветила кирпич на противоположной стороне тайника и что-то блестящее внизу. Я осторожно запустил руку туда и с трудом дотянулся до дна ниши. Пальцы захватили металл. Кружочки металла. Я вытянул их на свет. Это были старинные серебряные монеты.
Они были теплыми.
Вот это да! Клад. В собственной комнате найти клад! Удивительно. А впрочем, разве мало кладов бывает в стенах старых домов? Правда, когда об этом читаешь в газете или в книге – одно, но когда это случается с тобой…
Я снова запустил руку внутрь и достал еще пригоршню. Что-то более крупное лежало там же, но, чтобы достать «это», надо было расширить отверстие. Я рассмотрел монеты получше, они были очень старыми и нерусскими. На них были изображены какие-то древние цари, и на физиономиях царей стояли глубокие клейма с неразборчивым рисунком. Что-то вроде всадника с копьем. Я весь перемазался и чудом не разбудил весь дом, пока вынимал еще ряд кирпичей. Теперь я мог засунуть в нишу голову.
Но делать этого я не стал. Я взял со стола лампу и поставил ее на пододвинутый стул. Второй стул поставил рядом. Теперь у меня были все возможности для изучения дыры на самом высоком научном уровне. Я отряхнул с себя известку, подложил под лампу стопку книг повыше, чтобы свет падал в нишу, и тогда заглянул внутрь.
И вот что я увидел.
Ниша с кладом представляла собой правильный кубик, вытесанный в стене. Задняя стенка ниши была гладкой и новенькой, будто кирпичи уложили в нее только вчера, и для крепости она была армирована железными полосами. Боковых стенок я сразу не разглядел, потому что глаза предали меня – вместо того чтобы систематически изучать открывшуюся передо мной картину, они уставились в дно ниши, заваленное монетами. Кроме того, на дне лежали чаша из какого-то драгметалла и, как ни странно, железная рука. Наверно, от доспехов.
Я достал руку. Рука была тяжелой, пальцы ее были чуть согнуты, чтобы лучше держать меч или копье, она доставала до середины запястья, как дамская перчатка, и еще на ней были ремешки, чтобы лучше крепить к руке. Я осторожно положил руку на стул и потянулся за чашей, и тут случилась совсем удивительная вещь.
Сверху на мою руку упала еще одна монета. Теплая серебряная монета. Как будто она отклеилась от потолка ниши. Монета скатилась по моей кисти, свалилась на кучку других монет и звякнула очень знакомо: дзинь…
Я даже замер. Обомлел. Ведь совсем забыл, что полез в стенку именно потому, что в ней что-то звякнуло. А как увидел монеты, решил, что это старый клад.
Я посветил лампой на потолок ниши. Потолок был черный, блестящий, без единого отверстия и прохладный на ощупь. Никакая монета приклеиться к нему не могла.
Я подождал, не случится ли что-нибудь еще, но, так как ничего не случилось, выгреб наружу сокровища, разложил их на стуле. И заснул, сидя на стуле, раздумывая, то ли пойти с утра в музей, то ли узнать сначала, не пустяки ли я нашел. Еще будут смеяться.
К утру, сам уже не знаю как, я перебрался на кровать и проснулся от звонка будильника. С минуту я пытался сообразить, что же такое удивительное произошло ночью, и только когда увидел в стене черную дыру, а на полу груду известки, обрывки обоев и обломанные кирпичи, понял, что все это был не сон… Я в самом деле обнаружил клад в своей стене, и притом клад очень странного свойства. Но в чем была его странность, я вспомнить не успел, потому что в дверь постучала бабушка Каплан и спросила, не брал ли я ее нож.
А потом началась обычная утренняя спешка, потому что в ванной был дедушка Каплан, и я вспомнил, что с утра совещание у главного технолога и мне обязательно надо быть там, и кончилось русское масло, и пришлось стрельнуть у Лины Григорьевны. Правда, когда я убегал, то успел задвинуть дыру книжной полкой и сунуть в карман пару монет, а в чемоданчик – железную руку.
На заседании я совсем было забыл о находке, но, как только совещание кончилось, подошел к Митину. Он собирает монеты. Я показал ему одну из моих монет и спросил его, какой это страны.
Митин отложил в сторону портфель, погладил лысину и сказал, что монета чепуха. И спросил, где я ее достал. Наверное, у бабушки и, может, отдам ему? Но надо знать Митина, Митин ведь коллекционер и, хотя всегда жалуется, что его кто-то там обманул, сам любого обманет. Уже по тому, как он эту монету держал в руках и крутил, видно было, что монета непростая.
– Это не важно, откуда я ее достал, – сказал я. – Мне она самому нужна.
– Кстати, ты просил меня достать однотомник Булгакова, – сказал Митин. – У меня, правда, второго нет, но хочешь, я тебе за нее свой экземпляр отдам? Почти новый…
– Ну и ну, – сказал я. – Его же у тебя ни за какие деньги не выманишь.
– Просто, понимаешь… – Потом он, видно, понял, что я его раскусил, и сказал: – Нет у меня этой монеты в коллекции. А нужна, хоть она и подделка.
– Почему же подделка? – спросил я.
– Ну, новодел. Видишь, какая новенькая. Как будто вчера из-под пресса.
– Ага, – сказал я. – Только вчера. Сам их делаю. А как она называется?
Митин с сожалением расстался с монетой и сказал:
– Ефимок. Русский ефимок.
– А почему на ней физиономия нерусская?
– Долго объяснять. Ну, в общем, когда у нас еще не было достаточного количества своих рублей, мы брали иностранные, европейские талеры, это еще до Петра Первого было, и ставили на них русское клеймо. Назывались они ефимками. А теперь скажи, где достал?
– Потом, Юра, – ответил я ему. – Потом. Может, и тебе достанется. Значит, говоришь, до Петра Первого?
– Да.
Я подумал, что если буду в музей сдавать, то одну монету оставлю для Митина. В конце концов, Булгакова он мне своего хочет отдать.
В лаборатории я как бы невзначай достал железную руку. Шутки ради. И сказал ребятам, когда они сбежались:
– Давно нужна была. А то у меня слишком мягкий характер. Теперь будет у меня железная рука. Так что, сослуживцы и сослуживицы, держитесь.
Девчата засмеялись, а Тартаковский спросил:
– Ты и целого рыцаря принести можешь?
– Рыцаря? Хоть завтра.
Но на самом деле в тот день работа у меня валилась из рук. Наконец я не выдержал, подошел к Узянову и попросил его отпустить меня домой после обеда. Сказал, что потом отработаю, что очень нужно. И он, видно, понял, что в самом деле нужно, потому что сказал: иди, чего уж.
Я открыл входную дверь ключом, звонить не стал и быстро прошел к себе в комнату. Запер за собой дверь – зачем пугать бабушку Каплан, если она нечаянно зайдет ко мне? Потом отодвинул полку с книгами и заглянул в свой тайник. Тайник был на месте. Значит, не приснилось. А то, знаете, хоть и железная рука в портфеле, все равно иногда перестаешь сам себе верить – какое-то раздвоение личности наступает. В нише было темно. Свет из окна почти не падал в нее. Я включил лампу и сунул ее внутрь. И тут я удивился, как давно не удивлялся. В нише лежали разные вещи, которых утром не было. Там были (я их вынимал и потому помню по порядку): кинжал в ножнах, два свитка с красными висячими печатями, кандалы, шлем, чернильница (а может, солонка), украшения всякие и два сафьяновых сапога. Теперь это уже не было похоже на клад. Это было сплошное безобразие. Чья-то наглая шутка.
Постойте, а почему шутка? Кто так будет шутить? Бабушка Каплан? Но ведь ночью она спит, и к тому же у нее с возрастом атрофировалось чувство юмора. Еще кто из соседей? А может, я сошел с ума? Тогда и Митин сошел с ума, а он человек трезвый.
Я взял в руки сапог. Он еще пах свежей кожей и податливо гнулся в руках. Я примерил шлем. Шлем с трудом налез мне на голову. Он был тяжелый и настоящий, не жестяная подделка для «Мосфильма». Так я и сидел в шлеме, с сапогом в руках. И ждал у моря погоды. Я перебирал в памяти все события ночи. Звон и удары в стене, теплые монеты, железная рука. Потом вспомнил, как монета свалилась с потолка ниши мне на руку. Я размышлял и ничего не мог придумать.
Потом в полной растерянности я сунул внутрь руку и ощупал потолок ниши. Он был скользким, как зеркало, отражающее сплошную ночь.
Я вынул еще несколько кирпичей, чтобы удобнее было работать, и через час ниша полностью лишилась передней стенки. Я мог разглядеть нишу во всех подробностях. Железные полосы на задней стенке оказались не железными, а из того же черного зеркального сплава, что и потолок, а одна из боковых стенок была поделена белыми полосками на квадраты. По низу ее шли какие-то линии, и между ними были тонкие щели. Этими щелями я и решил вплотную заняться. Я сунул голову в нишу, чтобы удобнее было работать, и в тот же момент меня ударили по голове, да так сильно, что я чуть не получил сотрясение мозга. Я рванул голову наружу. Больно стукнув меня по кончику носа, на пол ниши упал старинный пистолет с чуть загнутой ручкой. Я посмотрел вверх. Потолок был все так же гладок и черен. Чертовщина. Нужно было тебе жить двадцать шесть лет при советской власти, чтобы на собственном опыте убедиться, что потусторонние силы все-таки есть?
«Ну а если их все-таки нет? – вдруг подумал я, крутя в руке пистолет. – Если вся эта чертовщина имеет какое-то объяснение? Тогда какое?
На что это все похоже? – думал я, глядя в черную пасть ниши. – Что это напоминает из знакомых мне вещей?» Понимаете, я решил искать ответ этой задачи по аналогии.
Я думал минут двадцать. И вдруг мне пришла в голову аналогия. Эта штука напоминает мне почтовый ящик. Да, самый обыкновенный почтовый ящик. В него через щель кидают письма и бандероли. Так. Пойдем дальше. Если это был бы особенный почтовый ящик, то, значит, в нем должно быть отверстие для получателя. Тут и таилась загвоздка. Получателя не было. Ведь, пока я не сломал стенку, ящик не имел выхода. Все, что в него попадало, оставалось в нем лежать.
Посмотрим на эту проблему с другой стороны. Кто и что в этот почтовый ящик опускает? Кто – пока неизвестно. Но что – я уже знаю. Всякие русские вещи допетровской эпохи. Откуда их берут? Из музея? Воруют? Малоправдоподобно.
И третье. До вчерашней ночи в почтовый ящик никто ничего не клал. Сегодня положил. Если бы это случилось раньше – за последние двадцать лет, – то я бы услышал какой-нибудь звон. Или мама услышала бы. У нее хороший слух. Значит, ящик начал действовать только вчера. А может быть…
И тут мне пришла в голову совершенно сумасшедшая идея, которую можно объяснить только тем, что я попал в совершенно сумасшедшую ситуацию.
Значит, у меня есть почтовый ящик, из которого нет выхода, в него кладут вещи очень давно прошедших лет. И до сегодняшнего дня не клали.
А что, если сегодня отверстия этого нет, а тогда оно было? Понимаете меня? Тогда, когда клали эти вещи. Триста лет назад. Когда этот дом был новеньким. И что, если это отверстие есть, тогда когда эти вещи положено вынимать? В будущем. Через сто лет. Или через двести лет. Когда будут жить те люди, которые смогут ездить на несколько сот лет в прошлое.
Если эта сумасшедшая идея имеет смысл, то становится понятно, почему вещи стали появляться только вчера. Не потому, что ящик заработал вчера, а потому, что вчера он сломался. Ну да, сломался. На линии «прошлое – будущее» полетел какой-то транзистор. И получилась дыра. А может, пробило изоляцию – мало ли что может случиться. И вот ко мне в комнату, в мое время, начали падать вещи, раздобытые археологами будущего в далеком прошлом.
Идея мне понравилась. Но какова моя роль во всей этой истории? Вызвать электрика, чтобы посмотреть нишу? А потом меня отправят в сумасшедший дом? Воспользоваться плодами поломки и собирать жатву с чужой работы? Выменять у Митина всю его библиотеку? Тоже какая-то чепуха получается.
Я поставил горящую лампу в нишу и протер носовым платком боковую стенку. Потом ощупал ее пальцами и вставил в узкую щель внизу кончик ножа бабушки Каплан, который я снова унес из кухни. Я действовал осторожно, потому что боялся сломать машину насовсем. И бывает же такое везение – вдруг эта стена поддалась и открылась. За ней оказался пульт, и все стало совершенно ясно. Я был прав.
Центр пульта занимала временная шкала. Вдоль нее шли светящиеся точки. Одна из них, возле года 1667-го, горела ярче других, и именно возле нее стояла стрелка. Кончалась шкала 2056 годом.
Внизу шло густое переплетение проводов и проводников и ряд кнопок неизвестного мне пока назначения. Вдруг точка у года 1667-го загорелась ярче, и в тот же момент я почувствовал над головой гудение. На этот раз я понял, что все это может значить, и отдернул голову. Небольшая книга в кожаном переплете с застежками глухо стукнулась о пол ниши. Я успел заметить, что в тот момент, когда она упала, в потолке появилось отверстие точно в размер книги. Все ясно. Я угадал. Красным светом вспыхнула на мгновение точка 1967 года. Конечная станция не загорелась. Ну что ж, очевидно, пока не заметили поломки и продолжают работать впустую. Как же дать им понять? Может, они так и не видят помаргивания в 67-м? А пока я взял отвертку и стал проверять контакты. Это заняло у меня еще часа два. Я действовал почти наугад. В схеме я так толком и не разобрался, хоть с детства числюсь в радиолюбителях. Я копался и размышлял о том, что интересно бы побывать в будущем и узнать, как там живут люди, и удастся ли мне сделать что-нибудь толковое в жизни, и отчего я умру. И еще я думал, что неплохо бы побывать и в прошлом. И зайти, например, к писателю Александру Черняеву и узнать, как же он собирался окончить свой роман.
И тут я обнаружил поломку. Вы имеете полное право мне не верить. Куда уж мне. Но я замотал разрыв фольгой – паяльника у меня не было – и решил посмотреть, что будет дальше. Я был страшно горд, что нашел все-таки этот чертов контакт. И тут загорелась снова лампочка 1667 года, и снова раздалось над головой слабое гудение. Но я ничего не увидел, и ничего не упало сверху, только загорелась вторая лампочка, уже не в моем году, а прямо в 2056-м. Все правильно. Они получили свою посылку. Я могу спать спокойно.
Я откинулся на стуле и понял, что жутко устал и что уже темно. И что я сам не очень верю в то, что произошло. И не знаю, как отправить по назначению скопившееся у меня барахло.
В дверь постучали.
– Кто там? – спросил я.
– К тебе, – сказала бабушка Каплан. – Ты что, звонка не слышишь? Я должна за тебя открывать? Ты снова мой нож взял?
Я подошел к двери и сказал:
– Нож я отдам позже. Не сердитесь.
Она добрая старуха. Только любит поворчать. Это возрастное.
За дверью стоял человек лет сорока в синем комбинезоне, с чемоданчиком в руках.
– Вы ко мне? – спросил я.
– Да. Я к вам. Разрешите войти?
– Входите, – сказал я и тут вспомнил, что войти ко мне нельзя. – Одну минуту, – сказал я, захлопнул дверь перед его носом и срочно задвинул на место полку с книгами. – Извините, – сказал я, впуская его, – у меня ремонт и немного беспорядок.
– Ничего, – ответил он, закрывая за собой дверь.
И тут он увидел кирпичи на полу. Посмотрел на них, потом на меня. И сказал:
– Я представитель исторического музея. Мы получили сведения, что вами найден клад большой ценности, и мы хотели бы ознакомиться с ним.
Что-то в речи этого человека, в манере держать чемодан и в чем-то еще, неуловимом для других, но понятном мне, проникшему в тайны времени, подсказало единственное правильное решение: не из музея он.
– Я все уже починил, – сказал я.
– Что вы починили?
– Ваш почтовый ящик.
Я отодвинул полку и подвел его к нише. Я показал ему контакт и сказал:
– Вот только паяльника у меня не было, пришлось фольгой замотать.
Тут загорелась лампочка в 1667 году, и он понял, что я все знаю.
Почтальон-механик из 2056 года запаял контакт, переправил в будущее вещи, и потом мы с ним заделали дыру в стене так, что даже мне не догадаться, где она была. И он очень благодарил меня и немного удивлялся моей сообразительности, но когда я его спросил, что будет через сто лет, он отвечать отказался и сказал, что я сам должен понимать – сведения такого рода он разглашать не может.
Потом он спросил, чего бы я хотел. Я сказал, что спасибо, ничего.
– Так, значит, никаких просьб? – спросил он, берясь за ручку чемоданчика.
И тут я понял, что у меня есть одна просьба.
– Скажите, ваши люди бывают в разных годах?
– Да.
– И двадцать лет назад?
– И тогда. Только, разумеется, со всеми предосторожностями.
– А во время войны и блокады кто-нибудь был в Ленинграде?
– Конечно.
– Вот что, выполните такую просьбу. Мне надо передать туда посылку.
– Но это невозможно.
– Вы сказали, что выполните мою просьбу.
– Что за посылка?
– Одну минутку, – сказал я и бросился в кухню. Там я взял две банки сгущенного молока, и полкило каплановского масла из холодильника, и еще пакет сахара – килограмма в два весом. Я сунул все это в большой пластиковый мешок Лины Григорьевны и вернулся в комнату. Мой гость из будущего подметал пол.
– Вот, – сказал я. – Это вы должны будете зимой сорок второго года, в январе месяце передать писателю Черняеву, Александру Черняеву. Ваши его знают. И адрес его сможете найти. Он умер от голода в конце января. А ему надо продержаться еще недели две. Через две недели к нему придут с радио. И не смейте отказываться. Черняев писал роман до последнего дня…
– Да поймите же, – сказал гость, – это невозможно. Если Черняев останется жив, это может изменить ход истории.
– Не изменит! – сказал я убежденно. – Если бы вы так боялись прошлого, то не брали бы вещей из семнадцатого века.
Гость улыбнулся.
– Я не решаю таких вопросов, – сказал он. – Давайте, я возьму вашу посылку. Только сорвите наклейки с банок. Таких не было в Ленинграде. Я поговорю в нашем времени. Еще раз очень вам благодарен. Спасибо. Может быть, увидимся.
И он ушел, как будто его не было. У меня даже появился соблазн снова сорвать обои и заглянуть в нишу. Но я знал, что этого никогда не сделаю. И он тоже понимал это, а то бы не рассказывал мне так много.
На следующий день я обнаружил у себя в кармане две забытые монеты. Я подарил одну Митину, а другую оставил себе на память, Митин принес мне, как и обещал, однотомник Булгакова, а потом сказал:
– Знаешь, я нашел дома том «Литературного наследника». Там есть воспоминания о Черняеве. Тебе интересно?
Я сказал, что, конечно, интересно. Я уже понимал, что они меня не послушались и не передали старику моей посылки.
Да и, конечно, чепуху же я порол. Ведь большим тиражом отпечатана биография писателя, и там черным по белому сказано, что он умер именно в сорок втором году. Я даже посмеялся над собой. Тоже мне теоретик!
Вечером я прочитал статью о Черняеве. Она рассказала о том, как он жил в Ленинграде в блокаду, как работал и даже ездил в самую стужу, под обстрелом, на фронт выступать перед бойцами. И вдруг в конце статьи я читаю следующее, хотите верьте, хотите нет:
«Зимой, кажется, в январе, я зашел к Черняеву. Александр Григорьевич был очень слаб и с трудом ходил. Мы с ним говорили о положении на фронте, об общих знакомых (некоторых из них уже не было в живых), он рассказывал мне о планах на будущее, о том, что пишет новый роман и, если бы не слабость, закончил бы его к весне. Я не спрашивал, почему мой друг отказался эвакуироваться, несмотря на почтенный возраст и слабое здоровье. Александр Григорьевич только пожал бы плечами и перевел бы разговор на другую тему. Было холодно. Мы подкладывали в «буржуйку» обломки стула. Вдруг Черняев сказал:
– Со мной случилась странная история. На днях получил посылку.
– Какую? – спрашиваю. – Ведь блокада.
– Неизвестно от кого. Там было сгущенное молоко, сахар.
– Это вам очень нужно, – говорю.
А он отвечает:
– А детям не нужно? Я-то старик, а ты бы посмотрел на малышей в соседней квартире. Им еще жить и жить.
– И вы им отдали посылку?
– А как бы вы на моем месте поступили, молодой человек? – спросил Черняев, и мне стало стыдно, что я мог задать такой вопрос.
Это, как ни печально сегодня сознавать, была моя последняя встреча с писателем».
Я раз пять перечитал эти строки. Я сам должен был догадаться, что, если старик получит такую посылку, он не будет сосать сгущенное молоко в уголке. Не такой старик…
Но что странно: этот том литературного наследства вышел в шестьдесят первом году – семь лет назад.
Поделись со мной…
Мне хочется туда вернуться. Но я никогда не смогу этого сделать. И наверное, мне придется до конца дней своих мучиться завистью…
Но тогда я ни о чем не подозревал. Щелкнули и зажужжали двери лифта. Я сошел по пологому пандусу на разноцветные плитки космодрома и остановился, мысленно выбирая из толпы встречающих того, кто предназначен мне в спутники, – о моем приезде были загодя предупреждены.
Человек, подошедший ко мне, был высок и поджар. У него были длинные, зеленоватые от постоянной возни с герселием пальцы, и уже по этому, раньше, чем он открыл рот, я догадался – коллега.
– Как долетели? – спросил он, когда машина выехала из ворот космодрома.
– Спасибо, – ответил я. – Хорошо. Нормально долетел.
В моих словах скрывалась вежливая неправда, потому что летел я долго, часами ждал пересадок в неуютных, пахнущих металлом и разогретым пластиком грузовых портах, почти терял сознание от перегрузок, казавшихся вполне безобидными другим пассажирам в этой части Галактики.
Встречавший ничего не ответил. Только чуть поморщился, словно страдал от застарелой зубной боли и прислушивался к ней, к очередному уколу, неизбежному и заранее опостылевшему. Прошло еще минуты три, прежде чем он вновь заговорил.
– Вам, наверное, трудно было лететь на нашем корабле? Вы не привыкли к таким перегрузкам.
– Да, – согласился я.
– Голова болит? – спросил он.
Я не ответил, потому что увидел, что его настиг новый укол боли.
– Голова болит? – спросил он снова. И добавил, словно извинялся: – К сожалению, ваши корабли сюда прилетают редко.
Только теперь, отъехав несколько километров от космодрома, мы очутились в новой стране. До этого был планетный вокзал, а они одинаковы во всей Галактике. Они безлики, как безлики все вокзалы, уезжают ли с них поезда, улетают ли самолеты, стартуют ли космические диски.
И чем дальше мы отъезжали, тем особенней, неповторимей становился весь мир вокруг, потому что здесь, вне большого города, легко воспринимающего моды Галактики, все развивалось своими путями и лишь деталью, мелочью могло напоминать виденное раньше. Но, как всегда, именно мелочи скорее останавливали взгляд.
Было интересно. Я даже забыл о боли в голове и дурноте, преследовавшей меня после посадки. Я чувствовал себя бодрее, и воздух, влетавший в открытое окно машины, был свеж, пахнул травой и домашним теплом.
На окраине города, среди невысоких зданий, окруженных садами, мой спутник снизил скорость.
– Вам лучше, надеюсь? – спросил он.
– Спасибо, значительно лучше. Мне нравится здесь. Одно дело читать, видеть изображения, другое – ощутить цвет, запах и расстояние.
– Разумеется, – согласился мой спутник. – Вы остановитесь пока у меня. Это удобнее, чем в гостинице.
– Зачем же? – сказал я. – Я не хочу вас стеснять.
– Вы меня не стесните.
Машина свернула в аллею, огибавшую крутой холм, и вскоре мы подъехали к спрятавшемуся в саду двухэтажному дому.
– Подождите меня здесь, – сказал мой спутник. – Я скоро вернусь.
Я ждал его, разглядывая цветы и деревья. Я чувствовал себя неловко оттого, что вторгся в чужую жизнь, не нуждавшуюся в моем присутствии.
Окно на втором этаже распахнулось, худенькая девушка выглянула оттуда, посмотрела на меня быстро и внимательно и согласно кивнула головой, не мне, а кому-то стоявшему у нее за спиной. И тут же отошла от окна.
И мне вдруг стало легко и просто. Что-то в лице девушки, в движении рук, распахнувших окно, во взгляде, мимолетно коснувшемся меня, отодвинуло в глубину сознания, стерло превратности пути, разочарование, вызванное сухой встречей, неизвестно чем чреватую необходимость прожить здесь два или три месяца, прежде чем можно будет отправиться в обратный путь.
Я был уверен, что девушка спустится ко мне, и ожидание было недолгим. Она возникла вдруг в сплетении ветвей, и растения расступились, давая ей дорогу.
– Вам скучно одному? – спросила она, улыбаясь.
– Нет, – сказал я. – Мне некуда спешить. У вас чудесный сад.
Девушка была легко одета, жесты ее были угловаты и резки.
– Меня зовут Линой, – сказала она. – Я покажу вам, где вы будете жить. Отец очень занят. Больна бабушка.
– Простите, – извинился я. – Ваш отец ничего не говорил мне об этом. Я поеду в гостиницу…
– И не думайте, – возразила Лина. Ее глаза были странного цвета – цвета старого серебра. – В гостинице будет хуже. Там некому за вами присмотреть. А нас вы никак не стесните. Отец поручил мне о вас заботиться. А сам остался с бабушкой.
Наверное, я должен был настоять на переезде в гостиницу. Но я был бессилен. Мной овладела необоримая уверенность, что я очень давно знаком с Линой, с этим домом-садом, что принадлежу этому дому, и все во мне воспротивилось возможности покинуть его и остаться одному в безликом равнодушии гостиницы.
– Вот и отлично, – сказала Лина. – Дайте мне руку. Пойдем в дом.
Лина показала комнату, в которой мне предстояло жить, помогла разобрать вещи, провела в бассейн с теплой, бурлящей колючими пузырьками водой. Бассейн был затенен почти сомкнувшимися над ним ветвями деревьев.
Потом она увела меня на плоскую крышу дома, где расположился ее шумный зоопарк – полосатые говорящие кузнечики, шестикрылые птицы, синие рыбки, дремлющие в цветах, и самая обычная для меня, но крайне ценимая здесь земная кошка. Кошка не обратила на меня никакого внимания, и Лина сказала:
– А я была уверена, что она обрадуется. Даже обидно.
Лина оставалась со мной до самого вечера, и я мало кого видел, кроме нее. Иногда Лина просила прощения и убегала. Я говорил: «У вас же, наверное, много дел. Не обращайте на меня внимания». Но как только я оставался один, возвращалось тягостное ощущение одиночества, физического неудобства и тоски. Я подходил к полкам с книгами, вытаскивал какую-нибудь из них и тут же ставил на место, выходил в сад и возвращался снова в дом и все время прислушивался к звуку ее шагов. Лина прибегала, касалась меня кончиками пальцев и спрашивала:
– Вы не соскучились?
И я отвечал:
– Немного соскучился.
Раз я решился и даже рассказал ей о том, как меня излечивает от недомоганий и дурных мыслей ее присутствие. Лина улыбнулась и ответила, что к ужину вернется ее брат, привезет лекарства, которые излечат меня от последствий перелета.
– К утру вы будете как новенький. Все исчезнет.
– А вы?
– Я?
– Вы не исчезнете? Как добрая волшебница?
– Нет, – сказала Лина уверенно. – Я буду завтра.
За ужином вся семья, кроме больной бабушки, собралась за длинным столом. Неожиданно для меня обнаружилось, что в доме, который казался совершенно пустым, живет не меньше десяти человек. Хозяин дома, усталый и бледный, сидел рядом со мной и следил за тем, чтобы я выпил все лекарства, привезенные его сыном, студентом-медиком. Лекарства, как им и положено, оказались неприятными на вкус, но я был послушен и никому не сказал, что единственным настоящим и безотказным лекарством считаю Лину. Лина сочувствовала мне и даже морщилась, если в ходе лечения мне попадалась особенно отвратительная таблетка.
Хозяин дома сказал, что его матери лучше. Она уснула. Несмотря на усталость и бледность, он был разговорчив, смешлив и являл собой контраст тому угрюмому человеку, который встретил меня на космодроме. Тогда он был обеспокоен состоянием матери, теперь же…
– Она проснулась, – сказал вдруг хозяин.
Я невольно прислушался. Ни кашля, ни вздоха – в доме абсолютная тишина.
– Я поднимусь к ней, – сказал его сын. – Ты устал, отец.
– Что ты, – возразил хозяин. – У тебя завтра занятия.
– А разве ты свободен?
– Мы пойдем вместе, – сказал отец. – Извините.
Лина проводила меня до комнаты и сказала:
– Надеюсь, вы уснете.
– Обязательно, – согласился я. – Особенно если среди лекарств было и снотворное.
– Разумеется, было, – подтвердила Лина. – Спокойной ночи.
Я и в самом деле быстро заснул.
На следующий день я встал совершенно здоровым. Я поспешил в сад, надеясь встретить Лину. Она меня ждала там, у бассейна. Я хотел было рассказать ей, как хорошо я спал, как я рад этому душистому утру и встрече с ней, но Лина мне и рта не дала раскрыть.
– Ну и отлично, – сказала она, словно прочла мои мысли. – Бабушке тоже лучше. Сейчас отец отвезет вас в институт. А вечером я буду ждать. И вы расскажете, как работаете, что интересного увидели.
– Вы и сами догадаетесь.
– Почему?
– Вы можете читать мысли.
– Неправда.
– Я не могу ошибиться. Вы ведь не стали дожидаться, пока я сам скажу, как я себя чувствую. Вчера ваш отец поднялся из-за стола, потому что проснулась бабушка. А в доме было тихо. Он ничего не мог услышать.
– Все равно неправда, – настаивала Лина. – Зачем читать чужие мысли? И ваши в том числе.
– Незачем, – согласился я. И мне было чуть грустно, что Лине дела нет до моих столь лестных для нее мыслей.
– Доброе утро, – поздоровался отец Лины, спускаясь в сад. – Вы сегодня совсем здоровы. Я рад.
– Все-таки я прав, – сказал я тихо Лине, прежде чем последовать за ее отцом.
– Зачем читать мысли? – повторила она. – У вас все на лице написано.
– Все?
– Даже слишком много.
Прошло несколько дней. Днем я работал, а вечером бродил по городу, выбирался в поля, в лес, к берегу большого соленого озера, в котором водились панцирные рыбы. Иногда я был один, иногда с Линой. Я привык к моим хозяевам, познакомился еще с двумя или тремя инженерами. Но при всей обычности моего существования меня ни на минуту не оставляло ощущение действительной необычности окружающих людей. Я почти уверился в их способности к телепатии.
Порой я чувствовал себя неловко с Линой, потому что ловил себя на какой-нибудь мысли, которой не хотел бы делиться с ней. Мне казалось, что она слышит беззвучные слова и посмеивается надо мной.
Раз я шел по улице. Улица была зеленой и извилистой, как почти все улицы в том городе. Передо мной шли мальчишки. Они гнали мяч, а я шел сзади, смотрел и боролся с желанием догнать их и ударить по мячу.
Я не заметил торчащего из земли корня. Споткнулся, упал, ушибся коленом о камень, и боль была так неожиданна и резка, что я вскрикнул. Мальчишки остановились, будто мой крик ударил их. Мяч одиноко катился под откос, а они забыли о нем, обернулись ко мне. Я попытался улыбнуться и помахал им рукой – идите, мол, дальше, догоняйте свой мячик, пустяки, мне совсем не больно. А они стояли и смотрели.
Я приподнялся, но встать не смог. Видно, растянул сухожилие. Мальчишки подбежали ко мне. Один, постарше, спросил:
– Вам очень больно?
– Нет, не очень.
– Я сбегаю за врачом, – предложил другой.
– Беги, – кивнул старший. – Мы подождем здесь, пока ты вернешься.
– Да что вы, ребята, – сказал я. – Растянул сухожилие. С кем не бывает? Сейчас пройдет.
– Конечно, – подтвердил старший.
И, как будто послушавшись его, боль ослабла, спряталась.
Мальчишки смотрели на меня серьезно, молчали. Только самый маленький вдруг заплакал, и старший сказал ему:
– Беги домой.
Тот убежал.
Подошел врач. Он жил, оказывается, в соседнем доме. Осмотрел ногу, сделал укол, и мальчишки сразу исчезли, лишь стук мяча еще некоторое время напоминал о них.
Врач помог мне добраться до дома. Я отказывался, уверял его, что дойду и сам.
– Мне уже не больно. Больно было только в первый момент. Мальчики могли бы подтвердить.
– Вы гость у нас? – спросил врач.
– Да.
– Тогда понятно, – сказал он.
Дома, несмотря на ранний час, все были в сборе. Бабушке стало хуже. Настолько, что надо было срочно везти ее в больницу, оперировать.
Я подошел к Лине. Она была бледна, под глазами синяки, лоб морщился.
– Все обойдется, все будет хорошо, – сказал я.
Она не сразу расслышала. Оглянулась, будто не узнала.
– Все обойдется, – повторил я.
– Спасибо. Вы упали?
– Ничего страшного. Уже не больно.
– А бабушке очень больно.
– А почему ей не сделают укол? На меня он подействовал сразу.
– Нельзя. Уже ничего не помогает.
– Я хотел бы быть чем-нибудь полезен.
– Тогда уйдите. – Она произнесла это, явно не желая меня обидеть. Ровным, бесцветным голосом, будто попросила принести воды. – Отойдите подальше. Вы мешаете.
Я ушел в сад. Я был лишним. Я и в самом деле старался не обижаться. Ей ведь плохо. Им всем плохо.
Я видел, как они уехали. Я остался один в доме. Поднялся наверх, в зоопарк. Кошка узнала меня, подошла к сетке и потерлась о нее, выгибая хвост. Домашним кошкам не положено жить в клетках, но она была здесь экзотическим, редким зверем. Я тоже был редким зверем, который не понимал происходящего и не мог рассчитывать на понимание. А ведь мне казалось, что мы с этими людьми стали близки. Моя неполноценность обнаружилась в неподходящий момент, но в чем неполноценность? Я понимал, что надо поехать в больницу, – там я узнаю нечто важное. Никто не звал меня туда, и, вернее всего, мое присутствие будет нежелательным. И все-таки я не мог не поехать.
Меня никто не остановил у входа в больницу. Лишь девушка у серого пульта спросила, не помочь ли мне. Я назвал имя бабушки, и девушка проводила меня до лифта.
Я шел по длинному коридору, странному, совсем не больничному коридору. Вдоль стен его стояли кресла, вплотную друг к другу. В креслах сидели люди. Они были здоровы, совершенно здоровы. Они сидели и молчали, и им было больно.
У матовой двери в операционную я увидел моих друзей. И Лину, и ее отца, и братьев. Тут же, в соседних креслах, сидели наши общие знакомые – те, кто работал вместе с нами, жил рядом. Лина взглянула на меня. Зрачки ее скользнули по моему лицу. И в них была боль.
Я опустился в свободное кресло. Неловко было рассматривать людей, которым до меня нет дела. Я уже знал то, что казалось тайной час назад.
Ждать пришлось недолго. Неожиданно, словно невидимый колдун провел над ними ладонью, они ожили, просветлели, зашевелились. Кто-то сказал: «Дали наркоз». Они договорились, кто останется дежурить здесь, кто вернется после операции, когда наркоз перестанет действовать.
Лина подошла ко мне. Я встал.
– Извините, – сказала она. – Я очень виновата, но вы же понимаете…
– Понимаю. Как же я могу сердиться? Мне только грустно, что я чужой.
– Не надо. Вы ведь не виноваты.
– Знаете, когда я сегодня упал, ко мне подбежали ребята. И оставались рядом, пока не пришел доктор.
– А как же иначе?
К нам подошел ее отец.
– Спасибо, что вы пришли, – сказал он. – Захватите, пожалуйста, с собой Лину. Мы тут без нее справимся. Профессор уверил меня, что операция пройдет удачно.
– Я останусь, отец, – возразила Лина.
– Как знаешь.
– Поймите, – сказала Лина, когда отец отошел. – Очень трудно было бы объяснить все с самого начала. Для нас это так же естественно, как есть, пить, спать. Детей учат этому с первых дней жизни.
– Это всегда так было?
– Нет. Мы научились этому несколько поколений назад. Но потенциально это было всегда. Может, и в вас тоже, скрытое в глубине мозга. Даже странно думать, что другие миры лишены этого. Ведь в каждом разумном существе живет желание обладать такой способностью. Неужели нет?
– Да, – подтвердил я. – Если рядом с тобой человеку плохо. Особенно если плохо близкому человеку. Хочется разделить боль.
– И не только боль, – возразила Лина. – Радость тоже. А помнишь первый день? Когда ты прилетел? Ты себя гадко чувствовал. Отец мало чем мог тебе помочь – основной груз бабушкиной боли падает на него, он сын. Даже встречая тебя на космодроме, он должен был помогать бабушке. А это тем труднее, чем дальше ты от человека, которому помогаешь. А тебе показалось, что отец невежлив. Правда?
– Не совсем, но…
– А ведь ему пришлось еще взять на себя и твою дурноту. Ты гость. И у тебя болела голова.
– Жутко болела.
– Я просто удивляюсь, как отец доехал до дома. И он сразу сменил меня у бабушкиной постели. Я увидела тебя в окно, и ты мне понравился. Я оставалась с тобой весь день, и весь день из-за тебя у меня разламывалась голова.
– Прости, – сказал я. – Я же не знал.
Я подумал, что именно сейчас, в больнице, мы незаметно перешли на «ты». Наверное, следовало бы сделать это раньше.
– Прости, – повторил я.
– Но ведь так даже лучше. Представляю, как бы ты расстроился, узнав об этом.
– Я бы уехал.
– Я знаю. Хорошо, что ты не уехал. А теперь иди. Я вернусь утром. И постучу к тебе в дверь. Мы договорим.
Я вновь миновал длинный коридор больницы, где сидели родственники и друзья тех, кому плохо. Они пришли сюда, чтобы разделить боль других людей. И не было никакой телепатии. Просто люди знали, что нужны друг другу.
Я добрел до дому пешком. Чуть побаливала нога, но я старался не думать о боли. Иногда она возникала и пыталась овладеть мною. И тот из прохожих, кто оказывался ко мне ближе всех, оглядывался, смотрел на меня, и мне сразу становилось легче. Но я прибавлял шагу, чтобы не утруждать людей.
Мне встретились молодые женщины. Они несли по большой охапке цветов. Они смеялись, болтая о чем-то веселом. Женщины увидели мою постную физиономию и наградили меня своей радостью. Чужая радость обдала меня душистыми свежими брызгами. Старик, сидевший на лавочке, опершись о трость, подарил мне спокойствие. Так бывало со мной и раньше, но я не замечал связи между своими ощущениями и другими людьми.
Им и труднее, и легче жить, чем нам. Они могут дарить и принимать дары, вернее – должны. Ни один из них не может отгородиться от людей потому, что если мы видим человеческие слезы, то они чувствуют их. А ведь зрение куда менее совершенно.
В тот день я стал завистником. Я завидую им и даже порой чувствую к ним нечто вроде неприязни. Я всегда буду чужим для них, как нищий среди щедрых богачей. Я могу принимать дары, но не способен дарить сам.
Когда настал срок, я улетел на Землю. На космодром меня провожала только Лина. С остальными я простился в городе. Так было оговорено заранее.
– Я хотела бы улететь с тобой на Землю, – сказала Лина.
– Нет, – ответил я. – Ты же знаешь. На Земле тебе будет слишком трудно. Ты же не сможешь делить только мою радость и только мою боль.
– Не смогу, – согласилась Лина. – Ты прав. И это очень печально.
– А я не смогу жить с тобой, понимая, как ты одинока, и не в силах прийти к тебе на помощь, если моя помощь станет тебе нужна.
– Но, может, ты все-таки останешься с нами? Здесь? Со мной? – В голосе ее не было уверенности.
– Ты вспомни, – сказал я, – в тот день, когда твоей бабушке сделали операцию, я пришел к вам, но я был слепым между зрячими. Я не смогу остаться.
Это все уже было сказано и вчера, и позавчера. Мы лишь повторяли диалог, зная, чем он закончится, но мы не могли не повторить его, потому что оставалась нелепая надежда, будто можно найти какой-то компромисс, что-то придумать и тогда не будет нужды расставаться.
А когда я уже стоял у трапа, Лина подошла ко мне совсем близко, так что я видел черные точки в ее серебряных глазах, и сказала:
– Запомни, каково мне сейчас.
И к моей тоске прибавилась ее тоска, и стало темно, и я схватился за ее руку, чтобы не упасть. Но никто из проходивших мимо пассажиров не помог мне, не разделил со мной эту тоску, потому что в жизни есть моменты, когда надо удержаться от того, чтобы прийти на помощь.
Потом был путь, перегрузки и тряска. Пересадки в неуютных, пахнущих металлом и разогретым пластиком грузовых портах, безликие гостиницы и пресные завтраки у блестящих одинаковых стоек буфетов. Но я был совершенно здоров и чувствовал себя отлично.
Я знал почему – там, далеко, Лина сидит в своей комнате на втором этаже и сжимает ладонями голову – так больно и дурно ей. И я был сердит на нее, я старался убедить ее – забудь обо мне, глупая, милая, не отнимай у меня эту боль…
Мне так хочется вернуться туда, но я никогда не смогу этого сделать.
Освящение храма Ананда
Наша станция, столь обширная – трубы коридоров, шары лабораторий и топливных складов, сплетения тросов и гравитационных площадок, – наша станция кажется пассажиру подлетающего корабля лишь зеленой искоркой на экране локатора. А я ведь за три недели еще не во всех лабораториях побывал, не со всеми обитателями станции знаком.
– Вы не спите, профессор?
Я узнал голос Сильвии Хо.
– Нет. Я думаю. Я потушил свет, потому что так легче думается.
– Неужели можно специально думать? Я вот хожу и думаю, ем и думаю, разговариваю и думаю.
– Раньше я тоже не замечал, думаю я или нет. И лишь теперь, на седьмом десятке, догадался, что мышление достойно того, чтобы выделить его в самостоятельный процесс.
– Вы шутите, профессор. А я к вам на минутку. Капитан просил напомнить, что через полчаса включаем экран.
– Спасибо. Иду.
Я сел на койке и еле успел схватиться за скобу. С утра была невесомость. Перед опытами с экраном вращение прекращалось – станцию ориентировали с точностью до микрона. Я не люблю невесомость. Она дарит лишь несколько минут детского удивления перед возможностями своего тела. Потом быстро надоедает, утомляет, вызывает легкую тошноту и мешает спать.
– Вы не спите, профессор?
– Это ты, Тайк?
– Вы не забыли, что через полчаса включаем экран?
– Иду, иду.
Я нашарил под кроватью башмаки на магнитных подошвах. Они слишком легко скользят по полу и требуют значительного усилия, чтобы оторвать их. Старожилы похожи здесь на конькобежцев. Я подобен новичку, впервые вступившему на лед.
– Профессор, вы не спите?
– Спасибо. Я помню. Я знаю, что через полчаса включаем экран.
– Я проходил мимо и решил предупредить. Сегодня ваш день, профессор.
Я посидел с минуту, прислушиваясь к легким шумам и шорохам, пронизывающим станцию. Звуки эти, как бы слабы они ни казались, – удивительное свидетельство жизни, контраст с безнадежной пустотой пространства. Вот звякнула кастрюля в камбузе, застрекотал робот, прошуршал воздух в дакте кондиционера, комаром отозвался какой-то прибор в лаборатории, пискнул котенок… Котят, по-моему, восемь. Может, и больше. Они выпархивают из дверей, топыря шерсть, плавают перед глазами и норовят ухватиться когтями за что-нибудь надежное.
– Вы пришли, профессор? Сегодня ваш день.
Это русский физик. Физики свое дело сделали, им остается лишь ждать и волноваться вместе с нами.
– Это наш общий день, – отвечаю я. – И в первую очередь для Сильвии.
Сильвия сидит у дальней от экрана стены, на острых коленках – блокнот. Она улыбается мне благодарно и робко. Не бойся, мышонок, тебя никто не выгонит. Сегодня и вправду наш день. Мы с Сильвией единственные пока специалисты, на которых будет работать экран. Остальные его проектировали, рассчитывали, монтировали, настраивали и снова настраивали. Мы будем глядеть. Сильвия – антрополог. Я – историк.
– Жарко, профессор? – спросил Тайк. Тайк сидел на корточках перед раскрытой панелью пульта управления.
– Хоть форточку открывай, – сказал русский физик. – В космос.
– Простудишься, – сказал капитан. – Сегодня ваш день, профессор. Если физики нас не обманули.
Капитан уселся в кресло перед самым экраном, большим, во всю стену, черным и оттого бездонно глубоким.
Русский физик достал из кармана миниатюрные шахматы, но не удержал в руке, коробочка открылась, и фигурки веером, словно воробьи, спасающиеся от коршуна, разлетелись по лаборатории.
– Пятнадцать минут, – сказал Ричард Темпест.
Все вокруг были спокойны, может, даже излишне спокойны. Бесшумно, конькобежцами, в лабораторию въезжали техники, колдовали у пульта, переговаривались тихо, коротко и большей частью непонятно. Понемногу лаборатория заполнялась зрителями. Стало тесно. Кто-то из молодежи снял ботинки и устроился на стене, под потолком, повиснув на скобе.
– Садитесь сюда, поближе, – сказал капитан. – А где Сильвия?
Парасвати уступил мне место. Сжав в ладонях подлокотники, я почувствовал себя уверенней.
– Я все-таки не верю, – сказала Сильвия, глядя на Тайка. Тайк склонился к микрофону, диктовал на мостик какие-то цифры.
Тайк выпрямился, оглядел нас, словно полководец перед сражением, посмотрел на экран и сказал:
– Свет.
– Да будет свет, – прошептал физик, так и не собравший шахмат.
Лампы в лаборатории померкли, и ярче стали разноцветные индикаторы на пульте.
– Начинайте, – сказали с мостика.
На черном эллипсе экрана возникло светлое облако, оно зародилось в глубине его, разгоралось и приближалось, распространяясь к его пределам, и по нему пробегали зеленые искры. Так продолжалось минуту, а затем экран внезапно стал голубым, и в нижней части его обнаружились рыжие и белые пятна, словно изображение, рожденное в нем, было не в фокусе.
– Получается, – сказал Парасвати. – Куда лучше, чем вчера.
– Куда уж лучше, – сказал разочарованно кто-то из зрителей.
– Ах! – воскликнула Сильвия.
Волшебник сорвал пелену с экрана, навел изображение на резкость, и нашим глазам представился обычный земной пейзаж, настолько реальный и рельефный, словно экран был окном в соседний мир, залитый жарким солнцем, пропитанный пылью и свежим ветром. Синяя широкая полоса превратилась в небо. На охряном песке обозначились дома, глубокие колеи на узкой дороге и редкие пальмы.
– Все в порядке, – сказал Тайк. – Мы на месте.
– Правильно? – спросил капитан.
– Одну минутку, – сказал я.
Был полдень. Тонкая пыль крутилась над землей, изрытой и истоптанной буйволами. Опутанное бамбуковыми лесами и прикрытое тростниковыми циновками, возвышалось строящееся здание. Оно было логическим центром сцены, которую мы наблюдали. Многочисленные упряжки волов и буйволов тянулись к нему, груженные желтым кирпичом. Балансируя на гибких бамбуковых жердях, поднимались на леса вереницы почти обнаженных людей. Наверху трудились каменщики. В левой части экрана видна была веранда, столбы которой были обильно украшены тонкой резьбой. Перед ней дремали два воина с копьями в руках…
– Ну и что, профессор?
Все в лаборатории ждали моего ответа.
– Это Паган, – сказал я. – Конец одиннадцатого века.
– Ура! – произнес кто-то негромко.
– Удалось? – спросил динамик. Дежурный на мостике волновался.
– Ур-ра! – ответил ему физик. – Какие же мы молодцы!
– Качать профессора, – предложил лукавец Тайк.
– Я совершенно ни при чем. Вы могли бы показать это изображение еще десятку ученых, и они сказали бы то же самое.
– Но профессор сказал первым!
Им нужна была разрядка. Уж лучше пускай качают меня, чем Сильвию. Я лишь старался не удариться о какой-нибудь прибор, хотя в этом не было нужды – летал я медленно и солидно, как воздушный шарик. Мои мучители также отрывались от пола и взлетали вслед за мной, отчего в полумраке лаборатории, освещенной солнцем далекого мира, шевелилось одно многорукое, многоголовое чудовище. И не дай бог людям с той стороны экрана заглянуть к нам. Они бы умерли от страха.
– Смотрите! – сказала Сильвия, которой удалось спрятаться в углу и избежать всеобщего ликования. – Смотрите – человек!
Сморщенный, высохший старик нес, прижимая к груди, глиняный горшок. Он шел так близко и виден был так четко, что можно было пересчитать все морщинки на его лице. И даже удивительным казалось, что он нас не видит. Он остановился на мгновение, повернув голову в нашу сторону, вздохнул и продолжил путь. И взгляд его мгновенно прервал возбужденное веселье. Люди опускались вниз, будто осенние листья.
– Он хотел сказать нам: «Чего подсматриваете?» – да не знает, на каком языке говорить с нами.
– Жалко, кино не звуковое.
– А профессор смог бы понять, о чем они говорят?
– С трудом. Прошла почти тысяча лет.
– Какая разрешающая способность!
– Профессор, расскажите нам о них.
– Это не покажется скучным?
– Никогда.
– Расскажите, профессор.
– Даже не знаю, с чего начать, – сказал я. Я не люблю быть центром внимания. Тем более что я никак не мог отделаться от ощущения, что в действительности я узурпатор. Самозванец. Главное сегодня не история. Главное то, что людям наконец удалось заглянуть в свое прошлое.
Черными молниями пробежали по экрану помехи, земля заколебалась.
– Прибавь мощности, – сказал капитан Тайку.
– Уже уходит, – сказал Тайк. – Еще минуты три-четыре, не больше.
– Рассказывайте, профессор.
– Это было великое государство. Владения его тянулись от Гималаев и гор Южного Китая до Бенгальского залива. Оно существовало двести пятьдесят лет, и столицей его был город Паган. Здание в лесах – храм Ананда, первый из гигантских храмов Пагана, построенный при царе Чанзитте. Храм этот, как и множество других храмов и пагод общим числом около пяти тысяч, стоит в центре Бирмы, на берегу реки Иравади.
– И сейчас стоит?
– И сейчас.
Старик с горшком в руках вновь прошел по экрану. Ему было тяжело и жарко. Глядя на него, я понял, что в зале тоже очень жарко. И вдруг экран потускнел. Последнее, что мы увидели, – к старику подбежала девушка, взяла горшок. Черные молнии исчертили древний город, и нельзя уже было угадать лица девушки.
Вспыхнул искусственный, мертвый свет плоских плафонов. Капитан сказал, осторожно поднимаясь с кресла:
– Сеанс окончен.
– А может, ничего и не было? Нам показалось? – спросил Парасвати.
– Все снято, – сказал Тайк. – Хоть сейчас можно прокрутить фильм.
Люди не спешили расходиться. Это и в самом деле было похоже на зал кинотеатра, где только что показали картину невероятно талантливую, странную и неожиданную.
– Тайк, передай на мостик, чтобы начали вращение. До утра.
Капитан помог мне добраться до двери.
– Это великолепно, – сказал я ему.
– А вы, профессор, отказывались от поездки сюда.
– Вы знаете об этом?
– Да.
– Я консерватор. Трудно поверить в хроноскопию.
Я и в самом деле отказывался лететь на станцию. Я убеждал ректора выбрать кого-нибудь помоложе, не столь занятого, более легкого на подъем. «Хорошо, – говорил я ему. – Допустим, что эта хроноскопия имеет под собой какую-то основу. Допустим даже, что при определенных условиях можно отыскать точку в пространстве, собственное время которой идет с отставанием на тысячу лет от земного. Допустим даже, что из этой точки можно будет взглянуть на Землю. Но что мы увидим на таком расстоянии?» Ректор был терпелив, вежлив. Таким же он был двадцать лет назад, когда держал у меня экзамен по истории Бирмы. В нем всегда была вежливая снисходительность к собеседнику, будь он его учителем или одним из подчиненных ему профессоров. «Нет, – отвечал он, – вы не правы, профессор. С таким же успехом можно говорить, что паровоз не поедет, потому что в него не впряжена лошадь. Никто не стал бы тратить годы усилий на сооружение станции, если бы хроноскопия была мифом. Если физики считают, что экран на станции сможет заглянуть в Бирму, в одиннадцатый век, значит, так и будет… – Ректор пригладил на макушке несуществующие волосы и посмотрел на меня укоризненно: прожил столько лет на свете и сомневается во всесилии науки. Затем сказал другим тоном, тоном, требующим доброй улыбки: – В любом случае мы желали бы видеть на станции лучшего историка Бирмы. Вы, профессор, лучший историк Бирмы, я говорю это не только как ректор, но и как ваш ученик. И если вам дорог престиж университета…» Здесь голос его сошел на нет, и ректор предложил мне стакан холодного апельсинового сока. Допивая сок, я подумал: а почему бы и нет? Ведь я никогда еще дальше Луны не забирался.
Станция возникла сначала зеленой искрой на экране локатора, выросла постепенно в сплетение труб, шаров и тросов, встретила меня рукопожатиями незнакомых, большей частью молодых, легко одетых людей и жарой. На станции было как в Рангуне майским вечером, влажным от близких муссонных туч, душным оттого, что лучи солнца, заблудившиеся в листве тамариндов, подогревают синий воздух.
– У нас барахлят отопительные установки, – сказал Тайк, молодой человек, длинные ресницы которого бросали тени на выступающие скулы. – Вчера было всего восемь градусов тепла. Но мы терпим.
Капитан проводил меня до каюты.
– Хорошо, что вы прилетели, – сказал он. – Значит, не зря работаем.
– Почему?
– Вы занятой человек. И коль уж вы смогли бросить все дела и прибыть к нам, значит, хроноскопия стоит того, чтобы заняться ею всерьез.
Капитан шутил. Он верил в хроноскопию, он верил в то, что экран будет работать, и хотел, чтобы я тоже уверовал в это.
С тех пор прошло три недели, и в моем лице энтузиасты экрана (не энтузиастов здесь не было) приобрели страстного неофита. Три раза за эти три недели экран светлел, заполнялся разноцветными облаками, дарил нам мимолетные непонятные образы, но не более. И вот наконец мы увидели Паган.
В семь часов по бортовому времени мы собирались в лаборатории. Один сеанс в день. Двадцать семь минут с секундами. Затем изображение уходило из луча…
Мое первоначальное предположение, что веранда с резными колоннами принадлежит дворцу царя Чанзитты, блистательно подтвердилось на следующий же день, когда в середине сеанса вдали заклубилась пыль и из облака ее вылетели всадники, загарцевали у ступенек. Стражники выпрямились, приподняли копья. К веранде приблизился слон с окованными медью бивнями. На спине его под золотым зонтом сидел нестарый человек с крупными чертами лица. Я узнал его. По статуе, которую столько раз видел в полутемном центральном зале храма Ананда. Художник был правдив, изобразив царя именно таким. Теперь уже не оставалось никакого сомнения, что матерью царя действительно, как уверяли хроники, была индианка.
– Вот, – сказал я тогда. – Я был прав. Хроникам надо верить именно в деталях, которые нельзя объяснить поздними политическими соображениями.
– Кто это? – спросил Тайк.
– Царь Чанзитта, – удивился я. – Это же видно.
– Профессор, вы великолепны, – сказал капитан. – Разумеется, это царь Чанзитта, знакомый всем нам с детства.
Царя неотступно сопровождал первосвященник, личность также хорошо известная по хроникам, Шин Арахан, сморщенный, благостный старец. Старец не последовал во дворец за царем, а принялся давать какие-то ценные указания архитектору Ананды, даже рисовал арки тростью в пыли.
В тот же день мы видели, как надсмотрщики избивали бамбуковыми палками провинившихся в чем-то рабочих. Зрелище было жутким, казалось, что крики людей сквозь века и миллиарды километров проникают в лабораторию. Через две минуты вся станция уже знала о происходящем, в зал набились физики, электронщики, монтажники, и их оценка происходящего была настолько резка, что мне стало стыдно за средневековую Бирму, и, может, поэтому я сказал, когда угас экран:
– Разумеется, если показать крестовые походы или опричников Ивана Грозного, никто бы из вас не возмутился.
– Не расстраивайтесь, профессор, – ответил мне за всех капитан. – Бывало куда хуже. За этим не стоит даже углубляться на тысячу лет в прошлое. Но нам пришлось увидеть именно Бирму. И мы не можем войти в экран и схватить надсмотрщика за руку.
На следующий день на песке, там, где проходила экзекуция, были видны бурые пятна крови. К концу сеанса поднялся ветер и занес их пылью.
Жизнь моих далеких предков была тяжела, грязна и жестока. Золотой век хроник и легенд не выдержал испытания. И тем удивительнее казался храм Ананда, совершенный, легкий, благородный, призванный на века прославить Паганское государство. Он гордо возносился над страданиями маленьких людей и становился памятником им, все-таки не зря проведшим на земле отведенные годы.
У старика, что нес воду в первый день, была дочь. Дочь эту знали все на станции, и беспокойные физики, приходившие повидаться с ней, держали пари, появится она сегодня или нет.
Дочь (а может быть, внучка) старика была невысока ростом, тонка и гибка, как речной тростник. Ее черные волосы были собраны в пучок на затылке и украшены мелкими белыми цветами. Кожа ее была цветом как тиковое дерево, глаза подобны горным озерам. Не пытайтесь упрекнуть меня в романтическом преувеличении – именно такой я ее помню, именно такие сравнения пришли на ум, когда я впервые разглядел ее. И если я, старый человек, говорю о девушке столь приподнятым слогом, то о молодежи и говорить нечего. Лишь Сильвия была недовольна. Она глядела на Тайка. А Тайк глядел на паганскую девушку.
Как-то я нечаянно подслушал разговор Сильвии Хо с Тайком.
– Все, что мы видим, подобно спектаклю, – сказала Сильвия. – Ты чувствуешь это, Тайк?
– Ты хочешь сказать, что это все придумано?
– Почти. Этого нет.
– Но они реальны. И мы не знаем, что случится с ними завтра.
– Нет, знаем. Профессор знает. Эти люди умерли почти тысячу лет назад. Остался только храм.
– Нет, они реальны. Отсюда, со станции, мы видим их живыми.
– Они умерли тысячу лет назад.
– Посмотри, как она улыбается.
– Она тебя никогда не увидит.
– Зато я ее вижу.
– Но она умерла тысячу лет назад! Нельзя влюбиться в несуществующего человека.
– Что за чепуха, Сильвия. С чего ты взяла, что я влюбился?
– Иначе бы ты не защищал ее.
– Я ее и не защищаю.
– Ты хотел бы, чтобы она была сегодня.
– Хотел бы.
– Сумасшедший…
Я сидел в кресле, не замеченный ими. Я улыбнулся, когда Сильвия убежала по коридору, прижимая к груди папку с рисунками и фотографиями обитателей паганской эры. Тайк вернулся к пульту и принялся копаться в схемах, насвистывая что-то печальное. Он был подобен человеку, полюбившему Нефертити – запечатленный в камне прекрасный момент далекого прошлого.
Еще через три дня произошло новое событие, взбудоражившее всю станцию, ибо станция близко к сердцу принимала события, происходившие в Пагане. Приехали кхмерские послы. Пожалуй, человеку, незнакомому с историей Бирмы, трудно понять мое волнение, когда я угадал кхмеров в утомленных долгим путем, длинноволосых, богато разодетых людях. Они слезали с опустившихся на колени слонов, скребя пятками по морщинистым серым бокам, и слуги раскрывали над ними золотые зонты – знаки знатности и власти. Да, это были кхмеры, с империей которых граничил Паган. И возможно, именно сейчас, завтра, послезавтра, будет разрешен долгий спор историков, платил ли Паган дань Ангкору или права была хроника Дхаммаян Язавин, утверждавшая, что цари кхмеров признавали власть Пагана.
Послы проследовали в глубь дворца. За ними несли коробы с подарками, чаши с бетелем, подносы с фруктами. Дворец был охвачен суетой, окружен толпой любопытных, и сквозь поднявшуюся пыль можно было разглядеть, как в спешке рабочие сдирали леса и циновки с храма Ананда – видно, его будут показывать высоким гостям.
Ночью мне пришлось принять снотворное. Сон не шел ко мне. Время остановилось. В любой момент послы могли уехать и избежать моего наблюдения. И останутся скрытыми для меня и для истории те мелкие детали, понятные лишь мне, по которым можно безошибочно определить истинные отношения между бирманцами и кхмерами – древними соперниками и великими строителями.
…И снова загорелся экран. Любопытные все еще толпились перед дворцом, и было их немало. Следовательно, сказал я себе, и чуть отлегло от сердца, следовательно, послы не уехали.
От колодца с полным кувшином шла наша знакомая девушка. Она поставила кувшин на ступеньку веранды и заговорила о чем-то со стражником. Нравы в Пагане были просты, стражник не отогнал девушку. Говорил с ней о чем-то оживленно. Потом к ним присоединился монах в синей тоге лесных братьев, заглянул через перила внутрь дворца, и второй стражник крикнул ему что-то веселое. Некто, толстый и намасленный, из дворцовой челяди, вышел на веранду, поднял кувшин и отпил из него.
Тайк забыл о пульте. Он смотрел на девушку. Я незаметно взглянул в другую сторону, где сидела Сильвия. Сильвия делала вид, что углублена в записи.
Один из кхмерских послов медленно и торжественно, словно актер в плохом театре, появился из-за края экрана и остановился у перил, рассеянно глядя на белый храм. За ним легко, чуть постукивая палкой, следовал Шин Арахан, первосвященник. Он спросил что-то у кхмера, и физик, сидевший со мной рядом, угадал его вопрос:
– Ну как, нравится вам наш храм?
Кхмер ответил. Физик вновь перевел:
– Ничего храм. У нас лучше.
Тайк глядел на девушку. Девушка глядела на кхмера. Тот был для нее экзотичным представителем чужого, недосягаемого мира. Кхмер, видно, почувствовал ее взгляд и, повернувшись к Шину Арахану, улыбнулся и сказал что-то. Физик немедленно перевел:
– Девушки у вас здесь лучше, чем храмы.
Кто-то сзади хихикнул. Тайк насупился. Шин Арахан кивнул и тоже посмотрел на девушку. Та растерялась и отступила на несколько шагов. Стражники захохотали. Кхмер тоже засмеялся. Он уговаривал Арахана, тыча унизанным перстнями пальцем в девушку, но первосвященник улыбался вежливо и, видно, не давал нужного ответа.
– «Отдай ее мне», – требует высокий гость, – сказал физик.
– Помолчи, – оборвала его Сильвия.
– И в самом деле, помолчи, – поддержал ее Парасвати. – Что мы без нее будем делать?
– Он же старый, – сказала Сильвия.
Тайк не слышал их. Он глядел на экран. Потом он сказал мне, что все время боролся с желанием выключить его, будто это могло бы что-нибудь изменить, прервать цепь событий. Но это он сказал потом.
Кхмер ушел, явно неудовлетворенный. Я сказал:
– Совершенно ясно, что Паган не был вассалом кхмеров. Иначе Шин Арахан не посмел бы отказать послу. Он был большим дипломатом. Если, конечно, кхмер и в самом деле требовал подарить ему девушку.
– Хорошо бы обошлось… – сказал Парасвати.
И он был прав в своих сомнениях. Шин Арахан с минуту стоял на веранде, раздумывая, чуть покачиваясь, спрятав глаза в сетке морщин. Казалось, он не видит никого вокруг. Но, когда девушка подкралась к террасе, чтобы взять кувшин, Шин Арахан вдруг очнулся, крикнул стражникам, повернулся и быстро ушел с веранды. Стражники подошли с двух сторон к замершей девушке, и один из них подтолкнул ее в спину древком копья. Девушка покорно пошла перед ними через площадь, и толпа зевак молча расступилась перед ней. Сеанс кончился.
На этот раз никто не покинул лабораторию. Когда зажегся свет, я обнаружил, что все смотрят на меня, словно я мог объяснить случившееся и, главное, убедить их, что с девушкой ничего не случится. И я сказал:
– В лучшем случае Шин Арахан приказал убрать ее с глаз кхмера. Может, он знает ее отца, может, пожалел ее.
– А в худшем?
– В худшем – не знаю. Худших вариантов всегда больше, чем лучших. Возможно, первосвященник решил все-таки сделать сюрприз кхмеру и вручить ему подарок перед отъездом. Возможно, девушка чем-то оскорбила кхмера и будет наказана…
– Но она же ничего не сказала…
– Мы так мало знаем о нравах тех времен.
Тайк пришел вечером ко мне в каюту.
– Я сойду с ума, профессор, – сказал он.
– Чем я могу помочь тебе? – спросил я его. – Постарайся понять, что это иллюзия, чудесным образом сохранившийся документальный фильм, – и мы первые зрители его.
– В это невозможно поверить. Мне хотелось выключить экран. Словно тогда она смогла бы убежать. В темноте.
Тайк ушел. Проверять приборы, удостовериться, что завтра сеансу не помешает случайная поломка. Но в тот день ничего особенного не случилось.
Правда, мы видели старика. Он валялся в пыли у ступеней дворца, умолял стражников пропустить его внутрь, но на этот раз они были строги и неразговорчивы. Значит, девушке все еще грозила опасность. С храма снимали последние леса и наводили на него лоск. У подножия его вырыли небольшую глубокую яму, от дворца до главного входа постелили циновки, и солдаты с короткими кривыми мечами разгоняли любопытных, чтобы те не наступили на дорожку.
Основные события были перенесены на завтра.
Интересное создание человек. Еще два дня назад меня волновала лишь одна проблема – каковы взаимоотношения Пагана и Ангкора. Кто был чьим данником. Это был вопрос, важный для истории Бирмы, но мало интересовавший кого-нибудь, кроме меня. В день же последнего сеанса, в день, на который выпало освящение храма Ананда, торжественное событие, особо торжественное из-за присутствия иностранных гостей, я забыл о данниках, вассалах и царях. Как и все другие обитатели станции, я беспокоился о судьбе девушки, фотографии которой украшали каждую вторую каюту на станции, ради возвращения улыбки которой все мы были готовы на любое безрассудство. И были бессильны совершить безрассудство.
– Позиция, – говорит в микрофон Тайк. – Свет. Сеанс.
– Есть позиция, – отвечает мостик.
Гаснет свет в зале. На экране площадь. Площадь полна народу. Лишь дорожка из циновок, ведущая к храму, свободна. По сторонам ее стоят в два ряда солдаты. Ближе к храму толпа распадается на яркие пятна. В синих тогах стоят ари – лесные братья. В белых одеяниях – брамины. В оранжевых и желтых – истинные буддисты, последователи Шина Арахана. Пыль пробивается между плотно стоящими зрителями и окутывает сцену легкой дымкой.
Торжественная процессия спускается с веранды. Первым ступает на дорожку Шин Арахан, которого ведут под руки монахи. За ним под двенадцатью золотыми зонтами – царь Чанзитта. Затем министры, чиновники, послы Камбоджи, послы Аракана, послы Цейлона…
Техники дают максимальное увеличение, и потому кажется, что рама экрана сдвигается внутрь, храм растет и мы следуем за царем к храму, чудесному и зловещему сегодня. Никто, даже я, старый дурак, не знает, что может произойти. Мы ждем.
Мы ждем, пока царь преодолеет расстояние до храма. Я смотрю на часы. Осталось десять минут до конца сеанса. Пусть, думаю я трусливо, то, что будет, будет потом, когда мы уйдем отсюда. И тут же я понимаю, чего боюсь, в чем не смею признаться даже себе самому и чего никто не может знать.
Есть легенда. Ее повторяют многие хроники. И ей верят многие ученые. В день освящения храма у подножия его выкапывалась яма, в которой погребали самую прекрасную девушку в царстве.
И я вижу, как царь и вся процессия останавливаются у свежевырытой ямы. У могилы. И я говорю:
– Да.
– Что? – спросил Тайк. – Что будет?
– Я могу ошибаться.
– Что будет, профессор?
И я говорю им о легенде. И не успеваю досказать ее, как толпа расступается и монахи в желтых тогах подводят обнаженную до пояса, заплаканную, прекрасную, как никогда, нашу девушку. Я смотрю на часы. Осталось четыре минуты сеанса. Скорей бы он кончился. Мы ничего уже не изменим. Тайк мешает мне смотреть. Он стоит перед самым экраном, словно пытается навсегда запомнить эту минуту, будто собирается запомнить лица монахов, ведущих девушку, и отомстить им, будто хочет запомнить лицо палача, здорового темнолицего человека с ножом в руке, который выходит навстречу девушке и ждет, полуобернувшись к Шину Арахану, ждет сигнала.
– Тайк, отойди, – говорит кто-то за моей спиной.
Тайк не слышит. Шин Арахан наклоняет голову.
Мы так близки к людям перед храмом, что, кажется, слышим их дыхание и оборвавшийся стон девушки, которая как зачарованная смотрит на блестящий нож. Сейчас она вскрикнет…
– Ай! – раздался крик.
Мы оборачиваемся. Все. В дверях стоит Сильвия. Она опоздала. Она, наверное, и не хотела приходить, но не выдержала одиночества. Сильвия зажимает рот рукой и смотрит на экран. Мы тоже смотрим туда. Но поздно. Мы упустили момент.
Мы упустили момент, в который Тайк приблизился к экрану вплотную и вошел в него.
Тайка нет в зале.
Тайк в Пагане. Невероятным, необъяснимым образом он оказался в тысяче лет и миллиардах километров от нас, в толпе монахов, вельмож, солдат, синих ари и белых браминов.
Распахнутые в криках рты… Рука палача, замершая в воздухе… Монахи, падающие ниц… Тайк уже рядом с девушкой. Он отталкивает растерянного палача, подхватывает ее на руки, и девушка, видно в обмороке, обвисает на его руках.
На мгновение Тайк замирает.
Живы лишь глаза. Зрачки мечутся, разыскивая путь к спасению. Он понял уже, что не вернется к нам, что он один в далеком прошлом.
Таким я его и запомнил: высокий, широкоплечий смуглый юноша в серебряном, в обтяжку, комбинезоне и мягких красных башмаках до щиколоток. На груди золотая спираль – знак Службы Времени. Он стоит, широко расставив ноги, и девушка на его руках кажется невесомой.
Кадр неподвижен. Лишь пыль медленно плывет в горячем воздухе.
И тут же неподвижность взрывается стремительным движением.
Тайк бежит по циновкам к нам навстречу, но перед ним нет экрана. Перед ним пыльная площадь, а за ней обрыв к Иравади. Тайк исчезает под нижним срезом экрана, и опомнившиеся солдаты, монахи, чиновники бросаются вслед за ним… Экран тускнеет, идет черными полосами и гаснет.
Вот и все. Больше мы не видели Тайка. Может, они разбились, прыгнув с обрыва. Может быть, их догнали и убили. Или ее убили, а его отдали в рабство. Может быть, им удалось убежать и скрыться в чинских холмах. Может быть…
Мы больше не смогли толком поймать Паган. Что-то разладилось в системе связи, и понадобится несколько месяцев работы, прежде чем она восстановится.
Мы с Сильвией улетели с первым кораблем. Физики остались. Они спорят и будут спорить о причинах необычного явления, которое они пытаются объяснить с помощью формул. Я в этом не разбираюсь, я старый историк, приверженец консервативных методов исследования.
На столе у меня стоит фотография девушки с глазами, как горные озера.
Я вас первым обнаружил!
Джерасси не спится по утрам. В шесть, пока прохладно, он включает динамик и спрашивает Марту:
– Ты готова?
Мы все слышим его пронзительный голос, от которого не спрячешься под одеяло, не закроешься подушкой. Голос неизбежен, как судьба.
– Марта, – продолжает Джерасси. – Я верю, что сегодня мы найдем что-то крайне любопытное. Ты как думаешь, Марта?
Марте тоже хочется спать. Марта тоже ненавидит Джерасси. Она говорит ему об этом. Джерасси хохочет, и динамик усиливает его хохот. Капитан подключается к внутренней сети и говорит укоризненно:
– Джерасси, до подъема еще полчаса. Кстати, я только что сменился с вахты.
– Прости, капитан, – говорит Джерасси. – Сейчас мы быстренько соберемся, уйдем на объект, и ты спокойно выспишься. Утренние часы втрое продуктивнее дневных. Надо спешить. Не так ли?
Капитан не отвечает. Я сбрасываю одеяло и сажусь. Ноги касаются пола. Ковер в этом месте чуть протерся. Сколько раз я наступал на него по утрам? Приходится вставать. Джерасси прав – утренние часы лучше.
После завтрака мы выходим из «Спартака» через грузовой люк. По пандусу, исцарапанному грузовыми тележками. За ночь на пандус намело бурого песку, принесло сухих веток. Мы без скафандров. До полудня, пока не разгуляется жара, достаточно маски и легкого баллона за спиной.
Безнадежно бурая, чуть холмистая долина тянется до близкого горизонта. Пыль висит над ней. Она забирается повсюду: в складки одежды, в башмаки, даже под маску. Но пыль все-таки лучше грязи. Если налетит серая туча, выплеснется на долину коротким бурным ливнем, придется бросать работу и ползти по слизи до корабля, пережидать, пока просохнет. После ливня бессильны даже вездеходы.
Один из них ждет нас у пандуса. Можно дойти до раскопок пешком, десять минут, но лучше эти минуты потратить на работу. Нам скоро улетать – продовольствия и других запасов осталось только-только на обратный путь. Мы и так задержались. Мы и так уже шесть лет в поиске. И почти пять лет займет обратный путь.
Захир возится у второго вездехода. Геологи собираются на разведку. Мы прощаемся с Захиром и занимаем места в машине. Места в ней так же привычны, как и места за столом, как места в зале отдыха, как места по аварийному расписанию. Я вешаю аппаратуру на крючок справа. Месяц назад мы попали в яму, и я разбил об этот крючок плечо. Тогда я обмотал его мягкой лентой. Вешаю на него сумку с аппаратурой не глядя. Моя рука знает место с точностью до миллиметра.
Джерасси протягивает длинные ноги через проход и закрывает глаза. Удивительно, что человек, который так любит спать, может просыпаться раньше всех и будить нас отвратительным голосом.
– Джерасси, – говорю я. – У тебя отвратительный голос.
– Знаю, – отвечает Джерасси, не открывая глаз. – У меня с детства пронзительный голос. Но Веронике он нравился.
Вероника, его жена, умерла в прошлом году. Занималась культурой вируса, найденного нами на заблудившемся астероиде.
Вездеход съезжает в ложбину, огороженную пластиковыми щитами, чтобы раскоп не засыпало пылью. Я вылезаю на землю третьим. Вслед за Мартой и Долинским. Щиты мало помогают – пыли за ночь намело по колено. Джерасси уже тащит хобот пылесоса, забрасывает его в раскоп, и тот, будто живой, принимается ползать по земле, пожирая пыль.
Вести здесь археологические работы – безумие. Пылевые бури способны за три дня засыпать небоскреб, следа не останется. А за следующие три дня они могут вырыть вокруг него стометровую яму. Бури приносят также сажу и частицы древесного угля с бесконечных лесных пожаров, что бушуют за болотами, – в результате мы не смогли пока датировать ни единого камня.
Мы так и не знаем, кто и когда построил это поселение, кто жил в нем. Мы не знаем, что случилось с обитателями этой планеты, куда они делись, отчего вымерли. Но все, что мы сможем, – сделаем. И мы ждем, пока пылесос кончит возню в раскопе и мы спустимся туда, вооружимся скребками и кисточками и будем пялить глаза в поисках кости, обломка горшка, шестеренки или, на худой конец, какой-нибудь органики.
– Они основательно строили, – говорит Джерасси. – Видно, бури и тогда им мешали жить.
В раскопе вчера обнаружилась скальная порода – фундамент здания или зданий, которые мы копали, врезался в скалу.
– Они очень давно ушли отсюда, – сказала Марта. – И если переворошить пустыню, мы найдем и другие строения. Или их следы.
– Надо было бы получше проверить горы за болотом, – говорю я. – Здесь мы ничего так и не найдем. Поверьте мне.
– Но мачта, – возразил Джерасси.
– И пирамидка, – добавила Марта.
Мачту мы увидели еще на первом облете. Ее унесло очередной бурей раньше, чем мы сюда добрались, и схоронило в недрах пустыни. Пирамидку мы откопали. Если бы ее не было, мы не стали бы третью неделю подряд барахтаться в раскопе. Пирамидка стояла перед нами гладкая, влившаяся в скалу и будто вытесанная из скалы. Ее мы возьмем с собой. Остальные находки – каменная крошка и рубцы на скале. Ни надписей, ни металла…
– В горах за болотом жить было нельзя. Воды даже в лучшие времена не было. И вообще это одно из немногих мест…
Джерасси опять прав. Бездонные болота, по которым плавают, сплетя корни, кущи деревьев, горы, придуманные словно нарочно такими, что к ним не подберешься. И океан – беспредельный океан. И в нем лишь бури и простейшие организмы. Жизнь куда-то ушла отсюда, может, погибла – и вот понемногу начинается вновь, с простейших.
Мы спускаемся в раскоп.
Рядом со мной Долинский.
– Пора домой, – говорит он, расчищая угол квадратного углубления в скале. – Тебе хочется?
– Конечно, – говорю я.
– А я не знаю. Кому мы там нужны? Кто нас ждет?
– Ты знал, на что идешь, – отвечаю я.
Что-то блестит в щели.
– И знал, и знаю. Когда мы улетали, то были героями. А что может быть печальнее, чем образ забытого героя? Он ходит по улицам и намекает: вы меня случайно не помните? Совершенно случайно не помним.
– Мне легче, – говорю я. – Я никогда не был героем.
– Ты не представляешь, насколько изменился мир, в который мы вернемся спустя двести лет. Если мир еще существует.
– Смотри, по-моему, металл, – говорю я.
Мне надоели разговоры Долинского. Он сдал. Мы все сдали, мы все жили эти годы целью пути. Планетной системой, которую никто до нас не видел, звездными течениями, метеоритными потоками, тайной великого открытия. И все это материализовалось миллионами символов, сухих цифр и спряталось в недрах Мозга корабля, в складах, на лабораторных столах… Последний год мы метались по системе, высаживаясь на астероидах и мертвых планетах, тормозя, набирая скорость, понимая, что приближается время возвращения, что елка уже убрана игрушками, праздник в полном разгаре и скоро он закончится. Только праздник, как и случается обычно с ними, оказался куда скромнее, чем ожидалось. Мы достигли цели, мы выполнили то, что должны были выполнить, но, к сожалению, не более. Мозг корабля наполнялся информацией, но мечты наши, взлелеянные за долгие годы пути, не оправдались…
К последней планете мы подлетели, когда в резерве оставался месяц. Через месяц мы должны были стартовать к Земле. Иначе мы не вернемся на Землю. Нас было восемнадцать, когда мы стартовали с Земли. Нас осталось двенадцать. И только на последней планете, мало приспособленной для человека (остальные были вовсе не приспособлены), мы нашли следы деятельности разумных существ. И в промежутках между пыльными бурями мы вгрызались в скалы, рылись в песке и пыли, мы хотели узнать все, что можно узнать об этой разумной жизни. Через два дня старт. И почти пять лет возвращения, пять лет обратного пути…
Тяжелый шарик, размером с лесной орех, лежал у меня на ладони. Он не окислился. Он был очевиден, как песок, скалы и туча, нависшая над нами.
– Джерасси! – крикнул я. – Шарик.
– Что? – Поднимающийся ветер относил слова в сторону. – Какой шарик?
Заряд пыли обрушился на нас сверху.
– Переждем? – спросила Марта, подхватив шарик. – Тяжелый…
– К вездеходу, – сказал по рации капитан. – Большая буря.
– Может, мы ее переждем здесь? – спросил Долинский. – Мы только что нашли шарик. Металлический.
– Нет, к вездеходу. Большая буря.
– Погоди, – засомневался Джерасси. – Если в самом деле большая буря, то лучше нам забрать пирамидку. Ее может так засыпать, что за завтрашний день не раскопаем. И придется улетать с почти пустыми руками.
– Не раскопаем – оставим здесь, – сказал капитан. – Она снята нами, обмерена… А то вас самих засыплет. Раскапывай тогда…
Долинский засмеялся.
– Зато мы будем держаться за находки. Нас не унесет.
Новый заряд пыли обрушился на нас. Пыль оседала медленно, крутилась вокруг нас, как стая назойливой мошкары.
Джерасси предложил:
– Взялись за пирамидку?
Мы согласились.
– Долинский, подгони сюда вездеход. Там все готово.
Там и в самом деле было все готово. Вездеход был снабжен подъемником.
– Приказываю немедленно вернуться на корабль, – сказал капитан.
– А где геологи? – спросил Джерасси.
– Уже возвращаются.
– Но мы не можем оставить здесь эту пирамидку.
– Завтра вернетесь.
– Буря обычно продолжается два-три дня.
Говоря так, Джерасси накинул на пирамидку петлю троса. Я взялся за резак, чтобы отпилить лучом основание пирамидки. Резак зажужжал, камень покраснел, затрещал, борясь с лучом, сопротивляясь ему.
Туча – такой темной я еще не видел – нависла прямо над нами, и стало темно, пыль залетала облаками, ветер толкал, норовил утянуть вверх, закрутить в смерче. Я оттолкнул Марту, которая принялась было помогать мне, крикнул ей, чтобы пряталась в вездеходе. Краем глаза я старался следить за ней – послушалась ли. Ветер налетел сзади, чуть не повалил меня, резак дернулся в руке и прочертил по боку пирамидки алую царапину.
– Держись! – крикнул Джерасси. – Немного осталось!
Пирамидка не поддавалась. Успела ли Марта спрятаться в вездеход? Там, наверху, скорость ветра несусветная. Трос натянулся. По рации что-то сердитое кричал капитан.
– Может, оставим в самом деле?
Джерасси стоял рядом, прижавшись спиной к стенке раскопа. Глаза у него были отчаянные.
– Дай резак!
– Сам!
Пирамидка неожиданно вскрикнула, как вскрикивает срубленное дерево, отрываясь от пня, и маятником взвилась в воздух. Маятник метнулся к противоположной стенке раскопа, разметал пластиковые щиты и полетел к нам, чтобы размозжить нас в лепешку. Мы еле успели отпрыгнуть. Пирамидка врезалась в стену, взвилось облако пыли, и я потерял из виду Джерасси – мной руководил примитивный инстинкт самосохранения. Я должен был любой ценой выскочить из ловушки, из ямы, в которой бесчинствовал, метался маятник, круша все, стараясь вырваться из объятий троса.
Ветер подхватил меня и понес, словно сухой лист, по песку, и я старался уцепиться за песок, а песок ускользал между пальцев; я даже успел подумать, что чем-то похож на корабль, несущийся на скалы, якоря которого лишь чиркают по дну и никак не могут вонзиться в грунт. Я боялся потерять сознание от толчков и ударов, мне казалось, что тогда я стану еще беззащитнее, тогда меня будет нести до самых болот и никто никогда меня не отыщет.
Меня спасла скала, обломком вылезавшая из песка. Ветер приподнял меня, оторвал от земли, словно хотел забросить в облака, и тут эта скала встала на пути, подставила острый край, и я все-таки потерял сознание.
Наверное, я быстро пришел в себя. Было темно и тихо. Песок, схоронивший меня, сдавливал грудь, сжимал ноги, и стало страшно. Я был заживо погребен.
«Теперь спокойно, – приказал я себе. – Теперь спокойно».
– «Спартак», – произнес я вслух. – «Спартак».
Рация молчала. Рация была разбита.
– Что же, мне повезло, – сказал я.
Могло разбить маску, и я бы задохнулся. Пошевелим пальцами. Это мне удалось сделать. Прошла минута, две, вечность, и я убедился, что могу двинуть правой рукой. Еще через вечность я нащупал ею край скалы.
И когда я понял, что все-таки выберусь на поверхность, когда ушла, пропала паника первых мгновений, вернулось все остальное.
Во-первых, боль. Меня основательно избило в бурю, в довершение ударило о скалу так, что не только больно дотронуться до бока, но и дышать больно. Наверное, сломано ребро. Или два ребра.
Во-вторых, воздух. Я взглянул на аэрометр. Воздуха оставалось на час. Значит, с начала бури прошло три часа. И почему я не взял в вездеходе запасной баллон? Их там штук пятьдесят, резервных. И каждый на шесть часов. Положено иметь при себе как минимум два. Но лишний баллончик мешает работать в раскопе, и мы оставляли их в вездеходе.
В-третьих, как далеко я от корабля?
В-четвертых, стихла ли буря?
В-пятых, добрались ли до корабля остальные? И если добрались, догадались ли, в какую сторону унесло меня, где искать?
Рука схватилась за пустоту. Я вылезал, как крот из норы, и ветер (ответ на четвертый вопрос отрицательный) пытался затолкнуть меня обратно в нору. Я присел под скалу, переводя дыхание. Скала была единственным надежным местом в этом аду. Корабля не было видно. Даже если он стоял совсем близко. В пыли ничего не разглядишь и за пять метров. Ветер был не так яростен, как в начале бури. Хотя, может быть, я себя обманывал. Я ждал, пока очередной порыв ветра разгонит пыль, прижмет к земле. Тогда осмотрюсь. Мне очень хотелось верить в то, что ветер прижмет пыль и тогда я увижу «Спартак».
В какую сторону смотреть? В какую сторону идти? Очевидно, так, чтобы скала оставалась за спиной. Ведь именно она остановила мой беспорядочный полет.
Я не дождался, пока ветер прижмет пыль. Я пошел навстречу буре. Воздуха оставалось на сорок четыре минуты (плюс-минус минута).
Потом его осталось на тридцать минут. Потом я упал, меня откатило ветром назад, и я потерял на этом еще пять минут. Потом осталось пятнадцать минут. А потом я перестал смотреть на указатель.
Неожиданная передышка случилась уже тогда, когда, по моим расчетам, воздуха не оставалось вовсе. Я брел сквозь медленно опускающуюся пыль и старался не обращать внимания на боль в боку, потому что это уже не играло никакой роли. Я старался дышать ровно, но дыхание срывалось, и мне все время чудилось, что воздух уже кончился.
Он кончился, когда в оседающей пыли, далеко, на краю света, я увидел корабль. Я побежал к нему. И воздух кончился. Задыхаясь, я сорвал маску, хоть это не могло спасти меня, легкие обожгло горькой пылью и аммиаком…
Локатор увидел меня за несколько минут до этого.
Я пришел в себя в госпитале, маленьком белом госпитале на две койки, в котором каждый из нас побывал не раз за эти годы. Залечивая раны, простуды или отлеживаясь в карантине. Я пришел в себя в госпитале и сразу понял, что корабль готовится к старту.
– Молодец, – сказал мне доктор Грот. – Молодец. Ты отлично с этим справился.
– Мы стартуем? – спросил я.
– Да, – кивнул доктор. – Тебе придется лечь в амортизатор. Твоим костям противопоказаны перегрузки. Три ребра сломал, и порвана плевра.
– Как остальные? – спросил я. – Как Марта? Джерасси? Долинский?
– Марта в порядке. Она успела забраться в вездеход. Тебя послушалась.
– Ты хочешь сказать…
– Джерасси погиб. Его нашли после бури. И представляешь, в тридцати шагах от раскопа. Его швырнуло на вездеход и разбило маску. Мы думали, что ты тоже погиб.
И больше я ни о чем не спрашивал. Доктор ушел готовить мне амортизатор. А я лежал и снова по секундам переживал свои действия там, в раскопе, и думал: вот в этот момент я еще мог спасти Джерасси… И в этот момент тоже… И тут я должен был сказать: к черту пирамидку, капитан приказал возвращаться, и мы возвращаемся…
На третий день после старта «Спартак» набрал крейсерскую скорость и пошел к Земле. Перегрузки уменьшились, и я, выпущенный из амортизатора, доковылял до кают-компании.
– Я поменялся с тобой очередью на сон, – сообщил мне Долинский. – Доктор говорит, тебе лучше с месяц пободрствовать.
– Знаю, – сказал я.
– Ты не возражаешь?
– Чего возражать? Через год увидимся.
– Я вам кричал, – продолжал Долинский, – чтобы вы бросили эту пирамидку и бежали к вездеходу.
– Мы не слышали. Впрочем, это не играло роли. Мы думали, что успеем.
– Я отдал шарик на анализ.
– Какой шарик?
– Ты его нашел. И передал мне, когда я пошел к вездеходу.
– А… Я совсем забыл. А где пирамидка?
– В грузовом отсеке. Она треснула. Ею занимаются Марта и Рано.
– Значит, моя вахта с капитаном?
– С капитаном, Мартой и Гротом. Нас теперь мало осталось.
– Лишняя вахта.
– Да, лишний год для каждого.
Вошел Грот. Доктор держал в руке листок.
– Чепуха получается, – сообщил он. – Шарик совсем молодой. Добрый день, Долинский. Так я говорю, шарик слишком молод. Ему только двадцать лет.
– Нет, – возразил Долинский. – Мы же столько дней просидели в раскопе! Он древний как мир. И шарик тоже.
Капитан стоял в дверях кают-компании и слушал наш разговор.
– Вы не могли ошибиться, Грот? – спросил он.
– Мне бы сейчас самое время обидеться, – проворчал доктор. – Мы с Мозгом четыре раза повторили анализ. Я сам сначала не поверил.
– Может, его Джерасси обронил? – спросил капитан, обернувшись ко мне.
– Долинский видел – я его выскоблил из породы.
– Тогда еще один вариант остается.
– Он маловероятен.
– Почему?
– Не могло же за двадцать лет все так разрушиться.
– На этой планете могло. Вспомни, как тебя несло бурей. И ядовитые пары в атмосфере.
– Значит, вы считаете, что нас кто-то опередил?
– Да. Я так думаю.
Капитан оказался прав. На следующий день, распилив пирамидку, Марта нашла в ней капсулу. Когда она положила ее на стол в лаборатории и мы столпились за ее спиной, Грот сказал:
– Жаль, что мы опоздали. Всего на двадцать лет. Сколько поколений на Земле мечтало о Контакте! А мы опоздали.
– Несерьезно, Грот, – возразил капитан. – Контакт есть. Вот он, здесь, перед нами. Мы все равно встретились с ними.
– Многое зависит от того, что в этом цилиндре.
– Надеюсь, не вирусы? – забеспокоился Долинский.
– Мы его вскроем в камере. Манипуляторами.
– А может, оставим до Земли?
– Терпеть пять лет? Нет уж, – сказала Рано.
И все мы знали, что любопытство сильнее нас, – мы не будем ждать до Земли. Мы раскроем капсулу сейчас.
– Все-таки Джерасси не зря погиб, – сказала тихо Марта. Так, чтобы только я услышал.
Я кивнул, взял ее за руку. У Марты были холодные пальцы…
Щупальца манипулятора положили на стол половинки цилиндра и вытащили свернутый листок. Листок упруго развернулся. Через стекло всем нам было видно, что на нем написано.
«Галактический корабль «Сатурн». Позывные 36/14.
Вылет с Земли – 12 марта 2167 г.
Посадка на планете – 6 мая 2167 г.».
Дальше шел текст, и никто из нас не прочел текста. Мы не смогли прочесть текста. Мы снова и снова перечитывали первые строчки. «Вылет с Земли – 12 марта 2167 г.» – двадцать лет назад. «Посадка на планете – 6 мая 2167 г.» – тоже двадцать лет назад.
– Вылет с Земли… Посадка… В тот же год.
И каждый из нас, как бы крепки ни были у него нервы, как бы рассудителен и разумен он ни был, пережил в этот момент свою неповторимую трагедию. Трагедию ненужности дела, которому посвящена жизнь, нелепости жертвы, которая никому не потребовалась.
Сто лет назад по земному исчислению наш корабль ушел в Глубокий космос. Сто лет назад мы покинули Землю, уверенные в том, что никогда не увидим никого из наших друзей и родных. Мы уходили в добровольную ссылку, длиннее которой еще не было на Земле. Мы знали, что Земля отлично обойдется и без нас, но мы верили, что жертвы наши нужны ей, потому что кто-то должен был воспользоваться знаниями и умением уйти в Глубокий космос, к мирам, которые можно было достигнуть, только пойдя на эти жертвы. Космический вихрь унес нас с курса, год за годом мы стремились к цели, мы теряли наши годы и отсчитывали десятки лет, прошедшие на Земле.
– Значит, они научились прыгать через пространство, – произнес наконец капитан.
И я заметил, что он сказал «они», а не «мы», хотя всегда, говоря о Земле, употреблял слово «мы».
– Это хорошо, – сказал он. – Это просто отлично. И они побывали здесь. До нас.
Остальное он не сказал. Остальное мы договорили каждый про себя. Они побывали здесь до нас. И отлично обошлись без нас. И через четыре с половиной наших года, через сто земных, мы опустимся на космодром (если не погибнем в пути), и удивленный диспетчер будет говорить своему напарнику: «Погляди, откуда взялся этот бронтозавр? Он даже не знает, как надо приземляться. Он нам все оранжереи вокруг Земли разрушит, он расколет зеркало обсерватории! Вели кому-нибудь подхватить этого одра и отвести подальше, на свалку к Плутону…»
Мы разошлись по каютам, и никто не вышел к ужину. Вечером ко мне заглянул доктор. Он выглядел очень усталым.
– Не знаю, – сказал он, – как теперь доберемся до дому. Пропал стимул.
– Доберемся, – ответил я. – В конце концов доберемся. Трудно будет.
– Внимание всех членов экипажа! – раздалось по динамику внутренней связи. – Внимание всех членов экипажа!
Говорил капитан. Голос его был хриплым и чуть неуверенным, словно он не знал, что сказать дальше.
– Что еще могло случиться? – Доктор был готов к новой беде.
– Внимание! Включаю рацию дальней связи! Идет сообщение по галактическому каналу.
Канал молчал уже много лет. И должен был молчать, потому что нас отделяло от населенных планет расстояние, на котором бессмысленно поддерживать связь.
Я посмотрел на доктора. Он закрыл глаза и откинул назад голову, будто признал, что происходящее сейчас – сон, не более как сон, но просыпаться нельзя, иначе разрушишь надежду на приснившееся чудо.
Был шорох, гудение невидимых струн. И очень молодой, чертовски молодой и взволнованный голос закричал, прорываясь к нам сквозь миллионы километров:
– «Спартак», «Спартак», вы меня слышите? «Спартак», я вас первым обнаружил! «Спартак», начинайте торможение. Мы с вами на встречных курсах. «Спартак», я – патрульный корабль «Олимпия», я – патрульный корабль «Олимпия». Дежурю в вашем секторе. Мы вас разыскиваем двадцать лет! Меня зовут Артур Шено. Запомните, Артур Шено. Я вас первым обнаружил! Мне удивительно повезло. Я вас первым обнаружил!.. – Голос сорвался на высокой ноте, Артур Шено закашлялся, и я вдруг четко увидел, как он наклонился вперед, к микрофону, в тесной рубке патрульного корабля, как он не смеет оторвать глаз от белой точки на экране локатора. – Извините, – продолжал Шено. – Вы меня слышите? Вы себе представить не можете, сколько у меня для вас подарков. Полный грузовой отсек. Свежие огурцы для Долинского. Долинский, вы меня слышите? Джерасси, Вероника, римляне шлют вам торт с цукатами. Вы же любите торт с цукатами…
Потом наступила долгая тишина.
– Начинаем торможение! – нарушил ее капитан.
Такан для детей земли
Такана поймали на границе Большого Плоскогорья, там, где серые непроходимые джунгли уступают место редким кущам сиреневых деревьев, источающих едкий запах камфары и эфира. У сиреневых деревьев ядовитые длинные иглы, и, если неосторожный путник остановится переночевать в куще, он никогда больше не проснется. Туда, на Плоскогорье, не добираются влажные серые туманы, и покрытые снегом вершины Облачного хребта видны в любую погоду.
Такана поймали канские охотники и принесли в деревушку у водопада, привязав за ноги к гибким слегам. Он еще не умел летать. Такана не добили, потому что зимней ночью в деревню приезжал начальник поста в Дарке и сказал, что за живого такана можно получить много денег.
Рана на плече такана быстро затянулась, но он не убежал в горы. Ему не было еще и года, он пасся за деревней с длинноногами и вечером возвращался в загон. Дочка старосты подкармливала его солью и смотрела, чтобы длинноноги его не обидели. Староста запряг прыгающего червя и отправился в Дарк. Там он сказал, что охотники поймали такана и ждут теперь больших денег. Начальник поста послал сообщение об этом в столицу, так я об этом узнал. Староста уехал обратно, проиграв на базаре все деньги, что взял с собой на покупку одежды, и перед отъездом поклялся духами гор, что с таканом ничего не случится.
Это был первый такан, которого поймали живым. Лет десять назад ботаник Гуляев, путешествуя по Большому Плоскогорью, увидел в пещерном храме секты Синего Солнца шкуру неизвестного зверя. Шкура была старой, потертой, густая золотистая шерсть кое-где вылезла. На шкуре восседал глава секты. Гуляева интересовала орхидея Окса, невзрачное на вид растение с белыми пятилепестковыми цветами, корни которого содержат паулин. Паулин позволяет не спать до месяца без вредных побочных эффектов. Секта Синего Солнца была известна своими многодневными радениями, и в Дарке Гуляеву посоветовали поговорить с ее главой. Глава секты сделал вид, что ничего не знает об орхидее, но зато рассказал ботанику, что зверь, шкура которого понравилась гостю с Земли, водится высоко в горах и его нельзя поймать живым. Зверь называется таканом, и его охраняют злые духи гор. Потом глава секты сказал что-то послушнику, и тот принес прозрачную тонкую пластину и сказал, что это кусок крыла такана. Таканы летают с наступлением тепла, а осенью сбрасывают крылья. Гуляев забыл об орхидее и предложил высокую цену за шкуру и кусок крыла. Но глава секты не расстался с ними, хотя и разрешил сфотографировать.
Я видел фотографию шкуры и крыла еще на Земле. Гуляев принес ее в зоопарк. Фотография была объемной, послушник держал прозрачную пленку, в ней отражалось солнце, и моя дочь Алиса сказала: «Они, наверное, стекла для окон из этого делают».
Я собрал на Зие хорошую коллекцию, больше всего в ней было прыгающих червей, и в музее меня уверяли, что они отлично акклиматизируются на Земле, что они незаменимы как вьючный транспорт. Но у меня было какое-то предубеждение против езды на червяках, и я опасался, что мои соотечественники его разделят. Я разузнал о такане все, что мог. То есть немного. Его и в самом деле не было ни в одной из коллекций планеты, и многие зоологи считали его легендой. Мне помогли разослать в горные области обещания щедрой награды за поимку такана. И через два месяца пришло известие, что молодой такан пойман. Это было исключительным везением.
До деревни меня проводил начальник поста в Дарке. Староста вышел встретить нас к изгороди. Его четыре руки были украшены каменными браслетами. За ним шли охотники с короткими копьями.
Такан за месяц подрос и догнал своих сверстников длинноногов. Он узнал старосту и подошел, когда староста его позвал. Приподняв голову, он глядел на нас большими золотистыми глазами. Он был очень мил, и мне даже стало жалко, что на Зие не знают той сказки. Оказывается, она все-таки существует в шестнадцати парсеках от Земли.
Я протянул руку, чтобы погладить такана, и староста сказал:
– Он добрый.
Старосте очень хотелось, чтобы такан мне понравился.
Мы остались ночевать в деревне. Ночью мне стало трудно дышать, и я проснулся. Я добрался до чемодана и достал кислородную маску. Пока я возился с ней, сон прошел, и я вышел на улицу. Улица упиралась в загон для скота, и я увидел такана. Он тоже не спал. Он стоял, прислонившись к ограде, и глядел на синие рассветные горы. Его шерсть чуть светилась. Он услышал мои шаги и повернул голову. Я остановился, пораженный уверенностью, что такан сейчас заговорит. Но он молчал. Мне вдруг стало стыдно, что я лишил его гор, что я собираюсь посадить его в тесный корабль и увезти на Землю. Но я постарался отогнать от себя эту мысль. Ведь звери живут в зоопарках дольше, чем на свободе.
– Спи, – сказал я ему. – Нам предстоит долгий путь. Тебя ждут.
Такан вздохнул и переступил с ноги на ногу.
Мы заплатили старосте тысячу. Это было ровно столько, сколько он запросил. Еще четыре тысячи пришлось отдать даркскому начальству. Староста жалел, что запросил мало. Он сказал «тысяча», потому что не надеялся, что найдутся существа, способные заплатить такие деньги за такана.
Мы не могли в тот же день отвезти такана в Дарк. Вездеход был мал. Тогда все уехали, а я остался в деревне ждать большую машину. У меня была кинокамера, и я целый день снимал такана, мальчишек, которые не отставали от меня ни на шаг, и старика Сопу. У старика было на две руки больше, чем у других охотников этого племени, и он напоминал шестирукого Шиву. Старик сидел у дверей хижины и равнодушно щурился в объектив. Я был рад, что задержался в этих местах. Над деревней висели сизые горы, под сосной на площади стоял измазанный жиром деревянный идол. Одно крыло у него треснуло и было подвязано грязной веревкой.
Я быстро уставал, но кислородом почти не пользовался. Ночью меня мучил сон – такан ушел в горы, и я лезу за ним сквозь ядовитые колючки к снежному перевалу и никак не могу его догнать. Только болят глаза от сияния его шкуры. Потом такан взлетает к облакам, и его стрекозиные крылья кажутся издали голубоватой дымкой.
Охотники взяли меня с собой в лес искать змей. Лес был по-осеннему пустым и тихим. Дождей уже не было несколько недель. Под ногами шуршала сухая трава. Я набрал букет мелких розовых цветов. Цветы пахли гнилью, и лепестки их были влажными на ощупь. Мне хотелось засушить цветы на память, но они к вечеру растаяли.
Через два дня приехала большая машина с клеткой. За полчаса до того, как она появилась на площади, слышно было, как тяжело дышал ее мотор, осиливая подъем. Мне хотелось остаться в деревне, и я лелеял надежду, что мотор сломается. Мне хотелось каждое утро видеть сизые горы. Но я пошел к такану, чтобы осмотреть его перед отъездом. Дочка старосты, которая не любила меня за то, что я хотел увезти такана, помахала нам, когда машина сворачивала за последний дом. Клетка покачивалась на поворотах, и такан быстро переступал с ноги на ногу, чтобы не потерять равновесия.
В самолете такан стоял, положив мне на колени теплую голову, и глаза у него были печальными. Он шевелил губами, будто шептал мне что-то, а я успокаивал его и чесал крутой лоб.
В столичном порту самолет встречало неожиданно много народа. Здесь были высокопоставленные чиновники, инопланетчики и просто любопытные. Первым подошел к самолету директор зоопарка. Ему не терпелось увидеть такана. Он предпочел бы оставить такана у себя, но даркские власти продали его Земле, и правительство не возражало. Правительству хотелось, чтобы такан был подарком Земле. Никто не сомневался, что теперь, когда исчезли сомнения в его реальности, можно будет достать еще нескольких для себя.
Я свел такана по трапу на пластиковое покрытие аэродрома, и встречающие подходили и гладили его по теплому шелковистому боку. Такан терпеливо ждал, когда можно будет уйти в прохладу. В долине ему было душно, жарко, и бока его тяжело раздувались.
Такана поместили в кондиционированной комнате космослужб. Мы хотели, чтобы он акклиматизировался и окреп перед новым путешествием.
Такан тосковал. Он отказывался от незнакомой травы. Я каждый день надоедал химикам, которые искали пригодную пищу для пленника. По вечерам у комнаты толпились посетители. В столице стало модным ездить к такану. Но я старался не пускать гостей. Такану надоели посетители. Я привязался к такану. Мне казалось, что ему тоже снятся сизые горы и далекие снежные тучи.
В столице было жарко. К утру таяли перистые облака и за окнами повисала мелкая серая пыль. Я приспособился работать в комнате такана. Там было прохладнее. Такан иногда поднимался с жухлой подстилки, подходил ко мне сзади и, стараясь не мешать, смотрел, как я печатаю на машинке.
Корабль с Земли запаздывал. Я слал панические депеши, сообщал о критическом положении ценных животных. Меня хорошо знали связисты на космостанции и думали, что у меня денег куры не клюют. Я складывал в карман квитанции и ждал субботнего визита в наше представительство, где потный, раздраженный бухгалтер отсчитывал валюту за содержание животных и зоолога, меня. Бухгалтер до смерти боялся прыгающих червяков и старался не выходить на улицу, все ждал, что один из них прыгнет на него. Я уговаривал его посмотреть на такана, но он не соглашался и уверял меня, что начисто забыл детские сказки.
Иногда по вечерам мы с таканом разговаривали. Вернее, разговаривал я, а такан соглашался. Или не соглашался.
– Слушай, – говорил я. – Мы должны делать людей счастливыми. Такая у нас задача. У нас с тобой.
Такан склонял голову набок. Он не верил мне. Ресницы его, длинные и прямые, как шпаги, скрещивались, если он прищуривался.
– Дети должны верить в сказки, – говорил я. – Они ждут тебя, потому что ты сказка. Ты олицетворяешь для них доброту и верность. Поедем со мной на Землю. Я прошу тебя.
– Хорошо, – сказал он однажды. У него прорезались крылья. Они чесались, и он исцарапал их остриями стены в комнате.
– Представляешь, – говорил я. – По всем каналам телевидения объявят, что ты прилетел. И все придут посмотреть на тебя.
Такан положил мне на колени тяжелую теплую голову.
– Тебе понравится наша трава. Она совсем такая же, как в горах.
Город душили жаркие туманы. Они мешали дышать. Ко мне пришел директор зоопарка. Он пил земной лимонад и долго рассказывал мне о трудностях работы, о болезнях хищных цветов и приплоде трехголовых змей. Я рассеянно слушал его и думал, что такана придется отдать в зоопарк. Временно.
Я послал еще две «молнии» на Землю. Из представительства позвонили, что пассажирский лайнер «Орион» изменил курс для того, чтобы забрать нас. Лайнер будет в столице минимум через две недели. Надо дождаться.
Пришло письмо от дочки старосты. Оно было написано грамотеем в Дарке, на базаре. Дочка старосты писала, что отец разделил сотню между охотниками, которые поймали такана, а девятьсот положил в банк в Дарке. Старик знал цену деньгам. Каждому охотнику пришлось по двадцатке. Они проиграли их на базаре. Еще дочка старосты писала, что охотники видели следы взрослых таканов, но они улетели.
Я ответил дочке старосты, что такан чувствует себя хорошо, а когда придет корабль с Земли, то ему будет лучше. Я просил ее не беспокоиться, потому что я всегда думаю о такане.
Мы перевели такана в зоопарк. Он совсем ослаб и с трудом доплелся до зеленой рощи посреди загона, где жили волосатые птицы. Птицам жара нипочем, они живут в горячих вулканических болотах. У входа в зоопарк директор повесил объявление, где говорилось, что единственный пойманный живьем такан перед отправкой на Землю доступен для обозрения.
В загоне росли деревья и было болотце с подогревом воды. В болотце возились в иле волосатые птицы, и иногда из воды выпрыгивала трехрукая рыба. Птицы дрались и верещали.
Посетители приходили в парк семьями, оставляли червяков у ворот. Они приносили с собой коврики и кастрюли. Посетители разглядывали золотистое пятно в тени деревьев, но больше интересовались волосатыми птицами, потому что на Земле и на Зие совсем разные сказки. И в их сказках главными героями были огненные змеи и волосатые птицы.
Директор зоопарка был доволен. Ему хотелось бы, чтобы такан остался в зоопарке навсегда. Он был патриотом зоопарка и неплохим зоологом.
Позавтракав на траве, посетители шли к поющим змеям, суетливым и немузыкальным. Змеи подражали людям, и посетители старались угадать, на что это похоже. И смеялись. Иногда мальчишки кидали в такана камешками, чтобы он поднялся и подошел к загородке. Они дразнили его длинноногом. Такан не вставал. Когда я приходил к нему, он вздыхал и старался приподнять крылья, почти невидимые в тени. Тогда у загородки собиралось очень много народа, ибо я был куда большей диковинкой, чем такан. Мальчишкам казалось, что я тоже экзотическое животное, потому что у меня только две руки и два глаза, но камешками в меня они не кидали.
Телефон в моем номере зазвонил в три часа ночи. Директор зоопарка, путаясь от волнения, сказал, что такан совсем плох. Я крикнул в трубку, что сейчас буду. Я включил настольную лампу и никак не мог попасть в рукава рубашки.
Такану стало плохо еще вечером, до закрытия зоопарка, но директор не позвонил мне, надеясь вылечить его сам. Он не хотел, чтобы я подумал, будто кто-то из сотрудников зоопарка виноват в болезни зверя.
Я долго бежал по ночным улицам, спотыкаясь о трещины в мостовых, скользя в лужах, распугивая ящериц и слепунов. У ворот меня встретил служитель, средний глаз его был закрыт – служителю хотелось спать. Я не понял, что он говорит, и побежал в гору, мимо клеток с червяками и загонов, где, разбуженные моими шагами, возились черные тени.
Такан лежал в кабинете директора. Директор в белом халате сидел у стола, заставленного бутылками, ампулами, коробочками. Директор был смущен, но мне некогда было его утешать.
Глаза такана были затянуты белыми пленками, словно у птицы. Он редко, со всхлипом дышал, и порой по его шкуре пробегала дрожь. Тогда он мелко стучал по полу белыми копытцами.
Я подумал, что перед смертью такан видит сизые горы, но я не успею увезти его обратно.
Шерсть у меня под ладонью была такой же мягкой и теплой, как всегда, но я знал, что она остынет до рассвета. Я не мог пристрелить его, потому что он был моим другом.
Вдруг такан, будто захотев попрощаться со мной, открыл глаза. Но он смотрел мимо меня, на дверь. Там стояла дочка старосты.
– Я приехала, – сказала она. – Я поняла по письму, что такану плохо. Я привезла горную траву. Когда длинноноги болеют, они едят эту траву.
Девушка сняла с плеча мешок, от которого по комнате распространился тонкий аромат горных лугов и ветра.
Такан сказал ей что-то, и девушка достала из мешка охапку сизых, как горы, цветов…
Дочь старосты пришла проводить нас на космодром. За те два дня, что мы просидели с ней у больного такана, мы подружились, и она поверила мне, что такану стоит поехать на Землю.
Такан был еще слаб, но когда стюардесса «Ориона» увидела, как мы втроем выходим на поле, она взвизгнула от восторга, а я сказал такану:
– Вот видишь, я же тебе говорил.
– Я разбужу пассажиров, – предложила стюардесса. – Они обязательно должны удивиться. А он умеет летать?
– Будет летать, – сказал я. – Не надо будить пассажиров. Они еще успеют на него наглядеться.
Мы с таканом проследили, как идет погрузка нашего зверинца, а потом проследовали в каюту, где нас ждал капитан, который сказал, что это нарушение правил, но он не имеет ровным счетом ничего против.
Мы прилетели на Землю через три недели. За это время такан успел познакомиться с пассажирами, он гордился тем, что оказался в центре внимания. Крылья у него настолько отросли, что он мог летать по длинному коридору корабля и даже возил на спине одну десятилетнюю девочку.
У этой девочки оказалась нужная нам книга, и я прочел ее такану. Такан повторял за мной некоторые стихи и рассматривал картинки, удивляясь, до чего похож он на книжного героя.
Мы договорились, что появление такана на Земле будет обставлено как можно более театрально. Девочке мы сшили красные сапожки и красную рубашку с пояском. И полосатые штаны. Это оказалось нелегким делом. Три дня ушло на поиски материала, и если штаны и рубашку сшили потом стюардесса с матерью девочки, то сапоги пришлось тачать мне самому. Я исколол до ногтей пальцы и перевел несколько метров красного пластика.
Такан попросил, чтобы девочку одели, и остался доволен результатом.
Последнюю ночь перед приземлением он не спал и нервно постукивал копытом о переборку.
– Не беспокойся, – говорил я ему. – Спи. Завтра будет трудный день.
Когда «Орион» приземлился и телевизионные камеры подъехали поближе, такан подошел к люку и сказал девочке:
– Держись покрепче.
– Я знаю, – сказала девочка.
Капитан приказал открыть люк. Зажужжали камеры, и все, кто собрался на громадном поле, смотрели на черное отверстие люка.
Я никак не мог подумать, что весть о нашем прилете вызовет такое волнение на Земле. Десятки тысяч человек съехались к космодрому, и телеспутники, встретившие нас на внешней орбите и проводившие почетным эскортом до поля, кружили рядом, словно толстые жуки.
Такан легко прыгнул вперед, взлетел над полем и медленно поплыл к широко открытым глазам телевизионных камер. Крылья его, тонкие и прозрачные, были не видны. Казалось, что всадника прикрывает легкое марево. Девочка подняла приветственно руку, и миллионы детей закричали:
– Лети к нам, конек-горбунок!
Конек-горбунок позировал перед камерами. Он несся к ним, тормозил неподалеку, поводил длинными ушами и снова взмывал к облакам. Девочка крепко держалась за гриву и пришпоривала конька-горбунка красными пластиковыми сапожками.
– Он не устанет? – спросила стюардесса.
– Нет, – ответил я. – Оказывается, он не лишен тщеславия.
Сказки
Мне хотелось представить, как выглядели бы всем известные сказки, если бы их придумали писатели-фантасты, которые умеют самым невероятным вещам найти почти научное объяснение.
Условия игры понятны? Тогда начинаем. Первая сказка называется…
Репка
Старик закатал рукава тельняшки, повесил на березку телетранзистор, чтобы не упустить, когда начнут передавать футбол, и только собрался прополоть грядку с репой, как услышал из-за забора из карликовых магнолий голос соседа, Ивана Васильевича.
– Здравствуй, дед, – сказал Иван Васильевич. – К выставке готовишься?
– К какой такой выставке? – спросил старик. – Не слыхал.
– Да как же! Выставка садоводов-любителей. Областная.
– А что выставлять-то?
– Кто чем богат. Эмилия Ивановна синий арбуз вывела. Володя Жаров розами без шипов похвастаться может…
– Ну а ты? – спросил старик.
– Я-то? Да так, гибрид есть один.
– Гибрид, говоришь? – Старик почувствовал что-то неладное и в сердцах оттолкнул ногой подбежавшего без надобности любимого кибера по прозванию Мышка. – Не слыхал я, чтобы ты гибридизацией баловался.
– Пепин шафранный с марсианским кактусом скрестил. Интересные результаты, даже статью собираюсь написать. Погоди минутку, покажу.
Сосед исчез, только кусты зашуршали.
– Вот, – сказал он, вернувшись. – Ты отведай, дед, не бойся. У них аромат интересный. А колючки ножичком срежь, они несъедобные.
Аромат старику не понравился. Он попрощался с соседом и, забыв снять с березы телетранзистор, пошел к дому. Старухе он сказал:
– И на что это людям на старости лет колючки разводить? Ты скажи мне, зачем?
Старуха была в курсе дела и потому ответила не задумываясь:
– Ему эти кактусы с Марса в посылке прислали. Сын у него там практику проходит.
– «Сын, сын»! – ворчал старик. – У кого их нет, сыновей? Да наша Варя любому сыну сто очков вперед даст. Правду говорю?
– Правду, – не стала спорить старуха. – Балуешь ты ее только.
Варя была любимой внучкой старика. Жила она в городе, работала в Биологическом институте, но деда с бабкой не забывала и отпуск всегда проводила с ними, в тишине далекой сибирской деревни. Вот и сейчас она спала в солярии скромной стариковской избушки и не слышала, как ее старики нахваливали.
Дед долго сидел на лавке, пригорюнившись. Слова соседа его сильно задели. Соперничали они с ним давно, лет двадцать, с тех пор, как оба вышли на пенсию. И все сосед его обгонял. То привезет из города кибердворника, то достанет где-то электронный грибоискатель, то вдруг марки начнет собирать и получит медаль на выставке в Братиславе. Неугомонный был сосед. И теперь вот этот гибрид. А что у старика? Только репок грядка.
Старик вышел в огород. Репки тянулись дружно, обещали стать крепкими и сладкими, но ничем особенным не отличались. Такие и на выставку не повезешь. Дед так задумался, что не заметил, как подошла к нему, потягиваясь, заспанная внучка.
– Что невесел, дедушка? – спросила она.
– Опять Жучка киберу ногу отгрызла, – соврал дед. – Стыдно перед людьми за такое бессмысленное животное.
Деду не хотелось сознаваться, что причина расстройства зависть. Но внучка и так догадалась, что дело не в собаке Жучке.
– Из-за кибера ты бы расстраиваться не стал, – сказала она.
Тогда старик вздохнул и вполголоса рассказал ей всю историю с выставкой и соседским гибридом.
– Неужели у тебя ничего не найдется? – удивилась внучка.
– Не в том дело, чтобы на выставку попасть, а в том, чтобы призовое место занять. И не с марсианскими штучками, а с нашим, земным, родным фруктом или овощем. Понятно?
– Ну а репки твои? – спросила внучка.
– Малы, – ответил дед, – куда как малы.
Варя ничего не ответила, повернулась и ушла в избу. Ее фосфоресцирующий комбинезончик-туника оставил в воздухе легкое приятное благоухание.
Не успело благоухание рассеяться, как она уже вернулась, держа в руке большой шприц.
– Вот, – сказала она. – Тут новый биостимулятор. Мы над ним три месяца в институте бились. Мышей извели видимо-невидимо. Опыты еще, правда, не завершены, но уже сейчас можно сказать, что оказывает он решающее влияние на рост живых организмов. Я как раз собиралась его на растениях опробовать, вот и случай подвернулся.
Дед в науке немного разбирался. Как-никак проработал тридцать лет шеф-поваром на пассажирской линии Луна – Юпитер. Взял старик шприц и собственной рукой вкатил в золотой бочок ближайшей к нему репки полную дозу. Обвязал листочки красной тряпочкой и пошел спать.
Наутро и без тряпочки можно было узнать уколотую репку. За ночь она заметно подросла и обогнала своих товарок. Дед обрадовался и на всякий случай сделал ей еще один укол.
До выставки оставалось три дня, и надо было спешить. Тем более что сосед Иван Васильевич ночей не спал, настраивал электропугал, чтобы вороны урожай не склевали.
Еще один день прошел. Репка уже выросла размером с арбуз, и листья ее доставали старику до пояса. Старик осторожно выкопал остальные растения с грядки и вылил на репку три лейки воды с органическими удобрениями. Потом окопал репку, чтобы воздух свободнее к корневой системе проходил.
И никому эту работу не доверил. Ни бабке, ни внучке, ни роботам.
За этим занятием его и застал сосед. Иван Васильевич раздвинул листья магнолии, подивился и спросил:
– Что это у тебя, старик?
– Секретное оружие, – ответил дед не без ехидства. – Хочу на выставку попасть. Достижениями похвалиться.
Сосед долго качал головой, сомневался, потом все-таки ушел. Ворон отпугивать от своих гибридов.
Утром решающего дня старик поднялся рано, достал из сундука мундир космонавта, надраил мелом почетный знак за десять миллиардов километров в космосе, почистил ботинки с магнитными подковками и при полном параде вышел в огород.
Зрелище, представшее перед его глазами, было внушительным и почти сказочным.
За последнюю ночь репка выросла еще вдесятеро. Листья ее, каждый размером с двуспальную простыню, лениво покачивались, переплетаясь с ветвями березы. Земля вокруг репки потрескалась, будто старалась вытолкнуть наружу ее громадное тело, верхушка которого достигала старику до колен.
Несмотря на ранний час, на улице толпились прохожие, и они встретили деда бестолковыми расспросами и похвалой.
За забором из карликовых магнолий суетился пораженный сосед.
«Ну, – сказал сам себе старик, – пора тебя, голубушка, вытягивать. Через час машина придет из выставочного комитета».
Он потянул репку за основание стеблей.
Репка даже не шелохнулась. На улице кто-то засмеялся.
– Старуха! – крикнул дед. – Иди сюда, подсоби репку вытянуть!
Старуха выглянула в окошко, ахнула и через минуту, сопровождаемая внучкой и собакой Жучкой, присоединилась к старику.
Но репка не поддавалась. Старик тянул, старуха тянула, внучка тянула, даже собака Жучка тянула, – из сил выбились.
Кот Васька, который обычно в жизни семьи не принимал никакого участия, сиганул с крыши солярия деду на плечо и тоже сделал вид, что помогает тянуть репку. На самом-то деле он только мешал.
– Давай Мышку позовем, – сказала старуха. – Ведь в ней как-никак по инструкции семьдесят две лошадиные силы.
Кликнули кибера по прозвищу Мышка.
Репка зашаталась, и листья ее с шумом зашелестели над головами.
А тут и сосед Иван Васильевич перепрыгнул через забор, и зрители с улицы бросились на помощь, и подъехавший автомобиль-платформа выставочного комитета подцепил репку автокраном…
И вот так, все вместе: старик, старуха, внучка, Жучка, кот Васька, кибер по прозвищу Мышка, сосед Иван Васильевич, прохожие, автокран, – все вместе вытащили из земли репку.
Остается только добавить, что на областной выставке садоводов-любителей старик получил первую премию и медаль.
Теремок
Астероид был маленький. На нем умещалась только автоматическая станция-маяк, чтобы на него случайно не налетел рейсовый корабль. Раз в год к астероиду подлетал Рустем Севорьян, делал маяку профилактику и отправлялся к следующему маяку, за несколько миллионов километров. А уж больше, разумеется, никто к астероиду не причаливал.
И надо же было так случиться, что, когда Рустем прилетел туда в прошлом году, он при посадке повредил горизонтальный руль – авария редкая, но несложная. Кислорода и воды у Рустема было достаточно, и он спокойно принялся за ремонт.
Часа через три, притомившись, сел Рустем на уступ астероида и поглядел на звездное небо. Смотрел и думал: «Вот живу среди такой красоты, а все некогда полюбоваться!» И даже порадовался поломке.
Тут он обратил внимание на одну из звезд. Она увеличивалась в размерах, приближалась. «Уж не ракета ли» – подумал Рустем. И правда, это была ракета.
– Астероид И-34, астероид И-34! – трещало радио. – Иду на посадку!
– Вы кто? – спросил Рустем приближающуюся ракету.
– На астероиде люди? – удивилось радио. – Отвечаю: геологическая партия. Поисковый полет по поясу астероидов. А ты кто?
– Смотритель космических маяков Севорьян. У меня вынужденная посадка. Добро пожаловать.
Рустем спустился в маленький бункер под маяком, специально оборудованный на случай, если кто-нибудь случайно забредет на астероид, и принялся готовить кофе для гостей. Он был очень рад, что поговорит с живыми людьми, – ведь как-никак второй месяц в одиночном полете.
Геологи оказались славными, веселыми ребятами. Их было трое. Они носились по поясу астероидов и искали ценные металлы. Вчетвером жители астероида еле уместились в бункере.
У одного из геологов была с собой гитара, и перед сном они хором пели новые марсианские песни.
Проснулся Рустем от сильного толчка. Из-за того что тяготения на астероиде не было, обитатели бункера взлетели в воздух и долго не могли опуститься на пол.
– Что случилось? – волновались геологи, паря над столом.
– Мы столкнулись с кем-то?
– Нет, – сказал Рустем, – не думаю. Наверное, у нас гости.
И он включил систему внешней связи.
– Ой-ой! – услышали обитатели бункера. – Это же должен быть необитаемый астероид. А тут две ракеты к нему привязаны. Колька, что теперь делать?
– Вы кто такие? – спросил Рустем грозным голосом. – Швартоваться в космосе не умеете?
– Нет, не умеем! – услышал он. – Мы школьники из Юпитерска. А вы кто?
– Я смотритель маяков Рустем Севорьян. Со мной еще геологи-разведчики. Спускайтесь с корабля и заходите в бункер.
Через несколько минут дверь тамбура отворилась, и в помещение втиснулись два мальчика – один лет тринадцати, другой чуть постарше. Их со всем пристрастием допросили, и оказалось, что Коля и Жак угнали у завхоза в школе ракету и отправились искать необитаемый астероид, чтобы пережить настоящие приключения.
– Сейчас же отправляйтесь обратно, – сказал сердито главный геолог. – Ведь родители с ума сойдут.
– Не надо, дядя! – заплакали школьники. – Мы будем себя хорошо вести, будем готовить пищу и разводить хлореллу. Только не отправляйте нас домой!
Но геологи были неумолимы. Они надели скафандры, вышли наружу вместе с мальчиками и хотели уж было улететь, как обнаружили, что ребята при посадке так покорежили их корабль, что его придется чинить по меньшей мере неделю.
Рустем тем временем сварил на всех кофе, и, когда расстроенные жители бункера кое-как разместились в два этажа и стали держать совет, что же делать дальше, астероид снова мягко качнулся.
– Ну вот, – сказал Рустем, – это, наверно, за вами, мальчики. Ваши родители.
И он включил систему внешней связи.
– Кто на астероиде? – спросил мужской голос.
– Я, Рустем Севорьян, смотритель маяков, геологи-разведчики и мальчики – искатели приключений. А вы кто?
– Мы молодожены и ищем необитаемый астероид, чтобы провести на нем медовый месяц, – ответил мужской голос. – Оказывается, мы попали не по адресу.
– Что ж теперь делать, швартуйтесь как следует и идите кофе пить. Вы, наверное, устали.
Не успели молодожены снять скафандры, как внешняя связь снова ожила.
– Астероид И-34, астероид И-34! Отзовитесь. Кто на астероиде?
– Я, Рустем Севорьян, смотритель маяков, а со мной геологи-разведчики, два мальчика – искатели приключений, и молодожены. А вы кто?
– Вот хорошо, мы попали, куда нужно! Мы родители мальчиков – искателей приключений. Мы их уже два дня по всему космосу ищем, чтобы наказать. Сейчас мы пришвартуемся и с ними поговорим.
Рустем вздохнул и открыл последнюю банку с кофе. В бункере было душновато. Регенерационная установка не успевала очищать воздух. Пока он варил кофе, вошли родители мальчиков, общим числом четыре человека, а также штурман корабля, на котором они прилетели. Кофе они пили, стоя плечом к плечу. В бункере было шумно. Родители корили мальчиков, молодожены обсуждали планы на будущее, геологи пели песни. Поэтому никто даже не заметил, что к астероиду причалила еще одна ракета. Небольшая грузовая ракета.
Раздался стук в дверь, и усталый голос спросил:
– Скажите, астероид обитаемый?
– Да, – ответил Рустем, открывая дверь в тамбур. – Здесь я, Рустем Севорьян, смотритель маяков, со мной геологи-разведчики, мальчики – искатели приключений, родители мальчиков и молодожены, которые ищут необитаемое место. А вы кто?
– И не спрашивайте, – ответил усталый голос. – Я дрессировщик Уголка Дурова. Я везу на Юпитер лису и волка, чтобы показать тамошним ребятам, что они умеют делать. Звери у меня ручные, в намордниках, но плохо переносят перегрузки. Пустите нас отдохнуть.
– Что вы! – сказали родители мальчиков. – У нас же здесь дети. А вдруг волк их съест?
Но было поздно. Рустем уже впустил в бункер дрессировщика и его животных. Звери никого не кусали, а легли спать в углу, даже не сняв намордников. А дрессировщик принялся пить кофе и рассказывать мальчикам удивительные случаи из своей богатой приключениями жизни.
Рустем не стал выключать внешнюю связь. Он пытался связаться с Марсом, чтобы оттуда выслали рейсовый корабль. Но связь никак не удавалось установить.
– Марс-сортировочная, Марс-сортировочная, – повторял Рустем.
– Вижу незарегистрированный астероид прямо по курсу, – раздался вдруг незнакомый голос. – Астероид, отзовитесь. Почему не на орбите?
– Мы на орбите, – сказал Рустем. – Мы – И-34.
– Ваши координаты не совпадают с расчетными, – сказал голос.
– Ну конечно, – сказал один из геологов. – Наш астероид за сегодняшний день столько толкали ракетами, что он изменил орбиту. Маленький ведь.
– Почему вышли на пассажирский путь? – волновался голос. – Кто на астероиде?
– Я, Рустем Севорьян, смотритель маяков, со мной геологи-разведчики, мальчики – искатели приключений, родители мальчиков, молодожены, которые ищут необитаемое место, лиса и волк из Уголка Дурова и дрессировщик. А вы кто?
– Мы «Медведь», рейсовый Марс – Трансплутон. Находимся в опасной близости.
В бункере наступила трагическая тишина. Все понимали, что громадный рейсовый корабль не может затормозить.
– Он нас раздавит, – тихо сказал штурман с ракеты, на которой прилетели родители мальчиков.
– Перехожу к экстренному торможению. Всем пассажирам пристегнуть привязные ремни! – сказал голос с «Медведя».
– …Пятьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят три… – отсчитывал Рустем.
Минуты тянулись еле-еле. Старший из мальчиков заплакал.
– Торможение завершено. Нахожусь около астероида, – сказал «Медведь». – Я горючее на этом маневре перерасходовал. Не знаю, как теперь доберусь до Марса.
– Ничего! Это ничего! – радостно крикнул Рустем. – Мы перекачаем из наших ракет. У нас тут шесть кораблей, и все заправлены.
Так и сделали. А когда баки «Медведя» были снова полны, он взял на буксир шесть ракет и привез всех на Марс: и Рустема Севорьяна, смотрителя маяков, и геологов-разведчиков, и мальчиков – искателей приключений, и их родителей, и молодоженов, и лису, и волка, и дрессировщика из Уголка Дурова.
Гуси-лебеди
На Земле, на высокогорном космодроме Каракорум, в двух километрах от карантинного сектора возвышается одинокий, забытый и покинутый всеми корабль. Это совсем неплохой, почти новый звездолет класса «Оптима», который совершил всего одно путешествие, причем путешествие удачное, принесшее Земле множество разнообразных интереснейших открытий и находок.
Казалось бы, звездолету еще летать и летать. Но он стоит холодный и недвижимый под ярким небом, и никто не подходит к нему ближе чем на двести метров.
О тайне его космонавты предпочитают не рассказывать, и мне удалось узнать ее совершенно случайно – я оказался соседом по даче геолога Питера, молчаливого, замкнутого человека, от которого всегда пахнет одеколоном и нашатырным спиртом. Питер и открыл мне тайну покинутого корабля…
Питер называл их лебедями. Правда, он вкладывал в это слово столько ненависти, что понятно было – никакие они не лебеди, дрянь птицы, и только. Когда лебеди пролетали утром над долиной – длинные трехметровые шеи с непомерно большими клювами, черные перепончатые крылья и серые чешуйчатые ноги, убирающиеся в складчатый живот, как шасси, – Питер подходил к окну и бессильно грозил им кулаком.
Они с Игорем пробовали их стрелять, но на труп сбитого лебедя слеталась сразу такая стая, что приходилось все бросать и отступать под защиту стен дома.
Третий месяц геологи сидели на этой планетке. Их сбросили на разведракете вместе с домом и запасом продуктов на полгода. Корабль ушел дальше, обследовать другие планеты этой системы. Когда осматривали планету с воздуха, лебедей не заметили и не знали, что они могут стать основным препятствием к исследованию нового мира.
Питер ненавидел их не столько за хищный и злой нрав, не столько за быстроту полета и силу когтей, сколько за то, что они срывали все планы. Планета оставалась такой же неисследованной, как и в первый день. Невозможно же передвигаться только в вездеходе, боясь высунуть нос наружу.
В то утро они отъехали от дома километров на пять, а потом полчаса просидели закупоренными в вездеходе, потому что пара любопытных лебедей кружила низко над машиной, будто поджидала, когда же появится дичь поменьше размером, чем вездеход.
Наконец, когда терпение Питера уже совсем было лопнуло, лебеди взмыли вверх и растворились в низких облаках.
– Вроде миновало, – сказал Игорь. – Пошли?
– Пошли. Проверь пистолет.
Они вышли наружу, стараясь держаться в нескольких шагах от вездехода, так, чтобы успеть нырнуть в него в случае опасности. Они даже старались тюкать молотками как можно тише.
Питер завернул за выступ скалы и склонился над интересным обнажением, когда услышал характерный шелест крыльев. Он резко обернулся и прижался спиной к скале, доставая пистолет. Но над ним никого не было.
И тут в наушниках раздался крик Игоря:
– Питер!
– Что с тобой?
Питер уже бежал в сторону товарища.
Он не успел. Над скалой поднимался, быстро, как черная молния, лебедь, который держал в когтях Игоря.
Питер поднял пистолет. Надо как следует прицелиться, чтобы не попасть в человека…
– Не стреляй, Питер! – крикнул Игорь. – Скафандр выдержит. А то разобьюсь о скалы.
Питер опустил оружие. Игорь был прав. Лебедь поднялся уже метров на сто. Он повернулся и взял курс на север. К нему присоединились, вынырнув из-за облаков, еще три лебедя. Они описывали круги, будто дивясь, какая сказочная добыча попалась в лапы их товарищу.
– Как бы он не бросил, как орел черепаху, – подумал вслух Питер.
Игорь услыхал.
– Надеюсь, нет, – сказал он. – Но чертовски неудобно.
– Держись, Игорек, держись, друг, – сказал Питер, заводя вездеход.
Он пытался проглотить комок, застрявший в горле. Вездеход взревел, протестуя против лихорадочных движений Питера, подпрыгнул на месте и рванулся через каменные россыпи к северу, где вставало восьмое сиреневое солнце планеты.
Хуже всего, что дорога была совсем неизвестна. Никогда еще геологи не отходили так далеко от базы. Вездеход, расшвыривая гравий и разрывая корни сухих кустов, спускался все ниже в долину.
– Игорь! Игорь! Как ты?
– Жив еще, – ответил Игорь. – Мы спускаемся к невысокой гряде. В ней вижу несколько пещер. Наверно, это их гнезда.
Вездеход затормозил перед белой, будто молочной, мутной речкой, протекающей меж вязких, топких берегов. Кисельная жижа не выдерживала машину. Пришлось взять правее в поисках более удобного места для переправы.
– Снижаемся, – продолжал Игорь. – Вход в пещеру довольно широк, но на вездеходе в него не пройти.
– Оружие у тебя с собой? – спросил Питер.
– Нет, потерял, когда меня перевернули вверх головой.
– Смотри, чтобы они тебе скафандр не прорвали, – когти у них что надо.
– У меня нож остался.
Но ни Игорь, ни Питер не были уверены, что нож поможет Игорю отбиться от когтей хищников.
Вездеход форсировал реку и сквозь редкий лес направился к холмам на горизонте. Ветви деревьев сгибались под тяжестью крупных круглых плодов, немного похожих на яблоки. Яблоки с треском лопались под гусеницами вездехода. Пришлось снизить скорость, чтобы ненароком не врезаться в толстый узловатый ствол.
Лес кончился. Последним препятствием на пути к ясно видневшейся гряде скал, испещренных черными точками пещер, оказалось поле гейзеров и вулканчиков. Долина дышала жаром, как раскаленная печь. Вездеход чуть не провалился в присыпанный камнями кратер, и на секунду ветровое стекло заволоклось густым серым дымом.
– В пещере темно, – раздавался в ушах голос Игоря. Голос доносился еле-еле – экранировали стены пещеры. – Эти гады решили, видно, меня свежевать. Уж очень треплют.
– Включи фонарь! – крикнул Питер.
– Неплохая идея!.. Они отлетели. Не понравилось. То-то, голубчики! Слышишь стук?
– Нет, а что?
– Бьют клювами по фонарю. Разбить хотят. Понимают все-таки. Ах, вы…
– Игорь!
– Я жив, просто некогда разговаривать. Поспеши, пожалуйста, они наглеют.
Питер и так спешил. Вездеход упорно полз вверх по склону, и пасти пещер приближались с каждой секундой.
Вдруг всхлипнул и на мгновение замолк двигатель. Топливо! Ведь никто не думал, что вездеходу придется отойти на столько километров от базы. Мотор еще тянул, но Питеру уже приходилось мысленно повторять пройденный путь и ломать голову над тем, как пройти его пешком.
– В какой ты пещере? Я близко.
– Третья слева.
Питер выскочил из вездехода. До черного жерла пещеры оставалось десять шагов.
Вокруг пусто. Только высоко кружит одинокий лебедь, не обращая внимания на замерший вездеход.
Но в тот момент, когда Питер готов был нырнуть в темный лаз, навстречу ему появился лебедь и удивленно замер, увидев, что еще кто-то по собственной воле пожаловал прямо к нему домой. Лебедь щелкнул твердыми костяными ресницами и громко квакнул.
– Они меня оставили в покое. Берегись! – сказал Игорь.
– Ты можешь идти?
– Сейчас попробую.
Забыв об Игоре, лебеди выскакивали на свет, щурились, расправляли крылья и по очереди бросались на Питера.
Питер был готов к встрече. Один за другим хищники сваливались ему под ноги и, ломая крылья, катились вниз под уклон.
– Ты скоро? – спросил Питер. – Как бы мне тебя заодно не подстрелить.
– Погоди. Тут еще осталось с полдюжины добровольцев. Патронов хватит?
– Хватит. Раз, два… Где же третий? Ага, вот третий. Четыре. Еще два осталось?
– Да. Вот один полез.
– Вижу. Пять и… шесть. Прекращаю стрельбу.
Его скафандр был густо измазан грязью и пометом лебедей. В отверстии пещеры показался Игорь.
Геолог пошатывался и, казалось, сам не верил в то, что выбрался из плена.
Питер подбежал к нему:
– Сильно помяли?
– Есть немного, – попытался улыбнуться Игорь. – Я уж думал, что не успеешь. Посмотри.
Скафандр был исцарапан когтями, и в некоторых местах сквозь разодранный верхний слой просвечивала белая внутренняя ткань.
– Скорей в машину, – сказал Питер. – Видишь?
Из соседней пещеры выскочили еще три лебедя. Лебединая колония, встревоженная выстрелами и криками своих умирающих собратьев, готовилась вступить в бой. Этот бой ничего хорошего геологам не сулил.
Последние капли топлива позволили вездеходу развернуться и на холостом ходу скатиться вниз. Здесь мотор окончательно замолчал.
– Пойдем пешком? – спросил Игорь.
– Боюсь, тебе это сейчас не под силу. Давай отдохнем немного. Лебеди разлетятся, тогда отправимся к дому.
Лебеди с налету ударяли когтями о крышу вездехода, и суматошно мелькающие крылья закрывали свет.
– Надолго ли их хватит? Я проголодался, – сказал Питер.
Игорь не ответил. Он пытался ветошью стереть со скафандра куски грязи.
Прошло полчаса, потом час.
– Как у нас с воздухом? – спросил Игорь.
– Еще часа на два осталось.
– Если через пятнадцать минут они не улетят, придется идти.
Когда прошли эти пятнадцать минут и геологи вылезли из вездехода, над ним кружил только один лебедь – наверно, дежурный.
Геологи как можно быстрей зашагали вниз, к лесу.
Лебедь сделал круг над ними, но нападать не стал, а полетел по направлению к пещерам. Еще через две минуты он вернулся в сопровождении целой стаи. Геологи побежали. Игорь прихрамывал, и бежать ему было трудно. Лебеди круг за кругом снижались, высматривая людей среди столбов дыма, подымавшихся из подземных печек.
Питер нагнулся и поднял с земли похожую на пирог вулканическую бомбу и запустил ею в самого смелого лебедя. «Пирог» угодил в него, лебедь заквакал и исчез в столбе дыма, поднявшегося над маленьким кратером.
Еще рывок, и люди скрылись под тенью деревьев.
– Передохни, – сказал Питер. – Они сюда не сунутся.
Но, как будто услышав его, двое лебедей опустились на землю и пешим ходом бросились в атаку. Питер выстрелил в упор, и один из лебедей упал. Игорь сорвал с ветки яблоко и разбил его о голову второго лебедя. Яблоко залепило лебедю глаза.
– Видишь, там погуще, – сказал Питер, – спрячемся.
Следующие пятнадцать минут они прятались среди густых яблоневых ветвей, перебегая к следующей куще, как только лебеди теряли их из виду. Наконец лес кончился, и внизу открылась река – белая вода среди топких берегов.
– Тут придется совсем туго, – задумчиво произнес Игорь.
– Она неглубокая, – сказал Питер. – Вон там, левее, место, где я перебирался на вездеходе.
Они подождали под последним деревом, пока лебеди поднялись повыше, и побежали к реке. Топкий кисельный берег хватал за ноги, молочная вода сбивала с ног. Геологи вышли в тень противоположного берега и остановились по колено в сером киселе.
Наступали сумерки.
– Вот мы почти и дома, – сказал Питер. – Осталось три патрона.
– И воздуха на полчаса, – добавил Игорь, взглянув на прибор.
– В темноте легче скрыться.
– Но темноты нам не дождаться.
– А почему они не нападают? – спросил Игорь. – Смотри, вертятся в высоте и не спускаются.
– Дай-ка я попробую пройти дальше, – сказал Питер.
Не успел он сделать и трех шагов по твердой земле, как сразу десяток лебедей кинулись на него. Питер быстро отступил в грязь. Лебеди взмыли вверх. Питер еще раза два повторил маневр, и каждый раз с одинаковым успехом. Ему в голову пришла спасительная идея. Он нагнулся, зачерпнул перчаткой кисельной грязи и, выйдя на сухое место, сунул грязь под нос первому из бросившихся на него лебедей. Догадка оказалась правильной. Лебедь, не долетев метра до протянутой вверх ладони, резко взмыл вверх и умчался в небо, будто ему предложили откушать соляной кислоты.
– Обмажься грязью! – крикнул Питер Игорю. – Они ее не выносят.
Дальнейший путь прошел без всяких приключений. Когда закрылась дверь шлюза, воздуха в скафандрах оставалось еще на пять минут.
Питер задраил дверь и отвинтил шлем.
– Вот, – начал он. – Мы и наш… – И тут же лихорадочными движениями стал всовывать голову обратно в шлем.
– Что с тобой? – спросил Игорь.
– Не снимай шлема! Я, кажется, понимаю лебедей… Подключи запасной баллон. У тебя стрелка на нуле.
– Грязь? – догадался Игорь.
– Она самая. Боже мой, более отвратительного запаха мне не приходилось встречать!..
Большую часть оставшихся до прилета корабля трех месяцев геологи провели в скафандрах. Они бы их совсем не снимали, но иногда приходилось – хотя бы для того, чтобы поесть. На третий день закончились все запасы одеколона и нашатырного спирта, который неплохо отбивал гнуснейший запах кисельного берега.
Приспособиться к запаху было совершенно невозможно. Игорь потерял восемь килограммов веса и полюбил фразу, приписываемую Амундсену. «К холоду привыкнуть нельзя, – повторял он, – можно научиться терпеть его».
Автомат-планер спустился на планету в условленный срок. Геологи в последний раз промыли карболкой образцы пород и те немногие необходимые вещи, что они решили взять. И все равно на борт корабля они поднимались с внутренней дрожью.
Радостная улыбка штурмана, который встретил их у люка, тут же сменилась брезгливой гримасой.
– Ребята, – сказал он, – вы что же…
И тут же раздался голос подошедшего капитана:
– Немедленно в карантин!
Но было поздно. Корабль спасти не удалось. Так он и стоит в нескольких стах метрах за карантинным сектором космодрома Каракорум. По расчетам ученых, запах выветрится через восемьдесят лет.
Сестрица Аленушка и братец Иванушка
Иван прислонился к плоской стене оврага и закрыл глаза.
– Ты чего? – спросила Алена.
– Не могу больше. Минутку передохну.
– Нам надо успеть до сумерек, – сказала Алена.
– Знаю. Но, если я помру на полпути, тебе от этого лучше не будет.
– Не говори глупостей! – разозлилась Алена. – Здесь не жарче, чем в Сахаре.
– Никогда не был в Сахаре, – ответил Иван. – Но, насколько понимаю, там днем все живое прячется в тени или зарывается в песок.
– Здесь песка нет, – сказала Алена.
– На этой планете вообще ничего нет. Только скалы и чудища. Интересно, чем они питаются?
– Пойдем, – сказала Алена. – Скоро у тебя откроется второе дыхание.
– Восьмое, – поправил ее Иван. – У тебя вода осталась?
– Нет, ты же знаешь.
– Персидский царь Кир, спасаясь от Александра Македонского, напился из грязной лужи и признался, что чище и вкуснее напитка ему не приходилось пробовать.
– Если бы мы были на Земле, то я и сама бы напилась сейчас из лужи, – сказала Алена. – Потерпи. Километров через пять будет родник.
Минут десять они брели молча. Впереди показалась куща серых колючих кустов.
– Не смотри в ту сторону, – предупредила Алена.
– Там вода! – прохрипел Иван. – Там вода!
– Ее нельзя пить, – сказала Алена. – Видишь рядом сказозубов?
– Они безвредны.
– Это их водопой.
Похожие на жаб-переростков сизые животные размером с корову медленно поводили многорогими головами, разглядывая пришельцев.
– Ты боишься, что со мной что-нибудь случится?
– Не что-нибудь, а то же, что случилось с экспедиционной собакой. Помнишь?
– Мне рассказывали.
– А я сама видела, как Шарик превратился в одно из этих чудищ.
– Уж очень похоже на сказку.
– Может быть. Доктор Фукс вскрыл его потом: даже все внутренние органы изменились.
– Как он это объяснил?
Алена не ответила.
Путники миновали водоем, и Иван оглянулся, будто бурая вода прудика звала его вернуться.
– Доктор Фукс предложил интересную гипотезу, – продолжала Алена. – Местные виды фауны однополы. Обычно они никогда не покидают своего водоема. Как только одно из животных умирает – от старости ли, от болезни, – другой сказозуб подходит к водоему, напивается этой жидкости (на базе есть фильм – дойдем, посмотришь) и тут же распадается на две особи, такие же точно, как прежние.
– И какой вывод?
– Фукс предполагает, что водоем – хранитель наследственности стада. В нем содержится не вода – хотя по составу жидкость и близка к воде, – а слабый раствор фермента, может быть, несущего в себе цепочки наследственных молекул.
– И много таких водоемов? – спросил Иван.
– Мы пока открыли шесть. И у каждого пасется свое стадо.
– А сказке про собаку ты веришь?
– Я же говорю – сама видела. Ты знаешь, на планете ни лесов, ни больших озер, ни океанов. И в ходе эволюции водоем выработал способность не только поддерживать свой вид, но и влиять на другие живые организмы. Так выражается здесь борьба за существование. Если одна из этих жаб доберется до соседнего, чужого водоема и напьется из него, она превратится в жителя того водоема. Понятно?
– Мне понятно одно: я согласен стать жабой, только бы не умереть от жажды.
– До базы еще два часа ходу. Неужели не дотерпишь? Я думала, что астронавты крепче духом.
Но Ивана не смутил укор. Металлические подошвы равномерно цокали по раскаленным камням, и оба солнца планеты безжалостно жгли сквозь скафандр. Здесь не было теней. Одно солнце светило прямо с зенита, второе катилось вдоль горизонта, не собираясь заходить, и за час успевало трижды обернуться по белесому раскаленному небу.
Снова скала, и у нее – водоем, окруженный стаей нежащихся на солнцепеке рыжих одров, отдаленно напоминающих лошадей, доведенных до последней стадии истощения.
– Аленушка, – взмолился Иван, – я должен напиться! Я обязательно должен напиться!
– Не говори глупостей! Идем. Я все тебе объяснила.
– А я тебе не верю, – сказал Иван с неожиданным озлоблением. – И твоему доктору Фуксу.
Аленушка ничего не ответила. Она продолжала идти вперед, маленькая, тонкая, прокаленная насквозь жаром этой планеты, старожил из первой экспедиции, встречающий на планете четвертый месяц. Иван увидел ее впервые вчера вечером. Командир корабля «Смерч» вызвал его в салон управления и сказал:
– Возьмешь почтовый планер и спустишься с Аленой Сергеевной на базу. Продовольствие и приборы отвез Данилов. Тебе остается только взять письма. И еще: вот лекарства. Алена Сергеевна поднималась к нам на орбиту специально за ними.
…Планер сделал вынужденную посадку на плоском, как блюдо, плато, не долетев до базы полсотни километров. При посадке вдребезги разлетелась рация. Но ящик с лекарствами уцелел. «Смерч» был высоко на орбите, и связаться с ним было нельзя. Пришлось идти пешком. До рассвета, до того, как на небо выскочили оба солнца, путь казался нетрудным. Теперь же…
Впереди появился еще один водоем. Третий по счету. Возле него никого не было.
– Все, – сказал Иван, скидывая рюкзак. – Я пью.
– Здесь тоже нельзя, – сказала Алена. – Животные просто пасутся за холмами. Я же знаю.
– И я знаю, – ответил Иван, – и я знаю, что ничего со мной не случится.
Он стал на колени и принялся пить солоноватую теплую жидкость.
Алена пыталась оттащить его от воды, кричала что-то, плакала, но он не слышал – он пил, и пил, и пил…
Из-за бугра показалось стадо рогатых мохнатых животных. Они заверещали и заблеяли, увидев, как у них на глазах двуногий пришелец превращается в подобного им.
Иван вскочил, стараясь стряхнуть с себя прилипшие капли и пытаясь выплюнуть воду. Он хотел крикнуть, но вместо этого послышалось жалобное блеяние. И, не в силах держаться на задних ногах, Иван рухнул на камни, ударившись о них копытами передних ног.
Стадо приблизилось к нему и остановилось. Животные были настроены вполне миролюбиво.
Алена не помнила, сколько она просидела на камне, захлебываясь от слез, от бессилия, от страха. Животное, недавно бывшее Иваном, жалось к ней, тыкалось носом в колени, будто упрашивало: «Помоги!» Скафандр обвис и болтался нелепо, словно какой-то шутник обрядил в него козленка.
Наконец Алена встала, соорудила из ремешка ошейник, взвалила на спину второй рюкзак и поплелась дальше, к базе. Она не чувствовала больше ни иссушающей жары, ни жажды.
Через пятьсот метров ее встретила спасательная партия…
На базе любят рассказывать о том, как после многочасовых поисков спасатели наткнулись в пустыне на Алену Сергеевну, заплаканную, изможденную. Она несла два рюкзака и тащила на ремешке уродливого «козла» в скафандре. Если вам придется когда-нибудь побывать на этой базе, вам обязательно расскажут эту историю. А если вы выразите сомнение, то вас поведут на двор, где уныло бродит зеленый козел с пятью рогами. «Вот он, – будут уверять вас, – тот самый астронавт Иван, который не послушался Алену». Иван обязательно подойдет к вам и прислонится мордой к коленям. Он очень привязан к людям.
Если же вы начнете проявлять любопытство, даже ужасаться, вам обязательно сообщат, что доктор Фукс обещает со дня на день создать противоядие и вернуть Ивану человеческий облик.
Только лучше не ходить после этого к самому доктору Фуксу. Он ужасно разозлится и скажет, что ему надоели эти глупые шутки, что это самый обыкновенный местный козел и что астронавт Иван благополучно улетел обратно на Землю.
Кто знает, может быть, доктору Фуксу стыдно признаться, что ему до сих пор не удалось выработать противоядие.
Синяя Борода
Он разбудил ее на рассвете. За окном висела непрозрачная синева, в которой утонули леса, поля, озера. Редкие огоньки дальней деревни с трудом продирались сквозь густую синь.
– Вставай, красавица, – сказал он ей. – Я хочу, чтобы тебе понравилось в нашем доме.
Она отвела от него глаза. Иссиня-черная борода, занимавшая половину лица и лопатой ложившаяся на грудь, пугала ее.
– Смотри на меня, – приказал он. – Тебе все равно придется ко мне привыкнуть. Я тебе неприятен?
– Не знаю, – сказала она.
– Я буду добр к тебе, – сказал он. – Я не буду тебя обижать. Но ты должна будешь меня во всем слушаться.
– Хорошо, – ответила она, не поднимая головы.
– Ну, теперь иди, – сказал он. – Ты можешь делать что хочешь. Только прошу – не открывай маленькой двери под лестницей.
– Хорошо, – повторила она, мечтая об одном: чтобы он скорее ушел и оставил ее одну.
– Может быть, мне придется сегодня уехать, – сказал он. – Я вернусь к вечеру.
Она посмотрела ему вслед. Он медленно шел по коридору. Спина его, широкая и сутулая, таила в себе непонятную угрозу.
Через несколько минут она услышала, как под окном раздались голоса. Она подошла к окну и увидела, что он прощается с одним из слуг. Он и в самом деле уезжал. Ей сразу стало легче. Необходимость подчиняться Синей Бороде угнетала ее, но она отлично понимала, что у нее нет другого выхода: он был ее хозяином, и помощи ждать было неоткуда.
Все затихло в доме. Она открыла дверь и вышла из своей комнаты. Длинный коридор вел до самой лестницы. Она наугад толкнула дверь направо и увидела большую комнату, почти пустую, если не считать стола, кресла с высокой узорчатой спинкой и книжных шкафов у стен. Она подошла к книжным полкам. Названия книг ей ничего не говорили. Она перелистала одну из них и поставила на место. Потом она покинула библиотеку и дошла до лестницы. Она спустилась, постукивая задумчиво кулачком по перилам, и остановилась в нерешительности в высоком холле, пол которого был устлан необъятным ковром. Один из поварят, одетый в белый халат и колпак, вышел из кухни. Она не обратила на него внимания. Она предпочитала не обращать внимания на его слуг, потому что это значило бы, что она собирается навсегда оставаться в этом доме. Слуга прошел мимо и исчез.
Что Синяя Борода запрещал ей делать? Ага, открывать маленькую дверь под лестницей. Где же она?
Вот и дверца. Она провела ладонью по прохладной плоскости и отдернула руку. Она вспомнила, какие глаза были у Синей Бороды, когда он велел ей слушаться его во всем.
Она вышла в сад. Уже совсем рассвело, но день оставался таким же туманным и сумрачным. Желтые листья кленов складывались в прихотливые калейдоскопические узоры на черной мокрой земле. Она подумала, что может простудиться, и решила подняться наверх, чтобы накинуть на себя что-нибудь теплое. Ей хотелось дойти до ограды и увидеть поля и лес, над которыми Синяя Борода был не властен.
Но она не дошла до своей комнаты. Маленькая дверца под лестницей необъяснимо притягивала ее к себе. Что могло быть спрятано за ней?
Какая тайна скрывалась за этой обыденной и невзрачной дверью?
Ощущение тайны, не покидавшее ее с утра, тайны, которой, казалось, был пропитан этот дом, тяготило и тревожило. И если бы не страх перед Синей Бородой…
Она с минуту постояла перед дверью, прислушиваясь. Когда неподалеку прошел слуга, она прижалась к стене, стараясь слиться с ней, стать незаметной. Слуги могли донести Синей Бороде. Шаги стихли. Рука сама поднялась к двери и нажала на нее. «Я только чуть-чуть приоткрою ее, – успокаивала она себя. – Только самую, самую малость. Я не буду заходить внутрь».
Она толкнула дверь и зажмурилась.
Так она простояла еще несколько секунд. Она знала, чувствовала, что дверь уже распахнута и надо только открыть глаза, чтобы разгадать тайну дома. «Ну, – уговаривала она самое себя, – открой глаза. Что сделано, то сделано».
И она открыла глаза.
Она ожидала увидеть что угодно, только не то, что предстало ее взору.
В небольшой полутемной комнате лежали шесть таких же, как она. Некоторые из них были без головы. И все были мертвы. Она поняла, что она не первая и, может быть, не последняя живая обитательница этого дома и судьба ее несчастных предшественниц уготована и для нее.
Она вскрикнула и, не закрыв двери, бросилась вверх по лестнице, не заметив, что слуга видел все.
Она бежала по коридору, не помня себя, в ужасе от своего открытия. Ей хотелось спрятаться, скрыться, убежать – но куда? В лес?
Она повернула обратно и понеслась к выходу из дома, к саду.
И на пороге столкнулась с Синей Бородой.
Он все понял с первого взгляда.
– Ты была там? – спросил он, и голос его был скорее печален, чем зол. – Ты все видела?
– Они… они… ты убил их! – всхлипывала она. – Ты убьешь и меня!
– К сожалению, ты права, – ответил он тихо. – У меня нет другого выбора.
Вечером, демонтировав очередную неудачную модель, Роберт Кямилев, по прозвищу Синяя Борода, начальник центральной лаборатории биороботов, сидел, пригорюнившись, в столовой главного корпуса и нехотя пил восьмую чашку крепчайшего чая.
– Опять неудача? – спросила Геля.
– Как только они получают свободу воли, тотчас же выходят из повиновения, – пожаловался ей Роберт, сокрушенно выщипывая волоски из черной бороды. – Система теряет надежность. Любопытство оказывается сильнее комплекса повиновения.
– Бедняга, опять месяц работы впустую!
– Почему впустую? – обиделся вдруг Роберт. – Завтра принимаюсь за новую модель. Какая-то из жен Синей Бороды окажется достаточно дисциплинированной.
– А если сотая? – вздохнула Геля.
Принцесса на горошине
Члены Верховного Труля планеты Локатейпан не были бы так подозрительны, если бы не бесконечные интриги жителей Колатейпана – планеты-близнеца. Локатейпан и Колатейпан вращаются вокруг одного и того же солнца, по одной и той же орбите, с одной и той же скоростью. И на той, и на другой планете колесо было изобретено в V веке до их эры, и первый воздушный шар поднялся в воздух в 1644 году их эры. И те и другие вступили в Большое Кольцо Галактики почти одновременно – то есть Локатейпан первым послал заявление, а Колатейпан первым получил ответ. В Галактике считают, что произошло это по той простой причине, что «К» в галактическом алфавите стоит перед «Л». Но на планетах-близнецах думают иначе. Колатейпанцы полагают, что Галактика таким образом признала их превосходство над Локатейпаном, а локатейпанцы уверены, что Колатейпан перехватил и задержал их заявление.
Нет возможности, да и не обязательно перечислять все обиды, которые Колатейпан нанес Локатейпану, тем более что тогда пришлось бы перечислять все обиды, которые Локатейпан нанес Колатейпану. Уже сказанного вполне достаточно, чтобы понять, почему Верховный Труль Локатейпана, узнав, что с Земли летит к ним посол, испугался, как бы соседи не перехватили посла и не оставили его у себя.
– Они могут пойти на подмену посла, – сказал Жуль Ёв, самый мудрый в Труле. – Они все могут.
– Но к ним тоже летит посол с Земли, – сказал молодой оппозиционер-скептик.
– А разве мы отказались бы иметь у себя обоих? – резонно возразил Жуль Ёв.
И скептики были вынуждены замолчать.
Несколько минут члены Верховного Труля молчали и думали. Потом решили: надо испытать посла. Вдруг это не посол с Земли, а элементарный колатейпанец?
– Но как?
– Мы устроим ему экзамен. Соберем всех знатоков земных обычаев и спросим что-нибудь такое…
– Неудобно, все-таки посол. А вдруг обидим его? Нужно быть предельно деликатными.
– Где эксперт по земным обычаям? – спросил Жуль Ёв. – Позвать его.
Привели эксперта. Эксперт прочел все книжки, которые удалось купить или выменять на марки на пролетавших мимо галактических кораблях, и просмотрел все телепередачи, которые передавались с Земли по четырнадцатой космической программе. Эксперт долго думал. Может быть, несколько дней – мы точно не знаем, – наконец придумал.
– Есть на Земле древний обычай, – сказал он. – Я читал о нем в одной очень редкой книге, изданной на аммиачной планете Сугре, но наверняка переведенной с земных языков.
– Какой обычай? Какой обычай? – заволновались члены Верховного Труля.
– Когда на Землю попадает неизвестный человек и они, люди, хотят узнать, принцесса ли он (я не знаю, что такое принцесса, но полагаю, что это признак принадлежности к истинным людям), ему подкладывают под тюфяки горошину.
– Ну и что?
– Если он – принцесса, то утром он обязательно жалуется, что он плохо спал и весь покрыт синяками. Он почувствует горошину даже сквозь десять перин.
– Замечательно! – сказали члены Труля. – Мы подложим ему горошину, а когда он нам пожалуется, то извинимся и скажем, что не заметили, как она туда попала.
На этом бы совещание окончилось, если бы вдруг молодой оппозиционер-скептик не спросил у уважаемого собрания:
– А что такое горошина?
Оказалось, эксперт не знает, что такое горошина.
Вызвали всех других экспертов, и они тоже не знали, что такое горошина. Стали рассуждать логически: известно, что у жителей Земли куда более тонкая и чувствительная кожа, чем у локатейпанцев и колатейпанцев, – пожалуй, это единственное, что их отличает. Значит, надо подложить в кровать послу такую вещь, которая совершенно не чувствительна для местного жителя, но осязаема для кожи дорогого гостя. Решив так, члены Верховного Труля провели небольшой эксперимент. Принесли десять кроватей и на каждую положили по десять перин. Под перины спрятали по предмету разной формы и степени твердости. Вечером уложили на кровати по локатейпанцу, не сказав им о сущности смелого эксперимента.
Утром в присутствии членов Труля и медицинской комиссии подопытных локатейпанцев допросили и осмотрели. Оказалось, что шестеро из них спали спокойно и ничего не заметили, а четверо жаловались на неудобства и синяки. Шестой, последний из ничего не почувствовавших, провел ночь на зерне местного растения, называемого научно Пуралон Ами-апа-ана, а в просторечье – чертово семя. Выяснив это, члены Труля отнесли чертово семя в резиденцию посла и положили под десять перин.
Посол Земли Ольга Барышникова, подлетавшая в это время на попутной сирианской ракете к Локатейпану, ничего, разумеется, не знала.
Ракетодром был подметен и полит импортным одеколоном. Части национальной гвардии выстроились шпалерами от ракеты до здания космопорта. Играли оркестры народных инструментов, и дети, не успела Ольга спуститься по трапу, поднесли ей букеты местных цветов. Старейший из членов Верховного Труля, достопочтенный Жуль Ёв, произнес небольшую, но прочувствованную речь и пригласил Ольгу проследовать к ожидающей ее машине.
– Хорошо ли вы доехали? – спросил Жуль Ёв Ольгу, когда машина выехала с космодрома и по праздничным улицам столицы поплыла к резиденции земного посла.
– Спасибо, путешествие было отличным, – ответила Ольга, раскланиваясь с приветствовавшими ее горожанами.
– Мы надеемся, что вам у нас понравится, – сказал Жуль Ёв.
– Я тоже. Я тронута теплой встречей.
Она и в самом деле была тронута встречей, и, если бы не опасение нарушить какой-нибудь местный обычай, обидеть чем-нибудь любезных хозяев, она вела бы себя куда менее сдержанно.
Жуль Ёв и сопровождающие его лица провели Ольгу по всем комнатам посольской резиденции и с особенной гордостью показали ей спальню – громадное помещение, облицованное мореным дубом, посреди которого возвышалась под альковом квадратная кровать, увенчанная грудой перин.
– Это слишком роскошно для меня, – сказала Ольга. – Я, честно говоря, не привыкла к такой роскоши.
И… сказав это, тут же поняла, что совершила какую-то ошибку. Жуль Ёв переглянулся с другим стариком, и, как ей показалось, неодобрительно. И еще Ольга заметила, что молодой локатейпанец бочком-бочком пододвигается к кровати, будто хочет залезть под перину.
Жуль Ёв зашипел на него и, чтобы загладить неловкость, познакомил его с Ольгой.
– Это представитель нашей оппозиции, скептик, – сказал он.
Молодой скептик Ольге понравился. Ее только смутили его слова, сказанные вполголоса:
– Я вам не завидую.
– Так пройдем дальше, – предложил Жуль Ёв. – Мы еще не осмотрели кухню и библиотеку.
Да, локатейпанцы были очень любезны, очень рады, что она прилетела к ним, и все-таки Ольга чувствовала какую-то недоговоренность, шепоток за спиной, взгляды, пролетающие рядом, жесты, не предназначенные для ее глаз.
У входа в библиотеку их ожидал сухощавый локатейпанец в очках. Взгляд его был тяжел и настойчив.
– Наш эксперт по земным вопросам, – сказал о нем Жуль Ёв. – Не хотите ли с ним побеседовать?
– С удовольствием, – сказала Ольга, которая решила не отказывать ни в одной просьбе хозяев, хотя ей, по правде говоря, очень хотелось спать – ракета шла с перегрузками и Ольга очень устала.
– Сколько колонн у Большого театра? – неожиданно спросил эксперт.
Вопрос был странным и по крайней мере неделикатным. Но Ольга почувствовала, что ее ответу локатейпанцы придают большое значение. А сколько колонн в самом деле? Никогда в жизни ей не приходилось задумываться над этим. Она постаралась представить себе здание Большого театра, коней на фронтоне, толпу, жаждущую лишнего билетика под колоннами, но сколько же их? Четыре? Нет, больше. Шесть? Семь? Наверняка четное число.
– Шесть, – сказала она.
И по вытянувшимся лицам хозяев поняла, что совершила ошибку.
– Хотя я не помню точно, – добавила она, – может быть, и восемь. Как-то не приходилось считать.
– Не обращайте внимания на нашего эксперта, – любезно улыбнулся Жуль Ёв. – Любознательность его когда-нибудь погубит. А сейчас мы позволим себе откланяться. Вам надо отдохнуть.
И Ольга осталась одна. Ее не покидало ощущение, что за ней следят. Может быть, она чем-нибудь вызвала недовольство гостеприимных хозяев? Обидела их? Вроде нет. «Ну ладно, утро вечера мудренее. Высплюсь и тогда примусь за работу», – решила она.
Но и заснуть ей толком не удалось. Перины, которыми была завалена кровать, были податливыми, мягкими, даже слишком мягкими, и она с удовольствием бы выбросила по крайней мере половину, но все равно что-то твердое все время впивалось ей в бок, будто она спала на камнях. Ольга слишком устала, чтобы подниматься и разыскивать причину неудобства. Она заставила себя уснуть.
Ночью ей снилось, что она попала в лавину на Кавказе и камни с размаху падают на нее.
Это была далеко не самая приятная ночь в ее жизни. И, когда Ольга проснулась, она чувствовала себя избитой, невыспавшейся. Она с трудом поднялась и увидела, что бока ее покрыты синяками. «Ну и жизнь у послов! – подумала она. – Надо будет вечером обязательно перебрать эти перины и соорудить себе ложе по вкусу. Ведь придется здесь жить несколько месяцев…»
У двери в спальню ждали локатейпанцы.
– Как вы спали? – хором спросили они.
– Спасибо, хорошо, – ответила машинально Ольга и подумала, что обязательно надо будет выкинуть эти перины.
– Вам ничего не мешало спать? – спросил посуровевший Жуль Ёв.
– Что вы! – Ольга улыбнулась самой дипломатической из известных ей улыбок. – Я очень благодарна вам за заботу. Я чувствовала себя совсем как дома.
– Все ясно, – сказал голос из задних рядов.
Голос был далеко не дружелюбен.
Знакомый оппозиционер-скептик скорчил жалобную мину и старался передать Ольге какой-то знак, которого она так и не поняла.
– У Большого театра восемь колонн, – сказал протиснувшийся в первый ряд эксперт. – А вот скажите нам, кто построил Тадж-Махал?
– Что? – удивилась Ольга. – Тадж-Махал?
– Не знает, – сказал Жуль Ёв.
– Не знает, – повторил мрачный голос из задних рядов. – Она такой же посол, как я.
Толпа угрожающе надвигалась на Ольгу, и та в полной растерянности отступала к спальне, проклиная свою неосмотрительность, проклиная неизвестную ей самой ошибку, которая ставит под угрозу дружеские отношения между Землей и Локатейпаном.
– Выбросить ее с планеты!
– Самозванка!
– Колатейпанская шпионка!
– Верните нам земного посла!
– Остановитесь! – крикнул молодой оппозиционер. – Вы можете совершить непоправимое!
– Она не знает, сколько колонн у Большого театра! – возразил голос из толпы. – Ей даже чертово семя нипочем.
«Ну вот, еще чертова семени не хватало», – подумала Ольга. Она неосторожно прислонилась к косяку двери и сморщилась от боли.
– Что с вами? – крикнул, перекрывая шум сановников, молодой оппозиционер.
– Ничего особенного, – силилась улыбнуться Ольга. – Что-то попало под перину и искололо мне бока.
«Что я делаю! – подумала она, произнося эти слова. – Теперь они окончательно обидятся. Готовили мне резиденцию, готовили, а я вместо этого…»
– Покажите, – сказал резко Жуль Ёв.
– Что показать?
– Синяки.
– Как так? – удивилась Ольга.
– Покажите им! – кричал молодой оппозиционер. – Не стесняйтесь. Они подложили вам под перину горошину, чтобы испытать, настоящий ли вы посол. Вы, наверно, слышали о таком методе?
Ольга поняла, что локатейпанцы не шутят, и, закатав рукав куртки, показала огромные синяки на руке.
– Ура! – закричали локатейпанцы. – Простите нас!
– Покажите хоть горошину, – попросила Ольга, стараясь сдержать смех.
Жуль Ёв собственноручно извлек из-под перин горошину, очень похожую на морского ежа, только чуть побольше размером.
Можно попросить Нину?
– Можно попросить Нину? – сказал я.
– Это я, Нина.
– Да? Почему у тебя такой странный голос?
– Странный голос?
– Не твой. Тонкий. Ты огорчена чем-нибудь?
– Не знаю.
– Может быть, мне не стоило звонить?
– А кто говорит?
– С каких пор ты перестала меня узнавать?
– Кого узнавать?
Голос был моложе Нины лет на двадцать. А на самом деле Нинин голос лишь лет на пять моложе хозяйки. Если человека не знаешь, по голосу его возраст угадать трудно. Голоса часто старятся раньше владельцев. Или долго остаются молодыми.
– Ну ладно, – сказал я. – Послушай, я звоню тебе почти по делу.
– Наверное, вы все-таки ошиблись номером, – настаивала Нина. – Я вас не знаю.
– Это я, Вадим, Вадик, Вадим Николаевич! Что с тобой?
– Ну вот! – Нина вздохнула, будто ей жаль было прекращать разговор. – Я не знаю никакого Вадика и Вадима Николаевича.
– Простите, – извинился я и повесил трубку.
Я не сразу набрал номер снова. Конечно, я просто не туда попал. Мои пальцы не хотели звонить Нине. И набрали не тот номер. А почему они не хотели?
Я отыскал на столе пачку кубинских сигарет. Крепких, как сигары. Их, наверное, делают из обрезков сигар. Какое у меня может быть дело к Нине? Или почти дело? Никакого. Просто хотелось узнать, дома ли она. А если ее нет дома, это ничего не меняет. Она может быть, например, у мамы. Или в театре, потому что она тысячу лет не была в театре.
Я позвонил Нине.
– Нина? – спросил я.
– Нет, Вадим Николаевич, – ответила Нина. – Вы опять ошиблись. Вы какой номер набираете?
– 149-40-89.
– А у меня Арбат – один – тридцать два – пять три.
– Конечно, – сказал я. – Арбат – это четыре?
– Арбат – это Г.
– Ничего общего, – пробормотал я. – Извините, Нина.
– Пожалуйста, – сказала Нина. – Я все равно не занята.
– Постараюсь к вам больше не попадать, – пообещал я. – Где-то заклинило. Вот и попадаю к вам. Очень плохо телефон работает.
– Да, – согласилась Нина.
Я повесил трубку.
Надо подождать. Или набрать сотню. Время. Что-то замкнется в перепутавшихся линиях на станции. И я дозвонюсь. «Двадцать два часа ровно», – ответила женщина по телефону 100. Я вдруг подумал, что если ее голос записали давно, десять лет назад, то она набирает номер 100, когда ей скучно, когда она одна дома, и слушает свой голос, свой молодой голос. А может быть, она умерла. И тогда ее сын или человек, который ее любил, набирает сотню и слушает ее голос.
Я позвонил Нине.
– Я вас слушаю, – отозвалась Нина молодым голосом. – Это опять вы, Вадим Николаевич?
– Да, – сказал я. – Видно, наши телефоны соединились намертво. Вы только не сердитесь, не думайте, что я шучу. Я очень тщательно набирал номер, который мне нужен.
– Конечно, конечно, – быстро согласилась Нина. – Я ни на минутку не подумала. А вы очень спешите, Вадим Николаевич?
– Нет, – ответил я.
– У вас важное дело к Нине?
– Нет, я просто хотел узнать, дома ли она.
– Соскучились?
– Как вам сказать…
– Я понимаю, ревнуете, – предположила Нина.
– Вы смешной человек, – произнес я. – Сколько вам лет, Нина?
– Тринадцать. А вам?
– Больше сорока. Между нами толстенная стена из кирпичей.
– И каждый кирпич – это месяц, правда?
– Даже один день может быть кирпичом.
– Да, – вздохнула Нина, – тогда это очень толстая стена. А о чем вы думаете сейчас?
– Трудно ответить. В данную минуту ни о чем. Я же разговариваю с вами.
– А если бы вам было тринадцать лет или даже пятнадцать, мы могли бы познакомиться, – сказала Нина. – Это было бы очень смешно. Я бы сказала: приезжайте завтра вечером к памятнику Пушкину. Я вас буду ждать в семь часов ровно. И мы бы друг друга не узнали. Вы где встречаетесь с Ниной?
– Как когда.
– И у Пушкина?
– Не совсем. Мы как-то встречались у «России».
– Где?
– У кинотеатра «Россия».
– Не знаю.
– Ну, на Пушкинской.
– Все равно почему-то не знаю. Вы, наверное, шутите. Я хорошо знаю Пушкинскую площадь.
– Не важно, – сказал я.
– Почему?
– Это давно было.
– Когда?
Девочке не хотелось вешать трубку. Почему-то она упорно продолжала разговор.
– Вы одна дома? – спросил я.
– Да. Мама в вечернюю смену. Она медсестра в госпитале. Она на ночь останется. Она могла бы прийти и сегодня, но забыла дома пропуск.
– Ага, – согласился я. – Ладно, ложись спать, девочка. Завтра в школу.
– Вы со мной заговорили как с ребенком.
– Нет, что ты, я говорю с тобой как со взрослой.
– Спасибо. Только сами, если хотите, ложитесь спать с семи часов. До свидания. И больше не звоните своей Нине. А то опять ко мне попадете. И разбудите меня, маленькую девочку.
Я повесил трубку. Потом включил телевизор и узнал о том, что луноход прошел за смену 337 метров. Луноход занимался делом, а я бездельничал. В последний раз я решил позвонить Нине уже часов в одиннадцать, целый час занимал себя пустяками и решил, что, если опять попаду на девочку, повешу трубку сразу.
– Я так и знала, что вы еще раз позвоните, – сказала Нина, подойдя к телефону. – Только не вешайте трубку. Мне, честное слово, очень скучно. И читать нечего. И спать еще рано.
– Ладно, – согласился я. – Давайте разговаривать. А почему вы так поздно не спите?
– Сейчас только восемь, – сказала Нина.
– У вас часы отстают, – отозвался я. – Уже двенадцатый час.
Нина засмеялась. Смех у нее был хороший, мягкий.
– Вам так хочется от меня отделаться, что просто ужас, – объяснила она. – Сейчас октябрь, и поэтому стемнело. И вам кажется, что уже ночь.
– Теперь ваша очередь шутить? – спросил я.
– Нет, я не шучу. У вас не только часы врут, но и календарь врет.
– Почему врет?
– А вы сейчас мне скажете, что у вас вовсе не октябрь, а февраль.
– Нет, декабрь, – ответил я. И почему-то, будто сам себе не поверил, посмотрел на газету, лежавшую рядом, на диване. «Двадцать третье декабря» – было написано под заголовком.
Мы помолчали немного, я надеялся, что она сейчас скажет «до свидания». Но она вдруг спросила:
– А вы ужинали?
– Не помню, – сказал я искренне.
– Значит, не голодный.
– Нет, не голодный.
– А я голодная.
– А что, дома есть нечего?
– Нечего! – подтвердила Нина. – Хоть шаром покати. Смешно, да?
– Даже не знаю, как вам помочь, – сказал я. – И денег нет?
– Есть, но совсем немножко. И все уже закрыто. А потом, что купишь?
– Да, – согласился я, – все закрыто. Хотите, я пошурую в холодильнике, посмотрю, что там есть?
– У вас есть холодильник?
– Старый, – ответил я. – «Север». Знаете такой?
– Нет, – призналась Нина. – А если найдете, что потом?
– Потом? Я схвачу такси и подвезу вам. А вы спуститесь к подъезду и возьмете.
– А вы далеко живете? Я – на Сивцевом Вражке. Дом 15/25.
– А я на Мосфильмовской. У Ленинских гор. За университетом.
– Опять не знаю. Только это не важно. Вы хорошо придумали, и спасибо вам за это. А что у вас есть в холодильнике? Я просто так спрашиваю, не думайте.
– Если бы я помнил, – пробормотал я. – Сейчас перенесу телефон на кухню, и мы с вами посмотрим.
Я прошел на кухню, и провод тянулся за мной, как змея.
– Итак, – сказал я, – открываем холодильник.
– А вы можете телефон носить с собой? Никогда не слышала о таком.
– Конечно, могу. А ваш телефон где стоит?
– В коридоре. Он висит на стенке. И что у вас в холодильнике?
– Значит, так… что тут, в пакете? Это яйца, неинтересно.
– Яйца?
– Ага. Куриные. Вот, хотите, принесу курицу? Нет, она французская, мороженая. Пока вы ее сварите, совсем проголодаетесь. И мама придет с работы. Лучше мы возьмем колбасы. Или нет, нашел марокканские сардины, шестьдесят копеек банка. И к ним есть полбанки майонеза. Вы слышите?
– Да, – ответила Нина совсем тихо. – Зачем вы так шутите? Я сначала хотела засмеяться, а потом мне стало грустно.
– Это еще почему? В самом деле так проголодались?
– Нет, вы же знаете.
– Что я знаю?
– Знаете, – настаивала Нина. Потом помолчала и добавила: – Ну и пусть! Скажите, а у вас есть красная икра?
– Нет, – признался я. – Зато есть филе палтуса.
– Не надо, хватит, – сказала Нина твердо. – Давайте отвлечемся. Я же все поняла.
– Что поняла?
– Что вы тоже голодный. А что у вас из окна видно?
– Из окна? Дома, копировальная фабрика. Как раз сейчас, полдвенадцатого, смена кончается. И много девушек выходит из проходной. И еще виден «Мосфильм». И пожарная команда. И железная дорога. Вот по ней сейчас идет электричка.
– И вы все видите?
– Электричка, правда, далеко идет. Видна только цепочка огоньков, окон!
– Вот вы и врете!
– Нельзя так со старшими разговаривать, – отозвался я. – Я не могу врать. Я могу ошибаться. Так в чем же я ошибся?
– Вы ошиблись в том, что видите электричку. Ее нельзя увидеть.
– Что же она, невидимая, что ли?
– Нет, она видимая, только окна светиться не могут. Да вы вообще из окна не выглядывали.
– Почему? Я стою перед самым окном.
– А у вас в кухне свет горит?
– Конечно, а как же я в темноте в холодильник бы лазил. У меня в нем перегорела лампочка.
– Вот, видите, я вас уже в третий раз поймала.
– Нина, милая, объясни мне, на чем ты меня поймала.
– Если вы смотрите в окно, то откинули затемнение. А если откинули затемнение, то потушили свет. Правильно?
– Неправильно. Зачем же мне затемнение? Война, что ли?
– Ой-ой-ой! Как же можно так завираться? А что же, мир, что ли?
– Ну, я понимаю, Вьетнам, Ближний Восток… Я не об этом.
– И я не об этом… Постойте, а вы инвалид?
– К счастью, все у меня на месте.
– У вас бронь?
– Какая бронь?
– А почему вы тогда не на фронте?
Вот тут я в первый раз заподозрил неладное. Девочка меня вроде бы разыгрывала. Но делала это так обыкновенно и серьезно, что чуть было меня не испугала.
– На каком я должен быть фронте, Нина?
– На самом обыкновенном. Где все. Где папа. На фронте с немцами. Я серьезно говорю, я не шучу. А то вы так странно разговариваете. Может быть, вы не врете о курице и яйцах?
– Не вру, – признался я. – И никакого фронта нет. Может быть, и в самом деле мне подъехать к вам?
– Так я в самом деле не шучу! – почти крикнула Нина. – И вы перестаньте. Мне было сначала интересно и весело. А теперь стало как-то не так. Вы меня простите. Как будто вы не притворяетесь, а говорите правду.
– Честное слово, девочка, я говорю правду, – сказал я.
– Мне даже страшно стало. У нас печка почти не греет. Дров мало. И темно. Только коптилка. Сегодня электричества нет. И мне одной сидеть ой как не хочется. Я все теплые вещи на себя накутала.
И тут же она резко и как-то сердито повторила вопрос:
– Вы почему не на фронте?
– На каком я могу быть фронте? Какой может быть фронт в семьдесят втором году?!
– Вы меня разыгрываете?
Голос опять сменил тон, был он недоверчив, был он маленьким, три вершка от пола. И невероятная, забытая картинка возникла перед глазами – то, что было со мной, но много лет, тридцать или больше лет назад. Когда мне тоже было двенадцать лет. И в комнате стояла «буржуйка». И я сижу на диване, подобрав ноги. И горит свечка, или это была керосиновая лампа? И курица кажется нереальной, сказочной птицей, которую едят только в романах, хотя я тогда не думал о курице…
– Вы почему замолчали? – спросила Нина. – Вы лучше говорите.
– Нина, – сказал я, – какой сейчас год?
– Сорок второй, – ответила Нина.
И я уже складывал в голове ломтики несообразностей в ее словах. Она не знает кинотеатра «Россия». И номер телефона у нее только из шести цифр. И затемнение…
– Ты не ошибаешься? – спросил я.
– Нет, – стояла на своем Нина.
Она верила в то, что говорила. Может, голос обманул меня? Может, ей не тринадцать лет? Может, она сорокалетняя женщина, заболела еще тогда, девочкой, и ей кажется, что она осталась там, где война?
– Послушайте, – сказал я спокойно, – не вешайте трубку. Сегодня двадцать третье декабря 1972 года. Война кончилась двадцать семь лет назад. Вы это знаете?
– Нет, – сказала Нина.
– Теперь знайте. Сейчас двенадцатый час… Ну как вам объяснить?
– Ладно, – сказала Нина покорно. – Я тоже знаю, что вы не привезете мне курицу. Мне надо было догадаться, что французских кур не бывает.
– Почему?
– Во Франции немцы.
– Во Франции давным-давно нет никаких немцев. Только если туристы. Но немецкие туристы бывают и у нас.
– Как так? Кто их пускает?
– А почему не пускать?
– Вы не вздумайте сказать, что фрицы нас победят! Вы, наверное, просто вредитель или шпион?
– Нет, я работаю в СЭВе, в Совете Экономической Взаимопомощи. Занимаюсь венграми.
– Вот и опять врете! В Венгрии фашисты.
– Венгры давным-давно прогнали своих фашистов. Венгрия – социалистическая республика.
– Ой, а я уж боялась, что вы и в самом деле вредитель. А вы все-таки все выдумываете. Нет, не возражайте. Вы лучше расскажите мне, как будет потом. Придумайте что хотите, только чтобы было хорошо. Пожалуйста. И извините меня, что я так с вами грубо разговаривала. Я просто не поняла.
И я не стал больше спорить. Как объяснить это? Я опять представил себе, как сижу в этом самом сорок втором году, как мне хочется узнать, когда наши возьмут Берлин и повесят Гитлера. И еще узнать, где я потерял хлебную карточку за октябрь. И сказал:
– Мы победим фашистов 9 мая 1945 года.
– Не может быть! Очень долго ждать.
– Слушай, Нина, и не перебивай. Я знаю лучше. И Берлин мы возьмем второго мая. Даже будет такая медаль – «За взятие Берлина». А Гитлер покончит с собой. Он примет яд. И даст его Еве Браун. А потом эсэсовцы вынесут его тело во двор имперской канцелярии, и обольют бензином, и сожгут.
Я рассказывал это не Нине. Я рассказывал это себе. И я послушно повторял факты, если Нина не верила или не понимала сразу, возвращался, когда она просила пояснить что-нибудь, и чуть было не потерял вновь ее доверия, когда сказал, что Сталин умрет. Но я потом вернул ее веру, поведав о Юрии Гагарине и о новом Арбате. И даже насмешил Нину, рассказав о том, что женщины будут носить брюки-клеш и совсем короткие юбки. И даже вспомнил, когда наши перейдут границу с Пруссией. Я потерял чувство реальности. Девочка Нина и мальчишка Вадик сидели передо мной на диване и слушали. Только они были голодные как черти. И дела у Вадика обстояли даже хуже, чем у Нины: хлебную карточку он потерял, и до конца месяца им с матерью придется жить на одну карточку – рабочую карточку, потому что Вадик посеял свою где-то во дворе, и только через пятнадцать лет он вдруг вспомнит, как это было, и будет снова расстраиваться, потому что карточку можно было найти даже через неделю; она, конечно, свалилась в подвал, когда он бросил на решетку пальто, собираясь погонять в футбол. И я сказал, уже потом, когда Нина устала слушать то, что полагала хорошей сказкой:
– Ты знаешь Петровку?
– Знаю, – сказала Нина. – А ее не переименуют?
– Нет. Так вот…
Я рассказал, как войти во двор под арку и где в глубине двора есть подвал, закрытый решеткой. И если это октябрь сорок второго года, середина месяца, то в подвале, вернее всего, лежит хлебная карточка. Мы там, во дворе играли в футбол, и я эту карточку потерял.
– Какой ужас! – сказала Нина. – Я бы этого не пережила. Надо сейчас же ее отыскать. Сделайте это.
Она тоже вошла во вкус игры, и где-то реальность ушла, и уже ни она, ни я не понимали, в каком году мы находимся, – мы были вне времени, ближе к ее сорок второму году.
– Я не могу найти карточку, – объяснил я. – Прошло много лет. Но если сможешь, зайди туда, подвал должен быть открыт. В крайнем случае скажешь, что карточку обронила ты.
И в этот момент нас разъединили.
Нины не было. Что-то затрещало в трубке, женский голос произнес:
– Это 143-18-15? Вас вызывает Орджоникидзе.
– Вы ошиблись номером, – ответил я.
– Извините, – сказал женский голос равнодушно.
И были короткие гудки.
Я сразу же набрал снова Нинин номер. Мне нужно было извиниться. Нужно было посмеяться вместе с девочкой. Ведь получилась, в общем, чепуха…
– Да, – сказал голос Нины. Другой Нины.
– Это вы? – спросил я.
– А, это ты, Вадим? Что, тебе не спится?
– Извини, – сказал я. – Мне другая Нина нужна.
– Что?
Я повесил трубку и снова набрал номер.
– Ты с ума сошел? – спросила Нина. – Ты пил?
– Извини, – сказал я и снова бросил трубку.
Теперь звонить было бесполезно. Звонок из Орджоникидзе все вернул на свои места. А какой у нее настоящий телефон? Арбат – три, нет, Арбат – один – тридцать два – тринадцать… Нет, сорок…
Взрослая Нина позвонила мне сама.
– Я весь вечер сидела дома, – сказала она. – Думала, ты позвонишь, объяснишь, почему ты вчера так вел себя. Но ты, видно, совсем сошел с ума.
– Наверное, – согласился я. Мне не хотелось рассказывать ей о длинных разговорах с другой Ниной.
– Какая еще другая Нина? – спросила она. – Это образ? Ты хочешь видеть меня иной?
– Спокойной ночи, Ниночка, – сказал я. – Завтра все объясню.
…Самое интересное, что у этой странной истории был не менее странный конец. На следующий день утром я поехал к маме. И сказал, что разберу антресоли. Я три года обещал это сделать, а тут приехал сам. Я знаю, что мама ничего не выкидывает. Из того, что, как ей кажется, может пригодиться. Я копался часа полтора в старых журналах, учебниках, разрозненных томах приложений к «Ниве». Книги были не пыльными, но пахли старой, теплой пылью. Наконец я отыскал телефонную книгу за 1950 год. Книга распухла от вложенных в нее записок и заложенных бумажками страниц, углы которых были обтрепаны и замусолены. Книга была настолько знакома, что казалось странным, как я мог ее забыть, – если б не разговор с Ниной, так бы никогда и не вспомнил о ее существовании. И стало чуть стыдно, как перед честно отслужившим костюмом, который отдают старьевщику на верную смерть.
Четыре первые цифры известны. Г-1-32… И еще я знал, что телефон, если никто из нас не притворялся, если надо мной не подшутили, стоял в переулке Сивцев Вражек, в доме 15/25. Никаких шансов найти телефон не было. Я уселся с книгой в коридоре, вытащив из ванной табуретку. Мама ничем не поняла, улыбнулась только, проходя мимо, и сказала:
– Ты всегда так. Начинаешь разбирать книги, зачитываешься через десять минут, и уборке конец.
Она не заметила, что я читаю телефонную книгу.
Я нашел этот телефон. Двадцать лет назад он стоял в той же квартире, что и в сорок втором году. И записан был на Фролову К. Г.
Согласен, я занимался чепухой. Искал то, чего и быть не могло. Но вполне допускаю, что процентов десять вполне нормальных людей, окажись они на моем месте, сделали бы то же самое. И я поехал на Сивцев Вражек.
Новые жильцы в квартире не знали, куда уехали Фроловы. Да и жили ли они здесь? Но мне повезло в домоуправлении. Старенькая бухгалтерша помнила Фроловых, с ее помощью я узнал все, что требовалось, через адресный стол.
Уже стемнело. По новому району среди одинаковых панельных башен гуляла поземка. В стандартном двухэтажном магазине продавали французских кур в покрытых инеем прозрачных пакетах. У меня появился соблазн купить курицу и принести ее, как обещал, хоть и с тридцатилетним опозданием. Но я хорошо сделал, что не купил ее. В квартире никого не было. И по тому, как гулко разносился звонок, мне показалось, что здесь люди не живут. Уехали.
Я хотел было уйти, но потом, раз уж забрался так далеко, позвонил в дверь рядом.
– Скажите, Фролова Нина Сергеевна – ваша соседка?
Парень в майке, с дымящимся паяльником в руке, ответил равнодушно:
– Они уехали.
– Куда?
– Месяц как уехали на Север. До весны не вернутся. И Нина Сергеевна, и муж ее.
Я извинился, начал спускаться по лестнице. И думал, что в Москве, вполне вероятно, живет не одна Нина Сергеевна Фролова 1930 года рождения.
И тут дверь сзади снова растворилась.
– Погодите, – сказал тот же парень. – Мать что-то сказать хочет.
Мать его тут же появилась в дверях, запахивая халат.
– А вы кем ей будете?
– Так просто, – ответил я. – Знакомый.
– Не Вадим Николаевич?
– Вадим Николаевич.
– Ну вот, – обрадовалась женщина, – чуть было вас не упустила. Она бы мне никогда этого не простила. Нина так и сказала: не прощу. И записку на дверь приколола. Только записку, наверное, ребята сорвали. Месяц уже прошел. Она сказала, что вы в декабре придете. И даже сказала, что постарается вернуться, но далеко-то как…
Женщина стояла в дверях, глядела на меня, словно ждала, что я сейчас открою какую-то тайну, расскажу ей о неудачной любви. Наверное, она и Нину пытала: кто он тебе? И Нина тоже сказала ей: «Просто знакомый».
Женщина выдержала паузу, достала письмо из кармана халата.
«Дорогой Вадим Николаевич!
Я, конечно, знаю, что вы не придете. Да и как можно верить детским мечтам, которые и себе самой уже кажутся только мечтами. Но ведь хлебная карточка была в том самом подвале, о котором вы успели мне сказать…»
О страхе
Перед Курским вокзалом с лотка продавали горячие пирожки с мясом. Мягкие и жирные. По десять копеек. Раньше их продавали везде, но, видно, с увеличением дефицита мясных продуктов, при косной политике цен, когда нельзя волюнтаристски увеличить цену на пирожок вдвое, столовые предпочитают сократить производство пирожков.
Я смотрел на короткую очередь к лотку и представлял, как эти пирожки медленно вращаются, плавают в кипящем масле, и мне хотелось пирожка до боли под ложечкой. И я был горд собой, когда сдержался и вошел в стеклянную дверь, отогнав соблазнительное видение. Мне категорически нельзя есть жирное тесто. Еще пять лет назад у меня был животик, а теперь некоторые называют мой животик брюхом. Я слышал, как моя бывшая возлюбленная Ляля Ермошина говорила об этом подруге в коридоре. Они курили и не заметили, что я подошел совсем близко. А когда увидели меня, то засмеялись. Как будто были внутренне рады, что я случайно подслушал их слова.
Сентябрь. Вокзал переполнен народом. Такое впечатление, что вся страна сорвалась с мест, с детьми, бабками, тюками, чемоданами, ящиками… Бесконечные ряды сидений на втором этаже были вплотную заполнены людьми. Если кто засыпал, то склонял голову на плечо соседу. Не больше. Некоторые транзитники проводят на вокзале по нескольку дней, отстаивая безнадежно длинные очереди к кассам, толпясь в переполненном буфете, торча часами у киосков «Союзпечати», и, если билет наконец добыт, но до отхода поезда остались еще часы, а то и дни, бросаются на милость экскурсоводов и отправляются в автобусах поглядеть на Москву при электрическом освещении. Даже громадный, высокий новый зал вокзала не может рассеять российский железнодорожный запах, который, как мне кажется, живет в полосе отчуждения с середины прошлого века, так как в нем смешиваются не только ароматы современные – дух электрических искр и разогретой пластмассы, – но и такие давно умершие в иных местах запахи, как вонь онуч, скисшего молока, избы, которую топят по-черному. И все это смешивается с извечными признаками дороги – смесью воздуха из плохо промытых, пропитанных хлоркой уборных, бурого угля и просмоленных шпал. Никуда нам не деться от этой симфонии запахов. Я подозреваю, что даже на космодромах, когда космические путешествия станут обычным делом, возникнет и приживется этот обонятельный комплекс.
Внизу, где потолок нависает над подземным залом, где покорные хвосты пассажиров маются у камер хранения, за рядом столов, где молодые люди с острыми глазками торгуют старыми журналами и книжками, что никто не покупает за пределами вокзала, на стене висели телефоны-автоматы. Перед каждым по три-четыре человека, внимательно слушающих, что может сообщить родным или знакомым тот, кто уже дождался своей очереди. Я был четвертым к крайнему автомату.
Я полез в карман и, конечно же, обнаружил, что двухкопеечной монеты нет. Даже гривенника нет. Я достал три копейки и голосом человека, который умеет просить (а я не выношу просить), обратился к человеку, стоящему передо мной.
– Простите, – сказал я. – Вы мне не разменяете три копейки?
Человек, видно, глубоко задумался. Он вздрогнул, будто не мог сообразить, что мне от него надо. Он обернулся, сделав одновременно быстрый шаг назад. Я впервые увидел его глаза. Сначала глаза. Глаза были очень светлые с черным провалом в центре зрачка и черной же каемкой вокруг. Они мгновенно обшарили мое лицо, а я в эти секунды смог разглядеть человека получше. Лицо его было таким узким и длинным, словно в младенчестве его держали между двух досок. Мне в голову сразу пришла дурацкая аналогия с ногами знатных китаянок, которые туго пеленали, чтобы ступни были миниатюрными. Нос этого человека от такого сплющивания выдался далеко вперед, но еще больше вылезли верхние зубы. Я бы сказал, что лицо производило неприятное впечатление. На человеке был старомодный плащ, застегнутый на все пуговицы.
– Какие три копейки? – спросил он, словно я потребовал от него кошелек.
– Ну вот… – Я чувствовал себя неловко, но отступать было поздно. – Видите? – Я показал ему трехкопеечную монету. – Мне надо разменять. А как назло, срочный звонок. Понимаете? Может, по копейке?
– Нет, – быстро ответил человек. – Я сам достал. С трудом.
– Не беспокойтесь. – Мне хотелось как-то утешить человека, который явно находился под гнетом страха. – Я найду. Извините. Только, если кто-то подойдет, скажите, что я за вами.
Человек быстро кивнул.
Я пошел по залу к столам с журналами, и мне казалось, что он смотрит мне вслед.
Молодые люди, которые торговали журналами, разменять монету не смогли. Или не хотели. Им надоело, что в течение дня сотни людей подходят к ним с подобной же просьбой. Наверное, если бы я купил прошлогодний номер «Науки и жизни», они отыскали бы две копейки. Но тратить рубль только из-за того, чтобы эти бесчестные люди снабдили меня монетой, я не мог.
После неудачной попытки у аптечного киоска я остановился и еще раз обшарил свои карманы. Оттуда мне был виден испуганный узколицый человек. Как раз подходила его очередь.
Вдруг я нашел монетку. В верхнем кармане пиджака. Как она могла туда попасть, ума не приложу.
Я вернулся к автоматам. За узколицым человеком стояла девушка с сумкой через плечо.
– Я здесь стоял, – сообщил я ей.
– А мне никто не сказал, – заявила девушка агрессивно.
Меня смущает агрессивность в нашей молодежи. Как будто эти хорошо одетые, сытые подростки заранее готовы огрызнуться и даже ждут предлога, чтобы тебя укусить.
– Подтвердите, товарищ, – сказал я узколицему человеку, который уже взялся за телефонную трубку.
– Да, – сказал тот, – это так. Гражданин занимал очередь. Я подтверждаю.
Девушка отвернулась, ничего не ответив. Могла бы и попросить прощения за грубость тона. Хотя, впрочем, она же этого тона не ощущала.
Узколицый человек позвонил в справочную. Я не мог не слышать, о чем он говорит. Но я стоял слишком близко к нему, опасаясь, что по окончании его разговора нахальная девушка может оттеснить меня.
– Девушка, – сказал узколицый человек, дождавшись ответа, – я хотел бы выяснить у вас телефон одного лица… Да, эти данные мне известны. Мик Анатолий Евгеньевич. Год рождения тысяча девятьсот первый… Нет, адреса не знаю. Но ведь фамилия редкая!..
Он ждал, пока девушка найдет нужную строчку в своей справочной книге, прикрывая ладонью трубку. Даже в полутьме этого угла зала мне было видно, что ногти у него грязные.
– Не значится? Ну конечно, он мог уехать… Ну конечно, он мог умереть… давно, еще до войны. Нет, не вешайте трубку! Пожалуйста, проверьте тогда: Мик Иосиф Анатольевич или Мик Наталья Анатольевна. Год рождения? Соответственно тридцать первый и тридцать третий. Я подожду.
Девушка перешла к другому автомату, где уже кончали говорить.
Узколицый человек снова зажал трубку ладонью и поглядел на меня загнанно и виновато.
– Сейчас, – сказал он. – Она скоро.
Я постарался вежливо улыбнуться. Ситуация выглядела банально. Человек приехал в Москву. Вернее всего, его поезд уходит завтра, в гостиницу он не устроился, ночевать на вокзале не хочет. Вот и принялся искать давно забытых родственников.
– Нет? – услышал я голос узколицего. – Вы уверены? Вы хорошо посмотрели?.. Да-да, простите за беспокойство.
Он повесил трубку.
– Я так и думал, – сказал он мне.
– Ну ничего, – ответил я. – Они в самом деле могли уехать.
– Куда? – спросил он, как будто я должен был дать ему ответ.
– Столько лет прошло, – сказал я.
– Вы откуда знаете? – Глаза его сразу стали почти белыми от вспыхнувшего недоверия ко мне.
– Я ничего не знаю, – ответил я мирно. Я вообще мирный человек. Я согласен с теми, кто утверждает, что толстые люди более добры и великодушны, чем худые. Хотя, конечно, не мешало бы и похудеть.
– Я был вынужден слушать ваш разговор. И вы сами сказали, что видели своих родственников еще до войны. Маленьким мальчиком.
– Кто мальчик?
– Простите, – сказал я, чувствуя, что есть опасность снова потерять очередь – высокий мужчина в японской голубой куртке стал проталкиваться к телефону, и я, чтобы не упустить очередь, схватил трубку.
Далеко этот человек не ушел.
Я увидел его через пять минут в очереди за мороженым.
Я завистлив. Увидев, как он стоит за мороженым, я сразу захотел мороженого. Отказав себе в пирожках, я тем самым совершил определенное насилие над собственным организмом. Мороженое было паллиативом. Я мог себе его позволить после того, как не позволил пирожка. И тогда я пошел на маленькую хитрость. Я прямо направился к узколицему человеку и протянул ему двадцать копеек.
– Возьмите мне тоже, – сказал я, улыбаясь, словно мы были хорошо и давно знакомы.
– Что? – Он растерялся от такой наглости с моей стороны, но отказать не смог. К счастью, в очереди, которая выстроилась сзади, никто не заметил его мгновенного колебания.
Человек держал мои двадцать копеек осторожно, двумя пальцами, словно это были заразные деньги. В другой руке у него была десятка. Он взял четыре порции мороженого, а потом протянул продавщице мои двадцать копеек и сказал:
– И еще одну.
Брать он мое мороженое не стал, предоставив это мне, а сам свободной рукой принял стопку мятых бумажек и монеток и не глядя сунул в карман плаща.
– Спасибо, – сказал я, ожидая, пока он управится с деньгами. – Помочь вам?
– В чем?
– Давайте, я подержу мороженое.
Слова мои звучали глупо. Любой человек может удержать в руке четыре пачки мороженого.
Мне следовало как-то уладить этот конфузливый момент, чтобы человек не подумал, что я к нему пристаю, что мне от него что-то нужно.
– Поймите меня правильно, – сказал я и почувствовал, что краснею. – Но вы оказали мне любезность, и мне хотелось бы отплатить вам тем же. Если вам мое вмешательство неприятно, то простите ради бога, и я уйду.
Он ничего не отвечал и пошел медленно прочь. Я шел рядом и не мог остановиться.
– Получилось так, – продолжал я, – что мне пришлось застрять на вокзале. Я здесь уже второй день. Я страшно истосковался по нормальному человеческому общению. Мой поезд уходит только вечером. Я уже дважды ездил на экскурсии по памятным местам, я изучил все вывески и объявления, узнаю в лицо всех милиционеров на вокзале. Я просто не представляю, как переживу еще четыре часа. Если не верите, то посмотрите, вот мой билет.
Я полез в карман за билетом, но тот человек сказал:
– Не надо. Зачем?
– Я сам из Мелитополя, – сказал я. – Я технолог, был в Ленинграде у моей тети. Знаете, из старых петербуржских дев. А теперь вот болеет. Возраст.
Так, разговаривая (вернее, разговаривал я, а узколицый человек лишь кивал в знак того, что слышит), мы поднялись по эскалатору наверх. За стеклянной стеной начало смеркаться. У дверей толпились автобусы.
– Извините, – сказал я, останавливаясь наверху. – Я пойду. Еще раз тысячу извинений.
Он ничего не ответил, и я пошел к кассам, но тут же человек меня окликнул.
– Подождите, гражданин, – сказал он. – Вы едете в Мелитополь?
– Да, – сказал я, возвращаясь. – Сегодня вечером.
– Вы там живете?
– Разумеется.
– Мой отец жил в Мелитополе, – сказал узколицый человек.
– Не может быть!
Мороженое, которое он держал обеими руками, размягчилось, и мне было видно, как его пальцы продавили углубления в брикетах. Но он этого не замечал.
– Я хотел бы поехать в Мелитополь, – сказал человек.
– Приезжайте, – сказал я. – Я могу вам оставить адрес. Я живу один в трехкомнатной квартире. Моя жена покинула меня, вот и остался я один.
Наверное, я показался ему человеком с недержанием речи. И, чтобы отвлечься от мелитопольской темы, я сказал:
– Ваше мороженое вот-вот потечет.
– Да, конечно, – согласился он, думая о чем-то другом.
– Вы отнесите его, – посоветовал я.
– А вы уйдете? – Я понял, насколько одинок и не уверен в себе этот человек. – Вы, пожалуйста, не уходите. Если, конечно, можете.
– Разумеется, – сказал я. – Конечно, я буду с вами.
Мы с ним пошли через зал. Его семья ждала его в дальнем конце зала, за закрытым киоском. Двое детей сидели по обе стороны женщины средних лет с таким же узким лицом, как у моего нового знакомого, и с еще более длинным носом. Я даже вообразил сначала, что это его сестра. Но оказалось, что жена. При виде нас женщина почему-то прижала к груди черную матерчатую сумку, а дети, один совсем маленький, другой лет семи, замерли, будто крольчата при виде волка.
Женщина была коротко подстрижена, почти под скобку, и лишь на концах волосы были завиты. И платье, и пальто с большими серыми пуговицами были очень неправильными, именно неправильными. Я бы даже не сказал, что они немодны или старомодны. Они принадлежали к другому миру.
– Маша! – сказал быстро мой спутник. – Не волнуйся, все в порядке. Этот гражданин из Мелитополя, мы с ним покупали мороженое.
С этими словами он положил ей на руки полурастаявшие пачки, и женщина инстинктивно вытянула вперед руки, чтобы капли сливок не падали на пальто.
– Моя жена, – сказал узколицый человек. – Мария Павловна.
Женщина как-то сразу обмякла, видно, она боялась тут сидеть одна, с детьми. Дальше на длинной скамье дремал казах с электрогитарой, затем сидела парочка голубков лет пятидесяти. На нас никто не смотрел.
Женщина оглянулась, куда деть мороженое.
– Дай сюда, – сказал семилетний мальчик. – Я подержу.
– Только не накапай на штанишки, Ося, – сказала женщина.
– А мне? – спросила малышка. Она сидела на лавке, поджав ноги, покрытая серым одеялом, на котором можно было угадать изображение белки с орехом.
– Сейчас, Наташенька, сейчас, – сказала женщина.
Она быстрым кошачьим движением извлекла из сумки носовой платок, вытерла руки и, поднявшись, протянула мне ладонь.
– Мик, Мария Павловна, – сказала она. – Очень приятно с вами познакомиться.
– Мы тут проездом, – быстро сказал узколицый. – Да вот застряли.
Он вдруг засмеялся, показав, как далеко вперед торчат его длинные зубы.
– И очень хотим уехать, – сказала его жена.
– Простите, – я не хотел ничем пугать этих странных людей, – но мы с вами так и не познакомились. Меня зовут Лавин, Сергей Сергеевич Лавин.
Я протянул ему руку.
Он с секунду колебался, будто не знал, сказать ли настоящее имя или утаить. Потом решился.
– Мик, – сказал он. – Анатолий Евгеньевич.
Мне было знакомо это имя. Я его слышал, когда Анатолий Евгеньевич говорил по телефону. Но я не стал ничего говорить. Рука у него была холодной и влажной, и мне показалось, что я ощущаю, как быстро и мелко бьется его пульс.
– Подвиньтесь, дети, – сказала жена Мика. – Дайте товарищу сесть.
– Спасибо, я постою.
Дети покорно поднялись. Одеяло упало на пол. Дети стояли рядышком. Они так и не ели мороженое, которое текло между пальцев Оси и капало на пол.
– Ешьте, дети, а то будет поздно, – сказал я. – Видите, я уже доедаю.
– Почему поздно? – спросил мальчик.
– А то придется лизать с пола.
Дети удивились, а родители вежливо засмеялись.
– Вы оставайтесь здесь и не волнуйтесь, – сказал Мик жене. – Нам с Сергеем Сергеевичем надо поговорить.
– Не уходи, папа, – сказал мальчик.
– Мы будем стоять здесь, где вам нас видно.
Он взял меня за руку и повел к стеклянной стене. Воздух за ней был синим. Очередь на такси казалась черной.
– Они очень нервничают, – сказал Мик. – Я в отчаянии. Моя жена страдает от гипертонической болезни. Мы с утра здесь сидим.
– У вас никого нет в городе? Я слышал, что вы звонили, но вам сказали…
– Это уже не играет роли. Но вы мне показались достойным доверия человеком. Я решил – мы поедем в Мелитополь. Как вы думаете, можно ли будет купить билет?
– Я достал его с трудом, – честно признался я. – Много желающих.
– Впрочем, мы можем уехать и в другой город. Но приехать на место, где тебя никто не знает и ты никого не знаешь…
– Честно говоря, Анатолий Евгеньевич, – сказал я, – мне все это непонятно.
Мальчик Ося подошел к нам и протянул отцу газету.
– Мама сказала, чтобы ты почитал, – заявил мальчик. – Тут написано про космонавтов. А кто такие космонавты?
Мик перехватил мой удивленный взгляд.
– Я тебе потом расскажу, сынок, – сказал он.
Я погладил мальчика по головке.
– Космонавты, – сказал я, – осваивают космос. Они летают туда на космических кораблях. Разве тебе папа раньше не говорил?
– Мы жили уединенно, – сказал Мик. – Ося, возвращайся к маме.
К счастью, Ося не был похож на родителей. У него было обыкновенное круглое лицо и нормальный нос. Может, его мама согрешила с другим? Впрочем, какое мне дело?
– А почему ты мне не говорил про космонавтов? – спросил мальчик. – Их никогда раньше не было.
– А кто же был, Ося? – спросил я, улыбаясь.
– Раньше были челюскинцы, но я их не видел, – сказал мальчик серьезно. – А теперь есть Чкалов. Чкалов космонавт или нет?
– А что ты знаешь о Чкалове?
– Ося, немедленно назад! – Мик буквально шипел, словно кипящий чайник. Я испугался, что он ударит мальчика.
– А Чкалов скоро полетит в Америку. Я знаю, – сказал мальчик.
Прическа, понял я. Такой прически сегодня просто никто не сможет сделать. Даже в отдаленном районном центре. Парикмахеры забыли, как стричь «под бокс», а Мик подстрижен «под бокс».
– Твое имя Иосиф, мальчик? – спросил я.
Мальчик не уходил. Ему было интереснее со мной, чем с мамой.
– Мария! – крикнул пронзительно Мик, и я понял, что он всегда в жизни кричит, зовет на помощь Марию, если не знает, что делать. – Мария, возьми мальчика.
– А меня назвали в честь дяди Сталина, – сказал мальчик. – А почему нет портрета дяди Сталина?
– Дядя Сталин, – сказал я, – давным-давно умер.
И тут испугался мальчик. Мне даже стало неловко, что я так испугал мальчика.
Мать уже спешила к нам через зал. Она резко схватила мальчика за руку и потащила от нас, она не спрашивала, она обо всем догадалась. Мальчик не оборачивался. Он плакал и что-то говорил матери.
– М-да, – сказал я, чтобы как-то разрядить молчание. – Наверное, мне лучше уйти. Вы нервничаете.
– Да, – согласился Мик. – Хотя, впрочем, зачем вам теперь уходить? Вы же догадались, да?
– Я теряюсь в догадках, – сказал я. – У меня создается впечатление, что вы много лет где-то прятались, что вас не было… Я не знаю, как это объяснить…
– Давайте выйдем наружу, покурим. Вы курите?
Мы вышли из вокзала. Сквозь освещенную стеклянную стену я видел сидевших кучкой жену и детей Мика. Девочка спала, положив голову на колени матери. Мальчик сидел, подобрав коленки. Коленки были голыми. На мальчике были короткие штанишки, что теперь редко увидишь.
Мик достал из кармана смятую пачку папирос «Норд». Предложил мне. Я предпочел «Мальборо». Мы закурили.
– Мы не прятались, – сказал Мик, оглядываясь на старуху, стоящую неподалеку с букетом астр. – Нас просто не было.
Горящие буквы новостей бежали по крыше дома на другой стороне Садового кольца. «Высадка на Марсе ожидается в ближайшие часы». У нас плохо с мясом, подумал я, но мы добрались до Марса. Этого я, разумеется, не сказал вслух.
– Мы живем в прошлом. Вернее, жили в прошлом до вчерашнего дня. И вот, простите, бежали. Скажите и не поймите меня ложно: в самом ли деле портретов Сталина нет в вашем времени?
– Как-то я видел один на ветровом стекле машины. Она была с грузинским номером, – сказал я. – Он для нас – далекая история.
– А вы знаете, что по его вине погибло много людей? Об этом вам известно?
– Известно, – сказал я. – Давно известно.
– И что вы сделали?
– Мы сделали единственное, что можно было сделать, чтобы не отказываться от собственной истории, – сказал я. – Мы предпочли забыть. И о нем, и о тех, кто погиб. Наверное, я не совсем точен. Наверное, правильнее сказать, что мы отдаем должное тем, кто погиб безвинно. Но стараемся не обобщать.
– Может, это выход. Трусливый, но выход. Я не хочу вас обидеть. Я специально выбрал это время, чтобы быть уверенным, что никого из них уже не будет в живых.
Я промолчал.
– Еще вчера… – сказал Мик, глубоко затягиваясь. Табак в папиросе был плохой, он потрескивал, будто Мик раздувал печку. – Еще вчера мы жили в 1938 году. Вы не верите?
– Не знаю, – сказал я. – Если вы мне объясните, то я постараюсь поверить.
– Я работал в институте. Вам название ничего не скажет. Нас было несколько экспериментаторов. И должен сказать, что во многом мы даже обогнали время. Это звучит наивно?
– Нет, всегда есть ученые, которые обгоняют время.
– Во главе института стоял гениальный ученый. Крупинский. Вы слышали о нем?
– Простите, нет.
– Он работал у Резерфорда. Эйнштейн звал его к себе. Но он остался. С нами, с его учениками. А времена становились все хуже. И к власти в институте пришли… мерзавцы.
Он потушил папиросу и сразу достал новую.
– И потом взяли одного из нас, и он исчез. И было ясно, что очередь за другими. Многие из нас бывали за границей. И потом, мы не могли быть осторожными. В самые тяжелые времена наверх вылезает осторожная, но наглая серость. Она везде. Она в биологии, она в генетике, даже в истории. Вы знаете, что генетика фактически под запретом?
– Я слышал, что так было.
– Слава богу, я не зря приехал сюда. Хоть генетика… И мы стали работать. Крупинский сказал нам, что если мы не можем уехать, не можем спрятаться, то мы не имеем права бесславно и незаметно умирать. Наука нам этого не простит. Наш долг – остаться в живых. И есть одна возможность – уйти в будущее. Пока теоретическая. Но если нам очень хочется жить, то мы сделаем это. Практически. И знаете, никто не донес. Мы все работали вечерами, даже ночами, а днем делали вид, что прославляем и так далее. И все было готово.
– А в каком институте, если не секрет?
– Ну какой теперь может быть секрет. Институт экспериментальной физики имени Морозова. Слышали?
Я кивнул.
– Все было готово. Позавчера. И знаете, почему мы особенно спешили? Три дня назад взяли Кацмана. Аркашу Кацмана. Совсем по другому делу. Там что-то с его родственником. Но мы знали, что его будут допрашивать и, когда начнут сильно допрашивать, он расскажет. Знаете, когда пишут про Гражданскую войну, там всегда есть герои, которых белогвардейцы пытают целыми неделями, но те молчат. В самом деле так не бывает. Они ведь профессионалы. Они умеют пытать. Сознаются все. И мы знали, что, даже если Аркашу не будут спрашивать об институте, что было маловероятно, он все равно все расскажет, чтобы купить жизнь. Он очень хороший человек, Аркаша. Но мы были правы. Я дежурил в институте, и в срок никто не пришел, даже Крупинский. Я думал, что Крупинского не посмеют тронуть. Я позвонил ему домой, а незнакомый мужской голос спросил, кто его просит. И я сразу понял. По интонации. Знаете, они почему-то привозят людей с Украины, с таким мягким южным акцентом. Я не знал, сколько у меня времени. Я позвонил домой. Я сказал Марии, чтобы она взяла детей и больше ничего. Правда, она догадалась взять свои кольца. Иначе бы я забыл. Зато здесь я продал сегодня одно кольцо – знаете, мне за него дали двадцать рублей. Такой черненький человек. Иначе и по телефону не позвонишь. Она догадалась и больше не спрашивала. Хорошо, что мы рядом живем. А знаете, что я сделал, когда уже включил машину? Я позвонил к себе домой. И там подошел к телефону человек с таким же мягким акцентом. Мои успели уйти буквально за считаные минуты. И мне кажется, что, когда машина уже работала, они ворвались в лабораторию. Но, может быть, мне показалось.
– Трудно поверить, – сказал я.
– Ах, это так просто…
Теперь, когда он мне все рассказал, он чувствовал себя иначе, страх отпустил его. Я стал его сообщником. Почти родным ему человеком. Не важно, что произойдет с нами потом, но сейчас мы были сообщниками в бегстве из прошлого. Он извлек из внутреннего кармана пиджака черный кожаный бумажник и из него паспорт в серой мягкой обложке. Мне было любопытно поглядеть на его паспорт. В паспорте значилось, что мой собеседник – Мик Анатолий Евгеньевич, год рождения – 1901. И фотография была правильная. Узкое лицо. Светлые глаза. Конечно, можно сделать все – и паспорт, и фотографию. Но ради чего? Чтобы удивить меня? И я поверил этому человеку.
– Что же теперь делать? – спросил я.
– Не представляю. Мы выбрались из машины ранним утром. На наше счастье, здание института сохранилось. Только там все иначе. Это было на рассвете. Никого не было. Мы вышли…
– Вы не боялись, что кто-нибудь пойдет вслед за вами?
– У нас все было оговорено. У нас была сделана очень маленькая мина замедленного действия. Она должна была разрушить только пульт управления. Через тридцать секунд после того, как уйдет в будущее последний. Но я был единственным… Нет, они не догадаются. И я думаю, что они не поверят. Ну как можно поверить? Куда проще предположить, что это заговор шпионов.
Он ухмыльнулся и показал длинные зубы. Потом достал третью папиросу.
– Вы много курите, – сказал я.
– Нервничаю. – Он робко улыбнулся.
– Ну и что дальше?
– Дальше? Дальше я рассудил… Я уже ночью придумал, что, если никого, кроме меня, не будет, я сначала поеду на вокзал. И знаете, я оказался прав. Здесь так же много людей, как полвека назад. И такая же неразбериха.
Он поглядел сквозь стеклянную стену в зал. Мария Павловна сидела прямо и смотрела перед собой. Она ждала. Ей было страшно, куда страшнее, чем ее мужу. Дети спали.
– Ей страшно, – сказал Мик. – Она не знает, чем это кончится. Но я теперь надеюсь, что мы уедем в тихий город, ведь теперь не арестовывают, не убивают?
– Нет, – твердо сказал я. – Теперь этого не бывает.
– Все кошмары кончаются, – сказал Мик. – Я всегда знал, что тот кошмар тоже кончится. По крайней мере, я спокоен за детей. Они будут учиться… Я тоже могу преподавать физику в школе. Я не так уж отстал от школьного уровня.
– Разумеется, – сказал я.
– Мы возьмем билеты в Мелитополь и затеряемся… Знаете, может, даже мы сойдем на какой-нибудь станции и я скажу, что потерял документы. Что мне за это будет?
– Не знаю, – сказал я. – Наверное, выдадут новые. Только трудно будет проверить…
– До встречи с вами я был в каком-то шоке, – сказал Мик. – Я вам очень признателен. От вас исходит какое-то спокойствие, уверенность в себе. Я позвонил в справочное… А, вы слышали? Я позвонил и думал спросить, не дожил ли кто-нибудь из нас… Глупая мысль.
– Нелепая мысль, – сказал я. – Получается, что вас двое. А этого быть не может.
– А вы где будете ночевать? На вокзале?
– Нет, – сказал я. – У меня здесь живет знакомая. Одна из моих тетушек. У нее отдельная квартира.
– Счастливец.
– И у меня есть к вам предложение. Детям плохо на вокзале. И жене вашей нехорошо. Я думаю, что у тетушки мы поместимся. Мы скажем ей, что вы мои мелитопольские родственники.
– Вы с ума сошли. Это же такое неудобство…
– Если вам не накладно, – сказал я, – то вы утром ей заплатите. Немного. Она на пенсии, и лишние пять рублей ей не помешают.
– Разумеется, у меня значительно больше денег. И у Маши остались еще кольца. Это было бы великолепно…
– Вот и решили, – сказал я. – Собирайте свою гвардию, а я пойду ловить машину.
– Такси?
– Такси вряд ли, – сказал я. – Поглядите, какая очередь. Это часа на полтора как минимум. Я думаю, что отыщу левака. Частника.
– А это можно?
– У нас многое можно, – улыбнулся я.
– Так я пошел?
– Давайте. Встречаемся здесь.
Я поглядел ему вслед. Он бежал через зал к своей жене. Он был счастлив – длинные зубы наружу в дикой улыбке. Он махал руками и, нагнувшись к жене, начал ей быстро, возбужденно что-то говорить…
Когда они выползли всем семейством к выходу, голубой «рафик» уже стоял неподалеку. Шофер выглянул из окошка.
– Поторапливайтесь, – сказал он. – Тут фараоны не дремлют.
– Он согласился, – сказал я. – Он еще одну семью взял, их отвезет к площади Маяковского, а потом нас, дальше, на Ленинский.
– Мы на этой машине поедем? – спросил Ося. – Я такой не знаю.
– Привыкнешь, – сказал Мик. – Ты еще не такие машины увидишь.
Сначала в машину Мария Павловна внесла спящую девочку. Потом забрались Мик и мальчик. Я последним.
Я поздоровался со средних лет четой, сидевшей на заднем сиденье. Мария Павловна уложила девочку на сиденье.
– Все в норме? – спросил шофер.
Машина ехала по Садовому кольцу, и Мик не отрываясь глядел по сторонам. Ему все нравилось. И яркое освещение, и движение на улицах. И даже рекламы. Мальчик все время спрашивал: «А это что? А это какая машина?» Мать пыталась его оборвать, но я сказал:
– Пускай спрашивает.
Перед площадью Маяковского машина свернула в переулок.
Мы сидели с Миком на переднем сиденье, и поэтому, когда я наклонился к нему и начал тихо говорить ему на ухо, его жена ничего не слышала.
– Мик, – сказал я, – только не надо шуметь и устраивать истерику. Сейчас мы приедем в одно место, и вы тихо выйдете из машины. Там нас ждут.
– Кто? – прошептал он, тоже стараясь, чтобы жена не услышала. – Кто может ждать… здесь?
– Мик, – сказал я, – вы ведь думаете только о себе. Мы вынуждены думать о более серьезных вещах. Путешествия во времени невозможны. Успешное путешествие во времени может нарушить, как говорил поэт, «связь времен». Вы исчезли в прошлом, образовав там опасную лакуну. От вашего отсутствия нарушается баланс сил в природе. Вы же физик, вы должны были это предусмотреть.
– И ждать, пока нас убьют и отправят куда-то наших детей?
– Ваши товарищи не избегли этой участи. Поймите, Мик, я не имею ничего против вас и вашей семьи. Я искренне вам сочувствую и надеюсь, что обвинение против вас будет снято. Известно множество случаев, когда людей отпускали на свободу.
– В каком году умер академик Крупинский? – спросил вдруг Мик в полный голос.
– Не знаю, – сказал я. Хотя знал, что в 1938 году.
Мария Павловна почувствовала что-то в его голосе.
– Что случилось? – спросила она. И, когда ей никто не ответил, сказала очень тихо: – Я так и знала.
Машина въехала во двор управления, железные ворота закрылись за ней. Не замедляя хода, она нырнула в знакомые мне ворота и резко затормозила во внутреннем зале. Два наших товарища уже ждали. Один из них открыл дверь.
Два других наших товарища, которые сидели на заднем сиденье, спрятали оружие, и женщина средних лет – я ее знал только в лицо – сказала:
– Выходите спокойно, товарищи.
Они вышли совершенно спокойно. Я хотел взять девочку из рук Марии Павловны, чтобы помочь той. Но Мик оттолкнул меня. Я не обиделся. Я понимал, что, с его точки зрения, я кажусь коварным человеком, заманившим его в ловушку.
– Куда нас денут? – спросил он визгливым голосом. Я подумал, что с облегчением забуду это длинное сплюснутое лицо и эти длинные желтые зубы.
– Назад, – сказал один из наших товарищей.
– Но ведь этого нельзя делать, – сказала Мария Павловна. – Они там нас ждут.
Товарищ пожал плечами.
В низкую железную дверь вошел Степан Лукьянович. Он быстро взглянул на беглецов, потом пожал мне руку и поблагодарил за работу.
– У меня были данные, – сказал я. – Остальное лишь опыт и наблюдательность.
– Скажите, – Мик так и не выпускал из рук девочку, – а вы знали? Давно?
– Это третий случай, – вежливо ответил Степан Лукьянович. – Все три нам удалось пресечь.
Он немного лукавил, мой шеф. Второй из этих случаев кончился трагически. Тот человек, который попался, имел при себе яд. Но эти наверняка яда не имеют. Совсем другие люди.
– А мы куда поедем? – спросил мальчик.
– Я вас очень прошу, – сказала вдруг Мария Павловна. – Ради наших детей. Посмотрите на них. У вас же тоже есть дети?
– Я вам искренне сочувствую, – ответил Степан Лукьянович. – Но, простите за народную мудрость, каждому овощу свое время.
– Не надо, Маша, – сказал Мик, – не проси их. Они те же самые.
– Ну тогда оставьте детей. Мы вернемся, мы согласны! – кричала Мария Павловна. Она старалась вырвать ребенка у своего мужа, он не отпускал девочку, одеяло развернулось и упало на пол, девочка верещала. Это была тяжелая сцена.
Мик первым побежал к открытой двери, но его остановил один из наших товарищей.
– Не сюда, – сказал он.
И показал на другую дверь, которая как раз начала открываться.
Пустой дом
Мы схожи с мореплавателями семнадцатого века. Океаны безбрежны и полны тайн. Карты – сплошные белые пятна, кое-где пересеченные маршрутами капитанов, что побывали в этих широтах десять, сто лет назад. Богатая фантазия картографов заполнила плоскости белых пятен двухголовыми чудовищами, морскими змеями, огнедышащими горами и сиренами.
Завтра моряку, быть может, повезет: пролетит над бушпритом зеленый попугай, закачается на волнах скорлупа кокосового ореха, туманным облаком повиснет над горизонтом неизвестный остров.
– Не будет на острове двухголовых чудовищ и темнокожих красавиц. И тайн не будет. Остров окажется точно таким же, как сто островов до него, – сказал Гусев.
– Сила тяжести восемь «ж», метеоритные кратеры и выходы базальтов, – сказал Бауэр.
– Мне с вами скучно, – сказал я. – Мне давно с вами скучно. Метеоритных кратеров не будет. В такой плотной атмосфере сгорит без следа даже аризонский метеорит.
– Там все уже сгорело, – не сдавался Гусев. – Температура у поверхности плюс триста. Поверь моему опыту.
В кают-компанию спустился Янсон и принес расшифрованный отчет зонда. Температура у поверхности по экватору – минус сорок четыре Цельсия. Атмосфера практически нормального типа. Пальмы кивали головами с далекого берега.
– Жуткие ветры, – сказал капитан, когда мы поднялись на мостик. – Отвратительный климат. Но жить можно.
На экране клубились снежные вихри, в просветах туч изредка мелькали пятнистые прогалины. Бауэр разложил на штурманском столе фотографии, принесенные зондом. Он был похож на дедушку, раскладывающего любимый пасьянс «Невский проспект».
– А вот и город, – сказал Бауэр и протянул капитану нечеткий снимок. Снимок был заштрихован полосами вихрей, и при желании сквозь них можно было разглядеть прямые линии и круги.
Мы оставили корабль на орбите. Сели скромно, в катере. При посадке катер швыряло ветром и сносило к острым зубьям скал.
– Тропический рай, – сказал Бауэр, застегивая скафандр.
Если бы на корабле нашлись шубы, можно было бы обойтись и без скафандров. Но шуб мы с собой не везли.
– Потом, когда познакомимся поближе, – ответил я, – одолжим у них валенки.
– Кому что, дуся, – сказал Бауэр. – Мне выдадут горные лыжи. Здесь чудесно развит зимний спорт.
Температура снаружи упала до пятидесяти трех градусов. Пурга ярилась, раскачивая катер.
– Они не занимаются зимним спортом, – сказал серьезно Гусев, готовя к спуску вездеход. – Они смотрят телевизор.
– В такой обстановке нельзя изобрести телевизор, – сказал Бауэр. – Никто не полезет на крышу ставить антенну.
– Скоро выходите? – спросил по рации капитан.
– Мы готовы, – сказал Бауэр.
– В катере Гусев?
– Да.
Об этом было уговорено еще на корабле. Гусев лишь улыбнулся. Мы с Бауэром перешли в вездеход. Машина вздрогнула, когда по ветровому стеклу полоснуло снегом. Колеса до половины утонули в сыпучей каше.
Город возник из ничего в тот момент, когда мы поравнялись с первым домом. Приземистые купола вылезали из-под снега, как шляпки боровиков из-под вороха осенних листьев. Вездеход медленно плыл по уши в снегу, ворчал, вздыхал, медлил, когда пурга хлестала по глазам. Самый большой купол был полупрозрачным. Под ним скрывалась площадь, окруженная невысокими зданиями. Снежные струи не задерживались на скользких боках купола, стекали ручейками, но на полпути вновь взвивались смерчами, метались у преграды и били по ней кулачонками.
Площадь была пуста.
– Почему молчите? – спросил капитан.
– Их нет дома, – сказал Бауэр.
Я закрепился тросом, вылез наружу, и меня сильно толкнуло ветром в спину. Я попытался укрыться за покатой стеной. Навстречу мне зыркнул глазами белый мохнатый зверь чуть больше овчарки ростом. Присел на задние лапы и оскалился крокодильими зубами.
– Погоди, – сказал я зверю. – Куда ты?
Зверь закинул на спину длинный хвост и исчез в пурге.
– С кем ты? – спросил Бауэр.
– С волком, – сказал я. – Он убежал.
Из снега вылезла стенка. На ней мозаичная картинка – желтые и фиолетовые улыбки без лиц, разноцветные спирали и овалы. За стенкой снег вымело до мостовой, сложенной из серых плиток.
– Летом здесь тепло, – сказал я.
– Да, летом тепло, – сказал Бауэр. – Летом планета возвращается к их солнцу.
Мы нашли вход на площадь. Двойные двери в конце короткого туннеля пропустили вездеход внутрь и бесшумно закрылись, отрезав суетню бури. Снег, влетевший вслед за нами, не растаял, а лег веером по плитам. Я потоптался, стряхивая снег с башмаков, и снял шлем. На площади было тихо и холодно. Окна домов были закрыты, мостовая припудрена тонким слоем пыли. Бауэр подогнал вездеход к большой застекленной двери, спрыгнул на мостовую.
– Хоть бы муха пролетела, – сказал я.
– Холодно, – сказал Бауэр. – Надень шлем, простудишься.
Я запрокинул голову. По куполу суетились, разыскивали щель снежные струи. Бауэр шел ко мне, и его башмаки гулко цокали по плитам. Казалось, что мы на сцене огромного театра, где расставлена мебель и нарисованы декорации для спектакля, но нет еще ни актеров, ни зрителей – лишь мы, безбилетники, заблудились среди фанерных задников, разрисованных под дуб дверей и окон, за которыми нет комнат.
Бауэр постучал каблуком по плите.
– Там, внизу, пусто, – определил он.
– Надо войти в дом, – сказал я.
Бауэр кивнул, но некоторое время мы не двигались с места. Разумеется, мы должны были что-то делать. Не стоять же век посреди пустой площади. И проще было бы сделать первый шаг, если бы город был разрушен, объеден ветрами, если бы город был мертв.
Но он не был мертв. Город притворялся. Будто замыслил странную игру, будто был построен специально для нас, будто бы это был не город, а видение, голос сирены, приманка и там, под плитами, затаился Минотавр, ждущий своей жертвы.
Так же думал и Бауэр. За долгий полет начинают думать схоже. И вести себя схоже. Бауэр сказал:
– Сейчас из-за угла выйдет Житель города и скажет: «А вот и я».
– Пошли? – сказал я.
– Осторожнее, – послышался голос.
Я вздрогнул. Это капитан услышал наш разговор.
– Может быть, там скрывается всякое зверье.
Скрипнула дверь. Помещение за ней было обширным, гулким и сумрачным. Потертый ковер тянулся между двумя рядами круглых столов. Столы были одинаковы, лишь на одном лежала на боку ваза с отбитой ручкой.
Мы шли между рядов, становилось все темнее, и серые окна за спиной превратились в глаза, сверлящие взглядом. Бауэр включил шлемовой фонарь и щелкнул кнопкой на кобуре. Крышка отскочила, и рукоятка пистолета блеснула тускло и зловеще. Луч фонаря скользнул по длинному барьеру, который перегораживал дорогу. Бауэр наклонил голову, и луч света выхватил темное пятно на барьере. Кто-то опрокинул на барьер чернильницу. Или бутыль с краской. В темном пятне отпечаталась человеческая ладонь. Бауэр провел пальцем по пятну. Чернила давно высохли.
– Может, вернетесь? – спросил Гусев по рации.
– Здесь лестница вниз, – сказал Бауэр. – Спустимся. Поздно уж убегать.
Дверь в конце неширокой лестницы была прикрыта. Бауэр нажал ручку. И тут же вокруг нас вспыхнул свет. Неяркий, ровный, желтоватый. Со скрипом отъехала в сторону решетка. Мы оказались на складе. До самого потолка громоздились штабеля ящиков, контейнеров, шаровых сосудов, коробок и пачек. Склад ждал хозяев. Они не пришли, и он готов был щедро поделиться с нами своими богатствами…
– Ну хоть бы один труп, – говорил Гусев, расхаживая по кают-компании. Он высоко поднимал ноги, перешагивая через кипы фотографий, графиков, отчетов. – Хоть бы одна живая душа! Как они умудрились себя уничтожить без всякого следа? Вы мне можете сказать?
– Нет.
– Что это за беда, которая стерла с планеты всех живых людей? Ведь мы обыскали уже несколько городов, гоняли биозонд в море, рыскали по горам. Что это? Абсолютное оружие?
– Абсолютное оружие уничтожило бы и волков, и оленей, и птиц, – ответил капитан. – А звери живы. Почти все в спячке, но живы. Ждут лета.
– Или они ушли в подземные пещеры? Но зачем? Да и не пропустили бы мы пещер, в которых может скрыться полтора миллиарда разумных существ.
Бауэр сидел на полу, вытянув вперед длинные ноги, глядел на Гусева снизу. Он сказал:
– Классическая ситуация. Тайна «Марии Целесты».
– Что?
– Не помнишь?
– Не помню.
– Лет двести назад в океане обнаружили судно. «Мария Целеста». Белые паруса, наполненные ветром, и так далее. Все в полном порядке – ни течи, ни следов пожара. Но ни одного человека на борту. Идет себе по морю пустой невредимый корабль. Кастрюля на плите в камбузе, детская игрушка на палубе. Шлюпки целы. До сих пор тайна не раскрыта.
– А почему детская игрушка? – спросил капитан.
– На борту была чья-то жена. С ребенком. За детали не ручаюсь. Главное – все исчезли.
– Если это эпидемия, – сказал я, – то уж очень много придется делать допущений. И что умершие растворялись в воздухе, и что диких зверей не затрагивала болезнь.
– Кстати, – сказал Бауэр. – У них в домах жили домашние животные. Их тоже нет.
– И еще одна деталь, – сказал Гусев, разглядывая какую-то фотографию, – нет зимней одежды.
– И системы отопления, которая могла бы справиться с зимой.
Капитан потянулся, хрустнул пальцами.
– Значит, можем пока остановиться на рабочей гипотезе. Раньше таких холодов они не знали. А когда грянул мороз, он застал их врасплох. И тогда что-то случилось.
– Кстати, – сказал Гусев, – вчера я был в музее. В большом городе, километрах в ста пятидесяти от места первого приземления. Там, в исторической секции, масса изображений людей в зимней одежде. Есть и шубы, и всякие меховые вещи.
…Мы с Бауэром остановились в коридоре жилого дома. У нас в плане поисков стоял жилой дом: обмер, фотографирование, сбор образцов.
– Вытирай ноги, – сказал Бауэр, который уже прошел в первую комнату. – Здесь ковер. Наследишь.
Внешняя стена комнаты была округлой, повторяла форму купола, прикрывавшего здание. На стене висела большая картина – лес. Буйный, зеленый, цветущий, ничего общего не имеющий с крючковатыми палками, покрывающими долину за городом. Во весь пол лежал голубой ковер. В доме все было так, будто хозяин ушел из него вчера. Если с площади люди успели все убрать, то здесь времени на это не хватило. На столе свалены журналы, маленькие ночные туфли стоят около дивана, дверцы шкафа приоткрыты, и на вешалках висят платья, куртки, туники, накидки – все летнее, легкое.
Бауэр сдул пыль с журнала, раскрыл его.
– Удивительно все-таки, – сказал он, – что наш корабельный Мозг до сих пор не раскусил языка. Возможно, именно в этом журнале написано: «Надвигаются холода. Собирайте вещи и бегите».
– Нет, – сказал я, перейдя в следующую комнату. – Все случилось неожиданно. Она даже не успела убрать за собой постель.
– Почему она?
– Здесь жила женщина.
Я прошел на кухню. Холодильник был пуст. Я откинул створку ставен. Там все так же бушевала метель, и белые волки, собравшись у вездехода, старательно обнюхивали колеса.
– Ты был прав, – сказал Бауэр.
– В чем?
– Она была женщиной.
Я поднял полотенце. Хозяйка дома бросила его небрежно на стол, и оно свешивалось до пола.
– Крысолов, – сказал я.
– Что? – крикнул Бауэр.
– Крысолов загудел в дудочку, и она побежала на улицу.
– Но дверь за собой заперла. Иди сюда. Посмотри, какой она была.
Бауэр держал на коленях толстый альбом. В нем были рисунки, любительские, робкие, несколько фотографий, надписи разноцветными чернилами, глазастые цветы и шестиногие зверюшки в углах страниц.
– Она училась в Смольном институте, – сказал Бауэр, раскрывая альбом на первой странице, где был приклеен акварельный портрет девушки с удивленными бровями, мягким коротким носом и пухлыми, четко очерченными губами. Глаза были темно-синими, с черными ободками. – Она была дочерью небогатых, но благородных родителей.
– Тебя не приглашали в этот дом, – сказал я. – И никто не разрешал тебе брать этот альбом.
– Я не виноват, что хозяева не захотели меня дождаться.
Я взял альбом с собой. Ведь он никому уже не понадобится.
– Ты даже никогда не узнаешь, как ее звали, – сказал Бауэр, когда мы возвращались к катеру.
– Не важно, – ответил я. – Буду звать ее Кристиной. Я давно хотел познакомиться с девушкой по имени Кристина.
На самом деле мне было очень грустно, что я никогда ее не увижу. Я вспомнил, как давно, лет десять назад, я увидел в старом альбоме фотографию готической статуи, что стоит в Нюрнбергском, а может быть, в Кельнском соборе. Статуя изображала тонкую, гибкую, очень печальную женщину, красивей которой я не видел. Кажется, звали ее Ута и умерла она восемьсот лет назад. Мастер умудрился вылепить ее живые, нервные руки и тоску в глазах. Рядом была статуя ее мужа – сытого, крепкого графа. Я уверен, что он жестоко обращался с Утой. И несколько дней я мучился глупо и бездарно из-за того только, что никогда не смогу защитить ее от этого графа, увезти в Москву или в Луноград, уговорить пойти на курсы биоников или программистов, приезжать за ней после рейса и везти ее в Калькутту, Рио-де-Жанейро или какое-нибудь другое чудесное место…
– Мы останемся здесь до весны, – сказал капитан. – Я связался с Землей. Завтра сюда вылетает экспедиция. Просили нас пока собирать информацию.
На две недели, что оставались до прилета экспедиции, я переселился в город. Мне ничего не грозило в городе, и капитан разрешил мне жить в доме Кристины. Бауэр посмеивался надо мной, но порой, если мы изматывались за день, то исследуя подземные гаражи и энергохозяйство, заводы в соседней долине, то пытаясь пробраться в Синие башни, торчавшие свечками на окраинах города, он устраивался на втором диване, варил крепкий чай, большую пачку которого нам выдал Янсон, и за полночь мы с ним разговаривали о городе, таком знакомом уже и чужом, пока мы не разгадали его, не поняли его языка.
Портрет Кристины я поставил на столике у дивана. А рядом посадил игрушечного белого волчонка, которого взял в подземном гараже дома, из ее машины.
Мне часто снился один и тот же сон. Может быть, потому, что я хотел его увидеть. Будто я просыпаюсь. Утро. В прихожей слышны легкие шаги. Потом кто-то входит в комнату, открывает ставни, солнце врывается в окна. Я открываю глаза – Кристина стоит возле дивана и говорит: «Вставай, проспишь все на свете».
Но утро всегда было серым, ветреным и безжизненным.
Постепенно планета приближалась к солнцу. Стало теплее. Солнечные лучи порой уже прорывались сквозь сизые тучи, и тогда на глазах оседали сугробы, стихала на минуту пурга. И тут же вновь с яростью бросалась на город, как только тучам удавалось упрятать солнце. Глеб Бауэр притащил откуда-то ветку с разбухшими почками и уверял меня, что она расцветет до нашего отъезда.
– Завтра-послезавтра, – сказал он, разлегшись на ковре, – Мозг одолеет их язык.
– Откуда знаешь?
– Он сам сказал.
– Послезавтра кончается наша вахта.
– Ничего, придут другие. А нам пора приниматься за дело. Мы не археологи, а моряки. И еще меня смущают Синие башни. Хотел бы я узнать, что в них спрятано. Это единственные строения на планете, которые нам так и не удалось открыть.
– Отвечу твоими же словами: придут другие. Ведь мы не археологи, а моряки. Кстати, а вдруг люди скрывались в них?
– Спрашиваешь, а сам знаешь, что чепуха.
– Ладно, это я так. Чай пить будешь?
– Сейчас поставлю.
Но он не успел этого сделать. Включился динамик, и капитан сказал:
– С экватора идет теплая волна. Часа через два у вас начнется черт знает что. Такой бури мы еще не видали. Катер надежно укрыт?
– Сейчас проверю, – сказал Глеб, нагибаясь за башмаками. – Наверно, мне лучше подняться к кораблю.
– А я останусь, – решил я. – В доме мне ничего не угрожает. Камера у меня с собой – сниму бурю.
– Отлично, – согласился капитан. – До связи.
– Вот и весна идет, – сказал Бауэр. – Куда же я шлем положил?
Буря поднялась через час. Бауэр еле успел вырваться с планеты. Буря не утихла и к утру. Скорость ветра достигала восьмидесяти метров. Температура поднималась на глазах, и по снегу неслись, вгрызаясь в него, бурные ручьи. Водяная пыль смешивалась со снежной пылью. Под вечер второго дня город затопило, вода поднялась вровень с окнами, и потоки рушились вниз, к озерам и морю.
В ту ночь я допоздна засиделся за сводками и списками. Спал я тяжело, просыпался. Ночью почему-то меня вызвал Бауэр – он восторженно кричал о том, что Мозг расшифровал наконец их язык, что он теперь все знает, что тайны никакой нет, но мне очень хотелось спать, и я сравнительно вежливо попросил его сообщить мне все завтра и не стал его слушать. Отключил рацию, нарушив тем самым важное правило поведения на неисследованных планетах. Но я очень хотел спать.
…Было утро. Я лежал, прислушиваясь, как всегда, к шорохам дома. У двери раздались голоса. Потом кто-то засмеялся. Смеялась Кристина. Я не открывал глаз, потому что не знал, сон это или Кристина в самом деле вернулась домой. Я ждал, когда в прихожей раздадутся легкие шаги.
Хлопнула дверь. Кристина замешкалась в коридоре. Конечно же, там висит мой скафандр. Я хотел сказать, чтобы Кристина не боялась, но вспомнил, что она не поймет. Так я и лежал, не открывая глаз.
Кристина вошла в комнату и остановилась у двери. Сейчас она увидит белого волчонка и свой портрет на столике. Кристина не двигалась. Комната наполнилась жужжанием – она включила шторы. Стало светлее. Даже сквозь сомкнутые веки солнце било в глаза. Тогда я понял, что это не сон.
Кристина стояла у двери. Я открыл глаза и постарался улыбнуться ей. Окна были открыты, и сквозь них виднелось синее небо. Ветка на столе распустилась, и цветы оказались такого же цвета, что и глаза у Кристины.
– Доброе утро, – сказал я. – Извините, что я напакостил в вашем доме.
– Доброе утро, – отозвалась Кристина. – Я не обижаюсь.
Только тут я заметил у нее на груди коробочку лингвиста.
Из-за ее спины неожиданно возник Глеб.
– Мы не спали всю ночь, – сказал он. – А ты отключил рацию, и за это тебе влетит от капитана по первое число.
– Пожалуйста, – сказал я, не отрывая взгляда от Кристины.
…В день отлета я спросил Кристину:
– Ты что сегодня делаешь?
– Работаю, – сказала Кристина. – Ты же знаешь. Первую неделю мы приводим город в порядок. Все работают.
Лингвист точно переводил смысл слов, но совершенно не умел передать интонации и оттенки эмоций.
– Если бы ты остался, – сказала Кристина, – я бы научилась говорить по-русски.
Лингвист опять перевел только формальную суть ее слов.
– Я не могу, – сказал я. – Но прилечу, как только станет возможно.
– Я не верю, – сказала Кристина.
– Можно, я возьму на память твой портрет и белого волчонка?
– Зачем?
– Я возьму.
– Как хочешь.
Мы стояли у летнего кафе. Несколько человек помогали машине натягивать над ним полосатый тент. Пахло свежей краской. Бауэр рискованно обогнал автобус и затормозил рядом с нами.
– Я знал, где тебя искать, – сказал он. – Доброе утро, Дели.
– Кристина, – поправила она.
– Мы едем в Синюю башню, – сказал Глеб. – Хочешь с нами?
– Зачем? – удивилась Кристина. – Я совсем недавно там была. Я не люблю их. Тошнит.
– Сегодня придут последние. Те, кто задержался осенью, консервируя энергостанцию.
– Ты рассказывал мне про «Марию Целесту», – сказала Кристина. – А может, там случилось то, что у нас?
– Вряд ли. Случайно такие вещи не случаются.
– У нас сначала тоже было случайно. Потом только появилась теория. И первые машины времени.
– Любое открытие вызывается необходимостью. На Земле это еще не необходимость.
– У нас необходимость.
– Еще бы, – сказал Бауэр. – Зима отнимала у вас половину жизни. На шесть месяцев планета вымирала. Можно терпеть мороз, можно изобрести валенки, но это лишь защита, а не нападение.
– Вот мы и напали на зиму, – сказала Кристина. – Простите, мне пора.
– Мы подвезем тебя, – сказал Бауэр.
– Мне близко, спасибо. Увидимся перед отлетом.
Кристина запахнула накидку и убежала.
Мы успели к Синей башне. Техник провел нас к временным камерам как раз тогда, когда из них выходили рабочие с энергостанции.
Было странно смотреть, как открываются двери в ничто, во время, в прошлую осень. И странно сознавать, что через эту башню за последние три дня прошло население всего города. Сейчас выйдут последние, и башня заснет до осени. Осенью, когда зарядят дожди, когда первый снег брызнет из сизых туч и ветры начнут срывать с деревьев бурые листья, вновь загорятся контрольные приборы, загудят генераторы, создавая временное поле. И, убрав за собой дома, заперев все двери, смазав станки, загнав в гаражи машины, выключив свет, захватив с собой домашних зверюшек, жители города соберутся у Синих башен, взглянут в последний раз на хмурое сизое небо и войдут во временные камеры. На мгновение замутится сознание, охватит дурнота, потом вновь вспыхнут лампы под потолком: можно выходить.
В жизни людей пройдет минута. В жизни планеты – шесть месяцев. Люди постареют на минуту, планета – на полгода. И нет зимы, нет месяцев, потраченных на борьбу со злой природой, не нужны теплые вещи и топливо…
Несколько дней уходит весной на уборку города, на окраску домов, обглоданных метелями, – и жизнь продолжается. До осени. А там вновь вся планета уйдет в машины времени, чтобы вычеркнуть зиму. И вновь на шесть месяцев на пустой планете воцарится холод и в покинутых людьми городах будут хозяйничать белые волки и пурга.
Выходивший последним пожилой мужчина в белом комбинезоне с синей «молнией» на рукаве передал технику квадратную карточку. Тот сверил ее с другой, такой же.
– Хорошо, – сказал он. – Идите.
Люди, вышедшие из башни, останавливались, поправляли волосы, жмурились, разминались, как после короткого дневного сна. Один из них присел на корточки, сорвал тонкую травинку, пробившуюся сквозь холодную еще землю.
– Никак не могу привыкнуть, – сказал он, поднимая голову. – Никак.
Кто-то коротко засмеялся.
Техники суетились у входа.
Короткие команды раздавались из динамика над дверью башни.
Минут через пять все было кончено: тяжелая стальная дверь опустилась сверху и отрезала от сегодняшнего дня прошлую осень.
…Кристина не пришла нас проводить.
Ничего, я прилечу сюда следующей весной, без спроса войду в ее пустой дом, улягусь на диване в первой комнате и буду ждать того утра, когда в прихожей раздадутся легкие шаги, Кристина войдет в комнату и откроет ставни, чтобы впустить в дом солнечные лучи.
Коралловый замок
Над дачным поселком висела розовая пыль. Поселок был устроен всего пять лет назад, и молодые яблони поднялись чуть выше человеческого роста. Крыши времянок блестели под солнцем. Коралловая пыль медленно оседала на крыши, на листву и искрилась, словно иней.
Сооружение на краю поселка спасатели уже прозвали «замком». Говорили, что утром оно и на самом деле было схоже с готическим замком, украшенным острыми башенками и флюгерами. Теперь же сооружение ни на что не было похоже. Розовая, с желтоватыми потеками глыба размером с трехэтажный дом пузырилась наростами, между которыми образовались впадины и ямы.
Метрах в ста, за линейкой сосен, пролегало шоссе. Пораженные странным зрелищем, шоферы останавливали машины, Грикуров уже вызвал милиционеров, и те, маясь от жары, перехватывали любопытных, не пропускали к поселку.
Жители ближайших времянок были выселены. Часть вещей они перетащили в дальние дома, остальные так и остались лежать на траве. Все это напоминало пожар, розовую пыль при некотором воображении можно было представить дымом, а дачников, расположившихся на матрасах, в соломенных креслах и на старых кушетках, принять за погорельцев. Не хватало лишь страха и суматохи, обязательных при большом пожаре.
Грикуров не успел позавтракать. Между разбудившим его звонком и появлением машины прошло минут десять, не больше. Приехавший за ним молодой человек был так взволнован, что пришлось отказаться даже от кофе. Разумеется, дачники не отказались бы накормить Грикурова, но сами они не предложили, а напрашиваться он не стал – рабочие тоже были голодны, а посланный на «газике» в станционную столовую старшина до сих пор не вернулся.
Грикуров подошел к палатке, в которой устроились химики, но войти в нее не успел.
– Кушак приехал, – сказал сзади молодой человек.
Говорил он тихо, со значением и обладал завидной способностью всем своим видом показывать, что знает больше, чем может показать непосвященным.
– Кто приехал?
– Кушак, Николай Евгеньевич, из Ленинграда.
– Ясно, – сказал Грикуров, поворачиваясь к дороге, где скопилось уже несколько «газиков», «Волг», стояла красная пожарная машина и «Скорая помощь». Санитары дремали под кустом сирени, пожарники играли в волейбол с девчатами из поселка.
У серой «Волги» стоял, глядя зачарованно на замок, высокий худой мужчина в слишком теплом, не по погоде костюме, с плащом, перекинутым через руку.
Грикуров подошел к нему. Кушак протянул узкую прохладную ладонь, потом достал из кармана мокрый платок и вытер пот со лба и залысин.
– В Ленинграде, знаете, дождь, – сказал он, словно оправдываясь. – Трудно было предположить, что в Москве такая жара.
– А вы плащ в машине оставьте, – посоветовал Грикуров.
– Правильно. Спасибо. Ведь машина подождет?
– Конечно.
– Поздно спохватились, – сказал Кушак. – На какую глубину он уходит?
Они подошли к замку. Он нависал над ними, как бочка над муравьями. Рядом была глубокая яма, возле которой валялась лопата.
– Вот видите, на два метра мы углубились, потом бросили.
Навстречу шагнул похожий на мельника бригадир бурильщиков. Брови, волосы, ресницы его были светло-розовыми. Розовая пыль пятнами покрывала комбинезон.
– Зарастает, – пояснил он. – Если заряд заложить, успели бы.
– Сами понимаете, что нельзя, – сказал Грикуров.
– А так – мартышкин труд, – сказал бригадир. Он сплюнул. Плевок был розовым.
– Отзывается? – спросил Грикуров.
– Стучит, – ответил молодой человек, шедший на полшага сзади.
– Сначала мы подумали, что эти звуки представляют собой некоторое подобие азбуки Морзе, однако затем мы пришли к выводу, что первоначальное заключение ошибочно…
Кушак покосился на блестящий портфель молодого человека, к которому почему-то не приставала пыль.
Со стороны Москвы показался вертолет. Вертолет летел низко и чуть в сторону. Но в полукилометре пилот разглядел замок и свернул к поселку.
– Я его вызвал, – сказал Грикуров. – У нас один парень забрался почти до вершины, но пришлось вернуться. Мне кажется, что наверху есть отверстие. Иначе бы он задохнулся.
– Может, ему с вертолета обед спустить? – спросил бригадир.
Он взмахнул рукой, показывая, как обед попадет к человеку, заключенному в замке. Взлетела розовая пыль, и молодой человек отстранился, оберегая портфель и костюм.
– Как его зовут? – спросил Грикуров.
– Вы не знаете?
– Только фамилию. Вольский. Правильно?
– Вольский. Гриша Вольский. Никогда не знал его отчества.
– Григорий Вениаминович, – подсказал молодой человек. – Он является владельцем садового участка. Однако там мог оказаться кто-то иной?
– Нет, – улыбнулся Кушак. – Это именно он. Когда его обнаружили?
– Часов в шесть утра его сосед позвонил в Москву. Со станции.
– В шесть сорок, – поправил молодой человек.
– Сосед рано поднялся, собирался на рыбалку. И вдруг увидел, что на крайнем участке стоит розовый термитник. Метров пять высотой.
– Это сосед сказал, что термитник?
– Да, он инженер, работал в Гвинее и видел термитники, – объяснил Грикуров. – А мне вот не приходилось.
– Я тоже не видел термитников, – сказал Кушак.
– А потом уж ребята прозвали его замком.
– Ну и что сосед?
– Услышал стук изнутри. А выхода из термитника нет. Он Вольского вчера вечером видел. Тот строил на участке какую-то загородку.
– Ну разумеется, – сказал Кушак.
– Сосед обалдел, – сказал бригадир. – Представляешь, идет на рыбалку, а у соседей сооружение. А изнутри стучат.
– Он и позвонил в милицию, – сказал Грикуров. – Приехал наряд – патрульная машина с шоссе. Ничего понять не смогли. А дальше все развивалось в геометрической прогрессии.
Грикуров показал на скопление машин у поселка.
– Позвать соседа? – спросил Грикуров.
– Гражданин Нестеренко отбыл в Москву, – уточнил молодой человек. – У меня все его показания при себе. – Молодой человек хлопнул чистой ладонью по блестящему боку портфеля.
– Он нам не нужен, – сказал Кушак.
Кушак подошел к розовой громаде замка и постучал костяшкой пальца по стене. Розовая масса чуть-чуть пружинила и, если приглядеться внимательно, была усеяна мелкими порами.
– Быстро меня разыскали, – сказал Кушак.
Розовые рабочие стояли, опершись о буры, и разглядывали Кушака. Перед ними в стене была глубокая впадина с оплывшими краями. Нижний ее край поднимался валиком, будто замок спешил залечить нанесенную бурами рану. Под ногами скрипела розовая крошка. В одном месте из нее выглядывала вершинка розовой пирамидки.
– На глазах выросла, – сказал один из рабочих, проследив за взглядом Кушака.
– Понятно, – сказал Кушак.
Изнутри, словно из бочки, донесся глухой удар. Потом серия коротких.
– Как бы он не задохнулся, – сказал Грикуров.
Вертолет, сделав последний круг над замком, спустился неподалеку, в поле. Уходя к машине, Кушак услышал, как подбежавший к Грикурову пилот говорит:
– Там дыра есть. На самой вершине.
– Вы слышали? – крикнул Грикуров вслед Кушаку.
– Я так и думал, – остановился Кушак. – У него тенденция расти по вертикали.
Кушак достал с заднего сиденья «Волги» чемодан. Настроение не улучшилось. Конечно, ничего страшного не случилось, но могло случиться. И виноват в этом только он сам. Кушак открыл чемодан. Ампулы были целы.
– Бурильщики вам нужны? – спросил, возвращаясь, Грикуров.
– Нет, я один справлюсь.
Вместе с Грикуровым к машине подошел один из химиков, расположившихся в палатке.
– Вас анализ интересует?
– Спасибо, я знаю состав.
– Там ничего особенного, – сказал химик.
– Тогда я отпущу бурильщиков пообедать, – сказал Грикуров.
– Конечно. Вы, наверное, и сами голодны?
– Это полезно, – ответил Грикуров. – А то я толстеть начал. Стыдно.
Грикуров провел ладонью по круглому крепкому животу. Теперь, когда появился человек, знающий, что надо делать, Грикуров сразу помолодел, скинул лет десять. К Кушаку он проникся благодарным расположением.
Гришу Вольского Кушак знал еще по школе. Класса с третьего. Гриша Вольский собирал марки и монеты. Гриша был самым младшим в классе. Он был белокур и похож на ангела. Мать Гриши жалела его прекрасные кудри, и потому волосы у Вольского были длиннее, чем у других ребят, и он дольше всех носил короткие штаны и гетры. В войну этот наряд выглядел странно, и Гришу дразнили девчонкой. Гриша краснел и смущенно улыбался. Уже потом, подружившись с Кушаком, он сказал как-то:
– Мама очень хотела девочку, а папе было все равно.
Гриша был тихий, учился прилично, в классе к нему привыкли и не обижали. Тем более что Гриша всегда находил себе друга и покровителя из сильных ребят. Если Грише нужна была марка или какая-нибудь другая вещь, он не жалел времени и усилий, чтобы ее раздобыть. Брал он настойчивостью и терпением, не свойственными возрасту, провожал хозяина нужной вещи до дома, давал списывать на контрольной и угощал мамиными бутербродами. Он мало ел, потому что в войну бутерброды были выгодным обменом. Кушак с седьмого класса считался другом Гриши. Гриша умел вовремя сказать, что Кушак очень хороший парень, замечательный спортсмен, такой талантливый и добрый. Кушак не ценил вещей, и Вольский всегда у него чего-нибудь получал. А Кушак привык к искреннему восхищению, которым его обволакивал Гриша.
В десятом классе Кушак встречался с одной девушкой, а Вольский был его оруженосцем. Он передавал записки, стоял в очереди за билетами в кино и даже ходил с ней в кино, когда у Кушака оказывалась неожиданная тренировка или кружок в университете. Однажды та девушка сказала, что больше с Кушаком встречаться не будет, потому что сделала выбор. В пользу Вольского. Пусть Вольский маленького роста и не так знаменит в школе, но по своей отзывчивости и другим человеческим качествам он превосходит Кушака. Кушак был склонен примириться с потерей, потому что готовился к соревнованиям, но кто-то в классе пошутил, что Вольский выцыганил у Кушака девушку, наверное, за бутерброд – все помнили о бутербродах военных лет. Кушак обиделся на Вольского, и все думали, что он Гришу изобьет, но Кушак его не тронул. Вольский смотрел на него робко, жутко раскаивался и, как сам признался лет через пятнадцать, готов был в любой момент отказаться от девушки ради дружбы. Но девушка была против.
Кушак вернулся к розовому замку и, присев на корточки у раскрытого чемодана, начал собирать распылитель. Грикуров стоял рядом, молчал, думал, успеет ли домой к семи тридцати, к началу футбольного матча. Еще полчаса назад такие мысли не приходили Грикурову в голову – замок казался зловещей и неодолимой загадкой.
– Хорошо, что внутри человек сидит, – пробормотал Кушак, не поднимая головы.
– Почему? – удивился Грикуров.
– Какая-нибудь светлая голова додумалась бы кинуть на замок бомбу и подложить заряд. Колония бы разлетелась на куски и прижилась. Имели бы тридцать замков вместо одного. – Кушак махнул рукой в сторону заметно подросшей пирамидки.
– Колония? – спросил Грикуров. Он раздобыл где-то белую панамку, и в ее тени лицо казалось совсем черным, лишь голубели белки глаз.
– Колония. – Кушак кивнул в сторону палатки химиков. – Они вам, наверное, уже сказали?
– Я не очень поверил. А что вы будете делать?
– Это активная культура бактерии, которая их убьет. Чума.
– А не опасно?
– Чума только для них. Ни людям, ни растениям ничего не угрожает.
Они встретились через пятнадцать лет на стоянке такси. Кушак к тому времени переехал в Ленинград и бывал в Москве наездами. Наверное, поэтому и не приходилось встречаться со школьными товарищами. Кушак обрадовался, увидев Вольского. Вольский не потерял сходства с ангелом, хотя золотые кудри поредели и узкое тело равномерно обросло жирком. В тридцатилетнем мужчине сходство с ангелом не так чарует, как в мальчике. Вольский был одет в недорогой, но тщательно отглаженный костюм. Галстук тоже был недорогой, скромный, но респектабельный. Вольский был строителем и сравнительно высоко поднялся по служебной лестнице. Он очень интересовался жизнью Кушака. Спрашивал, повторял с сожалением:
– Только младший научный? Чего же ты, Коленька? И диссертацию не защитил? Чего же ты, милый? Ты же такие надежды подавал! – В голосе Вольского звучали материнские интонации.
Хотя нет, Кушак подумал, что, наверное, так реагировал бы на рассказ блудного сына его удачливый и послушный брат, пока на кухне свежевали тельца.
– И марки все собираешь? Нет? А я собираю, хотя времени мало. Не отказываюсь от детских привязанностей. Нужно расслабляться. Правда? У меня восемь медалей за участие в выставках. Ты случайно не видел последний номер «Заммлер экспресс»? Это филателистический журнал из ГДР. Солидное издание. Там обо мне написано. А что-нибудь от старой коллекции осталось?
Подарил кому-нибудь? У тебя неплохие вещи были, я очень жалел, что не выменял их в свое время. Помнишь, в шкафу альбомы лежали? На нижней полке. Так и лежат? Здесь? У стариков? Не может быть.
Вольский затащил Кушака к себе.
– Ты же в Москве редко бываешь. Хочешь, чтобы мы еще десять лет не увиделись? Не хочешь? Тогда пошли. У меня кооперативная квартира. Две комнаты с лоджией. А мама в старой осталась. Недалеко, час потеряешь, не больше. И не мечтай отказываться.
У Вольского дома оказалась бутылка сухого вина, припасенная для гостей. Вольский подробно рассказывал, как, будучи членом правления кооператива, раздобывал польские кухни и дубовый паркет. Кушак жалел, что зазря потерял вечер, рассматривая марки, которые расплодились настолько, что занимали целый шкаф, запирающийся на ключик. Вольский записал адрес и телефоны Кушака, сказал, что приедет навестить, заодно возьмет у него марки.
– Если они, конечно, Коленька, тебе не нужны. За новинки я, разумеется, плачу, но ведь у тебя так, мелочь.
Кушак вспомнил, что собирался подарить марки племяннику.
– Сколько племяннику лет?
– Десять.
– Ты с ума сошел, он же ничего еще не понимает. Я ему подберу из дублетов, мы его не обидим. Зачем так, Коленька? – сказал он. – Ты же знаешь, как я всегда к тебе относился.
В комнате Вольского было много лишних вещей. Как и раньше. Солдатиков и автомобильчики школьных лет сменили фарфоровые статуэтки, часы, плохие картины конца прошлого века и иконы в штампованных посеребренных окладах. Кушак представил себе, как Гриша провожает домой пенсионерок и чьих-то наследниц.
Расставшись с Вольским, Кушак малодушно решил не подходить утром к телефону – с какой стати он должен отдавать Вольскому марки? Вечером он все равно уезжает в Ленинград.
Вольский оказался хитрее. Он пришел без звонка, в восемь часов разбудив Кушака.
– Я на минутку, перед работой, по дороге…
Он пришел с пустым потрепанным портфелем, долго говорил о том, как его ценят в министерстве, где он имеет отношение к внедрению новой техники, говорил, что получил участок и собирается строить домик. За разговором залез в шкаф, потому что помнил, где лежат альбомы, положил трофеи в портфель, обещал, если что нужно в Москве, достать, прихватил на прощанье пастушку – любимую статуэтку покойной бабушки.
Он быстро передвигался по комнате, маленький и красивый, шутил, смеялся, махал ручками, дотрагивался до книг на полках и отодвигал их, чтобы посмотреть, не спрятаны ли другие, более ценные, во втором ряду, называл Кушака Колей, Коленькой, Колюшечкой, а Кушак потом весь день злился на себя, потому что ему было жаль и марок, и фарфоровой пастушки, – стыдно было, что не отказал Вольскому.
Кушак, думая о Вольском, отламывал головки от ампул и сливал жидкость в контейнер распылителя. Потом поднялся и направился к стене замка. За последний час замок несколько раздался в боках. Стук изнутри раздавался реже и доносился слабее. За спиной Кушака собралась толпа. Там были и дачники, и спасатели, и санитары, и пожарники в майках и брезентовых штанах, и милиционеры, и, конечно, химики. Грикуров не возражал. Он и себя ощущал зрителем.
Все ожидали чуда от высокого лысеющего мужчины с большим пистолетом в руке. Кушак знал, что чуда не будет. Его беспокоило, сохранил ли раствор вирулентность. Раньше никогда не приходилось сталкиваться с такими масштабами. Кушак нажал кнопку. Мельчайшие капельки жидкости конусом устремились к стене. Кушак медленно шел вокруг замка, и толпа послушно двигалась за ним…
Вольский не пропал. Он дважды появлялся в Ленинграде и каждый раз разыскивал Кушака, привез ему в подарок ремешок для часов и растрепанную книжку по переплетному делу.
– Я помню, ты этим увлекался в шестом классе, – объяснил он. – Я стараюсь не забывать о друзьях. Пришлось много за нее отдать. Редкая вещь. Ну бери, бери.
– Я уже не увлекаюсь, – ответил Кушак. – И никогда не увлекался.
Но Вольский так и не согласился взять книгу обратно. Ремешок тоже пришлось оставить.
– Конечно, у тебя есть. Странно, если бы не было. Подаришь кому-нибудь. Мне из Тбилиси привезли. Три штуки.
Кушак понимал, что щедрые дары Вольского небескорыстны. За них придется расплачиваться. Так и случилось. Вольский оба раза уезжал в Москву, отягощенный трофеями, и с каждым разом его искренняя любовь к Кушаку крепла. Как-то Кушак дал ему решительный бой за часы-луковицу, купленные за бешеные деньги в комиссионном магазине, которые он все собирался починить, да времени не было. Он наотрез отказался расставаться с часами. Этот бой был битвой при Ватерлоо, и Кушак играл в ней грустную роль Наполеона.
В третий раз Кушак сказал Вольскому по телефону, что спешит на работу и увидеть его не сможет. Вольский расстроился и пришел в лабораторию. Каким-то образом ему удалось обойти вахтера, и он возник на пороге пустой лаборатории, как опостылевший черт, требующий расплаты за дружбу с нечистой силой. Вольский еще больше раздался в талии, но был по-прежнему оживлен, и Кушак с тревогой оглядел лабораторию, борясь с желанием запереть шкафы, чтобы гость чего не выцыганил.
– А почему пусто? – спросил Вольский. – Где народ?
– Библиотечный день, – сказал Кушак. – И в любом случае – людям надо выспаться. Мы три дня отсюда не вылезали.
На длинном столе, разделявшем лабораторию надвое, возвышались кубики и пирамидки розового цвета.
– А это что? Не секрет? – спросил Вольский.
– Это чтобы тебя оставить без работы, – сказал Кушак, отнимая у Вольского кубик, легкий и теплый на ощупь. – Придется тебе переучиваться.
– Я всегда учусь, Коленька, – сказал укоризненно Вольский. – Без этого в наши дни окажешься в хвосте событий. А при чем здесь строительство? Ты же какими-то беспозвоночными занимаешься.
Настроение у Кушака в тот день было отличное. Он даже с Вольским готов был поделиться радостью, понятной пока лишь ему и еще шести сотрудникам лаборатории.
– Это строительный материал будущего, – сказал Кушак. – Легок, как пемза, водонепроницаем, прочность выше, чем у бетона. – Вольский двигался вокруг стола, как кот вокруг слишком большого куска мяса, трогал суетливыми пальцами розовые кубики, поглаживал, несколько раскрывал рот, закрывал снова, и Кушаку казалось, что сейчас он скажет: «Дай мне».
Распылитель фыркнул и заглох. Раствор кончился.
– Все, – сказал Кушак. – Если ничего не случится, через полчаса ее можно будет распиливать. Больше расти не будет.
– Все? – спросил молодой человек и с упреком посмотрел на Грикурова.
Грикуров улыбнулся. Борьба с замком завершилась буднично.
Грикуров сказал:
– Тогда пойдем перекусим. Обед привезли. Расскажете нам.
Они прошли к палатке химиков. Там, на столе, освобожденном от приборов, стояла кастрюля с супом, окруженная разномастными, пожертвованными дачниками тарелками и ложками. Кушак понял, что проголодался. Суп остыл, но в жару это было даже приятно. Кто-то из химиков пожалел, что не привезли пива.
– Вольский, наверное, с голоду помирает, – сказал Грикуров.
– Несчастный человек, – согласился химик.
– Как сказать, – ответил Кушак.
– Сознайтесь, – сказал Грикуров, – что у вас не сработало?
– Все сработало, даже слишком хорошо. Только я, с вашего разрешения, начну с самого начала.
– С самого начала вы поешьте, – сказал Грикуров.
– Одно другому не мешает. В общем, идея родилась от неудовлетворенности тем, как мы, люди, строим свои дома. Сначала добываем и заготавливаем материалы – цемент, лес, камни, потом все это надо свезти на площадку, сложить из этого дом и так далее… А почему бы не воспользоваться опытом наших соседей по планете? Мы им уже пользуемся. Тутовый шелкопряд прядет для нас шелковую нить, наша обувь – кожа животных…
Вертолет зажужжал в поле, раскручивая винт. Словно нехотя оторвался от земли и низко завис, борясь с земным притяжением. Потом сразу набрал высоту и скрылся за лесом.
– Сначала мы остановились на кораллах, – продолжал Кушак. – Коралловые рифы тянутся на тысячи километров. Миллионы поколений коралловых полипов, умирая, вкладывают свои скелеты в стену общего дома. Но кораллы живут в воде, строят рифы в течение тысячелетий и, кроме того, нуждаются в органической пище, дабы ускорить процесс размножения мадрепор, а с попытками извлечь их из воды мы потерпели неудачу. И успеха мы добились в конце концов не с кораллами, а с мутациями фораминифер, раковинных амеб…
– Материал этот, – объяснил Кушак Вольскому, – если рассматривать под микроскопом, состоит из ракушек амеб.
– У амеб нет ракушек, – поправил его Вольский.
– Это раковинные амебы, близкие к фораминиферам.
– Так бы и говорил. – Вольский сказал это так, словно всю жизнь возился с фораминиферами.
– Из останков этих простейших, – сказал Кушак, – сложены известняки Крыма и Усть-Урта. Мы научили их жить в воздухе и размножаться с завидной быстротой. Вот этот кубик, который ты держишь в руке, вырос у нас вчера за пятнадцать минут. Ты представляешь, что это значит?
– Представляю, – сказал Вольский.
Пока что он ничего не представлял. Он только хотел заполучить этот кубик.
– Скоро начнем полевые испытания, – сказал Кушак. – И, возможно, столкнемся с тобой на деловой почве.
– Разумеется, – сказал Вольский, – я окажу всяческое содействие.
– Мы представляем себе это так: делается металлическая опалубка, и в нее закладывается затравка амеб. – Кушак показал на полку, где выстроились рядами пробирки, заполненные розовым веществом. – Как только раковины амеб заполнят пространство внутри опалубки, их убивают, и дом готов. Конечно, это не так просто, как кажется на словах…
Вольский подошел к полке, снял одну из пробирок.
– А что они жрут?
– Это самое главное. Извлекают азот из воздуха. А материал для раковин берут из земли, одновременно строя фундамент дома.
– А дом в яму не ухнет?
– Нет, наш «раковин» – материал пористый, он как бы вытесняет почву и заполняет свободное пространство. А вес дома невелик.
– Теперь все ясно, – сказал Вольский. – Значит, так: ты даешь мне образцы материала, я еду в Москву. Это же докторская диссертация. И не одна. Тут и тебе, и твоим людям, и мне самому хватит. Правда, Колюша?
В глазах Вольского горели светлые огни подвижника, жертвующего всем ради дружбы. Судьба намеревалась отплатить ему сторицей за бескорыстие. Он все понял.
– И попрошу тебя, Коленька, пойми меня правильно, без моего сигнала в министерстве ни с кем не связываться. Я сам организую. Завтра же я на приеме у замминистра. Он меня лично знает. Какое счастье, что ты обратился за помощью именно ко мне!
Когда Кушак постарался как-то приглушить его энтузиазм, Вольский и слушать его не стал. Он совершал выгодный обмен. Он засовывал в портфель куски розового «раковина», и Кушак в очередной раз сдался. В конце концов, внедрение займет много месяцев, а энергичный Вольский лучше многих сможет пробить ведомственные барьеры. А куски «раковина» были мертвы и никакой опасности для окружающих не представляли.
Потом Вольский принялся выпрашивать пробирку с живой культурой, но тут уж Кушак встал намертво. Полчаса они спорили, и в конце концов Вольский ушел ни с чем, а Кушак остался в лаборатории, оглушенный, но гордый тем, что впервые устоял перед натиском Гриши.
А когда на следующий день лаборантка сказала, что одной пробирки не хватает, Кушак не связал ее исчезновение с визитом Вольского. Он представлял себе, как Вольский обходит служебные кабинеты и выкладывает на столы розовые кубики. Он ждал звонка из Москвы. На третий день ему позвонили. И попросили немедленно вылететь. Но не в министерство, а в подмосковный дачный поселок. Там растет его «коралл». И ничего с ним не могут поделать. Стоит отрубить от него кусок, как это место зарастает вновь. Подкоп тоже не дал результатов. Но самое грустное – внутри «коралла» оказался человек. И извлечь его пока не могут.
– Он унес одну из пробирок, – сказал Кушак, поднимаясь из-за стола. – Добро бы притащил в министерство, а то решил извлечь из нее маленькую личную пользу – бесплатный домик.
– Я полагаю, – проговорил задумчиво Грикуров, – что, если снять слой материала, там найдем самодельную опалубку. Он только недооценил возможностей ваших амеб.
Поджидая, пока бурильщики выпилят отверстие в стене замка, они уселись в жидкой тени яблонек. Косые лучи солнца прорезали розовую пыль.
– Он так спешил, – продолжал Кушак, – убраться из лаборатории, пока я не обнаружил пропажу пробирки, что не захватил ампулу с бактериями, убивающими фораминифер. Его счастье, что колония имеет тенденцию развиваться по вертикали – они оставили ему жизненное пространство.
– Его будут судить, – сказал убежденно молодой человек.
– Судить надо меня, – возразил Кушак. – Я его избаловал. Ни разу не хватило духа послать его ко всем чертям.
– Вы не один такой, – сказал Грикуров.
– А с другой стороны, – сказал Кушак, – объективно он принес нам пользу. Поставил опыт в промышленном масштабе.
– Нет, – не согласился с ним молодой человек. – Его надо судить. Или заставить возместить ущерб. – Молодой человек показал на дачников, стаскивающих матрасы и посуду обратно в домики.
– Здесь он! – закричал бригадир бурильщиков. – Живой!
– Пошли, – сказал Кушак, поднимаясь. Он не сомневался, что Гриша выберется. – Года через два мы будем жить в домах, построенных по «методу Вольского».
– Тогда я напишу в газету, – сказал Грикуров. – Это будет фельетон века.
Вольского извлекли из отверстия. Он обессилел, ноги его не держали. Он увидел Кушака, но взгляд его тут же ушел в сторону.
– Воды, – прошептал он.
Шепот показался Кушаку несколько театральным. Хотя, может, он несправедлив к Вольскому. Тому пришлось немало перенести: несколько часов в розовой душной камере…
Напившись, Вольский разрешил санитарам доставить себя к «Скорой помощи». Его пронесли совсем рядом с Кушаком.
– Как же ты мог, Коленька? – сказал Вольский тихо.
– Что? – удивился Кушак.
– Зачем же ты непроверенный материал пустил в производство? – продолжал Вольский. – Я же чуть не погиб на испытаниях.
– Ты все продумал, пока сидел там? – спросил Кушак.
– Да, Колюша, – сказал Вольский. – Я многое продумал.
Носилки скользнули внутрь машины. Оттуда глухо донеслось:
– И все-таки у нашего материала большое будущее.
«Скорая помощь», взревев, умчала Вольского. Розовая пыль медленно оседала. Трехэтажная бочка возвышалась над дачным поселком, обещая стать долговечной достопримечательностью этих мест. Химики сворачивали палатку. Пожарники напяливали брезентовые робы, разбирали каски и занимали места в красной машине.
Монументы Марса
Памятников и монументов на Марсе немного. История его освоения скорее буднична, чем драматична.
Монументы на Земле накапливались тысячелетиями. На Марсе их стали возводить лет двадцать назад. До этого их ставили на Земле, дома, откуда летели экспедиции к Марсу и куда они возвращались. Тогда не существовало жителей Марса. Каждый знал, что вернется на Землю. И ждал этого дня.
А когда первые люди остались здесь жить навсегда, когда здесь родились дети, лишь по картинам знавшие, какого цвета небо на Земле, пришла пора обратиться к прошлому, потому что оно появилось в тот самый день, когда будущее обрело черты постоянства.
Первые экспедиции и не помышляли о том, чтобы отмечать свои заслуги монументами. Правда, от них монументы остались – геодезические знаки и засыпанные песком купола покинутых баз. Тогда казалось, что на Марсе нет ничего долговечного. Пыльные бури пожирали металл, а перепады температур в порошок дробили скалы. Монументы ставили на Земле.
И первым памятником Марса стал памятник Петкову. Он был воздвигнут по решению Совета марсианских баз через восемнадцать лет после события, которому он посвящен.
Памятник Славко Петкову стоит в двух километрах от Третьей базы, в том месте, где, словно спина кита, над желтой равниной поднимается гнейссовый холм. Петков погиб значительно дальше от базы, в низине. Но поставить там памятник очень трудно – его все время заносило бы песком.
В тот день Славко Петков с доктором Григоряном выехали на вездеходе к Третьей базе, где располагалась геологическая партия. В партии случилась беда – четверо из шести геологов свалились от песчаной лихорадки.
Была пора бурь, и до базы мог добраться только вездеход. Григорян взял с собой сыворотку, а Славко Петков, который вел вездеход, – почту, потому что как раз за три дня до того пришел корабль с Земли.
Надо было проехать сто восемнадцать километров по пустыне, и Петков с Григоряном думали, что доберутся до базы, переночуют там и вернутся домой.
Когда до базы оставалось чуть больше двадцати километров, у вездехода полетела гусеница. Они могли бы сообщить об этом на центральный пункт и ждать помощи. Они были обязаны так сделать. Но рассудили иначе. В бурю флаер приземлиться не может. Второй вездеход ушел в другую сторону, и если дожидаться его – опоздаешь на базу. Сыворотка действует только в первые два дня болезни. Потом уже ничего не поможет. А вездеход геологов с Третьей базы был сломан – не случись так, они бы сами приехали за сывороткой.
Петков с Григоряном взяли с собой запасные баллоны и пошли к базе пешком, рассчитывая, что дойдут до нее часа за три, потому что даже в бурю идти по Марсу можно быстрее, чем по Земле.
А чтобы не поднимать тревоги, которая вряд ли изменила бы их решение, они сообщили перед уходом на базу, что у них все в порядке.
К несчастью, они попали в зыбучие пески и потеряли больше часа, прежде чем выбрались на твердое место. Буря разыгралась, и шли они куда медленнее, чем рассчитывали.
Через три часа диспетчер центрального пункта встревожился, потому что вездеход на вызовы не отвечал. Он связался с Третьей базой и узнал, что Петков с Григоряном так туда и не приезжали. Тогда диспетчер объявил всеобщую тревогу.
Второй вездеход получил приказ немедленно вернуться и идти на поиски пропавших. Дежурным спутникам было приказано засечь вездеход сквозь разрывы в пылевых тучах. Однако разрывов в тучах в тот день не было.
Через четыре с половиной часа ходу Григорян с Петковым были, по их расчетам, километрах в пяти от базы. А воздуха в баллонах оставалось минут на двадцать.
К тому же оба так устали, что идти быстрее не могли.
Но они шли, потому что останавливаться и ждать, пока кончится воздух, глупо. И оставалась надежда, что геологи выйдут им навстречу. По крайней мере, так думал Григорян. И еще он думал о том, чтобы не споткнуться и не разбить ампулы с сывороткой.
Григорян шел шагах в десяти впереди Петкова. И он услышал, как тот сказал:
– У меня воздуха на двадцать минут.
– У меня тоже, – сказал Григорян, не оборачиваясь, чтобы не сбиться с шага.
– Мы не успеем, – сказал Петков.
– Не знаю, – ответил Григорян.
Ему бы в этот момент обернуться, но он не оборачивался и был уверен, что Петков идет сзади.
– Возьми баллон, – сказал тогда Петков. Голос его был обычный, будничный, и Григорян сначала не понял, о чем он говорит.
Он удивился и обернулся. Но было поздно.
Петков отстегнул крепления шлема. Он стоял так далеко, что Григорян не успел к нему подбежать. Уже снимая шлем, Петков сказал громко:
– Не забудь почту.
Когда Григорян подбежал к Петкову, тот был уже мертв. Баллон лежал рядом, на песке. Там же лежала сумка с почтой.
Григорян потерял несколько минут, потому что надел на Петкова шлем и подключил баллон, надеясь вернуть своего спутника к жизни, хотя, как врач, он отлично знал, что Петков умер.
Потом Григорян подключил к своему скафандру баллон Петкова и пошел к базе. Он знал, что обязан дойти до базы, иначе он предал бы своего друга.
Он дошел. К счастью, оба здоровых геолога, предупрежденные с центрального пункта, вышли навстречу и увидели Григоряна в тот момент, когда он упал, теряя сознание, на вершине холма.
Памятник Петкову стоит на том месте, где геологи нашли Григоряна, а не там, где Петков погиб. На постаменте памятника написано:
«Не забудь почту».
Это были последние слова Петкова.
Совсем иные воспоминания вызывает у жителей Марса обелиск «Марсианка».
Это название неофициальное, но все называют его именно так. Обелиск – двадцатиметровая металлическая игла. Он возвышается за пределами купола Марсограда, но отлично виден из любой точки города. Раньше на том месте был Поселок строителей. Там 8 января 2021 года родился первый ребенок на Марсе, девочка по имени Аустра. Когда Аустра подросла, она улетела на Землю учиться и осталась там, выйдя замуж и выбрав профессию ботаника. Но к тому времени на Марсе уже было много детей.
Обелиск был поставлен через пять лет после рождения Аустры. Аустру тогда попросили написать свое имя на каменной плите, и эту плиту врезали в основание обелиска и прикрыли прозрачной пленкой. Написанное мелом крупными неровными буквами слово «Аустра» не боится бурь и морозов.
У детей Марса есть традиция приходить к обелиску и расписываться на нем в тот день, когда они идут в первый класс. Бури быстро сдувают подписи ребят, а к следующему году на нем сохраняется только одна надпись.
В самом Марсограде стоит памятник доктору Тин Шве, который нашел вакцину от песчаной лихорадки. Без этой вакцины люди не смогли бы жить на Марсе. Доктор Тин Шве никогда не был здесь, но памятник ему воздвигнут на главной площади Марсограда.
Когда после нескольких серий опытов на животных доктор Тин Шве пришел к выводу, что сыворотка безопасна, настало время испытать ее на людях. И несмотря на то что нашлось много добровольцев сделать это, доктор Тин Шве первым испытал ее на себе. С тех пор песчаная лихорадка перестала быть опасной болезнью, и, улетая на Марс, люди делают прививки от песчаной лихорадки, даже не подозревая, каким бедствием она была для первых исследователей.
Полет, о котором пойдет речь, начался обычно. Домбровский проследил за погрузкой груза взрывчатки, проверил судовые документы и попрощался с диспетчером. Кроме Домбровского, на борту никого не было, да и сам пилот брал на себя управление ракетой лишь в самых экстренных случаях.
Домбровский в последний раз вышел на связь с Эросом в начале торможения. Он сообщил, что через несколько минут опустится на посадочной площадке Марсограда. Через минуту приборы показали приближение метеоритного потока. В этом тоже не было ничего страшного. Ведь Домбровский не мог предположить, что метеоритная защита откажет. Но через мгновение стая метеоритов прошила пульт управления, вывела из строя тормозную систему. Пилот корабля Юлиан Домбровский погиб.
И все-таки Домбровский успел понять, что если он не изменит курс корабля, то корабль, груженный взрывчаткой, разобьется у самого Марсограда и весь город будет уничтожен взрывом.
И тогда Домбровский бросился к пульту ручного управления.
Он знал лишь одно – он обязан изменить курс корабля. Он рвался вперед, а все новые метеориты, будто стремясь остановить его, пронзали его тело.
Экспертная комиссия, которая исследовала остатки корабля в пустыне, в трехстах километрах к востоку от Марсограда, пришла к заключению, что для изменения курса корабля Домбровскому понадобилось более половины минуты. И он успел это сделать, несмотря на то что, по авторитетному мнению комиссии, он погиб за полминуты до того, как дотянулся до пульта.
Когда скульптор создавал памятник Домбровскому, он задался целью передать порыв, стремление вперед, преодолевающее все. Даже смерть. Памятник изображает наклоненную вперед, словно летящую человеческую фигуру. Если встать перед памятником, то можно увидеть, что он изрешечен сквозными отверстиями.
Последний монумент, который жители Марса обязательно покажут гостю, – это монумент в честь первых исследователей планеты. Он возвышается над гладкой, отшлифованной бурями каменной равниной неподалеку от Марсограда.
Этот монумент – точная модель Земли. Вращающийся шар диаметром в двадцать метров реет в воздухе, поддерживаемый гравитационной установкой. До мельчайших деталей он повторяет родную планету людей, вплоть до того, что над ним движется зыбкая пелена облаков, точно отражающая положение облачных масс над Землей.
Рядом с «Землей» стоит недавно привезенный на буксире с Земли корабль, доставивший когда-то на Марс первую экспедицию.
После того как на Марсе будет создана пригодная для дыхания атмосфера, здесь решено посадить парк из земных деревьев.
Снегурочка
Я всего раз видел, как погибает корабль. Другие ни разу не видели.
Это не страшно – ты даже не успеваешь мысленно перенестись туда и почувствовать себя участником. Мы смотрели с мостика, как они пытались опуститься на планету. И казалось, что им это удается. Но скорость все-таки была слишком велика.
Корабль коснулся дна пологой впадины и, вместо того чтобы замереть, продолжал двигаться, словно хотел зарыться в камень. Каменное ложе не поддалось металлу, и корабль стал расползаться, словно упавшая на стекло капля. Движение это замедлялось брызгами, лениво и беззвучно; какие-то части отделялись от массы корабля и черными точками взлетали над долиной, словно отыскивая удобные места для того, чтобы улечься и замереть. А потом это бесконечное движение, продолжавшееся около минуты, прекратилось. Корабль был мертв, и только тогда мое сознание с опозданием реконструировало грохот лопающихся переборок, стоны рвущегося металла, вой воздуха, кристалликами оседающего на стенах. Живые существа, которые там только что были, наверное, успели услышать лишь начало этих звуков.
На экране лежало многократно увеличенное лопнувшее черное яйцо, и потоки замерзшего белка причудливым бордюром окружали его.
– Все, – сказал кто-то.
Мы приняли сигнал бедствия и почти успели к ним на помощь. И мы увидели его гибель.
Мы спустили катер и вышли к долине. Черные точки превратились в лоскуты металла размером с волейбольную площадку, части двигателей, дюзы и куски тормозных колонн – поломанные игрушки гиганта. Казалось, что, когда корабль, растрескиваясь, вжимался в скалы, кто-то запустил лапу внутрь и выпотрошил его.
Метрах в пятидесяти от корабля мы нашли девушку. Она была в скафандре – они все, кроме капитана и вахтенных, успели надеть скафандры. Видно, девушка оказалась вблизи люка, вырванного при ударе. Ее выбросило из корабля, как пузырек воздуха вылетает из бокала с нарзаном. То, что она осталась жива, относится к фантастическим случайностям, которые беспрестанно повторяются с тех пор, как человек впервые поднялся в воздух. Люди вываливались из самолетов с высоты в пять километров и умудрялись упасть на крутой заснеженный склон или на вершины сосен, отделываясь царапинами и синяками.
Мы принесли ее на катер, она была в шоке, и доктор Стрешний не позволил мне снять с нее шлем, хотя каждый из нас понимал, что, если мы не окажем помощи, она может умереть. Доктор был прав. Мы не знали состава чужой атмосферы, не могли предвидеть, какие безвредные для нее, но смертоносные для нас вирусы могла занести с собой эта девушка.
Теперь следует сказать, как выглядела эта девушка и почему опасения доктора показались мне, да и не только мне, преувеличенными и даже несерьезными. Мы привыкли связывать опасность с существами, неприятными нашему глазу. Еще в двадцатом веке один психолог утверждал, что может предложить надежное испытание для космонавта, уходящего к дальним планетам. Надо только спросить его, что он будет делать, если встретится с шестиметровым пауком отвратительного вида. Ответы практически всех испытуемых были стереотипны: извлечь бластер и всадить в паука весь заряд. Паук же мог оказаться бродящим в одиночестве местным поэтом, исполняющим обязанности непременного секретаря добровольного общества защиты мелких птах и кузнечиков.
Ждать подвоха от хрупкой девушки – длинные ресницы отбрасывают тень на бледные нежные щеки, одного взгляда на ее лицо достаточно, чтобы тебя охватило необоримое желание увидеть, какого же цвета у нее глаза, – ждать от этой девушки подвоха, каких-то вирусов, было не очень по-мужски.
Этого никто вслух не сказал, но у меня появилось ощущение, что доктор Стрешний чувствовал себя мелким подлецом, чиновником, который ради буквы инструкций отказывает беспомощному посетителю.
Я не видел, как доктор дезинфицировал тончайшие щупы, чтобы ввести их сквозь ткань скафандра и набрать пробы воздуха. И не знал, каковы результаты его трудов, потому что мы снова ушли к кораблю, чтобы забраться внутрь и поискать: не остался ли кто-нибудь еще в живых. Это было бессмысленным занятием – из тех бессмысленных занятий, которые нельзя бросить, не доведя до конца.
– Плохо дело. – Мы услышали в наушниках эти слова доктора, когда пытались забраться внутрь корабля. Это было нелегко, потому что его помятая стена нависала над нами, как футбольный мяч над мухами.
– Что с ней? – спросил я.
– Она еще жива, – замялся доктор. – Но мы ничем ей не сможем помочь. Она Снегурочка.
Наш доктор склонен к поэтическим сравнениям.
– Мы привыкли, – продолжал доктор, и хотя могло показаться, будто он обращался ко мне, я знал, что говорит он в основном для тех, кто окружает его в каюте катера, – что основой жизни служит вода. У нее – аммиак.
Значение его слов дошло до меня не сразу. До остальных тоже.
– При земном давлении, – сказал доктор, – аммиак кипит при минус тридцати трех, а замерзает при минус семидесяти восьми градусах.
Тогда все стало ясно.
А так как в наушниках было тихо, я представил, как они смотрят на девушку, ставшую для них фантомом, который может превратиться в облако пара, стоит лишь ей снять шлем…
Штурман Бауэр рассуждал вслух, не вовремя демонстрируя эрудицию:
– Теоретически предсказуемо. Атомный вес молекулы аммиака семнадцать, воды – восемнадцать. Теплоемкость у них почти одинаковая. Аммиак так же легко, как вода, теряет ион водорода. В общем, универсальный растворитель.
Я всегда завидовал людям, которым не надо лезть в справочник за сведениями, которые никогда не могут пригодиться. Почти никогда.
– Но при низких температурах аммиачные белки будут слишком стабильными, – возразил доктор, будто девушка была лишь теоретическим построением, моделью, рожденной фантазией Глеба Бауэра.
Никто ему не ответил.
Мы часа полтора пробирались по отсекам разбитого корабля, прежде чем нашли неповрежденные баллоны с аммиачной смесью. Это было куда меньшим чудом, чем то, что случилось раньше.
Я зашел в госпиталь, как всегда, сразу после вахты. В госпитале пахло аммиаком. Вообще весь наш корабль им пропах. Бесполезно было бороться с его утечкой.
Доктор сухо покашливал. Он сидел перед длинным рядом колб, пробирок и баллонов. От некоторых из них шли шланги и трубы и скрывались в переборке. Над иллюминатором чернел небольшой ячеистый круг динамика-транслятора.
– Она спит? – спросил я.
– Нет, уже спрашивала, где ты, – сообщил доктор. Голос был глухим и сварливым. Нижнюю часть его лица прикрывал фильтр. Доктору приходилось каждый день решать несколько неразрешимых проблем, связанных с кормлением, лечением и психотерапией его пациентки, и сварливость доктора усугублялась преисполнившей его гордыней, так как мы летели уже третью неделю, а Снегурочка была здорова. Только отчаянно скучала.
Я почувствовал резь в глазах. Першило в горле. Можно было тоже придумать себе какой-нибудь фильтр, но мне казалось, что это могло быть воспринято как брезгливость. На месте Снегурочки мне было бы неприятно, если бы ко мне приближались в противогазе.
Лицо Снегурочки, как старинный портрет в овальной раме, обозначилось в иллюминаторе.
– Страствуй, – сказала она.
Потом щелкнула транслятором, потому что исчерпала почти весь свой словарный запас. Она знала, что мне иногда хочется услышать ее голос, ее настоящий голос. Поэтому, прежде чем включить транслятор, она говорила мне что-нибудь сама.
– Ты чем занимаешься? – спросил я. Звукоизоляция была несовершенна, и я услышал, как за перегородкой раздалось стрекотание. Ее губы шевельнулись, и транслятор ответил мне с опозданием на несколько секунд, в течение которых я любовался ее лицом и движением ее зрачков, менявших цвет, как море в ветреный, облачный день.
– Я вспоминаю, чему меня учила мама, – произнесла Снегурочка холодным равнодушным голосом транслятора. – Я никогда не думала, что мне придется самой готовить себе пищу. Я думала, что мама чудачка. А теперь пригодилось.
Снегурочка засмеялась раньше, чем транслятор успел перевести ее слова.
– Еще я учусь читать, – проговорила Снегурочка.
– Я знаю. Ты помнишь букву «ы»?
– Это очень смешная буква. Но еще смешнее буква «ф». Ты знаешь, я сломала одну книжку.
Доктор поднял голову, отворачивая лицо от струйки вонючего пара, ползущей из пробирки, и заметил:
– Мог и подумать, прежде чем давать ей книгу. При минус пятидесяти она становится хрупкой.
– Так и случилось, – подтвердила Снегурочка. Когда доктор ушел, мы со Снегурочкой просто стояли друг против друга. Если коснуться пальцами стекла, то оно на ощупь холодное. Ей оно казалось почти горячим.
У нас было минут сорок, прежде чем придет Бауэр, притащит свой диктофон и начнет мучить Снегурочку бесконечными допросами. А как у вас это? А как у вас то? А как проходит в ваших условиях такая-то реакция?
Снегурочка смешно передразнивала Бауэра и жаловалась мне: «Я же не биолог. Я могу все перепутать, а потом будет неудобно…»
Я приносил ей картинки и фотографии людей, городов и растений. Она смеялась и спрашивала о деталях, которые мне самому казались несущественными и даже ненужными. А потом вдруг перестала спрашивать и смотрела куда-то мимо меня.
– Ты что?
– Мне скучно. И страшно.
– Мы тебя доставим до дома.
– Мне страшно не поэтому.
А в тот день она спросила меня:
– У тебя есть изображение девушки?
– Какой? – спросил я.
– Которая ждет тебя дома.
– Меня никто не ждет дома.
– Неправда, – сказала Снегурочка. Она могла быть страшно категорична. Особенно если чему-нибудь не верила. Например, она не поверила в розы.
– Почему ты мне не веришь?
Снегурочка не ответила.
Облако, плывущее над морем, закрыло солнце, и волны изменили цвет – стали холодными и серыми, лишь у самого берега вода просвечивала зеленым. Снегурочка не могла скрывать своих настроений и мыслей. Когда ей было хорошо, глаза ее были синими, даже фиолетовыми. Но когда ей было грустно, они сразу словно выцветали, серели и становились зелеными, если она злилась.
Не надо было мне видеть ее глаза. Когда она открыла их впервые на борту нашего корабля, ей было больно. Глаза были черными, бездонными, и мы ничем не могли ей помочь, пока не переоборудовали лабораторный отсек. Мы спешили так, словно корабль мог в любой момент взорваться. А она молчала. И лишь через три с лишним часа мы смогли перенести ее в лабораторию и доктор, оставшийся там, помог ей снять шлем.
На следующее утро ее глаза светились прозрачным сиреневым любопытством и чуть потемнели, встретившись с моим взглядом…
Вошел улыбающийся Бауэр. Снегурочка улыбнулась ему в ответ:
– Аквариум к вашим услугам.
– Не понял, Снегурочка, – насторожился Бауэр.
– А в аквариуме подопытный слизняк.
– Лучше скажем – золотая рыбка. – Бауэра не так легко смутить.
У Снегурочки все чаще было плохое настроение. Но что делать, если ты проводишь недели в камере два на три метра. И сравнение с аквариумом было справедливым.
– Ну, я пошел? – спросил я, и Снегурочка не ответила, как обычно: «Приходи скорей».
Ее серые глаза с тоской смотрели на Глеба, словно он был зубным врачом. Я пытался анализировать свое состояние и понимал его противоестественность. С таким же успехом я мог влюбиться в портрет Марии Стюарт или статую Нефертити. А может, это была просто жалость к одинокому существу, ответственность за жизнь которого удивительным образом изменила и смягчила отношения на борту. Снегурочка внесла в нашу жизнь что-то хорошее, заставляющее всех непроизвольно прихорашиваться, быть благороднее и добрее, как перед первым свиданием. Безнадежность моего чувства вызывала, по-моему, у окружающих одновременно жалость и зависть, хотя они, как известно, несовместимы. Иногда мне хотелось, чтобы кто-нибудь подшутил надо мной, усмехнулся бы, чтобы я мог взорваться, нагрубить и вообще вести себя хуже других. Никто себе этого не позволял. В глазах моих товарищей я был блаженно болен.
Вечером доктор Стрешний вызвал меня по интеркому:
– Тебя Снегурочка зовет.
– Что-нибудь случилось?
– Ничего не случилось. Не беспокойся.
Я прибежал в госпиталь, и Снегурочка ждала меня у иллюминатора.
– Извини, – сказала она. – Но я вдруг подумала, что если умру, то не увижу тебя больше.
– Чепуха какая-то, – проворчал доктор.
Я невольно провел взглядом по циферблатам приборов.
– Посиди со мной, – попросила Снегурочка.
Доктор вскоре ушел, выдумав какой-то предлог.
– Я хочу коснуться тебя, – голос Снегурочки дрогнул. – Это несправедливо, что нельзя дотронуться до тебя и не обжечься при этом.
– Мне легче. – Я попытался улыбнуться. – Я только обморожусь.
– Мы скоро прилетим? – спросила Снегурочка.
– Да, – кивнул я. – Через четыре дня.
– Я не хочу домой. – Снегурочка опустила голову. – Потому что пока я здесь, то могу представить, что касаюсь тебя. А там тебя не будет. Положи ладонь на стекло.
Я послушался.
Снегурочка прижалась к стеклу лбом, и я вообразил, что мои пальцы проникают сквозь прозрачную массу стекла и ложатся на ее лоб.
– Ты не обморозился? – Снегурочка постаралась улыбнуться.
– Может быть, удастся найти нейтральную планету, – нерешительно начал я.
– Какую?
– Нейтральную. Посередине. Чтобы там всегда было минус сорок.
– Это слишком жарко.
– Минус сорок пять. Ты потерпишь?
– Конечно, – быстро ответила Снегурочка. – Но разве мы сможем жить, если всегда придется только терпеть?
– Я пошутил.
– Я знаю, что ты пошутил.
– Я не смогу писать тебе писем. Для них нужна специальная бумага, чтобы она не испарялась. И потом, этот запах…
– А чем пахнет вода? Она для тебя ничем не пахнет? – спросила Снегурочка.
– Ничем.
– Ты удивительно невосприимчив.
– Ну вот ты и развеселилась.
– А я бы полюбила тебя, если бы мы были с тобой одной крови?
– Не знаю. Я сначала полюбил тебя, а потом узнал, что никогда не смогу быть с тобой вместе.
– Спасибо.
В последний день Снегурочка была возбуждена, и хотя говорила мне, что не представляет, как расстанется с нами, со мной, мысли ее метались, не удерживались на одном, и уже потом, когда я запаковывал в лаборатории вещи, которые Снегурочка должна была взять с собой, она призналась, что больше всего боится не долететь до дома. Она была уже там и разрывалась между мной, который оставался здесь, и всем миром, который ждал ее. Рядом с нами уже полчаса летел их патрульный корабль, и транслятор на капитанском мостике непрерывно трещал, с трудом управляясь с переводом. Бауэр пришел в лабораторию и сказал, что мы спускаемся в космопорт. Он постарался прочесть записанное название. Снегурочка поправила его, словно мимоходом, и тут же спросила, хорошо ли он проверил ее скафандр.
– Сейчас проверю, – пообещал Глеб. – Чего ты боишься? Тебе же пройти всего тридцать шагов.
– И я хочу их пройти, – сказала Снегурочка, не поняв, что обидела Глеба. – Проверь еще раз, – попросила она меня.
– Хорошо, – согласился я.
Глеб пожал плечами и вышел. Через три минуты вернулся и разложил скафандр на столе. Баллоны глухо стукнулись о пластик, и Снегурочка поморщилась, словно ее ударили. Потом постучала по дверце передней камеры.
– Передай мне скафандр. Я сама проверю.
Чувство отчуждения, возникшее между нами, физически сдавливало мне виски: я знал, что мы расстаемся, но мы должны были расстаться не так.
Мы сели мягко. Снегурочка уже была в скафандре. Я думал, что она выйдет в лабораторию раньше, но она не рискнула этого сделать до тех пор, пока не услышала по интеркому голос капитана:
– Наземной команде надеть скафандры. Температура за бортом минус пятьдесят три градуса.
Люк был открыт, и те, кто хотел еще раз попрощаться со Снегурочкой, стояли там.
Пока Снегурочка говорила с доктором, я обогнал ее и вышел на площадку, к трапу.
Над этим очень чужим миром ползли низкие облака. Метрах в тридцати остановилась приземистая желтая машина, и несколько человек стояли возле нее на каменных плитах. Они были без скафандров, разумеется, – зачем дома надевать громоздкий космический костюм? Маленькая группа встречавших затерялась на бесконечном поле космодрома.
Подъехала еще одна машина, и из нее тоже вылезли люди. Я услышал, что Снегурочка подошла ко мне. Я обернулся. Остальные отступили назад, оставив нас вдвоем.
Снегурочка не смотрела на меня. Она старалась угадать, кто встречает ее. И вдруг узнала.
Она подняла руку и замахала. И от группы встречающих отделилась женщина, которая побежала по плитам к трапу. И Снегурочка бросилась вниз, к этой женщине.
А я стоял, потому что я был единственным на корабле, кто не попрощался со Снегурочкой. Кроме того, в руке у меня был большой сверток со Снегурочкиным добром. Наконец, я был включен по судовой роли в наземную команду и должен был работать внизу и сопровождать Бауэра на переговорах с космодромными властями. Мы не могли здесь долго задерживаться и через час отлетали. Женщина сказала что-то Снегурочке, та засмеялась и откинула шлем. Шлем упал и покатился по плитам. Снегурочка провела рукой по волосам. Женщина прижалась щекой к ее щеке, а я подумал, что обеим тепло. Я смотрел на них, и они были далеко. А Снегурочка сказала что-то женщине и вдруг побежала обратно, к кораблю. Она поднималась по трапу, глядя на меня и срывая перчатки.
– Прости, – сказала она. – Я не простилась с тобой.
Это был не ее голос – говорил транслятор над люком, предусмотрительно включенный кем-то из наших. Но я услышал и ее голос.
– Сними перчатку, – попросила она. – Здесь только минус пятьдесят.
Я отстегнул перчатку, и никто – ни капитан, ни доктор – не остановил меня.
Я не почувствовал холода. Ни сразу, ни потом, когда она взяла мою руку и на мгновение прижала к своему лицу. Я отдернул ладонь, но было поздно. На обожженной щеке остался багровый след моей ладони.
– Ничего. – Снегурочка попыталась улыбнуться, тряся руками, чтобы было не так больно. – Это пройдет. А если не пройдет, тем лучше.
Снизу женщина что-то кричала Снегурочке.
Снегурочка смотрела на меня, и ее темно-синие, почти черные глаза были совсем сухими…
Когда они подошли к машине, Снегурочка обернулась и взглянула на меня в последний раз.
– Зайди потом ко мне, – услышал я сзади голос доктора. – Я тебе руку смажу и перевяжу.
– Мне не больно, – ответил я, не поворачиваясь.
– Потом будет больно, – вздохнул доктор.
Красный олень – белый олень
В сумерках Лунин пристал к берегу, чтобы переночевать. Место было удачное – высокий берег, поросший поверху старыми деревьями. Под обрывом тянулась широкая полоса песка, утрамбованного у воды и мягкого, рассыпчатого, прогретого солнцем ближе к обрыву. Кое-где на песке лежали стволы свалившихся сверху деревьев – река постепенно размывала высокий берег. Лунин привязал катер к черному, ушедшему корнями в воду пню. Катер легонько мотало на мелкой волне. Палатку он решил разбить наверху. Там не будут досаждать москиты – снизу было видно, как гнутся от ветра вершины деревьев.
Лунин приторочил палатку на спину и начал подъем. Обрыв был сложен из рыхлого песчаника и слежавшегося, но предательски непрочного кварцевого песка. Лунин цеплялся за корни и колючие кусты, которые поддавались с неожиданной легкостью, и приходилось прижиматься всем телом к обрыву, чтобы не сползти обратно.
Никто не мешал Лунину остаться внизу и переночевать в катере, но Лунин предвкушал час отдыха, неспешных размышлений и воображаемой разборки сегодняшних трофеев. Трофеи остались на катере, но Лунин знал их наизусть. Да и не находки были важны сейчас, а связанная с ними возможность подтверждения идей, которые еще не успели отстояться и стать теорией.
Наверху дул свежий, набиравший силу над зеркалом реки ветер. Дальний берег уже утонул во мгле. Ветер разгонял москитов. Поставив палатку и перекусив, Лунин уселся спиной к корявому стволу, свесил ноги с обрыва.
Где-то неподалеку перекликались птицы. Треснул сук. Лунин слышал голоса леса, но они не мешали ему. Он знал, что в случае опасности успеет одним прыжком достигнуть палатки и включить силовое поле. Лунин нагнулся и поглядел на катер. Тот тоже в безопасности. Катер казался сверху маленьким, словно жучок, прибитый к берегу волной. Лунин почувствовал приближение приступа одиночества, преследовавшего, как болезнь. Здесь не было своих. Только чужие. И геологи, которые тоже где-то в тысяче километров отсюда разбили сейчас палатки и сидят около них, прислушиваясь к звукам леса или степи. И ботаник тоже ночует где-то. Один.
Лунин поглядел наверх. Словно знал, что именно сейчас Станция пролетает над ним. Станция была яркой звездочкой. Но не более как звездочкой. Можно заглянуть в палатку и вызвать Станцию. И спросить, например, какая здесь завтра будет погода. Ответят, пожелают спокойной ночи. Диспетчеру скучно. Он ждет не дождется, когда наступит его очередь спуститься вниз. Он геолог. Или геофизик. Ему кажется – планета так интересна и богата, что ему некогда будет почувствовать свое одиночество. Может, он прав. Наверное, Лунин исключение.
Эта планета могла быть другой. Совсем другой. Может быть, из-за сознания того, что Лунин нечаянно овладел ее невеселым секретом, он и мучился одиночеством.
На Станции он единственный палеонтолог. Сначала он работал вместе с партией геологов. Потом оставил их. Все равно он мог лишь угадывать, чего ждать, вести самую предварительную разведку. Не более. Искать планомерно, делать открытия, подготовленные временем, предстояло другим. На долю Лунина оставались случайности и догадки. Одна из случайностей произошла вчера. Вторая сегодня утром.
Утром он нашел вторую стоянку. Она оказалась не старше, чем вчерашняя…
– Ух, – послышалось в кустах. Такое «ух» могло значить лишь одно – сигнал к нападению. Лунин метнулся к палатке, успев подумать, что плуги, к счастью, никогда не нападают молча. Всегда оставляют тебе секунду на размышление. Правда, не более секунды.
Он не успел спрятаться в палатке. Плуги бросились к нему из-за стволов и сверху, с вершин деревьев. Падая под тяжестью горячей шерсти, Лунин дотянулся до кнопки силовой защиты, и поле придавило к земле ноги чуть ниже колен. Он рванул ноги, стараясь поджать их, но это оказалось трудно сделать – не столько из-за поля, сколько потому, что один из плугов успел вцепиться лапой в башмак и тянул к себе. Остальные – трое или четверо – бились о невидимую стенку, отделявшую их от Лунина.
В полумраке было видно, как светятся красным их слишком большие по земным меркам глаза. Оттого выражение яростных морд казалось двусмысленным – глаза никак не вязались с оскалом клыков и морщинами, топорщившими редкую шерсть на низком покатом лбу. В глазах виделись удивление, растерянность и даже жалоба. Но плуги лишены жалости и милосердия. Они непобедимые и мрачные хищники, господа ночи. Величина и форма глаз – необходимость. Они видят почти в полной темноте.
Башмак остался в лапе плуга, и тот сразу вгрызся в него, но насладиться добычей не успел. Другой плуг, покрупнее, преисполнился зависти. И плуги забыли о Лунине. Он знал, что забыли ненадолго – вернутся. Но пока они рвали башмак.
Лунин устроился у входа в палатку и нашарил сзади себя кинокамеру. Луч света, вышедший из нее, обозначил лишь черный громадный ком, шевелящийся, словно рой пчел, – плуги дрались. И тогда из-за дерева вышел крупный матерый самец. Он шел на задних лапах и ставил их уверенно и прочно. Он не смотрел на пустую драку: его интересовала добыча покрупнее – палатка и человек в ней.
Плуг не обращал внимания на свет – лишь зрачки сузились до ниточек, и Лунин, глядя на него сквозь видоискатель камеры и поджимая разутую ногу, невольно улыбнулся. (Когда первые фотографии этих гигантских обезьян прибыли на Станцию, доктор Павлыш с «Космоса» сказал совершенно серьезно: «Там побывал Густав Плуг». Густава Плуга знали многие. Он был главным врачом на «Земле-14» и отличался ангельским характером, умением отыскивать болезни у самых здоровых на вид космонавтов – и устрашающей внешностью. Он был похож на черную гориллу. Только в очках. Тогда-то Павлыш нарисовал на фотографии очки, и питеков назвали плугами.)
– Здравствуйте, доктор Плуг, – сказал Лунин медленно подходившему зверю. – Я кажусь легкой добычей? Со мной можно поступать по законам джунглей? Ну так постарайтесь вообразить, что и я могу вас съесть…
На мгновение Лунину показалось, что силовое поле может отказать. Он даже вытащил из-под себя босую ногу и ткнул ею вперед. Нога уперлась в преграду. Тут же Лунин подумал, что завтра придется слетать на Станцию. Босиком здесь долго не проходишь.
Вожак распластал лапы по невидимой стенке и прижал к ней морду. Он исходил злобой. Лунин внушал ему воспоминания. И именно поэтому Лунин сегодня относился к плугам без того интереса, с каким привыкший жить в поле исследователь относится к неразумной жизни вокруг. Сегодня Лунин испытывал некоторые весьма обоснованные подозрения. Подозрения внушили стоянки.
Их было пока две. Вчерашняя, в распадке, на склоне, где несколько неглубоких пещер смотрели на травянистую лужайку. В одной из пещерок Лунин вчера обнаружил следы копоти, а на полу, под пометом летучих мышей, кухонные отбросы – разбитые кости, золу и осколки кремня. Часа через полтора, опомнившись и отдышавшись от возни с камерами и фиксаторами, Лунин вызвал Станцию и сообщил дежурному о находке. Говорил Лунин спокойно, буднично, и поэтому сначала дежурный не осознал значения его слов.
– Записываю координаты, – отвечал дежурный равнодушно, как по нескольку раз за день отвечал различным группам, каждая из которых была уверена, что ее сегодняшнее открытие войдет в историю. – Палеолитическая стоянка… Предварительный анализ кухонных отбросов… восемьсот-девятьсот лет плюс-минус пять… Постой, – сказал тут дежурный. – Какие кухонные отбросы?
– Кости, – пояснил Лунин. – Зола.
– Ты что хочешь сказать?..
– Сообщение принято? Продолжаю работу, – сказал Лунин и отключился, представляя себе, как суматоха, вызванная его сообщением, прокатывается волной по Станции, отрывает от срочной и недавно еще Самой Важной Работы физиков, астрономов, зоологов, перекидывается на планету и становится достоянием работающих внизу групп. «Послушай, ты знаешь, что Лунин нашел?»
Минут пять прошли спокойно. Лунин не заблуждался относительно этого спокойствия. Он сидел на валуне и ждал событий.
– Лунин, – произнес голос в рации. – Ты слышишь меня?
Говорил Вологдин, шеф экспедиции.
– Слышу, – ответил Лунин, покусывая тонкую травинку.
– Ты не ошибся?
Лунин игнорировал такое предположение.
– Лунин, ты чего молчишь?
– Я уже послал сообщение.
– Но ты уверен?
– Да.
– Мы вышлем тебе группу?
– Пока не надо. Ничего особенного не произошло.
– Вот это да.
Лунин представил, как вся Станция стоит за спиной у шефа и слушает разговор.
– Послушай, Вологдин, – сказал Лунин. – Я нашел палеолитическую стоянку. Но не знаю, кто был ее хозяином. Стоянка, по нашим масштабам, свежая. Значит, если даже на планете есть разумные существа, то они на уровне троглодитов. В ином случае мы отыскали бы их уже давно.
– Но почему раньше никто не видел даже следов?
– А что мы знаем о планете? Работаем здесь всего третий месяц. И нас горстка.
– И все-таки планета уже вся заснята, и любое свидетельство…
– Они, наверное, живут в лесу.
– Может, это плуги?
– Не надейся. О плугах тебе расскажет Ли. Он за их стаей следил две недели. Жуткие звери, чуть поорганизованнее горилл, зато вдесятеро злее и сильней. Отлично обходятся без огня.
– Так ты справишься?
– Да. Можешь прислать капсулу. Я положу в нее пленки. Сами посмотрите, своими глазами. Но ничего сенсационного не обещаю.
– Сейчас высылаем. Ты, по-моему, недооцениваешь значение открытия.
– Это даже не открытие. Я наткнулся на стоянку внезапно. Но в любом случае пройду теперь вниз по реке. Может, еще что-нибудь увижу.
Капсулу за пленками прислали ровно через двадцать минут. Лунин к тому времени как раз перебрался на катер, чтобы пообедать. В капсуле обнаружилась записка от Володи Ли. Частного характера. «Послезавтра кончаю обработку темы. Могу присоединиться». На записку Лунин отвечать не стал. Сможет – прилетит.
В течение дня его еще раз десять вызывала Станция. Как будто Лунин нашел не следы палеолита, а по крайней мере город с железной дорогой. И через каждый час должен находить по новому городу.
Так и прошел день. И вот сегодня утром он обнаружил вторую стоянку. Может быть, он даже пропускал палеолит раньше. Не рассчитывал найти. Искал кайнозой, в одном месте наткнулся на триас. А на следы человека не смотрел. Теперь же глаза крутились, словно радарные установки. Нет ли скола на куске кремня? Не вход ли в пещеру – темное пятно на обрыве?
Стоянка оказалась небольшой, отбросов мало. Зато в яме, полузасыпанной песком, Лунин отыскал первый череп. И остатки скелета. Череп пришлось собирать по кусочкам – он был раздроблен сильными зубами хищника. А может, зубами сородичей. Стоянка принадлежала гуманоидам. Лунин оказался прав – они не имели никакого отношения к плугам. Вдвое ниже плугов, куда тоньше в кости, с покатым лбом и скошенным подбородком, они все же были куда ближе к разумным людям, чем черные обезьяны. Покружившись по стоянке, Лунин нашел еще несколько человеческих костей. И смог предположить, что жители ее подверглись нападению. Причем враги не только перебили, но и сожрали обитателей стоянки.
Потратив несколько часов на сбор и фиксацию трофеев, на прием и отправку капсул, на разговоры с нахлынувшими на катерах и флаерах визитерами, Лунин пошел дальше. Уже тогда у него появились первые подозрения, но проверить их он не мог. В этом поясе водились медведи и хищники, схожие с крупными волками. Ни те, ни другие не собирались, как установил Ли, в стаи. И вряд ли они могли перебить всех жителей стоянки, числом более десяти. Убить, разодрать буквально на мелкие клочки. Оставались плуги.
И вот теперь, сидя в палатке и глядя на яростную, в пене, морду вожака-плуга, Лунин испытывал к нему почти ненависть.
Природа жестока к разуму. Еще не окрепнув, не научившись толком осознавать собственное потенциальное могущество, он оказывается среди сильных врагов, и борьба с ними все время нависает дамокловым мечом над самим существованием разумной жизни. Враги – и здесь, и на Земле – всегда зубастее и нахальней, чем предки разумных существ. И нужно перехитрить их, спрятаться от них, выжить… хотя без сильных врагов тоже не станешь разумным.
А плуг все не желал отказываться от добычи. Лунину даже казалось уже, что плуг отождествляет его с троглодитами и относится к нему не только как к добыче, но и как к злейшему врагу, существу, с которым не поделишь власть на планете.
К вожаку присоединились остальные плуги, которые благополучно разделались с башмаком, и в конце концов, когда Лунину надоело глядеть в мохнатые озлобленные морды, он дал ослепляющую вспышку, и плуги разбежались.
Заснуть сразу не удалось. Вызвал Володя Ли. Он, оказывается, уже закончил исследование царапин на костях людей. Следы соответствовали зубам плугов. Обвинение подтвердилось. И, засыпая наконец, Лунин понял, что положение его на этой планете изменилось. Он не только исследователь. Он должен стать и защитником. Наверное, людей здесь осталось не так уж и много. Плуги оказались более опасными врагами, чем пещерные медведи для наших предков.
На следующий день пришлось вернуться на Станцию. Из-за башмака. Показалось неудобным просить дежурного: «Пришли мне, голубчик, в капсуле правый башмак сорок второго размера, желательно черный. Мой плуги съели». Да и надо было посоветоваться с Ли и шефом и получить флаер хотя бы недели на две, чтобы обшарить на бреющем полете бассейн большой реки.
А потом Лунин с Ли три недели обследовали бассейн, возвращаясь на Станцию, чтобы разобрать материалы. И попытались опровергнуть выводы, к которым их толкали новые находки.
Плуги пришли сюда тысячи четыре лет назад. Совсем недавно. Может быть, с другого континента, где их видимо-невидимо. К тому времени первые люди на планете уже научились обкалывать камень и зажигать огонь. Люди не были готовы к войне с громадными обезьянами, организованными в яростные стаи, видящими ночью как днем, с такой толстой шкурой, что каменные наконечники копий не могли ее пробить. Разбросанные по лесу горстки людей становились одна за другой жертвами яростных нападений. Тысячу пятьсот лет, тысячу лет, восемьсот лет насчитывали покинутые и разоренные стоянки. И наконец, на берегу большого мелкого озера, среди торчащих, словно растопыренные пальцы, сизых скал Лунин нашел поле одной из последних, если не последней битвы. Здесь погибло более восьмидесяти людей. Тут же валялись и кости плугов. Люди научились объединяться, но, видно, опоздали. Битва датировалась полутысячелетием назад. Плюс-минус десять лет. Поиски можно было прекращать. Ни одного человека на планете не осталось.
– Эх, поспешить бы, – сказал кто-то из физиков. – Мы бы их силовым полем прикрыли.
– Пятьсот лет назад?
– А может, еще в прошлом году последние здесь скрывались? Мы же не знаем.
– Вряд ли, – усомнился Ли.
– Я понимаю, – вздохнул физик. – И все-таки жалко младших братьев.
На следующий день Лунин вылетел на большую стоянку у обрыва, где из розоватого песчаника вывалились на берег речушки черные конкреции и аммониты высовывались из обрыва, словно завитые рога горных баранов. Там была пещера, у которой тоже лет восемьсот назад шумела битва, наверное, короткая, ночная, как и все битвы, когда в свете костра у пещеры крутились, рычали плуги и, сопя, отмахивались от ударов копий, растаскивали камни, которыми люди завалили вход в пещеру.
Лунин осмотрел все закоулки пещеры, разыскивая следы долгой жизни, подобрал рыболовный крючок из согнутой и обточенной кости, нашел выдолбленный камень, куда с потолка пещеры капала вода. Второй, дальний ход в пещеру был широким, и солнце заливало плоский песчаный пол и гладкие стены. У одной из стен лежал обтесанный камень. Над ним были рисунки. Первые рисунки, найденные на планете. Лунин затаил дыхание, словно опасался, что от дуновения воздуха рисунки могут осыпаться, пропасть.
Кто-то выбрал эту стену, чтобы выразить на ней свое удивление перед миром, остановить движение, заколдовать его волшебной силой единства с этим миром и зарождающейся властью над ним. Там был нарисован медведь – горбатый, с неровными вертикальными полосками под брюхом, изображавшими длинную шерсть. Были смешные человечки – две палочки ножек, две палочки ручек. Человечки куда-то бежали. Была лодка и над ней солнце. Песчаник и мел надоумили художника (а может, он был и первым жрецом?) пользоваться разными красками. Солнце было красным, человечки белыми.
Лунин медленно продвигался вдоль стены, читая все новые рисунки. Черный плуг. Сутулый и оскаленный. Плуг был маленький. А рядом большой красный человек, который пронзил плуга копьем. Рисунок был неправдой. Искусство, еще не родившееся толком, уже начало мечтать.
И у Лунина испортилось настроение.
Он вспомнил, что камера осталась во флаере и надо возвращаться туда.
Но перед тем как уйти, он выглянул наружу, нет ли там других рисунков. Рисунок был. Один. Плоская глыба, нависшая над стеной у входа, сохранила его от дождей. Рисунок был крупнее других, свободнее в линиях, будто вне пределов пещеры художник мог отступить от канонов, рождающихся вместе с искусством.
Это был олень. Красный олень, нарисованный легко и небрежно, запечатленный памятью художника в момент прыжка.
Лунин бежал к флаеру. За камерой. У него даже защемило сердце. Он свыкся уже с тем, что разум на этой планете погиб, только успев родиться. И сожаление по этому поводу и даже раздражение против плугов были несколько абстрактными. В конце концов, перед ним был исторический факт.
А существование оленя, его полет разрушили ход абстрактного мышления. Окончательность смерти разума стала трагедией, задевшей самого Лунина. И оттого родился страх перед возможной гибелью красного оленя. От землетрясения, дождя – черт знает от чего.
Он сказал только, включив на секунду рацию: «Нашел наскальные рисунки. Сниму, зафиксирую, потом выйду на связь. Ждите». Схватил камеру, консервант и поспешил обратно. Он шел быстро, но осторожно, стараясь не наступить на кости и осколки камней. И когда до второго выхода из пещеры оставалось несколько шагов, замер. Ему показалось, что там кто-то есть. Да, он теперь уже ясно слышал сопение. Лунин закинул камеру за плечи, положил ладонь на бластер, заряженный парализующими патронами. Сопение не смолкало. Будто маленький паровоз разводил пары под скалой. Лунин на носках дошел до края пещеры и выглянул.
Худшие его опасения оправдались. Перед красным оленем сидел на корточках громадный черный плуг и старался уничтожить рисунок. Лунин поднял бластер. Еще не поздно. Но не выстрелил.
Он заметил в лапе плуга кусок мела. Лапа дрожала от напряжения. Сопя, подвывая, скалясь, плуг царапал мелом по стене. Как раз под красным оленем. Он уже провел почти прямую горизонтальную линию, от нее пошли короткие палочки вверх. Палочек было четыре, разной длины, одна из них не достала до горизонтальной линии, и плуг принялся тыкать мелом в стену, стараясь белыми точками соединить палочку с линией, прежде чем продолжить свой изнурительный труд.
И Лунин понял, что же старается плуг изобразить на стене. Того же оленя, но белого и перевернутого вверх ногами, убитого, ставшего пищей.
Плуг взялся за задачу, которая оказалась ему не по плечу. Ни лапы его, ни глаза не были подготовлены к тому, чтобы снимать копии с произведений искусства. И тем более творчески переработанные копии.
Плуг возил куском мела у конца горизонтальной линии – получилась звезда. Это была голова оленя. Не важно, что она не была похожа на голову, – Лунин и плуг признавали за искусством право на условность.
Плуг отодвинулся от стены, склонил морду набок и замер, наслаждаясь лицезрением рисунка. В нем зарождалось тщеславие. В палочках он видел громадную, теплую еще тушу оленя и потому не искал сравнений с тем, что умели делать уничтоженные враги. Теперь оленю не убежать. Он повержен.
А Лунин почувствовал какую-то странную благодарность, чуть ли не нежность к черной обезьяне, и сделал шаг вперед. Плуг в этот момент оглянулся, словно искал взглядом кого-нибудь, кто оценил бы его труд. Взгляды человека и плуга встретились.
И плуг забыл об олене. В плошках красных глаз вспыхнула бессмысленная злоба, бешенство и страх застигнутого врасплох зверя. Эволюция, сделав неожиданный шаг вперед, была бессильна еще удержаться на новой ступеньке, и шаг был забыт. Не навсегда, конечно.
Плуг метнул куском мела в Лунина – под рукой не оказалось ничего более существенного. Кусок мела отскочил к стене, оставив на груди скафандра белую точку. Лунин инстинктивно отпрянул за выступ скалы.
А когда выглянул вновь, увидел лишь черное пятно – спину плуга, ломящегося сквозь заросли.
Черное пятно исчезло. Листья трепетали, словно под порывом ветра. Треск сучьев затих.
Лунин обернулся к скале. Камень в тени был сиреневым, и на нем светились два оленя. Красный и белый.
Загадка Химеры
Комету назвали Химерой, потому что у нее было три ядра, что необычно, и хвост загибался на конце подобно драконьему. А как известно, драконий хвост и трехглавость считаются атрибутами этого мифологического чудовища.
Вблизи, когда хвост расплылся вуалевым облаком, сквозь которое просвечивали звезды, сходство с Химерой поблекло.
Глеб Бауэр сказал:
– «Земля-14», скорость мы подравняли. Ты меня слышишь, Агнесса?
Ответ пришел через несколько секунд:
– Батрак спрашивает, вы уверены?
– Уверен, – сказал Бауэр. – Мы войдем в хвост практически ползком. Льдинки невелики. Как и ожидалось.
– Ядра?
– Тоже как и ожидалось. Боковые – глыбы льда. Центральное ядро потяжелее…
Вход в хвост кометы был незаметен. Только приблизившись к ядрам километров на пятьсот, патрульный корабль впервые столкнулся с осколком льда – ни Бауэр, ни Крайтон этого не почувствовали, лишь на экранах внешней защиты вспыхнули зеленые искры.
– Концентрация твердого материала увеличивается, – сказал Бауэр, снова вызвав «Землю-14». – Даю торможение на тридцать секунд.
– Только лед? – донесся голос Эдуарда Батрака.
– Включаю анализатор, – сказал Крайтон, переводя компьютер на связь с базой. – А визуально здесь и пыль, и камешки, и прочая ерунда, которую Химера подобрала на своем пути.
Корабль завис над центральным ядром. Теперь он стал неотличим от сотен льдин и камней, тянущихся за ядром, беззвучно, спокойно, с неуловимой для глаза скоростью несущихся к Солнцу. Пройдет еще несколько недель, и комета взорвется, испарится, исчезнет, приблизившись к светилу. Поэтому и пришлось спешить, снимать с рейса патрульный корабль. Особых открытий не ждали, но проверить неизвестную комету следовало. Ведь, вернее всего, она летела миллионы лет навстречу гибельному столкновению с Солнцем.
– Все правильно, – услышали они голос Батрака. – Анализатор подтверждает: слой льда скрывает базальтовую основу. Лед неровный, кое-где базальт выходит на поверхность. Вы уверены, что сможете спуститься?
– Не беспокойтесь, Эдуард, – мягко ответил Крайтон. – Будет вам к ужину кусочек базальта.
Корабль широко расставил опоры, шипы опор вгрызлись в корку льда. Гравитация была почти нулевой.
Крайтон с Бауэром быстро подготовили портативный бур, гравитометр, микрокомпьютер, аппарат для плавления льда, кинокамеру, потом надели на скафандры ракетные ранцы.
До базальтового участка от ракеты было метров триста. Поверхность базальта оказалась гладкой, словно отшлифованной временем и пространством.
– Как будто искусственный, – с надеждой произнес Крайтон.
– Не думаю, – отозвался в его шлеме голос Бауэра. – Общая форма ядра неправильна.
– Знаю, – согласился Крайтон. Молодых разведчиков всегда терзает мечта о Контакте.
Бауэр собрал бур, Крайтон пролетел с гравитометром чуть дальше. Базальт был обыкновенным. Природа однообразна – она никак не может выйти за пределы периодической системы Менделеева. Что обычно на Земле, то обычно и на другом конце Галактики. Крайтон только хотел поделиться этой светлой мыслью с Бауэром, как стрелка гравитометра колыхнулась.
«Наверное, каверна, полость естественного происхождения», – подумал Крайтон, которому очень хотелось, чтобы это была не каверна.
Он пролетел несколько метров, и стрелки вернулись в исходное положение. Так. Теперь немного назад. Потом вправо…
– Ты чего не отвечаешь? – спросил Бауэр.
– Погоди, полость отыскал, хочу проследить.
– Ладно. Иду к тебе. Ты только не спеши, а то еще свалишься с планеты. – Глеб усмехнулся собственной остроте. Крайтон не отвечал, он был занят. Как он определил по гравитометру, полость была узкой и тянулась словно туннель.
Стоп! Стрелки колыхнулись сильнее. Призраком подлетел Глеб Бауэр, затормозил, замер рядом. Ему ничего не надо было рассказывать – он только заглянул Крайтону через плечо. Потом дотронулся до клавиши, включая экран гравитометра, что Крайтон попросту забыл сделать. По экрану пробежала желтая полоска – гравитометр запомнил аномалию, прочертил исследованную часть. Под желтой полосой, перпендикулярно к ней, пробегала вторая, тусклее. Значит, второй туннель был расположен ниже. И если присмотреться, можно было понять, что вторая полоса пересекала третью, совсем тусклую.
– Шесть метров, восемь и двадцать пять, – сказал Бауэр.
– Что ж я не включил? – удивился Крайтон. – Замечтался?
– Самокритика хороша только тогда, когда из нее делают выводы. Теперь лучше проверь свою интуицию.
Крайтон включил микрокомпьютер. Глубину туннелей Бауэр угадал почти точно.
– Пробурим? – спросил Крайтон.
– Успеем…
Они медленно пролетели над центральным ядром еще метров сто. Корабль почти скрылся за близким горизонтом.
Желтая полоса ближайшего туннеля засветилась, словно раскаленная вольфрамовая нить. Туннель подошел к самой поверхности.
– А ты говорил – бурить, – сказал Глеб, останавливаясь. Достаточно было поглядеть под ноги, чтобы увидеть округлую линию.
Это был шов закрытого люка.
– Я говорил, что базальтовый участок показался мне слишком гладким. – Голос Крайтона дрогнул. Он поднял голову и увидел близкий, в протуберанцах, диск Солнца. – А могли бы и не полететь – сколько Батрак уламывал совет.
– Все равно полетели бы, – сказал Бауэр равнодушным голосом старого космического волка, который сотни раз сталкивался с чужими цивилизациями, хотя это и было неправдой.
Он пристально смотрел на люк.
– Базальт. Такой же базальт…
– У нас мало времени, – энергично отозвался Крайтон.
– Правильно. Но не совсем так. Сначала вернемся на корабль, поговорим с «Землей-14».
– Но… – И Крайтон осекся: Бауэр действовал по инструкции.
– Не думаю, что они скроются от нас, – сказал Глеб, подталкивая Крайтона в сторону корабля, и взлетел. – Они ждали миллионы лет.
– Ты думаешь, там кто-то есть?
– Ни одного шанса, – сказал Бауэр. – Но кто-то был.
Полчаса ушло на переговоры с «Землей-14». Агнесса, подобно Крайтону мечтавшая о Контакте, прежде чем передать информацию Батраку, разразилась восторженными восклицаниями. Батрак связывался с другими станциями. Бауэр был на связи, а Крайтон еле сдерживал нетерпение. Наконец пришел ответ…
Прежде чем бурить люк, решено было подробнее обследовать с помощью гравитометра систему туннелей. Крайтону это занятие было куда больше по душе, чем сидение в корабле, но все равно он спешил, надеясь как можно скорее вернуться к люку.
Возвращаться к нему не пришлось.
Еще один закрытый люк обнаружили под тонким слоем льда в километре от корабля. Затем нашли третий. Дальше толщина льда увеличивалась, и потому поиски люков пришлось прекратить. Но люки были и там.
Они стояли у третьего люка. Бауэр подготовил бур. Бурить надо было очень осторожно. Прежде всего следовало узнать, есть ли в туннеле давление. Если в них воздух, можно погубить… ну, если не существ, которых там могло и не быть, так то, что от них осталось. Крайтон, пока суд да дело, отлетел в сторону, чтобы обследовать последний участок базальта.
Там он и нашел открытый люк.
Почему-то базальтовая крышка провалилась внутрь выходившего на поверхность туннеля и застряла под углом в вертикальной шахте. В щель набился лед. Крайтону стало грустно. Где-то в глубине души он хотел верить, что в ядре кометы скрываются живые существа. Теперь стало ясно, что там давно уже никого нет.
Они быстро расплавили лед и базальтовую крышку. Потом спрыгнули, вернее, слетели вниз, в туннель.
Туннель был прям, кругл, его черные стены были тщательно отшлифованы и мрачно отражали свет фонарей. Чуть заворачивая вправо, туннель вел в глубь ядра.
– Они были чуть ниже нас ростом, – сказал негромко Крайтон, словно боялся потревожить хозяев.
– Да, – согласился Бауэр, включая кинокамеру.
Через несколько метров они остановились. Бауэр решил взять образец облицовки туннеля. Облицовка была настолько твердой, что трижды пришлось сменить сверло бура. Наконец в стене образовалась небольшая впадина.
– Базальт проанализируем на корабле, – оказал Бауэр. – Но думаю, что они работали относительно просто. Спрессовывали базальт под большим давлением.
Крайтон кивнул. Он включил ракетный ранец и полетел дальше. Туннель однообразно и бесконечно разворачивался навстречу. На пересечении с другим точно таким же туннелем он остановился и подождал Бауэра.
– Зачем? – спросил он. – Зачем они это делали?
Бауэр пожал плечами, насколько это возможно в скафандре.
– Мы пролетели метров двести – здесь ни двери, ни комнаты. Один туннель, второй туннель…
– Под нами тоже туннель… – сказал Бауэр.
Через двадцать минут, на несколько уровней ниже, они вновь остановились.
– Этого не может быть, – сказал Крайтон. – Во всем должен быть смысл. А какой может быть смысл в том, чтобы изрезать эту глыбу базальта туннелями и ничего не оставить нам больше…
– Смысл есть, – буркнул Бауэр. – Беда в том, что мы не можем его понять.
– Не поймем?
– Закинь нас сейчас к древним майя или ацтекам. Ты думаешь, нам были бы понятны все их действия, логика их поступков? Здесь же иная цивилизация, исчезнувшая неизвестно сколько миллионов лет назад, зародившаяся неизвестно в скольких парсеках от нашей Земли…
– А если это шахты? – спросил Крайтон.
– Зачем? Чтобы добывать базальт из базальтового куска?
– А если тут были алмазы?
– В базальтах не бывает алмазов.
Туннель впереди расширился. Это было уже разнообразием. Бауэр снова включил кинокамеру. От широкого туннеля отходили в разные стороны несколько узких ходов. Предчувствие чего-то нового, разгадки или хотя бы намека на разгадку охватило Крайтона. Он обогнал Глеба, и… туннель оборвался. Прямо перед ними была стена льда.
– Ну вот, – сказал Бауэр. – Выход закрыт.
– Он когда-то продолжался дальше?
– Без сомнения. Может быть, катаклизм, погубивший планету, оторвал от нее этот кусок, а все остальное осталось неизвестно где…
И именно здесь, под ледяной стеной, Крайтон увидел первый предмет, относившийся к обитателям или строителям туннелей, – вогнутый кусок металла сантиметров шестьдесят длиной, шириной – двадцать.
– Похоже на сегмент трубы, – сказал Бауэр. Он немного помедлил. – Ну а теперь нам пора возвращаться. Боюсь, что, когда они уходили отсюда, все тщательно подчистили, чтобы мы ни о чем не догадались.
– Хитрецы, – вздохнул Крайтон и бросил взгляд на экран гравитометра. Неизвестно, что заставило его сделать это, – может быть, слова Бауэра: «Ну а теперь нам пора возвращаться».
В сетке желтых полосок-туннелей на экране светился круг. Близко, метрах в двадцати от них, была какая-то шарообразная полость.
…Туннель, подводивший к ней, заканчивался базальтовым люком. Они вскрыли его и оказались внутри странной сферы, вся поверхность которой состояла из гигантских сотов, закрытых крышками. Впрочем, нет, некоторые соты были открыты. В них не было ничего.
– Как солнечные батареи, – сказал Крайтон. – Возможно, это энергоцентр?
– Да нет, все проще, – устало отозвался Бауэр. – Мы с тобой оказались под властью заблуждения. Антропоморфного.
– Не понял.
– Мы вбили себе в головы, что столкнулись с чужой цивилизацией. Высокой…
Бауэр подошел к закрытой ячейке, поддел крышку буром.
В ячейке они увидали метровую личинку. Бауэр дотронулся до ее покрова, и личинка рассыпалась в пыль.
– Вот и все, – вздохнул Глеб.
Крайтон вспомнил кусок «металла» в туннеле. Теперь было ясно, что это обломок покрова взрослого существа – инопланетного червя, муравья? – пробивавшего бесконечные ходы в своем муравейнике…
– Ну что ж, – сказал Крайтон. – Самый неожиданный результат всегда лучше, чем загадка. Чем отсутствие результата. Пусть теперь ученые разбираются в том, что мы нашли на Химере.
Корона профессора Козарина
Когда я сошел с электрички, уже стемнело. Шел мелкий бесконечный дождик. Оттого казалось, что уже наступила осень, хотя до осени было еще далеко. А может, мне хотелось, чтобы скорее наступила осень, и тогда я смогу забыть о вечерней электричке, этой платформе и дороге через лес. Обычно все происходит автоматически. Ты садишься в первый вагон метро, потому что от него ближе к выходу, берешь билет в крайней кассе, чтобы сэкономить двадцать шагов до поезда, спешишь к третьему от конца вагону, потому что он останавливается у лестницы, от которой начинается асфальтовая дорожка. Ты сходишь с дорожки у двойной сосны, потому что если пройти напрямик, через березовую рощу, то выиграешь еще сто двадцать шагов, – все за месяц измерено. Длина дороги зависит от того, насколько у тебя сегодня тяжелая сумка.
Шел дождик, и, когда электричка ушла и стало тихо, я услышал, как капли стучат по листьям. Было пусто, словно поезд увез последних людей и я остался здесь совершенно один. Я спустился по лестнице на асфальтовую дорожку и привычно обошел лужу. Я слышал свои шаги и думал, что эти шаги старше меня. Наверное, я устал, и жизнь у меня получалась не такой, как хотелось.
Я возвращался так поздно, потому что заезжал к Валиной тетке за лампой синего света для Коськи, только в четвертой по счету аптеке отыскал шиповниковый сироп, должен был купить три бутылки лимонада для Раисы Павловны, не говоря уже о колбасе, сыре и всяких продуктах – там двести граммов, там триста, – вот и набралась сумка килограммов в десять, и хочется поставить ее под сосну и забыть.
Я сошел с асфальтовой дорожки и пошел напрямик по тропинке через березовую рощу. Тропинка была скользкой, приходилось угадывать ее в темноте, чтобы не споткнуться о корень.
Я согласен бегать после работы по магазинам и потом почти час трястись в электричке, если бы в этом был смысл, но смысла не было, как не было смысла во многом из того, что я делал. Я иногда думал о том, как относительно время. Мы женаты полтора года. И Коське уже скоро семь месяцев, он кое-что соображает. И вот эти полтора года, с одной стороны, начались только вчера, и я все помню, что было тогда, а с другой стороны, это самые длинные полтора года в моей жизни. Одна жизнь была раньше, вторую я прожил теперь. И она кончается, потому что, очевидно, умирает человек не однажды и, чтобы жить дальше и оставаться человеком, нужно не тянуть, не волынить, а отрезать раз и навсегда. И начать сначала.
Я поскользнулся все-таки, чуть не упал и еле спас лампу синего света. Правый ботинок промок; я собирался забежать в мастерскую, но, конечно, не хватило времени. Я вошел в поселок, здесь горели фонари, и можно было идти быстрее. У штакетника металась белая дворняга и захлебывалась от ненависти ко мне. Это, по крайней мере, какое-то чувство. Хуже нет, когда чувства пропадают и тебя просто перестают замечать. Нет, все в пределах нормы, видимость сохраняется, тебя кормят, пришивают тебе пуговицы и даже спрашивают, не забыл ли ты зайти в мастерскую и починить правый ботинок. Так недолго и простудиться. Дальнейший ход мыслей довольно элементарен. Если я простужусь, то некому будет таскать из Москвы сумки.
Дача Козарина вторая слева, и за кустами сирени виден свет на террасе. Раиса Павловна сидит там и трудится над амбарной книгой, в которой записаны все ее расходы и доходы. В жизни не видел человека, который так серьезно относился бы к копейкам. И меня сначала поразило, что Валентина, такая беззаботная и веселая раньше, нашла с ней общий язык. Может, скоро тоже заведет амбарную книгу и разлинует ее по дням и часам?
Мы сняли эту дачу, потому что ее нашла Валина тетка. Дача была старой, скрипучей и седой снаружи. Раньше там жил профессор Козарин, но он года три как умер, и дача досталась его племяннице Раисе, потому что у профессора не было других родственников. Все вещи, принадлежавшие когда-то профессору, Раиса закинула в чулан, словно хотела вычеркнуть его не только из жизни, но и из памяти тоже. Не знаю, был ли у нее когда-нибудь муж, но детей не было точно. Коську она не любила, он ее раздражал, и, если бы не эта дружба с Валентиной, нам бы с Коськой несдобровать. Дача была небольшая: две комнаты и терраса. Не считая кухни и чулана. Раиса рада была бы сдать все, но комнату пришлось оставить себе – она развела огород, а за ним надо следить. Мы как жильцы Раису не очень устраивали, но у нее не было выбора – дача далеко от станции и от Москвы, ни магазинов, ни другой цивилизации поблизости нету, а Раиса заломила за нее цену, как за дворец в Ницце, и в результате, как разборчивая невеста, осталась ни с чем. Пришлось соглашаться на нас.
Я перегнулся через калитку, откинул щеколду и прошел по скользкой дорожке к дому, нагибаясь, чтобы не задеть сиреневых кустов и не получить холодного душа за шиворот. Раиса сидела за столом, правда, не с амбарной книгой, а с фармацевтическим справочником, любимым ее чтением. В ответ на мое «здравствуйте» она сказала только:
– Опять загулял?
Мне хотелось метнуть в нее три бутылки лимонада, как гранаты, но я поставил бутылки в ряд перед ней, и она рассеянно сказала:
– А, да, спасибо.
Так королева английская, наверное, говорила лакею, который принес мороженое. Тут вошла Валентина и изобразила радость по поводу моего приезда:
– А я уж волновалась.
Наверное, она могла отыскать какое-то другое приветствие, и все кончилось бы миром, но я-то знал, что она не волновалась, а блаженно вязала или дремала в теплой комнате, пока я тащился сюда, и думала о том, что вот кончится лето и ее тюремное заключение на даче и она наконец встретит своего принца. А может, даже об этом не думала. Она живет в спокойном, растительном состоянии и выходит из него только под влиянием неприязни ко мне.
– Гулял я. – Мне было любопытно следить за ее реакцией. – Выпили с Семеновым, потом хоккей смотрели.
Валентина скептически улыбнулась и облила меня волной снисходительного презрения. Глаза у нее были не накрашены, и оттого взгляд оставался холодным. А я стоял и учился ненавидеть эти тонкие пальцы, лежащие равнодушно на столе, и прядь волос над маленьким ухом. Это трудная школа – куда легче ненавидеть самого себя.
– Ты устал, милый, – сказала Валентина. – Настоялся в очередях?
– Да говорю же, что пил с Семеновым!
Как мне хотелось вывести ее из себя, чтобы потеряла контроль, чтобы вырвалось наружу ее настоящее, злобное и равнодушное нутро!
– Удивительно, – проскрипела Раиса, – юноша из хорошей семьи…
– Какое вам дело до моей семьи!
И я сразу представил себе, как они хихикают с Валентиной, когда моя супруга рассказывает ей, как мой отец пытался запретить мне жениться на Валентине. Он сказал тогда: «Ты ни копейки не заработал за свою жизнь и хочешь теперь, чтобы я кормил и тебя, и твою жену?» Потом, глядя в прошлое, я понял, что расчет Валентины был на нашу квартиру, на отцовскую зарплату и благополучную жизнь, ведь, когда отец сказал все это, она быстренько пошла на попятный. Она умело замаскировала свои мысли беспокойством о моем институте: «Тебе надо учиться, твои идеи бросить институт, уйти со второго курса, работать и снимать комнату не выдержат испытания. Нам будет трудно». Она отлично сыграла свою роль. Ей было нечего терять, разве только койку в общежитии. С ее внешними данными она могла выбрать квартиру получше нашей. И желающие были, я-то знаю.
Первые три-четыре месяца казалось, что стенок между нами не существует. Валентина работала, я работал, комнату мы нашли, и на вечерний я перешел без скрипа. Но тут в перспективе замаячил Коська, а когда Валентина ушла с работы и Коська материализовался, стало и в самом деле нелегко. Ей тоже. Она еще как-то рассчитывала на мое примирение с отцом, ради моего блага, как она объясняла, чтобы не платить за комнату и не ждать, что хозяйке надоедят ночные сцены, которые умел закатывать Коська, и она попросит нас покинуть помещение. Но я был упрям. Я тогда начал догадываться о ее игре, вернее, ее проигрыше, но все на что-то надеялся.
– Мне нет никакого дела до вашей семьи, – поджала губы Раиса. – Я имею в виду ту семью.
Другими словами, до моей – этой – семьи ей дело есть. Хороший стандартный союз двух гиен против одного зайца.
– Как Коська? – спросил я, чтобы не заводиться.
– Спит, – сказала Валентина и поджала губы точно как Раиса. Валентина легко поддается влияниям.
Раиса поднялась, собрала бутылки и, прижав их к животу книгой, поползла к себе. Вообще-то террасу она нам сдала и получила за это деньги, но предпочитала проводить время на ней.
Я заглянул в комнату к Коське. Сын спал, и я поправил на нем одеяло. Коська ни на кого не похож, и поэтому те, кто хочет сделать мне приятное, уверяют, что он моя копия, а Валентинины тетки и подруги повторяют на все лады: «Валечка, какое сходство! Твой носик, твой ротик! Твои ушки!»
Ребенку, говорят, плохо расти без отца. Хорошо бы, Валентина согласилась, когда мы разведемся, оставить Коську со мной. Я знал, что мать согласится получить меня обратно с сыном. Она его любит. Она из тех, кто считает Коську моей копией. Да и Валентине он не нужен – грустное свидетельство жизненного просчета. Когда она наконец отыщет свое счастье, у нее будут другие дети. Мне больше ничего не надо. Я поймал себя на том, что думаю о разводе как о чем-то решенном.
– У тебя ботинок промок? – с издевкой спросила Валентина, входя за мной. – Ты ведь к сапожнику не успел?
– Угу, – сказал я, чтобы не ввязываться в разговор. Я был весь накален внутри, нервы плавились. Сейчас она найдет способ побольнее упрекнуть меня в бедности.
Она нашла.
– Знаешь, Коля, – сказала она лицемерно. – Пожалуй, я обойдусь без плаща. Мой старый еще в норме. А ботинки тебе нужнее.
Я поймал ее взгляд. Глаза были холодными, издевающимися. Слова хлынули мне в горло и застряли клубком. Я закашлялся и бросился к двери. Валентина не побежала за мной, и я ясно представил, как она стоит, дотронувшись пальцем до острого подбородка, и загадочно улыбается. Удар был нанесен ниже пояса, запрещенный удар.
Был уже одиннадцатый час, и, хоть назавтра намечалась суббота, когда можно понежиться, я решил лечь пораньше. Устал. Лечь я могу на террасе, как всегда, все равно Валентина в комнате с Коськой, на случай перепеленать его, когда проснется. Но надо было идти в комнату за бельем и подушкой. А этого делать я не хотел. Мог сорваться. Поэтому я достал «Коррозию металлов» – увлекательное чтение в таком настроении – и принялся за книгу. Валентина вскоре заглянула в щелку и спросила шепотом (Коська что-то возился во сне), буду ли я пить чай. Я на нее зашипел, и она спряталась. Я понял: Валентина что-то задумала, иначе бы давно оказалась на террасе и мурлыкнула бы раза два, чтобы привести меня в смирное состояние. Пока, до осени, я ей нужен. Таскать сумки и угождать по хозяйству.
Скоро двенадцать. Заскрипела в дальней комнате кровать Раисы, хозяйка укладывалась, ей рано вставать – кур кормить. У меня слипались глаза. Ни строчки я не запомнил из «Коррозии». У меня в душе коррозия, это я понимал. И понимал еще, что в двадцать один год можно начать жить снова. Валентина тоже не ложилась. Она планировала новые унижения для меня, ждала, когда я не выдержу и приду за подушкой. Нет уж, не дождешься. Я посмотрел на свою ладонь – она была в крови. Значит, убил комара и сам этого не заметил. Дождик стучал по крыше, и ему вторил ровный шум струйки воды, сливавшейся с водостока в бочку у террасы. Мне даже нечем было накрыться – пиджак, еще не высохший, висел где-то на кухне над плитой. Взять, что ли, скатерть со стола? А почему бы и нет? Могу же я доставить утром удовольствие Раисе, когда она сунется на террасу и увидит, как я использовал рыночное произведение искусства с четырьмя оскаленными тигровыми мордами по углам. Я поставил пустую тарелку и прочую посуду на пол и только взялся за угол скатерти, как Валентина подошла к двери – мне слышен каждый ее шаг, особенно ночью. Я успел раскрыть книгу.
– Коля, – сказала она тихо, – ты занят?
– Я работаю, – отрезал я. – Спи.
Наверное, я потом задремал за столом, потому что очнулся вдруг оттого, что дождь кончился. И было очень тихо, только шелестели шаги Валентины за дверью. «Как она ненавидит меня!» – подумал я почти спокойно. Большая ночная бабочка билась о стекло веранды. Я бесшумно шагнул к дивану и, не погасив света, тут же заснул.
Проснулся я довольно рано, хотя Раиса уже беседовала со своими драгоценными курами под самой верандой. Было солнечное и ветреное утро, скрипели стволы сосен, и в углу веранды жужжали осы. Я не сразу понял, почему я сплю вот так, словно на вокзале. Первые несколько секунд у меня было отличное настроение, но тут квантами стали возвращаться мысли и слова вчерашнего вечера, и я сбросил ноги с дивана – мне не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел меня. В комнате было тихо, я заглянул туда. Семья спала. Только Коська делал это безмятежно, а Валентина – сжавшись в комок и спрятав голову под одеяло, – даже во сне она избегала моего взгляда.
Я взял полотенце и зубную щетку и спустился в сад, к умывальнику, висевшему на стволе сосны. Пока я мылся, Раиса неслышно подкралась из-за спины и прошептала:
– Сладко спите, голубки, без молока останетесь.
Она не здоровается, и я не буду. Но в ее ехидной фразе был здравый смысл. За два дома жила бабка Ксения, у которой мы брали молоко. Я, не говоря ни слова, подхватил с террасы бидон и пошел к калитке. Я шел и удивлялся себе: я был спокоен. И не мог сразу понять причины своего спокойствия. И только когда возвращался обратно, понял, в чем дело: оказывается, пока я спал, принял решение. Как будто решил во сне задачу, которую не мог решить несколько дней подряд. Сегодня я поговорю с Валентиной. И скажу ей все. Так можно откладывать разговор на годы. Есть семьи, в которых кто-то тоже откладывает такой разговор. Год откладывает, два, пять, а там уже поздно.
Валентина уже вскочила. Она звенела посудой на кухне и, услышав, как я поднимаюсь по лестнице на веранду, крикнула оттуда:
– Молодец, что про молоко догадался!
Расшифровать эти слова было легче легкого. Значит, Раиса сообщила, что без ее напоминания я оставил бы ребенка без молока.
Сначала я хотел сказать о разводе прямо за завтраком и даже придумал первые слова, но испугался, что Валентина примет мои слова с полным равнодушием – это она умеет – и скажет только: «Пожалуйста». Мне хотелось, чтобы она почувствовала то, что чувствую я, хотя бы пять процентов от этого. И я старался держать себя за завтраком в норме, и, когда Валентина рассказывала мне, как Коська вчера отвертел пупсу голову, я послушно улыбался.
– Ты сыт? – спросила Валентина, допивая кофе.
– Разумеется, – ответил я и потянулся за «Коррозией металлов». Она намекала на то, что я съедаю больше, чем зарабатываю. Кроме того, в любой момент она могла спросить, хорошо ли я провел ночь. «Коррозия металлов» нужна была мне как ширма. Мне надо было сообразить, когда начать разговор.
– Коль, – сказала Валентина, – у меня к тебе есть серьезное дело. Только не обижайся.
У меня оборвалось и упало сердце. Я никак не предполагал, что Валентина опередит меня. Неужели она нашла себе нового принца? Может, с помощью Раисы Павловны, услужливой старшей подруги? Почему я сам не заговорил до завтрака!
– Да, – буркнул я равнодушно. Мне казалось, что у меня шевелятся волосы, – так метались в голове мысли.
– Я обещала Раисе Павловне, – продолжала Валентина, – сделать одну вещь. Мы ей многим обязаны… ну, в общем, ты понимаешь…
Я ничего не понимал. Я сжался, как собака перед ударом, но при чем здесь Раиса?
– Ты знаешь, что ей трудно нагибаться, а она хочет сдать чулан. Если пробить в нем окно, он станет неплохой комнатой.
– Ну и пускай сдает, – ответил я автоматически. Это был какой-то очередной заговор, но, пока я не раскушу его, лучше не сопротивляться. – Она скоро и чердак сдаст. И пустую собачью конуру.
– Раиса просила вытащить из чулана старые профессорские журналы и бумаги, потом, там два сундука и еще какая-то рухлядь. Она мне показывала.
Я мог бы сказать, что должен заниматься. Я мог бы даже сказать, что имею право хоть раз в неделю отдохнуть. Но я растерялся. Ведь я готовился к другому разговору.
– Как хочешь, – сказал я.
– Ну вот и отлично.
В чулане пахло кошками. В маленькое окошко под потолком пробивался луч солнца, и в нем важно плавали пылинки. Бумаги были связаны стопками, журналы грудами возвышались в углах и на ящиках.
Сзади возникла Раиса и сказала, хотя никто не просил ее:
– Все ценное я в институт отдала. Приезжали из института. Я отдала безвозмездно.
Ей понравилось последнее слово, и она повторила:
– Безвозмездно.
– За некоторые книги в букинистическом вам бы неплохо заплатили, – заметил я.
Она не уловила иронии и сразу согласилась, словно сама об этом жалела:
– Тут была масса книг, и некоторые из них старые, ценные. У профессора была изумительная библиотека.
Валентина надела пластиковый передник и косынку. Она вошла в чулан первой, и луч света зажег ее волосы. Ну почему у нас не получилось? Почему кто-то другой должен любоваться ее волосами?
– Бумагу и журналы складывайте у кухни, – напомнила Раиса.
Валентина не ответила. Видно, была информирована об этом заранее.
– Я уже договорилась со старьевщиком. Он приедет за макулатурой на грузовике, – сообщила Раиса.
Они и не сомневались, что я потрачу субботу на черный труд. Мое согласие было пустой формальностью.
Валентина наклонилась и передала мне первую пачку журналов. Я отнес их в сад и положил на землю. Журналы были немецкие, кажется, «Биофизический сборник» десятилетней давности. Я подумал, как быстро человек исчезает из жизни. Как быстро все забывается. Эти журналы стояли на полках рядом с книгами, и человек по фамилии Козарин, которого я никогда в жизни не видел даже на фотографии, подходил к этим полкам, и содержимое этих журналов было отпечатано у него в мозгу. Я открыл один из журналов наугад и увидел, что на полях расставлены восклицательные знаки и некоторые строчки подчеркнуты. Существовала стойкая обратная связь между жизнью Козарина и жизнью этих статей. И наверное, эти журналы и еще большие кипы бумаги, исписанные самим Козариным, потеряли выход к людям, как только не стало самого профессора. Вот сейчас приедет старьевщик и заберет их, чтобы потом их перемололи и напечатали на чистой бумаге новые журналы, каждый из которых прилепится к какому-то человеку, срастется с ним и, вернее всего, умрет с ним. Три года назад на этой даче существовал замкнутый мир, построенный Козариным за многие годы. Теперь мы с Валентиной дочищали остатки его, чтобы новый, Раисин, безликий и маленький мирок полностью восторжествовал здесь. И я подумал, что обязательно, когда буду в Ленинке, загляну в каталог: что же написал, что придумал сам Козарин, есть ли ниточка, которую мы обрываем здесь и которая обязательно должна тянуться в другие места и в другое время?..
– Коля, – позвала Валентина и вернула меня на землю, где от меня, наверное, не останется никакой ниточки. – Ты куда пропал?
Раиса возилась на кухне, я думаю, чтобы поглядывать, не украду ли я по дороге килограмм-другой макулатуры. Я спросил ее, проходя:
– А Козарин кто был по специальности?
– Профессор, – ответила она простодушно.
– Профессора разные бывают. Химики, физики, историки.
– Ну, значит, физик, – сказала Раиса, и я ей не поверил. Просто слово «физик» звучало для нее уважительнее.
Валентина уже вытащила из чулана несколько пачек, и мне оставалось лишь проносить через кухню, и я краем глаза поглядывал на Раису, и мне казалось, что она шевелит губами, подсчитывает число пачек, чтобы потом занести никому не нужную цифру в амбарную книгу.
Так мы и работали около часа. Раз мне пришлось оторваться и сбегать к Коське, но вообще-то он вел себя в то утро очень благородно, будто предчувствовал наступление решительного момента и старался быть на высоте.
Валентина вымела пыль, и мы принялись за сундуки. Разумеется, Раиса уже прошлась сквозь них частым гребешком, а потом сваливала в беспорядке туда все, что для нее не представляло коммерческого или хозяйственного интереса. В сундуках лежали вперемешку старые дырявые ботинки, битые чашки, тряпье, книги без начала и конца, но главное – масса обрывков проводов, проволоки, гаек, шурупов, коробочек с диодами, обломков печатных схем и, что совсем уж странно, два тщательно сделанных макета человеческого мозга, исчерканных и даже проткнутых кое-где булавками.
– У профессора было хобби, – сказал я. – Какое – неизвестно.
Раиса, которая все слышала, тут же отозвалась из кухни:
– Вы не представляете, в каком я застала все состоянии. Дача была абсолютно не приспособлена для жилья. Банки, склянки и проволочки. Еще было много целых приборов, но эти, из института, с собой увезли. Целую машину.
Тогда ты боялась, была не уверена в своих правах. Еще бы, целая дача в наследство. Теперь бы так просто не отдала. Но вслух я выражать свое мнение не стал.
Мы вытаскивали барахло на улицу, пока сундуки не стали достаточно легкими, потом протащили их через кухню. Снаружи уже возвышалась гора макулатуры, и вид у нее был жалкий – в чулане это не так чувствовалось. Потом я выволок из чулана последние мешки и коробки, Валентина взяла мокрую тряпку, чтобы стереть пыль, а я задержался в саду, потому что вдруг захотелось поразмышлять о бренности человеческого существования. Но ничего из этого не вышло, размышления по заказу у меня не получаются. Вместо этого я вспомнил о том, что подходит решительный момент, а я почти забыл о нем, потому что не хотел о нем помнить, и за этот час или два, пока мы чистили авгиев чулан, Валентина умудрилась ни разу не напомнить мне о грустной действительности.
Я вытащил из груды хлама толстый обруч с выступами, словно зубцами короны, и подумал, что раньше, найдя такую штуку, я обязательно придумал бы что-нибудь веселое и короновал бы Валентину, как царицу Тамару. Теперь она таких шуток не понимает. Ну что же, можно короноваться самому – царь дураков и простофиль!
Я вернулся на террасу, туда, где придется начинать разговор. И наверное, теми же словами, как начала недавно Валя: «У меня к тебе есть серьезное дело». Ненавижу такие разговоры. К хорошему они не ведут. Но я и не надеялся на хорошее. Сейчас войдет Валентина.
Я испугался, что она войдет, и тут же появилась спасительная мысль – надо умыться. Я бросил обруч на диван и долго полоскался под тонкой струйкой из зеленого умывальника на сосне. Потом я увидел, что к умывальнику спешит Валентина с полотенцем в руке, и вернулся на террасу. Ну, сказал я себе, пора. Все случилось именно потому, что ты слишком долго был тряпкой. Хватит.
Я услышал, как скрипят ступеньки под ногами Валентины. Мне некуда было деть руки. Я взял обруч. Валентина подошла поближе, и я отодвинулся на шаг.
– Что это у тебя? – спросила она.
«А что, если Раиса услышит? – подумал я. – Нельзя же говорить при Раисе». Это был замечательный предлог, чтобы потянуть с разговором, но, как назло, Раиса промелькнула перед террасой и направилась к калитке. Она наверняка спешила поторопить старьевщика. Отступать было некуда.
– Что это? – повторила Валентина.
– Корона царицы Тамары, – сказал я. – Или царя Соломона. Все равно.
И я надел обруч на себя, а мой язык уже начал произносить подготовленные и тщательно отрепетированные за утро слова:
– Валя, у меня к тебе серьезное дело…
И в этот момент я замолчал. Я не слышал, что ответила Валентина, потому что меня не стало. Это было странное мгновенное чувство исчезновения. У меня сохранились ощущения, во мне были образы и мысли, но это все не имело ко мне ровным счетом никакого отношения. Описать это невозможно, и я клянусь, что ничего подобного не испытывал никто из людей. За исключением, наверное, Козарина.
Я анализировал эти свои необыкновенные ощущения потом. В мозгу человека миллиарды нервных клеток, у каждой свои дела и свои задачи. И наверное, среди них есть сколько-то таких, что ничего не делают, но ждут своего момента, в который мозгу приходится сталкиваться с настолько новыми ощущениями, что обычным рабочим клеткам с этим не справиться. И они, как детективы, бросаются на выручку, схватывая и отбрасывая различные возможности, перебирая варианты, пока не найдут тот единственный, верный выход, который можно сообщить остальным клеткам. Если не так, то почему же после первых мгновений паники мой мозг узнал, что со мной случилось?
Я увидел, узнал, услышал – называйте как хотите, – что творится в голове у Валентины. Если вы думаете, что я прочел ее мысли, это будет неверно. Мыслей я не читал. Просто я оказался внутри Вали, и то, что в описании занимает немало строк, стало моим достоянием мгновенно…
Был страх, потому что Николай, который с вечера нервничал, места себе не находил, наконец решился на что-то ужасное, что потом уже не исправишь. И его слова о серьезном разговоре, и то, как дрожат его руки, когда он напяливает на себя этот обруч… Он скажет, он обязательно должен сказать, что так больше жить нельзя, что он уйдет. И он, конечно, по-своему прав, потому что с самого начала было понятно, что он будет несчастлив. Он ведь как мальчишка, не может смотреть в будущее. И тогда не смог, вернее, не захотел. Когда случился тот разговор с отцом и ясно стало, что родители не одобряют, вот тогда нужно было уйти от него, уехать, завербоваться куда-нибудь на стройку. И не было бы трудностей, таких страшных трудностей для Коли. Как только он тянул все эти месяцы! И ведь еще учился – похудел и издергался. Как она посмела навесить на шею любимому человеку такой груз – себя и Коську. Ой, если бы он чуть-чуть еще подождал, ведь осенью Коську устроили бы в ясли на пятидневку и она пошла бы работать. Но поздно. Потому что Колина любовь умерла, да и не сейчас умерла, а еще весной или зимой. Вот руки, обычные руки, даже не очень сильные, а можно смотреть часами на них, знать на ладони каждую морщинку и мечтать о том, чтобы нагнуться к ним и положить голову. И нельзя, потому что она так виновата перед ним: не хватило силы отказаться от счастья. А вся жизнь тогда складывалась из маленьких и больших чудес. Было чудом идти с ним в кино и знать, что в буфете он купит ириски «Забава» и будет давать ей по штучке, и каждый раз его рука будет задерживаться на ее ладони. Было чудом бежать в соседнюю комнату общежития и за большие услуги в будущем выпрашивать черное платье у Светки, потому что Коля купил билеты на французского певца, и потом сидеть в очереди в парикмахерской и смотреть на часы, а времени остается всего ничего, и можно опоздать, хотя Коля ничего не скажет. И было главное чудо, о котором даже нельзя рассказать никому в общежитии, а то оно растает. Ну почему она не сумела вовремя спасти Колю от себя самой? Он ведь гордый, он не отказался бы сам от своего слова. А она женщина. А женщина всегда старше мужчины, если и мужчине, и женщине нет двадцати лет. Его старики не полюбили ее. Если бы она была другая – студентка, москвичка, может, все было бы иначе. Ему и нужна другая. Как глупо вспоминать теперь, что она старалась понравиться отцу и мыла окна, когда ее не просили об этом, и все было невпопад и только раздражало! И она видела, что раздражает, но ничего не могла с собой поделать… А потом у Коли пропало все. Высохло, как ручей в засуху. Остался долг. Коля совестливый. Ему давно бы уйти. Он будет Коське помогать, он добрый. Как она устала за это лето! Не только физически, это не главное. Устала держать себя всегда в руках, не срываться, не напрашиваться на любовь, которую не могут дать. Как он обиделся вчера, когда она сказала, что надо купить ботинки, а плащ подождет! Не надо было так говорить, но вырвалось. Ей и в самом деле не нужен плащ, когда есть старый. Коля должен быть хорошо, красиво одет. Ведь он бывает в гостях, у друзей, заходит к своим родителям. И никто не должен знать, что ему трудно с деньгами, что дача сожрала все на два месяца вперед. Хорошо еще, удалось уговорить тетку, чтобы Коля не узнал, сколько она стоит на самом деле. А сто недостающих рублей она наскребла. Коля пока не заметил, что она продала сапоги и зеленую кофту. Это пустяки. Ей не перед кем красоваться. Еще очень страшно всегда, что Коля может подумать, будто она укоряет его за малый заработок. Он так может подумать из гордости. Ну и что, если у него нет еще специальности? Ведь она скоро пойдет работать, а там и институт он окончит, это все такие пустяки, хотя поздно об этом думать. Он так много работает и занимается. Ведь она знает, что ни с кем он не пьет и почти всех друзей растерял. И вчера сидел занимался до полуночи. А у нее так зуб болел, хоть умри, а аспирин на террасе. Она сунулась было туда, но испугалась помешать. Он был раздраженный, усталый, лучше потерпеть. Наверное, раньше бы она так не подумала – пустяки какие: войди и возьми таблетку, но уже давно она как будто висит над пропастью, и слабнут руки, а внизу река. Зуб болел, она ходила по комнате на цыпочках, на Костика смотрела, на маленького Колю, и все ей хотелось, чтобы Коля вошел и положил ей руки на плечи. Хотя она знала, что не войдет. Она пыталась вязать. Она ненавидела это вязание, но надо же как-то зарабатывать, помогать Коле. Раиса устроила своей знакомой платье. Раиса такая корыстная, что наверняка с двадцати рублей за вязание пятерку себе за труды присвоила. Но с ней все просто. Она плохой человек, но хорошим не притворяется. С ней напрямик можно. Когда просила чулан разобрать, пришлось ей прямо сказать, что не в подарок. Договорились, что можно будет клубникой и другими ягодами с ее огорода бесплатно пользоваться. Для Костика, конечно. И очень неловко было идти к Коле. Она под утро вставала, поцеловала его в щеку, а он во сне нахмурился. Он весь уже против нее настроен, все тело его возмущается. И об этом она тоже старалась поменьше думать, потому что до последнего момента, пока Коля не сказал про серьезный разговор, она надеялась дотянуть до осени, как будто это спасительный рубеж, берег, до которого надо доплыть. А ведь сама понимала, что себя обманывает. Черепки как ни складывай, чашка не получится. А когда он в чулане трудился, ей показалось, что его неприязнь к ней прошла на время. И ей даже петь захотелось. И снова себя обманывала. Может, взять Костика и уехать с ним, а потом прислать письмо: «Я тебя, дорогой, всегда любить буду, но не хочу быть обузой». Ведь не пропадет же она. А сейчас уже поздно. Он сам ее выгонит. И будет прав. Бедный мой Колька, мальчишка мой упрямый. Что с ним?..
Я потом понял, что все это продолжалось мгновение, ну, от силы две-три секунды, потому что Валя заметила, что я пошатываюсь, что я отключился, и бросилась ко мне, а я упал, и обруч скатился на диван.
Я пришел в себя сразу же, и глаза Валентины были близко, она так напугалась, что сказать вслух ничего не могла. У нее дрожали губы. Это литературное выражение, и я раньше никогда не видел, чтобы у людей в самом деле дрожали губы. Голова у меня кружилась, но я все-таки сел на полу, потом встал, опираясь на ее руку. У нее тонкая и сильная рука. И я держал ее за пальцы и думал, что ее пальцы жесткие от постоянной стирки.
– Ничего особенного, – сказал я. – Уже прошло. Честное слово.
– Ты переутомился, посиди, пожалуйста.
От страха за меня она потеряла способность владеть собой, она готова была залиться слезами и прижаться ко мне. И хотя я не знал уже ее мыслей и никогда в жизни не надену больше этот обруч (завтра же отвезу его в институт), я продолжаю читать их. И я испугался, что она заплачет, что она сломится так вот, сразу, а до этого допускать нельзя – на ближайшие пятьдесят лет у меня четкая задача: ни разу не допустить, чтобы этот глупый ребенок заревел. Пускай ревут другие. И тогда мне пришла в голову вредная мысль, это со мной бывает, если мне хорошо и у меня отличное настроение. Я сказал, не отпуская ее пальцев:
– Так я говорю, что у меня к тебе серьезный разговор.
Пальцы, которые жесткими подушечками осторожно притрагивались к моей ладони, сразу ослабли, стали безжизненными.
– Да, – сказала она детским голосом.
– В четверг твоя тетка приедет?
Я разглядывал Валентину, будто только вчера с ней познакомился. Она не посмела поднять глаза.
– Обещала.
– Давай уговорим ее остаться ночевать. А я возьму билеты на концерт или в кино. Мы же тысячу лет нигде с тобой не были.
– Лучше в кино, – сказала она, прежде чем успела осознать, что я сказал.
А потом вдруг бросилась ко мне, отчаянно вцепилась в рукава рубашки, прижала нос к моей груди, словно хотела спрятаться во мне, и заревела в три ручья.
Я гладил ее плечи, волосы и бормотал довольно бессвязно:
– Ну что ты, ну перестань… Сейчас Раиса придет… Не надо…
Терпение и труд
Коля Широнин застрял в двери вагона, и рыбаки, которые боялись, что поезд тронется, толкали его в спину и негодовали. Коля прижимал мотор к груди, и тот все время норовил свалить его вперед. Рюкзак тянул назад и уравновешивал. Это еще можно было вытерпеть, если бы не сложенная тележка, наподобие тех, с которыми бабушки ходят по магазинам, но побольше, усовершенствованная. Тележка висела через плечо, клонила Широнина влево и всюду застревала.
Когда Коля оказался наконец на крупном речном песке, устилавшем площадку перед бревенчатым зданием станции, он долго стоял, пошатываясь и стараясь восстановить равновесие. Вокруг летали по воздуху палатки, рюкзаки и спиннинги, метались люди в ватниках, брезентовых куртках и резиновых сапогах. Поезд стоит в Скатине минуту, а из каждого вагона хотело выйти человек по двадцать, не меньше.
Отдышавшись, Коля разложил тележку и привязал к ней мотор и рюкзак. Поезд уполз дальше, как будто отодвинулся театральный занавес. Вместо зеленых вагонов обнаружилось пологое, стекающее к Волге поле, живописно уставленное купами деревьев, деревнями с разложенными между ними коричневыми и салатными одеялами весенних полей. Рыбаки и туристы спешили туда, за железнодорожный путь, к базе «Рыболов-спортсмен», к воде и далекому лесу. Коля не без труда приподнял ручку тележки и поволок тележку за собой в другую сторону, вдоль полотна, к железнодорожному мосту, у которого надо было свернуть в лес, по берегу речки Хлопушки, к деревне Городище.
Дорога была неровной, она прерывалась широкими грязевыми преградами, посреди которых текли к Хлопушке мутные ручьи. Тележка завязала на каждой переправе, Широнин, вытащив ее на сухое место, присаживался отдохнуть, а мимо пролетали на мотоциклах местные ребята. По Хлопушке наперегонки с мотоциклами спешили моторки, и Широнин на слух определял, какие на них моторы и что в моторах не в порядке. На моторках стояли большей частью «Ветерки», реже на «казанках» ревели «Вихри». Речка была самым верным и легким путем от станции к деревням, стоявшим по Хлопушке, но у бабушки нет моторки, к тому же она не знает, когда приедет Коля.
Широнин тянул тележку, как древний раб камень на строительство пирамиды Хеопса, и старался думать о посторонних вещах – например, почему дорога становится все уже, чем дальше отходит от станции, хотя от нее нет никаких ответвлений, или почему вода не хочет стекать вниз, к реке, а хлюпает под ногами. Или что скажет бабушка, когда он приедет. Она его ждет, но сделает вид, что страшно поражена и по поводу такой радости она может помереть спокойно. Бабушке было семьдесят шесть лет три года назад. В прошлом году тоже было семьдесят шесть…
Потом Широнину попалась мелкая на вид, но предательская лужа, похожая на океанскую впадину Тускарору, тележка завалилась набок, и мотор чуть не упал в воду. Пришлось пожертвовать собой и залезть в грязь чуть ли не по пояс. Тогда Коля дал себе торжественную клятву, что, как только дотащит мотор до дома, тут же испытает его, запрет в сарай и никогда в жизни сюда не вернется. Хватит. Он пытался выжать брюки, и бурая жижа потекла на ботинки. Разумный человек, думал Широнин, не покупает мотор неизвестной марки и не мчится сломя голову к воде.
На другом берегу Хлопушки была деревня Городище. Коля спустился к самой реке и крикнул. С того берега никто не откликался, хотя там какие-то люди красили лодку, а под большой ольхой у бани дремали рыбаки. Но в конце концов Колю узнал по голосу Сергей и перевез на своей лодке. По дороге Сергей успел рассказать, что ему в Калинине сделали новый протез, Глущенки продали свой дом, а Клава-бригадирша купила щенка охотничьей породы. Еще он спросил Колю, как его успехи в учебе и правда ли, что он отличник, первый в школе. Коля понял, что эти порочащие его слухи распространяет в деревне бабушка, и ответил, что успехами не блещет, а учиться ему осталось еще год и два месяца.