Другой класс бесплатное чтение
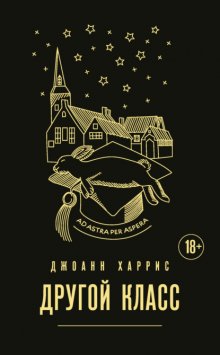
Joanne Harris
A DIFFERENT CLASS
Серия «Магия жизни»
© Frogspawn, 2016
© Тогоева И., перевод на русский язык, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2017»
Посвящается моим «Броди Бойз»:
вы и сами знаете, кто вы такие
Пролог
Сентябрь 1981
Дорогой Мышонок!
Несколько забавных фактов, имеющих отношение к убийству: для уничтожения таких улик, как, например, брызги крови, можно воспользоваться колой, ибо содержащиеся в ней аскорбиновая кислота и соли угольной кислоты полностью растворяют кровь, не оставляя ни малейших следов.
Нет, убийство я пока не планирую. Но в целом тема очень интересная. Куда интересней тех предметов, которые мне предстоит изучать в этом триместре – математики, латыни, английского, французского. Вообще-то, английский мне даже нравится, вот только список литературы[1] для самостоятельного чтения просто ужасен: «Убить пересмешника»; Чосер; Барри Хайнс[2]. И еще, разумеется, Шекспир. Вечно этот Шекспир! Почему бы вместо него не предложить для разнообразия что-нибудь забавное? Что-нибудь остренькое?
И все-таки сегодня, Мышонок, ты мог бы мной гордиться. Я ничем себя не выдал. Никогда не болтай лишнего, никогда не плачь и никогда себя не выдавай – и тогда все у тебя в школе будет нормально. Ну и еще, конечно, надо стараться выглядеть крутым. И тогда ни у кого даже подозрений не возникнет, что я способен вести дневник. Вести дневник – это совсем не круто. Такими вещами занимаются только девчонки да маменькины сынки. И потом, дневник может все про тебя выболтать, может выдать тебя, именно поэтому я и собираюсь записывать разные свои мысли в таком дневнике, куда мои родители никогда даже не заглянут. Это будет новенький, только сегодня утром, в первый день осеннего триместра, выданный мне дневник ученика приготовительного класса школы «Сент-Освальдз». Таким образом, я стану тайно записывать свою историю, как бы одновременно оставляя ее у всех на виду, – примерно так можно спрятать труп на кладбище.
Родители в мой школьный дневник действительно никогда не заглядывают, разве что в самый конец, где красными чернилами выставлены оценки. Там почти всегда, словно ряд палаток, высятся высшие оценки: ААА. И пока там стоят эти «палатки», мне беспокоиться нечего. А уж наш классный наставник листать мой дневник точно не станет. Это я знаю наверняка. Наш классный – это мистер Стрейтли. Его школьное прозвище Кваз (от Квазимодо) – уж больно он похож на горгулью, да и классная комната у него на самом верху, в башне, под колокольней. Его вроде бы в шутку так прозвали, но мне эта «шутка» смешной вовсе не кажется. На самом деле мистер Стрейтли меня даже немного пугает. Так что вряд ли он мне когда-нибудь понравится.
В моей старой школе, «Нетертон Грин», классной наставницей у нас была мисс Макдональд, молодая, светловолосая и очень хорошенькая; она носила индийские юбки и короткие сапожки. А мистер Стрейтли носит мантию, как и все здешние преподаватели, только у него она вечно в пыли и мелом перепачкана. Учеников он называет только по фамилии. И все мы здесь друг друга только по фамилии называем. Это одно из правил школы «Сент-Освальдз». А еще, согласно здешним правилам, нельзя бегать по коридорам и нужно следить, чтобы рубашка была обязательно заправлена в штаны.
Родители мне твердят, что на этот раз очень важно, чтобы я соблюдал все правила этой школы. Что «Сент-Освальдз» – это для меня начало карьеры. Что это совсем не «Нетертон Грин», а начало новой жизни. И это означает – никаких неприятностей и никаких хулиганских выходок. Никакого общения с дурной компанией. Никаких острых предметов. Никаких предосудительных игр. И всегда полное соблюдение школьных правил.
Ну, всех-то правил этой школы я, конечно, не знаю. В конце концов, у нас, учеников седьмого класса, впереди еще целых два года на то, чтобы спокойно вписаться в число тех, кто готовится к экзаменам на A-level[3], нормально успевать в классе, завести друзей, присоединиться к одной из спортивных команд – в общем, научиться вязать паруса. Это, между прочим, морской термин. Мой отец очень любит морскую терминологию. Вообще-то, раньше он хотел, чтобы я стал морским офицером, но служить на флоте я не могу в связи с Моим Состоянием. (Да, Мышонок, они называют это именно так: Мое Состояние.)
Мое Состояние означает, что некоторые вещи мне дома делать никогда не позволят. Мое состояние определяет и круг детей, с которыми мне можно дружить, и те игры, в которые мне можно играть; с ним связан даже выбор школы, в которой я теперь учусь. Собственно, мой отец предпочел именно «Сент-Освальдз», потому что, как он считает, это школа церковная, имеющая строгий моральный кодекс, а я, по всей очевидности, именно в этом и нуждаюсь. Возможно, отчасти он прав. И потом, какая радость нарушать школьные правила там, где они ничего не значат? В любой школе запрещается бегать по коридорам, так что на подобный запрет и внимания обращать не стоит. Это сущая ерунда. Если хочешь по-настоящему повеселиться, нужно нарушить куда более серьезные запреты.
О, тут, конечно, самое главное – никогда не попадаться! Нарушать правила весело до тех пор, пока тебя не прищучили. А это значит, что никогда и никому ничего нельзя рассказывать, даже своим лучшим друзьям, – впрочем, у меня-то их ни одного и нет. Во всяком случае, больше нет. Возможно, именно поэтому я и вываливаю все свои тайны тебе, Мышонок. Воображаемые друзья – как и друзья мертвые – ничего не разболтают. И никогда тебя не выдадут. Хотя было бы, наверное, неплохо найти единомышленника, разделяющего мои интересы. Такого же любителя нарушать правила, которому нравятся те же забавы, что и мне. Вот с ним мы бы от души повеселились. Как веселились когда-то с тобой в «Нетертон Грин».
Такой человек наверняка разделил бы со мной любую забаву. Например, убийство.
Часть первая
Agnosco veteris vestigial flammae.
Vergilius[4]
Глава первая
Классическая школа для мальчиков «Сент-Освальдз»
Осенний триместр, 7 сентября 2005
Ага, вот она вновь и возникла передо мной – школа «Сент-Освальдз», этакая метафора вечности, если, конечно, метафору можно увидеть наяву. Она вздымается, застилая горизонт, точно таинственный остров из какой-нибудь книги приключений «для мальчиков» – например, из Жюль Верна. Или, скажем, из Райдера Хаггарда, где злые туземцы постоянно подкрадываются к воротам Запретного Города. Островерхую школьную башню с колокольней можно увидеть еще с дороги; только в ней никогда не было колокола, и она служит излюбленным убежищем для голубей, а в последнее время еще и мышей. За башней тянется длинный хребет крыши над Средним коридором, где горит яркий свет, а чуть дальше виднеется освещенный фасад часовни, из круглого окна-розетки которой на обсаженную липами дорожку падают дрожащие, ускользающие лучи.
Наконец-то я дома, говорю я себе; эти слова звучат в моей душе и как благословение, и как проклятие.
Старый глупый дурак, тут же сердито упрекаю я себя, чувствуя, что этот внутренний голос до странности похож на голос моего коллеги и давнего противника доктора Дивайна по прозвищу Зелен-Виноград. Мне в День Гая Фокса[6] исполнится шестьдесят шесть, и брюхо мое, для которого в брюки требуется вдевать все более длинный ремень, уже успело поглотить аж сто два школьных триместра – так разве теперь что-то сможет удержать меня вдали от «Сент-Освальдз»?
А и впрямь, что? Хороший вопрос. Пожалуй, работа для меня стала чем-то вроде наркотика. Однако она помогает мне жить дальше – как и время от времени выкуренная тайком, прямо в классе, сигарета «Голуаз». Как и те пилюли «от сердца», которые мне прописал мой лечащий врач после небольшой прошлогодней неприятности; он же заодно снабдил меня множеством совершенно лишних советов насчет курения, стрессов и чрезмерного увлечения кондитерскими изделиями.
Этот врач тоже когда-то был моим учеником (в нашем районе Молбри, именуемом Деревней, они прямо-таки кишат), и поэтому мне сложно всерьез воспринимать даже самые разумные его советы, хотя он и дает их от всего сердца, искренне желая помочь. Я это понимаю и изо всех сил стараюсь ему не перечить. Но стрессы – неизбежная составляющая преподавательской работы. И потом, во что превратится наша старая школа без меня? Тридцать четыре года я прослужил на этом корабле. Я знаю его вдоль и поперек. Я был там учеником и учителем; юным практикантом и классным наставником; я заведовал кафедрой классических языков, а теперь превратился в Старого Центуриона[7]. Так что даже если начальству что-то и не нравится в моих методах преподавания, то его желание сместить с должности старого Стрейтли равносильно попытке сбить с крыши нашей часовни одну из горгулий; впрочем, у начальства всегда хватало ума со мной не связываться. В прошлом году я оказал школе одну услугу – тот год, имевший столь многообещающее начало, в итоге стал поистине annus horribilis[8], – а затем мои ученики показали на экзамене по латыни самые высокие результаты с 1989 года. Хотя, признаюсь, в тот момент я был весьма близок к тому, чтобы сложить руки и сдаться. Но тут на школу обрушились все эти беды – убийство, скандал, обман, мошенничество, – и наш старый корабль буквально швырнуло на скалы. Разве мог я бросить «Сент-Освальдз» и его разложившуюся команду, оставить ее на растерзание падальщикам?
И вот я снова здесь; и за два дня до официального начала занятий я поливаю в своем классе цветочки и привожу в порядок рабочий стол (во всяком случае, именно такова была моя первоначальная цель) – в общем, планирую военную кампанию ближайшего года с коварством и точностью мудрого императора Марка Аврелия[9]. Во всяком случае, я очень надеюсь, что именно так и подумают мои коллеги, когда явятся сегодня на традиционное общешкольное собрание и обнаружат, что я преспокойно восседаю у себя «на колокольне» с сигаретой в руках и уже успел самым внимательным образом ознакомиться и со списками новых учеников, и с расписанием на грядущий триместр, и со всевозможными сплетнями, в том числе и довольно грязными, – в общем, со всем тем, чем питается «Сент-Освальдз», подобно кладбищенским королям прошлого.
Будучи сам типичным инсайдером, значительной частью получаемой мною информации я обязан своему главному и единственному источнику, некоему Джимми Уатту. Он – мое тайное оружие. После прошлогодних событий Джимми был не только восстановлен на работе, но и получил повышение, и теперь его должность называется «помощник привратника». Интеллектом Джимми, конечно, не блещет, но парень он вполне здравомыслящий и руками работать умеет. Кроме того, Джимми мне кое-чем обязан, так что теперь из его уст я получаю такие сведения, в которых отказано многим моим коллегам, даже занимающим более высокое положение.
– Доброе утро, босс! – Круглое добродушное лицо Джимми так и сияло улыбкой. – Хорошо отдохнули?
– Да, спасибо. – Я пытаюсь вспомнить, когда куда-нибудь ездил во время каникул в последний раз. Если, конечно, не считать ту школьную поездку во Францию в 1978 году, когда Эрик Скунс повел мальчишек пешком посмотреть на Сакре-Кёр ночью, пребывая при этом в блаженном неведении, что путь к знаменитой базилике проходит как раз через знаменитый парижский район «красных фонарей».
Полагаю, у меня, должно быть, все-таки был какой-то отпуск – если, конечно, можно назвать «отпуском» весьма нудный кусок времени, отягощенный постоянными атаками ос, крикетом, обнаженными людскими торсами, бесконечными грозами и ливнями, совершенно не свойственными летним месяцам, полдневным чаем и тиканьем часов на каминной полке, словно отсчитывающих долгие сонные дни. Тут же явилась мысль: Великие боги, до чего же хорошо наконец-то вернуться домой! Но надолго ли? Еще на один триместр? Еще на год? А что дальше? Что потом?
Сплошные каникулы, полагаю. От безделья рукоделье. Чтение романов. Возможно, небольшой участок земли, выделенный под огород, где-нибудь на дальнем конце Эбби-роуд; там я буду выращивать ревень и слушать радиоприемник. В общем, разнообразные хобби. И насмешливые разговоры в пабе. И, может быть, судоку (что бы это слово ни значило). Короче, все то, что я без конца откладывал во имя долга, когда еще мечтал о подобных вещах. Весьма депрессивная перспектива, надо сказать. Преподаватель «Сент-Освальдз» не имеет времени на всякие глупости, да и слишком поздно мне уже развивать вкус к подобным вещам.
– Да, снова в банку с вареньем, – сказал я и улыбнулся, чтобы Джимми понял, что я шучу[10]. – Готовимся к новым трудовым подвигам. А ведь можно, пожалуй, подумать, что все это мне ужасно нравится.
Джимми засмеялся – его смех похож то ли на гогот диких гусей, то ли на звук автомобильного рожка. Ему, наверное, мои шутки кажутся странными; но ведь он еще так молод, и у него, разумеется, свои шутки и развлечения – каковы бы они ни были, – да и огромный белый кит по имени «Сент-Освальдз» еще не успел полностью его поглотить и переварить.
– Что слышно о нашем новом директоре?
– Он уже у себя. Я видел его машину.
– А коллективу он так и не представился? Неужели даже в учительскую на чашку чая не заглянул?
Джимми только усмехнулся и покачал головой. Наверное, он все-таки решил, что я снова шучу. Однако хороший директор школы успевает познакомиться с командой своего корабля до того, как возьмет в руки штурвал; а команда – это не только преподаватели, но и уборщики, привратники, а также те женщины, что готовят и подают чай. Хороший директор, как и всякий хороший руководитель, ценит рядовой и сержантский состав никак не меньше, чем офицерский. И все же нашего нового директора, назначенного еще в начале июня, мы практически не видели. А если и видели, то в лучшем случае мельком. Собственно, мы знали его только по имени и – до некоторой степени – по репутации. Но лишь немногие привилегированные видели его в лицо. Слухи, однако, вились и клубились. Какие-то важные встречи проводились за закрытыми дверями директорского кабинета; шепотом сообщалось, что нашу работу сочли академически несостоятельной, а школу – банкротом; все это выявила некая далеко не дружественно настроенная школьная инспекция, что – в совокупности с поистине возмутительными результатами экзаменов, худшими за всю историю школы, – и привело к тому, что нам был выставлен самый низкий балл, и теперь нас ждала некая «антикризисная интервенция».
Ужасные события прошлого года – убийство одного из учащихся, нападение и ранение ножом преподавателя, а также скандал, расколовший пополам нашу учительскую, – до сих пор эхом звучат в закоулках школы. Кроме того, минувший год принес немало и других неприятностей. После тех прискорбных событий нам в итоге пришлось расстаться с Пэтом Бишопом, старшим помощником капитана нашего старого судна; и после его ухода среди рядового и сержантского состава то и дело вспыхивали беспорядки, открыто высказывалось недовольство, а то и прямое неповиновение, и Боб Стрейндж – второй помощник капитана, умный администратор, но с людьми обращаться совершенно не умеющий, – тщетно пытался удержать нашу старую галеру на плаву; он то начинал активно внедрять компьютеры, то заставлял всех посещать курсы менеджмента, то приглашал к нам различных консультантов.
Однако никаких результатов это не давало. Наш тогдашний капитан, то есть прежний директор, не привыкший по-настоящему командовать судном, лишь беспомощно барахтался в захлестывавших палубу волнах, и в рядах его подчиненных о нем стали звучать весьма нелестные отзывы. Кое-кто и вовсе ушел из школы; многие стали работать спустя рукава, и в июне правление школы пришло к выводу, что нам необходима «срочная реструктуризация аппарата управления». Или, выражаясь простыми словами, нашему старому директору была предложена чаша с цикутой.
Не то чтобы меня так уж волновала судьба этого человека. Одного чиновника назначат, другого уволят. Тем более старый директор за шестнадцать лет мало чего сумел добиться для школы, а уж для себя и того меньше. Согласно традиции «Сент-Освальдз», только что назначенного главу школы все называют исключительно «новым директором», пока он не заслужит уважение всей команды. А наш старый директор, не сумев это уважение заслужить, так, в общем, и остался «новым». Это был типичный представитель государственной школы, причем довольно серый, предпочитавший заниматься всякими мелочами вроде незначительных отступлений от принятого в «Сент-Освальдз» дресс-кода, вместо того чтобы обратить серьезное внимание на здоровье вверенного ему corpus scolari[11].
Насколько я слышал, новый директор – совсем другой человек. Этакий суперруководитель, отлично сознающий возможности пиара, а также, как утверждает Боб Стрейндж, весьма здравомыслящий и надежный; и уже одно это, по мнению Боба, свидетельствует о том, что он вполне способен встать у руля нашего дряхлого, давшего течь судна и победоносно вывести его в более спокойные благословенные воды. Но лично я сильно в этом сомневаюсь. По-моему, подобные отзывы свидетельствует лишь о том, что это всего лишь очередной чиновник, даже, пожалуй, делец; а уж его отсутствие в школе в течение всего летнего триместра – хотя за это время он вполне мог бы успеть познакомиться и с преподавателями, и с обслуживающим персоналом, – означает, что он, по всей вероятности, один из тех, кто рассчитывает, что любая недостойная его внимания, «лакейская», работа будет незаметно выполнена кем-то другим, а он будет лишь наслаждаться ее плодами, собственной разрекламированностью и славой.
Его фамилия – как мы уже знаем – Харрингтон. Возможно, это случайность, но именно такая фамилия была у одного моего ученика, которого я когда-то сильно недолюбливал; разумеется, наш новый директор совсем в этом не виноват, да и фамилия Харрингтон, кстати сказать, достаточно распространенная; но я ничего не могу с собой поделать: лучше бы все-таки у него была фамилия, скажем, Смит или Робинсон. К тому же, кроме фамилии, нам почти ничего о нем не известно. Говорят, что в определенных кругах он считается чуть ли не «гуру»; что он уже спас две погибающие школы: в Олдэме и в Милтон Кейнс; что он выдающийся представитель благотворительной организации «Выжившие», занимается проблемой насилия над детьми и за это получил от королевы МБИ[12]. Джимми Уатт также сообщил нам, что новый директор молод, хорош собой, отлично одевается и водит серебристый «БМВ» (последнее уже обеспечило ему самую искреннюю поддержку и обожание со стороны Джимми).
– Именно такой человек и необходим сейчас «Сент-Освальдз», – уверяет нас Боб Стрейндж. – Новая метла, как говорится, хорошо метет и непременно выметет у нас из углов всю скопившуюся там паутину!
Ну, мне, например, наша «паутина» всегда нравилась. Хотя, подозреваю, что и сам я для Стрейнджа тоже что-то вроде паутины. Но наш Боб питает определенные надежды на повышение. Хотя в свои сорок шесть он, конечно, на роль лидера претендовать уже не может; да и его пристрастие к техническим новинкам, которыми лет двадцать назад он, может, и способен был кого-то поразить, для нынешнего поколения является нормой. Поскольку стать директором школы ему так и не удалось, он теперь жаждет получить в Совете школы хотя бы должность второго директора – что, кстати, не лишено оснований: ведь с прошлого Рождества именно он исполняет обязанности второго директора, заменяя Пэта Бишопа. Разумеется, подобная административная должность в «Сент-Освальдз» – это не просто совокупность определенных навыков и обязанностей; то, что принесло такой успех Пэту Бишопу – его сердечность, гуманность, искренняя любовь к школе и ученикам, – не имело ни малейшего отношения к тому, какой пост он занимал. Стрейнджу, впрочем, так и не удалось это понять, ну а мы, все остальные, давно оставили надежду на то, что Боб сумеет вынырнуть из своего кокона бесконечной бумажной волокиты, даже если ему удастся занять должность второго директора, даже если он будет буквально сгорать на работе. С другой стороны, новому директору, вполне возможно, понадобится помощь кого-то из инсайдеров, который мог бы не только познакомить его с оснасткой и вооружением нашего старого фрегата, но и выдать все недостатки доставшейся ему пиратской команды.
Вот для этой роли Стрейндж, безусловно, подходит. Своими тусклыми серо-зелеными глазками он успевает заметить буквально все: кто опоздал на урок; у кого сложности в отношениях с учениками; кто регулярно крадет из учительской газету «Дэйли Мэйл», чтобы почитать ее в классе во время занятий. И хотя Боб Стрейндж большую часть времени проводит у себя в кабинете, но ушки у него все время на макушке. Кроме того, у него есть шпионы среди обслуживающего персонала (а некоторые преподаватели подозревают даже, что он тайно пользуется камерами наблюдения), и в результате все его уважают и побаиваются, но он крайне редко бывает кому-то по-настоящему приятен. Стрейндж составляет школьное расписание, и те, кому не повезло оказаться в числе лиц, пользующихся его расположением, вынуждены чаще, чем полагается по справедливости, вести уроки после обеда в пятницу, а также заниматься с самыми отстающими второгодниками из шестого класса. Короче говоря, Боб – типичный ябеда и фискал.
Сегодня утром, поднимаясь по лестнице в свой класс, я размышлял – довольно рассеянно, впрочем, – что может принести мне грядущий триместр. С прошлого года произошло столько перемен, столькие мои коллеги получили другие должности или ушли из школы: Бишоп; Пиермен; Грахфогель; старый директор и, разумеется, наша собственная школьная «Мисс Вызов». Среди ушедших мог бы оказаться и я – на самом деле, я был вполне готов к выходу на пенсию, – меня останавливало только плачевное состояние моей дорогой старой школы, а также мучительная уверенность в том, что Боб Стрейндж, стоит мне уйти, тут же исключит из расписания латынь.
Да и что я стал бы делать без той мыльной оперы, которая бесконечно идет на сцене «Сент-Освальдз» и поддерживает мои слабеющие силы? А мои мальчики? Мои «Броди Бойз»? Кто, кроме меня, сможет о них позаботиться?
Знакомый запах я почувствовал, еще только открывая дверь. Так сказать, Eau de Room 59, смесь ароматов, настолько привычная, что десять месяцев в году я ее практически не замечаю. И все же вот он снова, этот запах, столь же ностальгический, как запах горящей осенней листвы, и столь же успокоительный – запах дерева, книг, полироли, герани, мышей, старых заношенных носков и, возможно, запрещенных и выкуренных тайком сигарет «Голуаз». Приветствуя этот запах, я тут же снова закурил, прекрасно зная, что получу очередное замечание, если сюда войдет доктор Дивайн, он же Зелен-виноград, он же заведующий кафедрой немецкой филологии, он же глава культурного общества «Amadeus House», он же (и это вызывает мои особые сожаления) представитель Министерства здравоохранения и социального обеспечения, и так далее и тому подобное. И он постоянно запрещает мне баловать себя такой роскошью, как возможность спокойно выкурить сигарету, или съесть пирожок с мясом, или полакомиться лакричным леденцом (пакет с леденцами я всегда держу в ящике своего стола).
Как известно, помянешь черта – и он тут как тут. Чтоб этого Дивайна и впрямь черти съели! Наш Зелен-виноград, должно быть, сегодня встал особенно рано, потому что едва я успел загасить спичку, как услышал за дверью его шаги и увидел его остроносый профиль, просвечивавший сквозь матовую стеклянную панель.
– Доброе утро, Дивайн! – Я мгновенно спрятал обгорелую спичку и сигарету под крышку стола.
– Доброе утро, Стрейтли. – Он возмущенно дернул носом, но от комментариев воздержался.
– Хорошо провели каникулы?
– Да, спасибо. – Мы оба отлично знали: доктор Дивайн каникулы просто ненавидит. Однако, будучи человеком женатым, он (как я предполагаю) испытывает определенную ответственность перед миссис Дивайн, а потому раз в год, ворча, пакует чемоданы и на две недели отбывает на Французскую Ривьеру. Там он обычно сидит в тенечке и составляет план уроков на следующий триместр, а его жена – неплохо сохранившаяся пятидесятилетняя особа – тем временем загорает, играет в теннис и принимает спа-процедуры.
– А вы? – спросил у меня Дивайн.
– О, я тоже чудесно. Вы давно вернулись?
– Да, и с прошлой недели снова каждый день сюда таскаюсь. – Он сказал это таким легким тоном, что я тут же исполнился подозрений. – Дел, знаете ли, много.
Ну конечно же, знаю. Для Дивайна годится любой повод – лишь бы снова прийти в школу. Он – человек весьма честолюбивый и, несмотря на возраст (уже шестьдесят, черт возьми, а выглядит значительно моложе), питает определенные амбиции; он наверняка догадывается, что вскоре можно будет попытаться выяснить в Совете, нельзя ли занять место третьего директора или же получить какую-то еще новую высокооплачиваемую должность в школьной администрации. Кроме того, нынешнему директору, конечно же, понадобятся «друзья из местных», и Дивайн отнюдь не уверен, что именно Боб Стрейндж должен быть единственным претендентом на место такого «друга».
– Вводите в курс дела новых сотрудников? – задал я коварный вопрос.
Я знаю, что в этом году новые назначения в основном происходили под эгидой нового директора, а также Боба Стрейнджа и нашего казначея; знаю я и то, что заведующий кафедрой германистики, доктор Дивайн, полагает, что и ему следовало бы играть одну из центральных ролей в распределении рабочих мест и должностей. Он, например, счел назначение Китти Тиг на должность заведующей французской кафедрой абсолютно неразумным и был весьма огорчен, когда двух новых преподавателей взяли, опираясь в основном на ее рекомендации. Мне-то самому мисс Тиг очень даже нравится; я знаю ее давно, еще с тех времен, когда она проходила у нас практику. По-моему, она будет прекрасно руководить своей кафедрой, и старый Дивайн, как мне кажется, тоже это понимает.
А вот что касается его собственной кафедры… не знаю, не знаю. Новый преподаватель немецкого, протеже Дивайна, уже не раз поражал меня своими сомнительными качествами. Я без конца слышу его фамилию – Маркович, – однако, несмотря на «чрезвычайную загруженность работой» и плотное расписание, в школе он появится в лучшем случае на следующей неделе. Мне хорошо известен такой тип преподавателей – для них административная работа всегда на первом месте, тогда как свою профессиональную деятельность, то есть обучение детей, они считают чем-то неважным, второстепенным. И я совсем не уверен, что на репутации доктора Дивайна как заведующего кафедрой так уж хорошо отразится то, что именно он взял на работу этого Марковича.
– Я еще толком не успел познакомиться с новыми сотрудниками, – ледяным тоном ответил Дивайн. – Даже с директором… – Он презрительно фыркнул. Некоторые считают, что зеркало души – это глаза, однако у Дивайна это, безусловно, нос; именно нос способен максимально полно выразить любые его эмоции, даже тщательно скрываемые. В данный момент нос Дивайна явственно порозовел, став того же цвета, что и носик кролика-альбиноса, и презрительно дернулся.
– Возьмите лакричный леденчик, – предложил я.
Он посмотрел на меня так, словно я предложил ему понюшку кокаина.
– Нет, спасибо, – ответил он. – Не хочу себя баловать.
– Жаль, – сказал я, выбирая желтый леденец. – А мне всегда казалось, что возможность капельку себя побаловать очень важна для любого человека.
Дивайн презрительно на меня глянул и сказал:
– Вам – возможно. Ну а вы-то его видели? Нового директора?
– Нет, и уже начинаю думать, что это человек-невидимка. Однако сегодня он все же должен быть здесь к одиннадцати часам, дабы провести брифинг с преподавательским составом. Могу лишь представить себе, до чего все горят желанием узнать, каким образом он намерен разрулить сложившуюся ситуацию. Да и потом, не каждый день все-таки удается познакомиться с супердиректором.
Дивайн несколько раз судорожно фыркнул, и я тут же спросил:
– А вы, насколько я понимаю, уже успели с ним познакомиться?
– Мы всего лишь обменялись несколькими словами.
Только тут до меня дошло, что он как-то странно себя ведет. Доктор Дивайн никогда не отличался особой откровенностью, особенно когда речь заходила о начальстве. Интересно, подумал я, какие это «несколько слов» сказал ему новый директор, если это вызвало у него такое раздражение?
– И что же дальше? – решил я его подтолкнуть.
Однако Дивайн уже вновь обрел привычную сдержанность. Его лояльность по отношению к руководству всегда заключалась в том, что, какое бы сильное недовольство он сам лично ни испытывал, он никогда не стал бы обсуждать эту тему с простыми учителями.
– Вы все увидите сами, – сказал он и вышел из класса, оставив после себя легкий, но безошибочно определяемый аромат святости.
Следующие два часа я просматривал свои старые записи, а потом исписал несколько страничек в дневнике, время от времени балуя себя лакричным леденцом. В «Сент-Освальдз» существуют свои собственные дневники; их вручают как ученикам, так и преподавателям. Мальчики записывают в них задания на дом и кое-какие лекции; учителя – план уроков. Точнее, они это делали, пока три года назад наш казначей не объявил, что расходы на дневники являются для школы непосильным бременем, и еще одна наша традиция мгновенно исчезла. Впрочем, у меня в кладовой сохранился небольшой запас таких дневников – так сказать, для личных нужд. И огорчение мое вызывает не «непосильное бремя расходов», а то, что у меня дома на полке, где уже аккуратно выстроились в ряд тридцать с чем-то дневников с нашим сине-золотым гербом и девизом школы «Сент-Освальдз», появятся дневники какого-то иного, чужого, дизайна. Мне это кажется до некоторой степени аморальным – особенно сейчас, под конец моей карьеры. Ученики, разумеется, могут писать в чем угодно, но я достаточно старомоден и считаю, что преподаватель «Сент-Освальдз» должен пользоваться дневником именно этой школы, а не каким-нибудь органайзером фирмы «Филофакс» или (как один из моих учеников, Аллен-Джонс) ярко-розовым, оттенка шокинг, блокнотом, где на обложке написано «Привет, Котеночек!».
Завтра мои мальчики возвращаются в школу. Этого момента я ждал все лето. В отличие от Дивайна, который, как известно, без тени иронии утверждает, что школа работала бы куда эффективней, если бы в ней совсем не осталось мальчишек, я своих ребят очень люблю и именно по этой причине всегда отказываюсь брать на себя дополнительные административные обязанности, предпочитая ограничиваться преподаванием своего предмета в своем старом классе № 59, а не перебирать в офисе бумажки. В этом году, однако, первый день триместра будет занят в основном всевозможными брифингами, совещаниями и бесконечным обсуждением особенностей нового расписания занятий, продолжительности перемен, количества свободных дней и всевозможной внеплановой работы.
Я уже с неодобрением заметил, что мое новое расписание выглядит непривычно «жидким»; всего двадцать один урок в неделю по сравнению с обычными тридцатью пятью. Всем, конечно, давно известно, что Боб Стрейндж (преподаватель физики) не только с большим подозрением относится к урокам латыни, но и с удовольствием вообще исключил бы этот предмет из расписания. До сих пор, однако, мне удавалось как-то контролировать ситуацию, тем более на своей кафедре я единственный преподаватель, и, вопреки подозрениям некоторых, мои ученики всегда показывали весьма хорошие результаты. Однако в этом году, похоже, Бобу (и, несомненно, при поддержке нового директора) наконец удалось (причем используя государственный учебный план в собственных низких целях!) низвести латынь до уровня факультативного предмета; мало того, его усилиями латынь оказалась в прямой конкуренции с немецким языком, а это означает, что у тех, кто хочет серьезно заниматься иностранными языками, то есть свободно пользоваться ими «на уровне свободного владения» и выше, выбора не будет: им придется взять в качестве второго иностранного немецкий, а дальнейшее изучение классических языков либо отложить до старших классов (полный абсурд!), либо (что еще хуже) выбрать латынь в качестве факультатива и заниматься ею в обеденный перерыв.
Факультатив! Да школа «Сент-Освальдз» знавала времена, когда там все предметы преподавали исключительно на латыни! На латыни полагалось разговаривать даже на переменах, а за неправильное употребление падежей учеников наказывали тростью. Впрочем, должен признаться, так было задолго до моего поступления в «Сент-Освальдз». Но тем не менее, как они смеют?!
Следующие несколько минут я на все лады честил их обоих – и нового директора, и Боба Стрейнджа, – изрыгая проклятия на латыни, древнегреческом и англосаксонском. Заодно я проклинал и доктора Дивайна, который, несомненно, более всех выиграет от этого решения и который с презрением относился к преподаваемому мной предмету с первых же дней своей работы в школе. Мы с Дивайном оттрубили вместе немало – тридцать четыре года, если быть точным, – и за это время он достаточно ясно дал мне понять, что считает латынь не просто устаревшей и вышедшей из употребления, но, возможно, даже вредной, ибо она мешает воплощению в жизнь его тевтонских амбиций. Он если и не друг Стрейнджу, то, по крайней мере, его попутчик; и я подозреваю, что ссылка моего любимого предмета в разряд факультативных связана – как минимум отчасти – с его, Дивайна, влиянием. И все же id imperfectum manet dum confectum erit[13] – так, по-моему, мог бы выразиться Клинт Иствуд. Возможно, еще не все планы раскрыты и все еще может измениться, прежде чем тому или иному из нас придется повесить свое ружье на стену.
В двадцать минут одиннадцатого я снял с бронзового крючка свою мантию, висевшую за дверью набитого всякой всячиной шкафа. Двадцать лет назад все преподаватели были просто обязаны носить в школе мантии. Теперь же я продолжаю эту традицию практически в одиночку. И все же академическая мантия способна скрыть множество грехов – меловую пыль, пятна от чая, сборник поэм Вергилия, спрятанный, чтобы было чем заняться на скучном собрании. Вряд ли, впрочем, именно это собрание будет таким уж скучным, думал я, когда, напялив свою потрепанную старую мантию, тащился в учительскую. Мне хотелось прийти туда заблаговременно, чтобы успеть подкрепиться чаем с шоколадным печеньем перед первым в триместре директорским брифингом.
К моему удивлению, в учительской было уже полно народу. Любопытство, я полагаю. Вообще-то, там становится попросту тесновато, если преподаватели собираются все вместе, но сегодня явно никому не хотелось пропустить возможность занять местечко поближе к арене.
Мое любимое кресло, к счастью, оказалось не занято. Второе слева, прямо под стенными часами, развернутое под удобным углом в шестьдесят градусов. За те годы, что я бездельничал с умным видом на собраниях в учительской, на сиденье этого кресла так четко отпечатались очертания моей задницы, что потребовалось бы нечто большее, чем смена директора, чтобы изменить запечатленный на мягкой подушке рисунок моей пятой точки. Я налил себе чаю и уютно устроился в уголке, держа чашку в руках.
Как оказалось, Эрик Скунс успел прийти даже раньше меня. Эрик не только мой коллега, с которым мы вместе работаем уже более тридцати лет, но и мой друг детства; и он, кстати сказать, полностью разделяет мои опасения относительно политики нового руководства школы; впрочем, он находится в более выигрышном положении, чем я, поскольку преподает современный язык и любит это подчеркивать – особенно когда чувствует себя неуверенно, хотя, честно говоря, состояние неуверенности свойственно ему почти постоянно.
– Доброе утро, Стрейтли.
– Доброе утро, Скунс.
Прожитые годы, разумеется, оставили свой отпечаток на внешности каждого из нас, но в Эрика Скунса они вцепились, как морские древоточцы в обшивку старого корабля. Тот мальчик, с которым я подружился в одиннадцать лет, – тогда он был маленький, достаточно сообразительный, чтобы с легкостью выдержать школьный год, и достаточно озорной, однако мгновенно улепетывал, стоило ему почувствовать возможные неприятности, – теперь превратился в сущего бронтозавра, огромного, медлительного, словно застрявшего на полпути к посту центуриона. У теперешнего Скунса лиловый нос пьяницы и пугающая привычка устрашающе хрипеть и сопеть, поднимаясь по лестнице. Шустрый озорной мальчишка превратился в зануду, воспринимающего любую неудачу как наказание свыше; в мрачного, даже желчного, типа, который уверен, что жизнь его обокрала, лишив удовольствий (вопрос только, каких именно?), а успехи друзей воспринимает как собственные поражения. Старая задница! И все-таки я его люблю; надеюсь, что и он меня тоже.
– Как отпуск, Стрейтли?
Столько лет прошло, но он по-прежнему обращается ко мне по фамилии – ведь именно так все мы обращались друг к другу в школе полвека назад.
Я уклончиво пожал плечами.
– Вообще-то, летние каникулы никогда не доставляли мне особого удовольствия. Отпуск приносит чересчур много стрессов.
Эрик осторожно на меня глянул, но в его глазах сквозило явное превосходство.
– Вот уж никогда бы не подумал, что ты способен испытывать стрессы. И уж точно не с такой учебной нагрузкой.
Эрик воспринимает мое «жидкое» расписание с малым количеством учебных часов, небольшими группами учеников и явным прицелом на поступление в Высшую школу как некое приятное хобби или даже как бегство от реальных трудностей, связанных с преподаванием современных языков. Опираясь на подобную точку зрения, он умело притворяется, будто постоянно перерабатывает, хотя не является даже классным наставником, и каждый раз требует еще пять дополнительных часов в неделю, тогда как мне приходится всячески изворачиваться, чтобы успевать и детей учить, и домашние задания проверять, и с родителями учеников отношения выяснять. В течение первых десяти лет своей карьеры Эрик все же пару раз соглашался стать классным наставником, но проявлял при этом полное равнодушие к своим подопечным; теперь он и вовсе отказывается от подобной нагрузки, а меня, пожалуй, даже презирает за то, с какой любовью я отношусь к моим воспитанникам. Он считает, что любить этих мальчишек не за что, что такое чувство вообще неприемлемо для взаимоотношений ученик/учитель и, мало того, способно в один прекрасный день привести к беде. И все же сердце у него доброе, хотя он это старательно (и, кстати, довольно плохо) скрывает за внешней грубоватостью и ворчливостью.
– Ты уже видел кого-нибудь из новичков?
Вопрос далеко не праздный. В прошлом году мы лишились многих преподавателей, включая заведующего нашим филологическим отделением, которое в итоге оказалось практически обескровлено; на поле боя остались только наша «Лига Наций» (это команда муж и жена, причем оба отличаются невыносимым самодовольством и чопорностью), Эрик, Дивайн, Китти Тиг и, разумеется, я сам.
Эрик раздраженно запыхтел – это был явный признак общего недовольства сложившейся ситуацией. По-моему, он все же метил на место заведующего кафедрой, хотя ему скорее подошли бы мечты о скорой пенсии. Впрочем, Эрик – типичный представитель старой школы, а потому находит повышение Китти Тиг абсолютно неестественным. В наше время женщины служили секретаршами, уборщицами или заведовали столовой. А теперь женщина стала начальницей Эрика – о, это в корне противоречило всем его принципам!
– Наша школа уже вполне могла бы называться женской, – мрачно заявил он. – На кафедру французского взяли еще двух преподавательниц. Так оно в итоге и бывает, когда командовать начинает женщина.
Я продолжал пить чай, предпочитая воздерживаться от комментариев. Мужчины среди дипломированных преподавателей иностранного языка в школе встречаются столь же редко, как в природе – зубастые куры-несушки. И потом, я совершенно не сомневаюсь, что Китти, человек здравомыслящий, прекрасно знала, кого берет на работу. Однако, боюсь, появление у нас на кафедре еще двух преподавательниц вполне может вызвать взрыв сквернословия и всевозможных грубостей со стороны кое-кого из моих коллег – во всяком случае, наш казначей (который считает себя весьма остроумным) вряд ли сумеет воздержаться от комментариев на сей счет.
– А что на немецкой кафедре? – спросил я.
– Ну, нового преподавателя я еще не видел. Очевидно, он снова на каких-то курсах и будет отсутствовать еще по крайней мере неделю. – Это Эрик сообщил мне бесцветным тоном. Он с презрением – что, как мне кажется, не лишено оснований – относится к тем преподавателям, которые предпочитают посещать разнообразные курсы повышения квалификации, вместо того чтобы вести занятия в классе.
– А как тебе новый директор?
Эрик пожал плечами.
– Да я его еще ни разу не видел. По-моему, его и никто еще толком не видел, за исключением нескольких особо приближенных.
– Ну а Дивайн? – сказал я, вспомнив свою утреннюю встречу с ним, короткую и не слишком приятную.
– О, Дивайн, разумеется, на седьмом небе от счастья. Считает, что эта «антикризисная команда» и по воде запросто ходить умеет.
Я покачал головой.
– Странно. Я видел его сегодня, и он, пожалуй, показался мне… несколько озабоченным.
– Значит, он снова тут вынюхивал? Прямо-таки мечтает присосаться к команде нового директора в качестве представителя Министерства здравоохранения! – Отношения Эрика и Дивайна всегда были весьма далеки от дружеских. Эрик уверен, что именно Дивайн мешает его карьерному росту, а Дивайн считает Эрика преподавателем неумелым, скучным и вообще – человеком настроения.
– Нет, на этот раз он, похоже, ничего не вынюхивал, – сказал я. – И от нового директора он, по-моему, отнюдь не в восторге.
Эрик скептически посмотрел на меня.
– Да неужели? А ведь он выпускник Оксбриджа, истинный гуру по спасению «утопающих» школ, активный член крупной благотворительной организации. В общем, настоящий супермен! Что же еще нужно этому Дивайну?
– А действительно – что?
– Конечно, кое-кому может показаться, – похоронным тоном начал Эрик, – что директору школы неплохо было бы сперва провести по крайней мере несколько лет за преподавательским столом. И кое-кто может даже поставить под вопрос правильность назначения какого-то подхалима из государственной школы на столь ответственную должность, как директор «Сент-Освальдз».
Его точка зрения была мне, разумеется, совершенно ясна. Настоящий директор начинает свою карьеру с мелом в руках у школьной доски, а не в распиаренной всеми СМИ оранжерее. Да и традиции «Сент-Освальдз», безусловно, весьма отличаются от тех, что свойственны государственным школам. Но всевозможные антикризисные меры (как, впрочем, и лидеры антикризисных команд) – это явления чаще всего кратковременные. А «Сент-Освальдз» существует уже пятьсот лет. И он выстоит, даже если им будет управлять человек из государственной школы. Впрочем, вряд ли, подумал я, такой человек сможет нанести нашей старой школе какой-то особый вред.
Впрочем, пора бы уже нашему собранию и начаться, однако знаменитого супердиректора до сих пор нет. Интересно, чего он тянет? Возможно, я не без оснований подозревал в нем скрытого шоумена. Налив себе еще чашку чая, я снова устроился в любимом кресле и приготовился смотреть шоу.
И минут через пять шоу действительно началось. Двери распахнулись, в учительской воцарилась тишина, и туда вошел целый отряд людей в офисных костюмах, выстроившихся клином. Среди них был и Боб Стрейндж, лицо которого странным образом казалось лишенным всякого выражения; по обе стороны от Боба стояли Дивайн и наш казначей, но на них никто особого внимания не обратил. Зато все дружно уставились на новичков. Их было трое – двое мужчин и одна женщина; все в очень модной и тщательно отглаженной одежде; стрелки у них на брюках были такими острыми, что просто обрезаться можно. Новый директор шел впереди всех, в самом центре «острия клина» (по-моему, двое в офисных костюмах, шедшие с ним рядом, и являли собой его «антикризисную команду»), так что я сразу оценил и великолепный крой его костюма, и его до блеска начищенные туфли, и его улыбку, по сравнению с которой клавиатура фортепьяно могла бы, пожалуй, показаться узковатой; а вот узнал я этого человека лишь некоторое время спустя и был настолько поражен, что, не сумев сдержаться, даже тихонько выругался себе под нос, вздрогнул, нечаянно выплеснул содержимое своей чашки прямо себе на ногу и тут же почувствовал, как щекочущий ручеек теплого чая начинает неумолимо стекать мне в туфель.
Настоящий учитель никогда не забывает лица своих учеников, хотя их фамилии вполне могут из его памяти и выпасть. Эту фамилию я бы отнес к числу случайных совпадений – за сорок лет преподавательской работы я успел убедиться, что некоторые фамилии встречаются гораздо чаще прочих, – но стоило мне увидеть лицо этого человека, и я понял, что мой инстинкт меня не подвел.
Видите ли, когда-то мы с новым директором были неплохо знакомы. Оказалось, что доктор Харрингтон, награжденный МБИ, и Джонни Харрингтон из моего класса 3S – одно лицо. После двадцати лет отсутствия в «Сент-Освальдз» он снова туда вернулся, чтобы приносить несчастья. Вряд ли имело смысл надеяться, что он меня не узнает. Когда он скользнул внимательным взглядом по небольшой толпе присутствующих, наши глаза встретились, и его улыбка мгновенно стала еще шире. Он приветливо кивнул мне, словно старому другу, и сердце мое ухнуло в бездну, точно приговоренный судьбой фрегат с вершины гигантской волны.
Великие боги, Джонни Харрингтон! Моя Немезида; мой черный агнец; тот самый мальчик, из-за которого я чуть не лишился работы, а школа лишилась и куда большего. И теперь он стал нашим новым директором – причем не просто директором, а супердиректором, – и я в глубине души, пожалуй, уже начинал жалеть об уходе нашего старого Шейкшафта, хотя руководителем он был весьма слабым, даже бездарным. Это, в общем, не так уж страшно, ибо функции слабого руководителя легко берут на себя его более компетентные заместители. А вот супердиректор никогда и никому своих функций не передаст. Супердиректор всегда сам определяет направление удара и завершает его. Супердиректор всегда сам правит своим кораблем – он гордо ведет его вперед, даже если корабль мчится прямо на скалы.
В общем, если, конечно, молодой Харрингтон за эти двадцать лет не переменился до неузнаваемости, то, как мне кажется, именно на скалы он наш корабль и направит.
Глава вторая
Осенний триместр, 1981
Дорогой Мышонок!
Итак, я оказался в «Сент-Освальдз». Не могу сказать, что эта школа так уж особенно меня впечатлила. Здесь все какое-то ужасно старое – парты, доски почета, спортзал, даже преподаватели. Такое ощущение, словно попал в музей, битком набитый старыми пыльными чучелами животных. Например, мистер Скунс в обеденный перерыв показывает допотопные французские фильмы и, похоже, считает себя очень крутым. Или доктор Дивайн, который никогда не улыбается. А самый противный из них – мистер Стрейтли со своими дурацкими шутками на латыни и неуместным сарказмом. Как бы мне хотелось снова вернуться в «Нетертон Грин»! Как жаль, что я попал в класс именно к мистеру Стрейтли, а не к кому-нибудь другому!
Знаешь, многие люди ведь скрывают свое истинное обличье; под вполне пристойными офисными костюмами, даже под кожей у них прячутся самые настоящие животные – свиньи, собаки, даже слоны. Например, мистер Стрейтли со своей крупной головой и густыми волнистыми волосами – это самый настоящий лев из пантомимы, ищущий дешевой популярности у целой своры лающих подхалимов. Мистер Скунс больше всего похож на гигантскую лягушку-быка, вечно надутый и заносчивый; а доктор Дивайн – типичный богомол, весь такой угловатый, ломкий и праведный. Большинство мальчишек – это, разумеется, собаки. Бегают стаями, выпрашивают объедки, тявкают: «Да, сэр! Нет, сэр!» У меня ведь была собака, как ты знаешь. Недолго, правда. Я собак ненавижу.
Директор «Сент-Освальдз», доктор Шейкшафт – сущая свинья с маленькими глазками и большим рылом. Ребята прозвали его SS. Сперва я думал, что это означает «эсэсовец», потому что доктор Шейкшафт – преподаватель немецкого языка, но теперь мне кажется, что под этим сокращением скрывается какое-то очень грубое ругательство. Впрочем, Шейкшафт мне тоже совсем не нравится. Уже в самый первый день моего пребывания в этой школе он успел на меня наорать, потому что я, видите ли, спускался вниз не по той лестнице. Оказывается, по Южной лестнице мне спускаться не полагается. Они, правда, говорят, не «Южная лестница», а Южные ступеньки, представляешь? И точно знают, сколько там этих ступенек: сорок три! А то, что так говорить неправильно, для них значения не имеет. Очевидно, правила «Сент-Освальдз» для них куда важнее правил грамматики.
Эта школа вообще – настоящий лабиринт. Там, разумеется, есть и башня с колокольней. Мой класс находится как раз в башне, так что теперь придется весь день бегать вверх-вниз по лестнице, то есть по идиотским ступенькам. Затем там есть Верхний коридор, который тянется по всему верхнему этажу, и Средний коридор, откуда есть выход на первый этаж; а внизу, в самом дальнем конце здания находится Нижний коридор. И в обоих концах школы есть лестницы – Северная и Южная.
Вот с этими лестницами как раз и возникает масса сложностей. Согласно правилам «Сент-Освальдз», ученики младших и средних классов могут подниматься только по Северной лестнице, а спускаться только по Южной. Это для того, чтобы «избегать заторов», как выражается доктор Шейкшафт. Для этих учеников также запрещен вход в следующие помещения: в общую комнату старшеклассников и, разумеется, в учительскую; а также в комнату отдыха, в часовню (когда там нет службы), в бойлерную, в привратницкую и практически во все классы, если там нет преподавателя. Мастера. (Именно так мы их тут обязаны называть. Master[14]. Такое ощущение, что нас они считают собаками.)
Имеются там и другие правила, которые я – как они считают – должен был откуда-то знать. Например, нужно строиться у дверей своего класса; вставать, когда входит преподаватель; всегда говорить «сэр», когда с ним разговариваешь; всем старостам тоже нужно говорить «сэр» и обязательно выполнять то, что они тебе велят. Нельзя снимать школьный пиджак, пока директор не объявит на утреннем построении (оно здесь называется Ассамблея), что «можно ходить в рубашке». Есть в коридорах ничего нельзя. Нужно постоянно следить, чтобы рубашка была заправлена в штаны. Нельзя приходить в библиотеку со своими книгами. В коридоре нужно всегда держаться левой стороны. Я заработал уже сотни замечаний. Мне то и дело кричат: «Эй, новичок! Так делать нельзя!» или «Новичок, иди по левой стороне коридора!» Неужели так трудно запомнить имя или фамилию? Пожалуй, я в итоге просто сменю имя – пусть меня так и зовут: «Новичок».
Я иногда пытаюсь уговорить себя: ничего, ты здесь пробудешь максимум пять лет, а потом тебе исполнится восемнадцать и ты уже будешь считаться практически взрослым. Впрочем, я уже и сейчас порой чувствую себя не просто взрослым, а старым. Если средняя продолжительность жизни – семьдесят лет, то впереди у меня еще лет пятьдесят шесть. Всего пятьдесят шесть. И все. И при этом целых пять лет будут напрасно потрачены в этой чертовой школе. А в итоге у меня останется только пятьдесят один год. Пятьдесят один год жизни. Меня просто всего трясет, когда я думаю, сколько людей будут продолжать жить, когда я умру. Люди, которые еще даже не родились; люди, которые никогда обо мне не слышали. У тех ребятишек, которые сейчас значительно моложе меня, впереди куда больше лет жизни.
Я понимаю, что не стоило бы мне думать об этом. Да и улучшению Моего Состояния это отнюдь не способствует. Только это все равно что расчесывать комариный укус: немножко больно, зато приятно. Кроме того, я теперь знаю, как с Моим Состоянием управляться. Мало того, Мышонок, я его полностью контролирую.
Мой новый класс именуется «3S»[15]. Кроме меня, там есть еще два новичка. Новичков всегда легко отличить от других по новеньким блейзерам. У «старичков» блейзеры уже изрядно поношенные и блестят на локтях. Остальные части школьной формы у них вполне могут быть и новыми, но блейзер – вещь довольно дорогая, и родители, естественно, предпочитают, чтобы она служила как можно дольше, хотя бы года три-четыре, потому что в девятом классе все равно придется менять простой блейзер на особый, с голубым кантом. Только родители новичков вынуждены покупать новый блейзер всего на один год. А также – новенький блестящий кейс, который прямо-таки поскрипывает, когда новичок за чем-нибудь в него лезет. В общем, эти блеск, скрип и новизна – безусловные признаки новичков.
Между прочим, эти два других новичка – так себе. Ничего особенного собой не представляют, ни тот, ни другой. Один ужасно похож на золотистого ретривера хороших кровей, о котором хозяева отлично заботятся. А второй – типичный пудель, хорошо подстриженный и не настолько большой, чтобы быть драчливым, но вполне способный тяпнуть тебя за ногу, если ему покажется, что ты зазевался. Я с ними пока еще толком и не разговаривал. Новички всегда стараются выглядеть очень крутыми. А может, я им просто не интересен. В седьмом классе, если только ты сразу же не становишься членом одной из спортивных команд, тебя считают лишним, просто довеском каким-то. Старший воспитатель моего Дома[16], мистер Фабрикант, заглянув в наш класс на большой перемене, попытался записать меня в школьный оркестр, но я сказал ему, что не могу тратить на это время.
Он посмотрел на меня с видом страшно огорченного пса и сказал:
– Ну что ж, очень жаль! А мне показалось, что вы с удовольствием к нам присоединитесь. Подружитесь с кем-нибудь, внесете свой вклад в копилку успехов нашего Дома.
(Ну правильно, все ученики здесь разбиты на некие Дома. Мой называется «Паркинсон-хаус», и это означает, что я смогу носить красный галстук, если заработаю для Дома сто очков. Сомневаюсь, что сумею достичь подобного результата, но мистер Фабрикант этого, разумеется, не знает. Для него я просто некое неизвестное. Нечто новенькое, сияющее и сверкающее.)
И я действительно одарил его самой что ни на есть сияющей улыбкой, как и подобает новичку, и сказал:
– Мне ужасно жаль, сэр, но пока что я все пытаюсь понять, как много мне придется работать, чтобы нагнать остальных. Надеюсь, что надрываться мне не придется. Но пока я не буду чувствовать себя достаточно уверенно, я не смогу взять на себя никаких дополнительных обязательств.
Мистер Фабрикант явно приободрился.
– Ну что ж, это совершенно нормально, я полагаю. Приятно видеть, сколь серьезно вы относитесь к учебе. Возможно, когда вы привыкнете и почувствуете себя уверенней…
– Я сразу же непременно вам об этом сообщу, сэр.
Я заметил, что Голди[17] и Пудель развернули свои свертки с ланчем и наблюдают за мной.
– Тебе что с собой дали? – спросил Пудель.
Мне всегда дают одно и то же. Сэндвичи с одним и тем же, фрукты и еще какую-нибудь ерунду, чтобы быстренько перекусить на перемене. Никаких сладостей, никакого хрустящего картофеля, никакого печенья – ничего такого, что моя мама находит вульгарным. Как будто тут кто-нибудь станет осуждать меня за то, что я ем. Как будто «здоровая диета» способна излечить меня от Моего Состояния.
– Мы можем поделиться друг с другом, если хотите, – предложил я.
Так что мы объединили свои припасы. Три сэндвича – булочка с ветчиной, черный хлеб с сыром и маринованными огурчиками, «Мазерз Прайд»[18] с арахисовым маслом, – затем два пакетика хрустящей картошки с солью и уксусом; полпирога со свининой; два пирожка с клубничным вареньем; четвертушка йоркширского пудинга; шоколадный батончик «Блю Рибанд»; шоколадка «Вэгон Уил»; несколько некрепких сигарет; витаминизированный напиток «Лукозейд» и мандарины. Голди мать всегда дает денег, чтобы он мог что-нибудь еще себе купить, если захочет. Пудель сказал, что его считают гиперактивным и не разрешают есть шоколад. (И, конечно, сразу же схватил шоколадку. Я сделал вид, что мне все равно.)
Поев, мы немного поболтали. Я узнал, что они оба ходят в нашу церковь. Братьев или сестер ни у того, ни у другого нет. В общем, у меня с ними не так уж много общего, если не считать наших новеньких, с иголочки, блейзеров, но я просто не могу позволить себе привередничать. Если я хочу как-то к этой школе и этому классу приспособиться, мне нужно непременно завести себе парочку таких друзей, которых мой отец одобрил бы.
Через какое-то время Пудель сказал:
– Нам вовсе не обязательно весь обеденный перерыв торчать в своем классе. Можно пойти, например, к мистеру Кларку. Он там постоянно ставит пластинки и музыку слушает. И вообще он гораздо круче нашего Стрейтли.
Мистер Кларк – преподаватель английского, и Пудель у него учится. Он наставник класса пятого года обучения[19], и его кабинет находится точно над классной комнатой мистера Стрейтли. Кстати, класс мистера Стрейтли ужасно похож на него самого: такой же неаккуратный, неухоженный, вечно засыпанный меловой пылью, с допотопными деревянными партами, в которых даже отверстие для чернильницы есть, и скрипучей старой доской. А у мистера Кларка класс совсем небольшой, и стены в нем почти целиком стеклянные, что делает его похожим на оранжерею; парты там более современные, из пластика, и все стены и даже потолок увешаны постерами.
Я в группу мистера Кларка не попал, не повезло. Я занимаюсь в группе мистера Фабриканта. Я здесь, конечно, совсем недавно, но уже могу сказать, что ни шуток, ни веселья от мистера Фабриканта ждать не приходится. Он самый настоящий козел, седой, лохматый и неопрятный. А вот мистер Кларк оказался и впрямь крутым. Он держит в своем классе проигрыватель с пластинками, а еще у него там есть автомат с жевательной резинкой. И он ни чуточки не возражает, когда ребята на перемене остаются вместе с ним в классе. В том числе и из других групп тоже.
– Если хотите, пошли к нему и проверим, – предложил Пудель.
И мы следом за ним поднялись в кабинет мистера Кларка. Там почти никого не было. Позже я выяснил, что у пятого класса есть внизу своя собственная гостиная. Мистер Кларк сидел за столом и рылся в коробке с пластинками, но стоило нам войти, он тут же поднял голову и сказал, вытаскивая из коробки конверт с пластинкой:
– Ага, вы как раз вовремя. – Потом я прочел на конверте, что это альбом группы «Pink Floyd» и называется он «Animals» – «Животные».
Я, как ты знаешь, в музыке не особенно разбираюсь, знаю разве что ту, которую мои предки любят: Элгара[20], Моцарта и тому подобное. А смотреть передачу «Топ-Поп»[21] или слушать музыку по «Радио-1» мне не разрешают. Хотя радио я иногда все-таки слушаю (когда папы нет поблизости), так что, по крайней мере, некоторые хиты мне знакомы. Только я вряд ли смог бы тебе объяснить, что такого особенного было в той музыке, которую мы слушали у мистера Кларка, – она действительно была особенной; казалось, чьи-то пальцы играют прямо на моем позвоночнике. Я даже голоса инструментов не способен был различить. Пожалуй, играли на чем-то, что могло бы быть гитарой, а может, это был синтезатор, или голос певца, или вопли страдающего от боли зверя…
Все песни в этом альбоме носили названия животных: «Свиньи»; «Овцы»; «Собаки». Песня «Собаки» мне понравилась больше всего. Я слушал ее, и у меня было такое ощущение, словно кто-то распахнул в моей душе грязное окошко.
– Здорово! – невольно вырвалось у меня, когда музыка смолкла.
Мистер Кларк посмотрел на меня и улыбнулся. У него почти такие же глаза, как у тебя, Мышонок.
– Заходите в любое время. И в пластинках можете рыться совершенно спокойно.
У него возле стола стояли две коробки, полные пластинок, – в одной маленькие «сорокопятки», в другой альбомы. И всем разрешается сколько угодно их рассматривать, если сам мистер Кларк находится в классе, а он там, похоже, почти все время проводит. Некоторые исполнители были мне знакомы: «Карпентерз», Роберта Флэк, Элтон Джон, «Битлз». Но было и очень много таких, о ком я даже никогда не слышал.
– Мне все-все хочется послушать, сэр!
Он рассмеялся.
– Это просто прекрасно, но все же не стоит так часто повторять слово «сэр». Договорились? – Он снова засмеялся, увидев мою изумленную физиономию, и сказал: – Можете называть меня Гарри. По крайней мере, в свободное время.
Ну, как ты можешь догадаться, подобное заявление стало для меня полной неожиданностью. Я еще никогда не называл преподавателя просто по имени. Даже мисс МакДональд. Это как бы нечто совершенно недопустимое. С другой стороны, мистер Кларк – нет, Гарри! – не обычный школьный преподаватель. Он все видит и воспринимает по-другому, по-своему. И он очень умный. И я чувствую, что тоже ему понравился.
Свиньи. Собаки. Животные.
Представляешь, как забавно: я всегда считал себя единственным, кто воспринимает других людей как животных, но оказалось, что это не так. Есть и еще люди, которые видят мир таким же. И мистер Кларк это понимает. А какое животное олицетворяет сам мистер Кларк? Что-нибудь мифическое – единорога или дракона. Понимаешь, он вроде бы уже и довольно старый, но у него в глазах есть что-то такое… Что-то совсем другое, Мышонок.
Когда я вернулся из школы, папа спросил, успел ли я уже с кем-то подружиться. Я сказал, что да. Он спросил, как зовут моего нового друга.
– Гарри, – сказал я.
– А папа Гарри чем занимается?
Я сказал, что не знаю. (И это чистая правда.)
– Такие вещи нужно знать, – сказал он. – Друзья человека говорят о нем столь же много, как и его одежда, место работы и классовая принадлежность. – (Отец всегда особое значение придает классовой принадлежности.)
– Я у него спрошу, – сказал я.
– Да, обязательно спроси, – сказал папа.
Глава третья
7 сентября 2005
Теперь я стараюсь быть справедливым. Правда, стараюсь. Видите ли, я обращаюсь одинаково со всеми своими учениками; но если ты не Боб Стрейндж, который всех учеников в равной степени презирает, или не Эрик Скунс, у которого вообще нет своего класса, а потому для него все мальчики практически на одно лицо и он вряд ли способен запомнить хотя бы их фамилии, ты так или иначе непременно начинаешь испытывать к тому или иному ученику большую или меньшую симпатию.
Четверка моих «Броди Бойз» – Аллен-Джонс, Сатклифф, Тайлер и Макнайр, – несмотря на их склонность к безудержному проявлению чувств вплоть до нанесения увечий, причем по любому поводу, явно занимают у меня в сердце особое место. Я всегда питал слабость к шутам гороховым и нарушителям общественного спокойствия. Но примерно раз в десять лет среди моих учеников появляется один особенный, умненький такой мерзавец, который действительно лишает меня покоя; его лицо неожиданно возникает передо мной во время любых неурядиц и при самых неподходящих обстоятельствах; и он даже годы спустя вполне способен являться мне, своему бывшему учителю, в кошмарных сновидениях. Мне, например, может присниться, что я, облаченный лишь в идиотский головной убор с квадратным верхом, какой надевают английские студенты и профессора, и в желтые плавки, пытаюсь преподавать некий предмет, в котором я ни уха ни рыла, целому классу отъявленных хулиганов, и тот самый умненький мерзавец с ухмылкой шимпанзе явно играет среди них роль главаря.
По правде говоря, ни один преподаватель, даже самый опытный и заслуженный, не в состоянии порой избежать той или иной опасной ситуации, а среди учеников встречаются такие – в моем случае их было не так уж много, не более шести за все годы моей службы в «Сент-Освальдз», – у которых просто нюх на подобные вещи; эти мальчики, узнав, в чем конкретно заключается опасность, начинают этой ситуацией пользоваться, перекручивая ее на свой лад, и запросто, в одиночку, превращают хороший класс в плохой, а плохой – в поистине ужасный.
Джонни Харрингтон как раз и был одним из таких мальчиков. Бледнолицый, подчеркнуто вежливый и совершенно невыносимый со своей безупречной школьной формой и выражением почти не скрываемого презрения на лице. Какую же ненависть я время от времени к нему испытывал! И теперь, когда он подошел ко мне с улыбкой, которая могла бы показаться почти искренней, я почувствовал, что прошлое окутывает меня, точно ядовитое облако горчичного газа.
– Ба, да ведь это мистер Стрейтли! – воскликнул Харрингтон. – Господи, вы совершенно такой же! Сколько лет мы с вами не виделись? Двадцать четыре года, верно? Только не говорите, что вы меня не помните! Ведь помните, да?
Я прикрыл полой мантии брючину, на которой красовалось пятно от пролитого чая, и, не совсем доверяя собственному голосу, коротко кивнул.
Его улыбка стала еще шире.
– Ну конечно! Вы отлично меня помните. И мы с вами непременно поболтаем чуть позже. Возможно, даже сразу после собрания.
Все мои мальчики выросли у меня на глазах, последовательно проходя стадии превращения гусеницы в куколку, а затем и в весьма сомнительного вида бабочку; однако все «бабочки» в положенное время расправляли крылья и становились бухгалтерами, банкирами, журналистами, исследователями, военными, порой даже и учителями, помоги им, Господи, – последнее, по мнению Эрика Скунса, занимает даже более высокую строку в списке извращений, чем та, на которой находится Клайв Пуннет, съевший собственную жену. Но ни один из моих учеников никогда не вызывал у меня такого изумления, как маленький Джонни Харрингтон.
Теперь этот некогда излишне высокомерный и вечно мрачный мальчик переродился в постоянно улыбающегося политикана с вкрадчивым голосом, в высшей степени успешно камуфлирующего исходную нехватку душевного тепла легким налетом чисто внешнего блеска. Но в душе люди редко меняются; просто многие с возрастом весьма преуспевают в умении менять обличья. В общем, мне и теперь совсем не трудно было понять, что таится под блестящей внешностью Харрингтона.
И все же я вынужден признать: свое первое появление «на публике» он обставил в высшей степени умело. Его вступительное слово, обращенное к собравшимся преподавателям, было своего рода шедевром; он не просто четко и ясно выражал свои мысли – его речь была полна скрытой иронии и того саморазоблачительного обаяния, которым умеют пользоваться лишь самые опасные из политиканов. Харрингтон говорил о своей любви к «Сент-Освальдз» и о том, как был опечален, увидев любимую старую школу столь обветшалой и неухоженной, однако тут же выразил надежду, что сообща мы, конечно же, сумеем помочь нашему фениксу возродиться из пепла.
– Мы должны воспринимать «Сент-Освальдз» отнюдь не сквозь дымку ностальгии, – сказал он. – Когда я здесь учился, у нас в ходу была одна шутка: Сколько преподавателей «Сент-Освальдз» потребуется, чтобы сменить электрическую лампочку? – И он оглядел аудиторию с такой широкой улыбкой, словно позировал для рекламы зубной пасты. – Ответ, разумеется, был: «Как это СМЕНИТЬ?!»
Аудитория послушно засмеялась. И новый директор засмеялся вместе со всеми. Я обратил внимание, что он, выдавая свою убогую шутку, слегка изменил и позу, и тембр голоса, словно желая соответствовать некому реальному персонажу, и несколько мгновений мной владела мысль, что этот крысеныш передразнивает не кого-нибудь, а именно меня…
Впрочем, после небольшой паузы Харрингтон продолжил свое выступление, и юмор в нем внезапно уступил место политической серьезности. Перейдя к центральной части своей речи, он щедро приправил ее острой романтической тоской по прошлому и целым набором разнообразных клише из учебника ораторского искусства.
– Сменить в нашей школе что бы то ни было, может, и очень сложно, – вещал он, – однако, как и в случае с электрической лампочкой, перемены способны принести с собой свет. Мы втроем – школьный казначей, третий директор и ваш покорный слуга – неплохо поработали с моей командой и Советом школы, стремясь выявить то количество перемен, которые «Сент-Освальдз» абсолютно необходимы. Некоторые из них носят чисто финансовый характер – и наш казначей все это позже разъяснит более подробно, хотя, уверен, вы и сами понимаете, что «Сент-Освальдз» уже много лет живет не по средствам. Другие перемены, так сказать домашние, касающиеся внутреннего устройства школы, кое-кому покажутся, возможно, слишком сложными и болезненными. Но я совершенно не сомневаюсь в стойкости духа, которая всегда была свойственна преподавателям «Сент-Освальдз», ибо они хранят традицию самого решительного противостояния любым бедам и трудностям.
Тут Харрингтон сделал паузу, посмотрел прямо на меня и сказал:
– Этому, а также множеству других вещей научил меня мой преподаватель латыни. Но самое главное – он научил меня верить девизу: Ad astra per aspera. Да, друзья мои, тернистый путь приведет нас к звездам! И пусть этот путь будет труден, но это путь к возрождению, и я надеюсь, что вместе мы сумеем все преодолеть и достигнуть звезд.
Слушая аплодисменты, заглушившие конец речи Харрингтона, поистине идеальной в своем цинизме, я пытался понять, что мне более ненавистно: тот факт, что – по какой-то причине – Харрингтон пытается ко мне подлизаться, или то, что он делает это на языке Цезаря?
А Харрингтон, прямо-таки лучась улыбками, любовался своей аудиторией. Я даже поднял чашку, как бы салютуя ему. «Наш Сенат» – то есть преподаватели, присутствовавшие в учительской, – аплодировал ему стоя. И во время этих оваций даже крайне невыразительное лицо Дивайна выглядело почти оживленным. Даже Эрик сказал: «Слушайте, слушайте! Его стоит послушать!» – и это огорчило меня куда больше, чем следовало бы. А Боб Стрейндж и вовсе был похож на члена школьной крикетной команды, которому его герой – великий спортсмен – разрешил понести свою биту.
Великие боги! Неужели они не понимают, кто такой этот Харрингтон? Неужели не чувствуют, до чего фальшивы его речи? Впрочем, Юлий Цезарь и Калигула тоже, как известно, обладали немалым обаянием и притягательной силой. А потому я скрепя сердце приготовился к худшему – к выслушиванию финансового плана, составленного нашим казначеем, и перечня тех внутренних перемен, о которых упомянул новый директор. Джонни Харрингтон – ныне представший в новом обличье доктора Харрингтона, награжденного МБИ, – наблюдал за мной с еле заметной усмешкой, скорее похожей на вызов.
– А теперь некий взгляд в будущее, – сказал он, поворачиваясь к нашему казначею. – Прошу вас, обрисуйте нам те изменения, которые сделают нас более конкурентоспособными, более подготовленными к борьбе с соперниками в мире бизнеса и инноваций.
Инновации. Вот чем объясняется присутствие на столе в учительской монитора и ноутбука. Наш казначей прямо-таки ушиблен тем, что он называет PowerPoint, а я считаю чем-то вроде электронной шпаргалки для идиотов. Ну что ж, устроившись поудобней, я приготовился немного вздремнуть. Я – Старый Центурион и под всякими не нужными «Сент-Освальдз» инновациями подписываться ни за что не стану. А PowerPoint, как и электронная почта, как раз к ним и относится. И пусть Боб Стрейндж сколько угодно раз заносит меня в «список отсутствующих» на тех собраниях, которые посвящены инновациям; пусть без конца высылает мне с помощью электронной почты приглашения зайти к нему в кабинет – словно отныне он не в силах просто приоткрыть дверь и, высунувшись в коридор, меня окликнуть (или хотя бы нацарапать записку и сунуть ее мне под дверь)!
К счастью, Даниэль, секретарша Боба, куда более сговорчива, и мне ценой нескольких ласковых слов и коробки шоколада на Рождество удалось уговорить ее печатать присланные мне электронные письма и приносить их в мою голубятню. Именно поэтому я был так удивлен, когда сегодня утром не обнаружил у себя на столе ни одного письма, хотя в начале триместра всякой бумажной работы всегда полно.
PowerPoint, принесенный нашим казначеем на собрание, до некоторой степени разъяснил эту загадку. Отныне, видимо, «Сент-Освальдз» предстоит стать образцовым учебным заведением, где начисто отсутствует всякая возня с бумажными документами и отчетами, а преподаватели взаимодействуют друг с другом исключительно онлайн. Казначей, остроносый шотландец, пользующийся репутацией остряка, заявил, что это, безусловно, пойдет школе на пользу, так как, во-первых, естественным образом омолодит преподавательский состав, а во-вторых, сделает более эффективной систему доставки корреспонденции; при этом старые деревянные стойки с секциями для бумаг (которыми у нас пользуются с 1904 года) станут совершенно излишними.
По мнению Харрингтона, уничтожение этих стоек позволит существенно расширить учительскую комнату отдыха; ее также необходимо подновить и снабдить удобными рабочими местами для преподавателей – здесь была сделана пауза, и нам показали множество диаграмм и чертежей, из которых становилось ясно, что новую комнату отдыха разобьют на отдельные клетушки, снабдив каждую столом и компьютером, и мы будем сидеть там в рядок, как наседки на яйцах, трудясь «эффективно и продуктивно». Казначей сообщил также, что для тех членов коллектива, которым потребуется дополнительное обучение в области «развивающих технологий», после окончания школьных занятий будет организовано дополнительное «посещение хирурга», то есть беседы с мистером Биердом (кстати, безбородым[22]), нашим начальником IT-службы, и все желающие смогут приходить туда со своими идеями и предложениями.
Нет уж, я лично этим заниматься не стану. Слишком я старый пес, чтобы учить меня новым фокусам. А в случае необходимости я прекрасно могу сколько угодно поработать дополнительно, спокойно сидя у себя в классе № 59 и довольствуясь всего лишь пакетиком лакричных леденцов, да еще мышами в качестве компании.
Впрочем, еще более интересными оказались те сведения, которые касались бюджета школы, подготовленного нашим казначеем. Многое из этого я, правда, уже не раз слышал и раньше – консолидация средств; распродажа ненужного имущества; модернизация и рационализация работы кафедр; максимальное повышение эффективности. Все эти предложения имели целью уменьшение количества выделяемых средств и жизненного пространства для той или иной кафедры. Я привык отбивать атаки, сидя в своем законном углу, и перспектива новых боев меня не только не пугала, но даже бодрила.
Однако следующее заявление казначея моментально заставило меня выпрямиться. Я прямо-таки мертвой хваткой вцепился в подлокотники кресла, когда он радостно возвестил о «новом потрясающем начинании», которое, по всей видимости, проложит путь «для долгого и успешного» сотрудничества с «родственной нам» школой «Малберри Хаус»; причем первые шаги в этом направлении, по его словам, будут сделаны в старших классах уже на следующей неделе…
– Извините, – сказал я, – я что-то не пойму, что конкретно вы имеете в виду?
Казначей метнул в мою сторону неприязненный взгляд и пояснил:
– Я имею в виду школу «Малберри Хаус» и наше намерение создать систему объединенных классов по некоторым предметам.
Объединенные классы! О господи!
– Вы хотите сказать, смешанные классы? – спросил я.
Он заставил себя слегка растянуть губы в улыбке, но промолчал, и я уточнил:
– То есть в таких классах будут вместе учиться и наши мальчики, и девочки из «Малберри»?
– Именно это обычно и подразумевается под понятием «смешанные классы», Рой, – усмехнулся казначей, явно играя на публику. – Но не тревожьтесь. Вы, я уверен, наилучшим образом экипированы, дабы предотвратить любые попытки неподобающего поведения в классе.
Я фыркнул – это было очень похоже на любимый звук нашего старого директора.
– Только не говорите, что вы ничего об этом не знали! – нетерпеливо продолжил казначей. – Я еще несколько месяцев назад отправил вам электронной почтой детальный план наших нововведений.
– Вы же знаете, казначей, что я e-mail не пользуюсь, – сказал я.
– А female[23] вы пользуетесь? – Столь непритязательная шутка помогла казначею оседлать своего любимого конька, и теперь он старался вовсю, вызывая смех в мой адрес. – Вы же слышали выступление нашего директора, Рой. Нам предстоят большие перемены. Кроме того, ваши латинские группы стали до того малочисленны, что вы, по-моему, должны радоваться, если на занятиях у вас прибавится учеников.
Тут он, пожалуй, был прав. В прошлом году у меня начальная группа по латыни в lower sixth состояла всего из четырех мальчиков, и один из них уже к Рождеству решил бросить латынь, предпочтя ей бизнес-уроки.
И все-таки – девочки! Да еще и девочки из «Малберри». В этой, соседствующей с нами, частной школе для девочек есть нечто такое, что мгновенно вызывает у меня крайнее раздражение. Не знаю, то ли дело в самих ученицах – в их задранных по самое не могу юбчонках, дурацком хихиканье и вечном выражении превосходства на глупых мордашках, – то ли в их наставницах, которые в большинстве своем представляют собой просто более потрепанный и менее модный вариант собственных учениц, то ли в их нынешней директрисе, особе неопределенного возраста с темпераментом явной хищницы, чьи искусственно высветленные волосы более всего напоминают охапку сена, а подол платьев в последние десять лет поднимается все выше и выше, как бы в обратной пропорции со все уменьшающимися шансами поймать в силки кого-то из мужчин.
Но я, проработав тридцать четыре года в «Сент-Освальдз», постоянно ухитрялся избегать общения с представительницами «Малберри Хаус», несмотря на то что обе школы связаны не только самим моментом своего создания и общим Советом директоров, но и многими десятилетиями сотрудничества в плане школьных спектаклей, концертов и поездок за границу.
– Спаси и помилуй нас, Господи, – пробормотал я.
Сидевший рядом со мной историк Робби Роач неприлично фыркнул.
– По-моему, вы неблагодарны, Рой, – шепнул он мне. – Я бы, например, с огромным удовольствием заполучил в свою группу несколько девочек из «Малберри».
Робби преподает свой предмет настолько плохо, что Боб Стрейндж старается старших классов ему вообще не давать. Зато Робби отлично ведет полевые занятия, а также успешно руководит лагерем скаутов – все это он просто обожает, хоть и делает вид, что тратит на «дополнительные занятия с детьми» слишком много своего драгоценного свободного времени и, следовательно, заслуживает определенной компенсации.
Вот и сейчас он заговорщицки мне подмигнул и прошипел:
– Свежие ягодки, старина! Свежие ягодки!
Послушать его, так можно представить себе пожилого распутника, какими их обычно показывают во французских фильмах, столь любимых Эриком. На самом же деле Робби совершенно безобиден – он только на пустую болтовню и способен; даже собственные волосы привести в порядок не может, не говоря уж о порядке в классе. Даже думать смешно, что именно он – из всех прочих – оказался бы способен соблазнить юную красотку из «Малберри». Да он не сумеет ее заставить даже домашнюю работу вовремя сдать!
И я вновь обратился к своему истинному врагу:
– Скажите, казначей, все ли преподаваемые в нашей школе предметы получат пользу от предполагаемого объединения? И всем ли преподавателям грозит подобное счастье? Или классическая филология – это единственный предмет, который непременно нужно – хм… – затянуть в корсет обновленного расписания?
Робби снова непристойно хмыкнул.
Казначей остро на него глянул и сказал, обращаясь ко мне:
– Пока это касается только тех предметов, что и обычно. А также всех языковых занятий.
«Те, что обычно», догадался я, это музыка и драма. Кстати, обе эти кафедры в последние годы были гораздо больше связаны с «Малберри Хаус» общими делами и мероприятиями, чем все остальные. И в результате некоторые наши преподаватели прямо-таки пугающим образом сроднились с преподавателями из школы для девочек; они постоянно вместе ставили всевозможные мюзиклы с восклицательными знаками в названии, проводили во внеурочное время совместные занятия йогой и вообще всячески поддерживали общение с «Малберри Хаус».
Ну что ж, прекрасно, думал я; ведь не секрет, что школе «Малберри Хаус», чтобы выжить, давно необходимо слияние с какой-то более сильной школой, а «Сент-Освальдз» подобно осторожному холостяку, перед которым то и дело возникает угроза возможного брака, подобного слияния до сих пор весьма искусно избегал.
Это, как мне показалось, давало некоторую надежду. И дело вовсе не в том, что я не люблю девочек, но я все же предпочитаю любить их издали. Я, например, люблю и котят, и мороженое, но категорически не согласен, чтобы с ними являлись ко мне в класс.
Харрингтон бросил на меня сочувственный взгляд.
– Я понимаю, вам все это, должно быть, кажется чересчур новым, – сказал он, – однако нужно смотреть фактам в лицо. Динозавры некогда властвовали миром, но их время кончилось. Вот и для «Сент-Освальдз» настало время эволюционировать. Сейчас наша первоочередная цель – просто выжить. И мы непременно выживем. Хотя, возможно, и не все… – Его улыбка стала более резкой, какой-то застывшей. – Выживут те, кто готов повернуться к будущему лицом и не цепляться за прошлое. Такие выживут. И мы выживем. Потому что мы хотим остаться в живых.
И снова почти все в учительской встали и дружно захлопали в ладоши. Я же остался сидеть, хотя даже Эрик встал и громко аплодировал новому директору вместе с остальными. Харрингтон воспринял это с явным удовлетворением – в котором, правда, чувствовалось легкое, тщательно завуалированное презрение. Но это заметил только я. И он понял, что я это заметил. И снова мне показалось, что время от времени он искоса посматривает на меня, словно оценивая уровень потенциальной угрозы. Может быть, нечто подобное чувствует и заклинатель змей, когда смотрит кобре прямо в глаза? Но даже если это и так, то мне бы очень хотелось понять, кто из нас заклинатель, а кто змея.
Глава четвертая
Осенний триместр, 2005
В любой учительской всегда имеются представители самых известных человеческих племен. У нас, например, есть Бизнесмен, или Офисный Костюм, которого случайно занесло в школу еще в шестидесятые годы на чумном судне (он представлен Бобом Стрейнджем); Ярый Сторонник, или Зануда (это, разумеется, доктор Дивайн); Бывший Ученик (старина Эрик Скунс, который, похоже, не в силах жить вдали от «Сент-Освальдз»); и, разумеется, Твидовый Пиджак (прототипом этого героя являюсь я сам). А школьные дамы – это либо Драконы, либо – гораздо чаще – Низкокалорийные Йогурты, представляющие собой весьма унылый подвид женщин, которому свойственно тихо сидеть в углу, обсуждая по очереди модную диету, очередной скандал или эпизод из сериала «Соседи». Довольно редко встречается в учительской такой тип людей, как Заклинатель Змей; обычный учитель за всю свою жизнь может встретиться с таким человеком всего раз или два. И мне было очень странно видеть, что именно Джонни Харрингтон превратился теперь в типичного Заклинателя Змей. Да, это было странно – однако удивлен я не был. Ведь я всегда знал, что рано или поздно он вернется, не так ли? Я понимал это еще двадцать лет назад.
Впервые в моей жизни он появился четырнадцатилетним подростком осенью тысяча девятьсот восемьдесят первого года. В моем седьмом классе он был одним из новичков и произвел на меня сильное впечатление своими великолепными оценками по всем академическим дисциплинам и безупречным поведением. Да и внешне Джонни Харрингтон был поистине безупречен: красивые блестящие волосы; безукоризненная стрижка (хотя, на мой взгляд, и несколько девчачья); кожа на лице идеально чистая, не отмеченная подростковыми прыщами; новенькая школьная форма сидит отлично и выглядит всегда аккуратней, чем у других; туфли начищены до вызывающего трепет блеска, а школьный галстук завязан именно так, как полагается…
Признаюсь: он мне сразу же не понравился. Была в нем некая холодность; та самая холодность, что так свойственна и нашему Бобу Стрейнджу. Джонни Харрингтон не только обладал весьма привлекательной наружностью, но и был всегда вежлив, корректен, никогда не забывал сказать «сэр», но говорил это с таким выражением и так при этом смотрел, что сразу же хотелось проверить, не расстегнута ли у тебя молния на брюках, не заметны ли пятна пота под мышками, не перепачкан ли мелом пиджак и не ошибся ли ты, случайно, в латинском переводе, понадеявшись выдать свою оплошность за шутку…
Латынь он для своего возраста знал отлично. Я выяснил, что до девяти лет его учили дома, а потом отдали в одну из местных школ второй ступени, и к тому времени, как он оказался в «Сент-Освальдз», его знания были уже значительно выше среднего уровня, что меня сперва очень порадовало. Дело в том, что больше половины тех, кто, сдав экзамен и получив возможность учиться в школе «sixth-form», приходили ко мне в седьмой класс, не имея ни малейшего понятия о латыни, а поскольку именно я преподавал классические языки в «lower sixth», в мои обязанности входило подтягивание этих неучей до приемлемого уровня. Для этого я был вынужден вылавливать их на переменах и во время обеденного перерыва, а также заниматься с ними дополнительно, тогда как доктор Шейкшафт, заведующий кафедрой классической филологии (а заодно и наш директор), спокойно посиживал у себя в кабинете, слушая пение сверчка и, вопреки советам лечащего врача, в немыслимых количествах поедая сыр.
Однако Харрингтон в моей помощи совершенно не нуждался. Любые задания он выполнял быстро и аккуратно, и с его лица не сходило выражение вежливой скуки; он никогда не поднимал первым руку, но и ошибок никогда не делал. На него легко было не обращать внимания, занимаясь в основном с теми, кто искренне считал латынь чересчур трудным предметом; к тому же тогда в моей группе насчитывалось тридцать пять человек, и я не то чтобы совсем упустил Харрингтона из виду, но все же, признаюсь, не особенно за ним следил. И когда в итоге была получена первая жалоба, это застало меня врасплох.
Вспомните, тогда ведь были совсем иные времена. Премьер-министром недавно стала Маргарет Тэтчер. Только что был вынесен приговор «йоркширскому потрошителю»[24]; а принц Чарльз только что женился на Диане. Тогда кафедра классических языков, где работали целых три преподавателя, являла собой настоящую империю: у нас был собственный кабинет, собственная секция в школьной библиотеке и несколько классных комнат, а также всевозможные кладовки и шкафы для хранения учебных материалов. Мне тогда только исполнился сорок один год, и я пребывал на пике своей карьеры, обладая быстрым умом, живостью движений и легкой походкой. Впрочем, новичком в «Сент-Освальдз» я не был; я уже проработал там целых десять лет, а до этого преподавал еще в двух школах, хотя и более низкого уровня. Так что теперь я пожинал плоды приобретенного опыта. Ученики разных классов хорошо меня знали и уважали – в конце концов, очень многие из них в то или иное время у меня учились.
Ну а преподавательский состав в «Сент-Освальдз» обычно довольно долго остается неизменным. Так что несколько человек из той старой команды, с которой я начинал работать, по-прежнему находились на борту – в том числе наш капеллан, Эрик Скунс и даже доктор Дивайн, который, правда, был несколько моложе нас с Эриком, но и в свои тридцать шесть уже казался совершенно невыносимым и проявлял поразительное упорство, граничившее с совершенно неуместной наглостью, в спорах о территории. У меня и тогда уже было любимое кресло в учительской, подушки которого за все эти годы, кстати сказать, совершенно не пострадали, а в школьном расписании за мной числилось весьма изрядное количество часов, что ныне представляется мне прямо-таки невероятной щедростью.
Тогда большинство моих школьных коллег – а многие из них были типичными Твидовыми Пиджаками, то есть принадлежали именно к тому типу людей, к которому в итоге оказался причислен судьбой и я, – представлялись мне, неискушенному, какими-то поразительно дряхлыми и устаревшими. Я всячески игнорировал традиции «Сент-Освальдз»: не посещал утренние построения, именуемые Ассамблеями; использовал на уроках собственные, неортодоксальные, методы; старался привнести в объяснение нового материала какие-то более яркие, как мне казалось, нотки (например, иллюстрируя особенности первого склонения – mensa, mensa, mensam – я обычно подменял это слово существительным merda[25], которое ученики всегда по какой-то причине запоминали гораздо лучше).
Итак, в те дни нас на кафедре классической филологии было трое: я; доктор Фили, или Обидчивый – не в меру чувствительный и раздражительный выпускник Оксбриджа, вполне соответствовавший своему времени; и директор школы доктор Шейкшафт, одновременно считавшийся заведующим нашей кафедрой. Впрочем, кафедрой Шейкшафт заведовал лишь номинально, а с учениками имел дело лишь в случае крайней нужды или в те нечастые моменты, когда на уроке требовалось присутствие третьего преподавателя классических языков.
Впрочем, директору и не полагается иметь слишком много учебных часов в неделю, а потому доктор Шейкшафт с удовольствием предоставлял мне и доктору Фили полную свободу, частенько разрешая действовать от его имени; сам же он большую часть дня проводил в своем «святилище», целиком погруженный в директорские заботы, столь же жизненно необходимые, сколь и абсолютно непостижимые. Разумеется, когда дело доходило до жалоб, то первым о них узнавал именно доктор Шейкшафт. Так было и в тот дождливый день примерно через четыре недели после начала триместра, когда меня во время обеденного перерыва вызвали (это единственный глагол, способный описать данное действие) в директорский кабинет.
– Войдите.
Кабинет директора представлял собой довольно просторную комнату с коричневыми стенами, насквозь пропитанную запахами кожи и сыра; готические окна кабинета выходили на прямоугольный школьный двор. Сам директор сидел за столом и делал вид, что пишет какое-то важное письмо, хотя я был уверен, что перед тем, как я постучался, он, как обычно, слушал радиоприемник. Его пальцы сжимали ручку с золотым пером, которая была размером с небольшую торпеду. Он ничем не обозначил, что заметил мое появление, и с нарочитой серьезностью продолжал писать; затем поставил под письмом свою размашистую подпись и тут же начал сочинять следующее послание. Я молча ждал, стоя на маленьком восточном коврике перед его письменным столом.
Таков уж был стиль нашего старого директора, знаете ли. Каждое его действие было буквально пропитано грубостью, родственной удару дубиной, а его презрение к тем, кто не способен был этой грубости противостоять, было поистине легендарным. Я выждал минут пять, наблюдая за каплями дождя, сползавшими по оконным стеклам, заключенным в тесные переплеты, и спокойно сказал:
– Я вижу, вы очень заняты, господин директор. Пожалуй, мне лучше зайти в более удобное для вас время.
С этими словами я двинулся к двери и наверняка ушел бы, но тут директор, должно быть, догадался, что я его попросту провоцирую, и, отложив свою «торпеду», воздвигся из-за стола. Он навис надо мной с таким выражением лица, которое заставляло трепетать даже самых отъявленных хулиганов, а обычных мальчиков доводило чуть ли не обморока; ученики старших классов даже дали доктору Шейкшафту прозвище SS, что означало отнюдь не «эсэсовец» (хотя, возможно, отчасти подразумевалось и это, поскольку Шейкшафт преподавал немецкий язык), а Шкуродер Шейкшафт[26].
Но я-то был уже далеко не мальчишкой, да и мужества у меня вполне хватало. А с такими типами, как наш старый директор, грубиянами старой школы, нужно было действовать решительно, стараясь не только их осадить, но и показать свою готовность дать сдачи. Это, кстати, было не так-то легко. Например, наш старый директор обладал поистине носорожьей толстокожестью. Подобная толстокожесть в сочетании с весьма своеобразным распределением по телу его немалого веса действительно больше подошла бы носорогу, а не человеку. И глазки у Шейкшафта были как у разъяренного носорога – маленькие, выпуклые, налитые кровью. И те звуки, которыми сопровождалось, скажем, его вставание из-за стола – некое неопределенно-грозное «уфф!» – тут же вызывали в памяти пьесу Ионеско «Носороги»[27], которую французская группа Эрика Скунса как раз в тот год изучала.
– Прошу вас, господин директор, не беспокойтесь, – сказал я. – И, право, не стоило вам из-за меня отрываться от важных дел и вставать из-за стола.
Он снова издал свое грозное «уфф!», а потом уже простыми словами послал меня вместе с моим нахальством к черту.
– Полагаю, вам это кажется смешным? Комедиант чертов! Сейчас вам будет не до смеха – мы получили жалобу. Вот! – И он швырнул в мою сторону листок бумаги, который я ухитрился поймать. Оказалось, что это написанное на почтовой бумаге письмо от некоего д-ра Харрингтона, магистра гуманитарных наук, выпускника Оксфорда.
На меня уже много раз приходили жалобы. Разумеется, сейчас я получаю их гораздо чаще, потому что каждый ученик знает свои права (или думает, что знает), и то поведение, за которое он в былые времена наверняка получил бы выговор, или был бы оставлен после уроков, или даже заработал бы несколько ударов хлыстом, теперь определяется как «определенные трудности с процессом обучения» – гиперактивность, дислексия, дефицит внимания и т. п. (то есть все то, что мы, куда более черствые, когда-то называли простой невнимательностью), – а значит, этот ученик заслуживает чуткого обращения, а не доброго шлепка по попе.
Лично я всегда считал старые методы школьного воспитания вполне действенными (так, между прочим, считали и сами ученики), но та парламентская фракция, которая внесла в запрещенный список выражение «чернокожий» и ввела в обиход такие лингвистические монстры, как «председательствующий», «обладающий иными возможностями» и «академически сомнительный», очевидно, думала иначе. В настоящее время я получаю жалобу практически каждый раз, стоит мне кого-то оставить после уроков; впрочем, я по большей части подобные жалобы игнорирую – да и сами мальчики тоже. Но в былые времена жалоба от родителей была событием довольно серьезным, вот я и ломал голову, пытаясь понять, чем это я сумел настолько огорчить доктора Харрингтона, MA[28].
– Кто такой этот Харрингтон, между прочим? – спросил директор.
Я сообщил ему то немногое, что знал о юном Харрингтоне из его личного дела. Затем я прочел письмо, и туман начал рассеиваться. Сейчас я, конечно же, не могу припомнить все дословно, но некоторые фразы намертво застряли в моей памяти. «Недостаточное моральное руководство», например; а также «словарь, совершенно не подходящий для классной комнаты» или «постоянное использование всевозможных грязных и непристойных выражений».
– Но я не употребляю грязных и непристойных выражений! – возмутился я. И это чистая правда; я ни разу даже не обругал ни одного ученика как следует, хотя, Господь тому свидетель, пару раз у меня были для этого все основания.
– Но этот мальчишка утверждает обратное! – фыркнул директор. – Мало того, этот мерзавец даже представил список всех неприличных слов, которые вы произносите на уроках, и передал этот список своим родителям, черт бы их побрал, а те – и если бы вы потрудились более внимательно прочесть личное дело проклятого щенка, то знали бы об этом! – просто ушиблены Библией и считают, что Мэри Уайтхаус[29] являет собой весьма опасную разновидность либералки…
– Отлично сформулировано, господин директор! – искренне восхитился я.
Услышав это, директор набычился и перешел в наступление, сунув мне пресловутый список, где слова, расставленные в алфавитном порядке, были аккуратно написаны знакомым остроконечным почерком Харрингтона.
Merda, merda, merdam…
– Ага… Ну и что? Разве хоть кто-то может на такое обидеться?
– Очевидно, кое-кто уже обиделся! – рявкнул директор.
– Да у этого мальчишки просто podex с merda[30] вместо мозгов…
– Что?
– Просто фигура речи, господин директор.
– И, кстати, вполне соответствует действительности… Но что за идиот…
Заметив, что директор вот-вот окончательно выйдет из себя, я поспешил сказать:
– Господин директор, речь идет о латыни. Все эти слова есть в словаре. И, естественно, они вполне могут быть произнесены на уроке… (Хотя, может, podex или merda произносить и не стоило бы, подумал я.) И все это… – я сделал паузу и гневно взмахнул пресловутым списком, – все это просто особо тяжелый случай ханжества! То самое, что мои коллеги с французской кафедры называют honi soit qui mal y pense[31].
– Уфф! – с яростью выдохнул директор, но я уже видел, что красный туман у него перед глазами рассеивается. – Ладно. Но я больше не желаю ничего об этом слышать и буду вам очень признателен, если вы впредь на уроках будете все же склонять существительное mensa. У нас все-таки кафедра классической филологии, а не театр комедии.
Я был вынужден признать, что это действительно так. Мне сорок четыре года, я давно здесь преподаю, но ни разу, по-моему, не видел, чтобы старый Шейкшафт улыбнулся чьей-то шутке; я уж не говорю о том, чтобы он сам сподобился пошутить. И хотя он явно меня недолюбливал, я все же был уверен, что в случае чего он будет на моей стороне. Шейкшафт был истинным представителем старой школы, и я хорошо знал, что наедине он способен буквально осыпать упреками любого преподавателя, однако на публике стал бы до конца отстаивать его честь с оружием в руках.
Тем не менее эта жалоба меня возмутила. Я-то считал юного Харрингтона хорошим учеником, а он на самом деле оказался доносчиком! Точно школьный инспектор, записывал всякие случайно вырвавшиеся у меня словечки, а потом показывал все это родителям, заставляя их строчить на меня жалобы…
Черт побери! В этом, пожалуй, чувствовалось даже что-то зловещее. Какая-то гадость, совершенно испортившая мне все удовольствие от занятий с данной группой. Я никогда не стремился к популярности, но до сих пор мне казалось, что чисто по-человечески я для своих учеников вполне доступен, да и выдержки у меня хватает, чтобы мальчишки могли легко и просто со мной общаться. В душе я все еще чувствовал себя молодым и хорошо помнил, что значит быть четырнадцатилетним; я с удовольствием мог посмеяться вместе со всем классом, и вообще, по-моему, у меня с ребятами было полное взаимопонимание. Я часто оставался в классной комнате на переменах и во время ланча; я охотно участвовал в их разговорах и даже порой шутил. Мальчишки прозвали меня Квазимодо – потому что мой класс находится в башне под самой колокольней, – но я знал, что в целом они обо мне весьма неплохого мнения, считают, что со мной «вполне можно иметь дело», хотя я очень не люблю грубиянов и задир, которые терроризируют тех, кто заведомо слабее. Все мои ученики знали, что я могу довольно сильно рассердиться на того, кто регулярно не выполняет домашнее задание; однако, хотя на моих уроках и бывает порой трудновато, они все же проходят гораздо веселей, чем многие другие.
Но с приходом Харрингтона в моем классе что-то явно изменилось. Я не сразу это заметил – все-таки он действительно был мальчиком довольно бесцветным, – но в тот осенний триместр мне стало казаться, что в классе больше нет прежнего единства. Иногда бывает, что отношения внутри класса формируют две-три доминирующие личности; а иногда разногласия между двумя соперничающими группировками и вовсе превращают класс в нечто трудноуправляемое. Но на этот раз уже в самом начале учебного года ребята из моего 3S вдруг стали какими-то неуверенными, даже робким; сидели опустив голову и словно не решаясь посмотреть мне в глаза; и впервые мне потребовалось две недели, чтобы выучить все их фамилии – хотя раньше я, как правило, запоминал фамилии своих учеников за один день.
Были и другие аномалии. Обычно в классе имеется по крайней мере один клоун, один забияка, один борец за справедливость, один бунтарь и один предмет всеобщих насмешек. Но в сентябре 1981 года я, казалось, был не в состоянии выделить из общей массы никого из представителей перечисленных выше категорий; на лицах всех мальчишек, сидевших за партами, было одинаково вежливое выражение, так что мне их головы начинали напоминать аккуратные головки сыра. И все же атмосфера в классе явно была неприятная. Казалось, нечто мерзкое и скользкое шныряет украдкой между рядами и за всеми подсматривает.
Лишь спустя какое-то время я сумел связать происходящее с юным Джонни Харрингтоном. Хотя этот мальчик вроде бы особой популярностью не пользовался. И на публику не играл. И не проявлял сколько-нибудь явного интереса ни к девочкам, ни к общественным кружкам, ни к спорту – хотя очень неплохо плавал и однажды даже выиграл школьный приз за стометровку кролем. Харрингтон всегда вовремя сдавал домашние задания и никогда не забывал вовремя вернуть взятую в библиотеке книгу. Пожалуй, почти дружеские отношения у него установились с двумя другими учениками моего седьмого класса; Наттером, который, несмотря на многообещающую фамилию[32], был очень тихим и не проявлял ни малейших признаков эксцентричности, и Спайкли, типичным сплетником, аккуратным очкариком с живым и забавным умненьким личиком, что, впрочем, опровергалось посредственными результатами его экзаменов.
Меня очень интересовало, что у этих троих могло быть общего, если не считать того, что все они в школе новички, а значит – аутсайдеры. Впрочем, все трое были, что называется, из хороших семей, и каждый был в семье единственным ребенком; кроме того, все они принадлежали к одной и той же церкви. И все же эти мальчики были чрезвычайно разными. Дети в седьмом классе часто поначалу испытывают трудности с приобретением друзей, особенно это касается новичков, которые в шестом классе вместе с остальными не учились. Однако эти трое как-то особенно выделялись даже среди семиклассников. В четырнадцать лет мир представляется чем-то вроде ярмарки с опасными аттракционами. Это период бурных восторгов и столь же бурной антипатии, граничащей с отвращением; период острой печали, пьянящей радости и затаенного смеха, от которого порой щемит сердце. Другие семиклассники играли в футбол, обозначая ворота с помощью сложенных на земле джемперов; слушали последние музыкальные новинки, открывая для себя рок-музыку; впервые начинали ухаживать за девушками. Другие семиклассники сломя голову носились по игровым площадкам «Сент-Освальдз», не замечая, что рубашки у них вылезли из штанов, а обувь настолько заляпана грязью, что ее придется оставить за порогом, дабы пощадить паркетные полы, и она еще долго будет сохнуть на крыльце, покрываясь потрескавшейся глиняной коркой.
Но у Харрингтона, Наттера и Спайкли обувь никогда не была грязной; они никогда не носились сломя голову, и рубашка у них всегда была аккуратно заправлена в брюки. Наттер был подвержен аллергии и при малейшем напряжении или усилии сразу начинал чихать; Харрингтон был о себе слишком высокого мнения и считал детские забавы ниже своего достоинства; а Спайкли отличался изрядной неуклюжестью и вечно спотыкался. Эти трое редко беседовали с другими учениками или со мной, хотя вроде бы с удовольствием проводили время у Гарри Кларка, класс которого находился точно над нашим. Гарри тоже занимался с мальчиками третьего года обучения, как и я, и если бы это был не Гарри, а другой преподаватель (или какой-то другой класс), я, возможно, и огорчился бы немного, заметив, что мои ученики предпочитают чье-то еще общество. Но Гарри был моим добрым другом – и, честно говоря, будь я на месте этих ребят, я бы тоже предпочел его всем остальным преподавателям.
Гарри был немного старше и меня, и Эрика, но производил впечатление человека, совсем еще молодого. Этому способствовала и его внешность, и его манера говорить и держаться. Долговязый, даже чуточку неуклюжий, он носил волосы несколько длиннее, чем разрешалось в школе, и говорил всегда негромко, но так, что любому человеку сразу хотелось к нему прислушаться, хотя он не делал ни малейшей попытки как-то обратить на себя внимание. Гарри Кларк начал преподавать в «Сент-Освальдз» на несколько лет раньше, чем я, но пришел туда из государственной школы, а потому и не был обременен этаким застывшим «академическим» образом мышления. В результате он пользовался среди мальчишек необыкновенной популярностью – однако любили его совсем не за то, за что порой любят некоторых «добрых» учителей, которые практически ничего не задают на дом, полагая, что это поможет им обрести взаимопонимание с учениками. Просто Гарри заставлял каждого своего воспитанника чувствовать себя личностью. А вот среди преподавателей Кларк был куда менее популярен. Скорее всего потому, что он не предпринимал никаких усилий, чтобы приспособиться к коллегам, предпочитая не общаться с ними в учительской, а оставаться в классе, беседуя со своими учениками. Кроме того, многих раздражало, когда он разрешал (и даже сам предлагал) мальчикам обращаться к нему по имени; сказывалось, наверное, и скромное происхождение Гарри, а также отсутствие у него «должной квалификации», то есть дополнительных ученых степеней.
В то время большинство преподавателей «Сент-Освальдз» имели докторскую степень или, по крайней мере, магистерскую, полученную в Оксфорде или Кембридже. У Гарри докторской степени не было, а диплом он получил в Открытом университете[33]. И все же Гарри был прямо-таки создан для преподавания. Его литературные вкусы охватывали все жанры; он обладал поистине энциклопедическими знаниями в области поп-культуры, а это означало, что урок английской литературы у него вполне мог начаться с сонета Шекспира и плавно перейти к лирике песен Дэвида Боуи, затем уступить место какой-нибудь оригинальной англосаксонской загадке и закончиться разговором о «Прайвэт Ай» или «Бино»[34]. Это был, безусловно, необычный подход к преподаванию литературы; мистер Фабрикант, например, относился к методам Гарри с большим подозрением; впрочем, согласно правилам «Сент-Освальдз», вмешиваться в работу других преподавателей не полагалось, если, конечно, это отрицательно не сказывается на конечных результатах; но поскольку результаты экзаменов по тем предметам, которые преподавал Гарри, всегда были значительно выше среднего, то более консервативным его коллегам приходилось помалкивать, хотя подобные методы они по-прежнему не одобряли.
Гарри занимал классную комнату № 58, и она находилась точно над моей № 59. Это было самое верхнее помещение, находившееся практически в старой колокольне и имевшее довольно странную шестиугольную форму; зимой там было холодно и промозгло, а летом стояла удушающая жара; добираться туда приходилось по узкой лесенке с щербатыми каменными ступенями. Именно там Гарри и проводил большую часть своего времени. Во время обеденного перерыва он либо слушал пластинки, либо беседовал с ребятами, уделяя внимание каждому, кто захотел к нему заглянуть, в том числе и Харрингтону с двумя его приятелями, которые явно предпочитали общество Гарри обществу своих одноклассников или своего классного наставника, то есть меня.
После моего визита к директору прошло уже две недели, и за это время я успел, подчиняясь начальству (хотя и с некоторой неохотой), удалить из своего преподавательского обихода большую часть наиболее грубых словечек. Меня это здорово раздражало – я чувствовал себя каким-то практикантом, который обязан отчитываться за каждое свое слово. А с какой, собственно, стати? Да, может, этим Харрингтонам, членам какой-то неведомой мне библейской секты, в каждом кусте дьявол мерещится? Мне был хорошо знаком этот тип людей; от них можно было всего ожидать, даже самого худшего. Так и случилось: поскольку я был классным наставником у Харрингтона-младшего, у меня вскоре собралась целая коллекция жалоб от Харрингтона-старшего – и насчет физкультуры (он возражал против общих душевых); и насчет английского (он был недоволен Барри Хайнсом, который пользуется в романе «Кес» «грязным языком»); и насчет биологии (которая открывала мальчику «двойное зло»: тайну человеческой репродукции и дарвиновскую теорию эволюции); и насчет французского (на уроках французского Эрик, большой любитель кино, планировал показать фильм «Дьяволицы»[35]); и даже насчет географии, которая, на мой взгляд, является самым безобидным из школьных предметов; однако же (если верить доктору Харрингтону-старшему), наш преподаватель географии мистер Муни (типичный географ, серьезный, в высшей степени респектабельный, всегда в дорогом официальном костюме) позволял мальчикам на уроках рассматривать порнографический (!) журнал.
«Порнографический журнал» оказался экземпляром «Нэшнл Джиографик» со специальным приложением, посвященным африканским племенам, но к тому времени, как все выяснилось, мистер Муни, обладавший чувствительной душой, превратился в комок нервов; он постоянно дергался, опасаясь, что его уволят с работы, и, когда он стал преподавать в моем классе 3S, от него уже попросту не было никакого толку.
– Мальчик – существо, постоянно ищущее внимания, – сказал мне Эрик Скунс во время ланча в учительской. Он в те времена считался еще «молодым стрелком» и метил на место заведующего учебной частью, да и талия его не успела претерпеть тех глобальных изменений, которые связаны с неизменной любовью моего старого друга к тортикам из кондитерской «Флёри». – Похоже, Рой, у тебя появился ОМД.
ОМД – или Особый Маленький Друг – это наш с ним специальный термин для тех учеников, которые выбирают кого-то одного из преподавателей и постоянно ищут его общества. Более всего страдают от этого учителя физкультуры и английского, хотя это может случиться практически с любым, так что и мы с Эриком не раз имели своих юных приверженцев; даже у доктора Шейкшафта – не пишущего картин маслом, не являющегося центральным нападающим в команде регби и определенно не имеющего отношения к тем людям, которых можно назвать харизматичными или хотя бы обаятельными, – были свои ярые сторонники, которых, несомненно, привлекал его высокий трон и могущество.
Я попытался объяснить присутствовавшим в учительской, что юный Харрингтон никакого отношения к моим ОМД не имеет, а его поистине разрушительное воздействие на класс куда серьезней, чем простая мольба о внимании.
– Нет, это нечто совсем иное, – сказал я. – Нечто куда более… тревожное и неприятное.
Никто не выразил несогласия со мной, кроме доктора Бёрка (школьного капеллана) и мистера Спейта (главы школьных реформистов), который, по слухам, распространяемым учениками, проводит уик-энды, разговаривая на непонятных языках и поклоняясь дьяволу. Скорее всего, эти невероятные слухи создавали и распространяли именно те ученики, которых Спейт особенно часто наказывал, – он был ярым приверженцем разнообразных дисциплинарных взысканий; например, оставлял провинившегося после уроков, или заставлял его стоять весь обеденный перерыв на коленях, или заставлял переписывать из Библии страницу за страницей, или назначал ему дополнительное дежурство по уборке класса и выносу мусора, или наносил несколько ударов хлыстом, или приказывал совершать так называемые «идиотские прыжки», во время которых ученик должен был, стоя на стуле, изображать прыжки к звездам и выкрикивать «Я идиот!», пока либо не упадет со стула, либо окончательно не охрипнет. В первую очередь благодаря именно этому наказанию мистер Спейт и заработал свою «дьявольскую» репутацию среди учеников, что в сочетании с его склонностью к сарказму и острой подозрительностью по отношению ко всему, что он мог бы квалифицировать как нечто оккультное, завоевало ему прозвище Сатанист.
– У этого мальчика есть принципы, – заметил Спейт. – Возможно, именно это и бросается вам в глаза.
Я только головой покачал и налил себе еще чаю. Мистер Спейт всегда меня недолюбливал и не упускал ни одной возможности, чтобы дать мне это почувствовать. Ничего удивительного, что он тут же принял сторону Харрингтона.
Капеллан, оторвавшись от газеты «Спортивная жизнь», посмотрел на меня и сказал:
– Мальчик неплохой и вполне здоровый. В День спорта принимал участие в заплыве от нашей школы. И принес нам целых пятнадцать очков.
Я только вздохнул про себя. Капеллан, человек, безусловно, прекрасный, на все готов закрыть глаза, если провинившийся занимается спортом. Многие юные негодяи были им спасены, получив отсрочку приговора исключительно благодаря тому, что были членами школьной команды регби или принесли нашей школе большое количество очков в каком-нибудь спортивном сражении с командой школы «Паркинсон Хаус». (Это архаичное соперничество школ имеет трехсотлетнюю историю; команда «Паркинсон Хаус» традиционно славится своими успехами в регби и в футболе, и наш капеллан иногда, сам того не замечая, начинает восхищаться ее игроками.)
В общем, в учительской я получил крайне малую поддержку и в итоге решил спросить совета у Гарри Кларка. В те времена я еще не столь сильно доверял собственным инстинктам, а Гарри, который был к тому же на четыре года меня старше, я считал одним из лучших классных наставников. Поскольку Харрингтон, Наттер и Спайкли, насколько мне было известно, немалую часть своего времени проводили в обществе Гарри, я надеялся, что ему, возможно, удастся подсказать мне решение этой болезненной проблемы.
Он, как обычно, сидел у себя в классе и слушал музыку, но, стоило мне войти, тут же снял с проигрывателя пластинку и приготовился внимательно меня слушать.
– Джонни Харрингтон, – сказал он, когда я завершил свой рассказ, – мальчик вроде бы неплохой, хотя и чересчур тихий. По-моему, он никак не может толком приспособиться к здешним условиям.
– Не может приспособиться? По-моему, он даже слишком легко приспособился. Он запросто даже с выключенным мотором проплывает сквозь все уроки, а потом жалуется родителям на всё и на всех…
– Я слышал об этом, – кивнул Гарри. – Но родители Харрингтона – большие друзья мистера Спейта и нашего капеллана. Все они принадлежат к одной и той же церкви. Разумеется, они и «Сент-Освальдз» вместе обсуждают. И потом, родители Харрингтона имеют привычку рыться в его вещах. Возможно, они сами обнаружили его тетради по латыни.
– Так вы думаете, что этот мальчишка на меня не доносил?
Гарри пожал плечами.
– Не знаю. Но я бы на вашем месте все-таки оправдал его за недостаточностью улик. Я знаю, он не входит в число ваших «Броди Бойз»…
– Моих – кого?
– Рой, не отрицайте, – сказал он. – У каждого из нас есть свои любимчики. Я знаю, что вы питаете слабость к бунтарям и клоунам. Вам нравится поощрять всяких ниспровергателей. Наш капеллан оказывает явное предпочтение спортсменам, а Эрик – ученикам вежливым и почтительным. – Гарри заметил выражение моего лица и улыбнулся. – Но это же совершенно нормально. Нельзя одинаково любить всех своих учеников. Мы всегда обязаны делать лишь одно: изо всех сил стараться ни к кому не проявлять несправедливости.
Некоторое время я молчал, сознавая, что Гарри в целом, разумеется, прав. Однако меня несколько встревожило то, что мои чувства, оказывается, так легко прочесть.
– А как бы вы поступили на моем месте? – спросил я.
– На вашем? Я бы просто поговорил с ним.
Я немало думал о том, что сказал мне Гарри. Теперь-то я вполне сознаю, что в любом классе у меня, безусловно, есть несколько учеников, которые мне наиболее симпатичны, а потому я довольно часто стараюсь как-то компенсировать эту мою невольную пристрастность. Но тогда я был значительно моложе и не особенно любил копаться в мотивах своего поведения, хотя с самого начала понимал, что Джонни Харрингтон мне неприятен. Неужели Гарри прав? – спрашивал я себя. Неужели я действительно позволил себе судить людей в соответствии с собственными предубеждениями?
До маленьких каникул в середине первого триместра оставалось две недели. Только что были сданы все тесты, и вскоре нам предстояли экзамены. Как я и ожидал, юный Харрингтон почти по всем предметам получил отличные оценки, заняв первое место в классе по латыни и шестое по остальным предметам – блестящее начало для новичка, однако по его лицу я, зачитывая результаты, сразу догадался, что он расстроен и, безусловно, надеялся на большее.
– Вы, несомненно, юноша очень способный, – сказал я ему после официальной регистрации оценок. – Я слышал, вы подумываете об одном из университетов Оксбриджа?
Он в этот момент возился в своем шкафчике. В те времена эти шкафчики еще находились в классных комнатах, и можно было многое сказать о том или ином ученике уже по состоянию его личного шкафчика: царит ли там порядок или устроен полнейший кавардак; какими картинками оклеены внутренние стенки; стоят ли книжки аккуратно на полке или свалены кучей как попало и у многих потрепанный вид и загнутые уголки.
В шкафчике Джонни порядок был поистине монашеский. Все книги были аккуратно обернуты коричневой бумагой и выстроены по размеру. Кроме книг, там имелся простой деревянный пенал для карандашей, одна линейка, ничем не украшенная и не разрисованная, и один батончик шоколада «Блу Рибанд». Никакого мусора я там не заметил, там не было даже стружек от карандашей. Но там не было и ничего такого, что могло бы дополнительно обрисовать личность этого мальчика – ни одного постера или стикера, ни одного собственного рисунка.
– Сэр… – сказал Харрингтон, поворачиваясь ко мне, и голос его звучал настолько невыразительно, что трудно было понять, это «да» или «нет».
– С вашими способностями вам это, разумеется, удастся, – весело продолжал я. – По латыни вы во всех отношениях у меня на первом месте – э-э, да вы девяносто процентов набрали! – а по остальным предметам вы шестой в классе. Хотя, не сомневаюсь, могли бы оказаться и первым, если бы не весьма посредственные результаты вашего теста по английскому.
Мне показалось, что при этих словах Харрингтон слегка помрачнел. С программой по английской литературе у него пока что были одни неприятности – «Кес» Барри Хайнса сменился Тедом Хьюзом[36], Д. Лоуренсом[37] и, наконец, великим Чосером, но ни одного из этих писателей родители Харрингтона не сочли подходящим для ученика средней школы. В результате мальчик еле-еле сдал тесты и по оценкам оказался на семнадцатом месте в группе из двадцати одного ученика; и отзыв его преподавателя – мистера Фабриканта, ветерана Твидовых Пиджаков, не желавшего зря тратить время на тех, кого он называл «чувствительной бригадой», – ясно свидетельствовал о том, что с семнадцатым местом Джонни еще очень повезло, поскольку и эти-то положительные оценки он буквально «выцарапал», и если он не возьмется за ум, не начнет по-настоящему читать предложенные преподавателем книги, а также обдумывать написанное в этих книгах, то на экзамене в конце триместра опять получит в лучшем случае «посредственно».
– Насколько я понимаю, английской литературой вы не интересуетесь?
– Сэр… – с той же непонятной интонацией сказал Харрингтон, запирая шкафчик.
– А жаль, – по-прежнему бодро продолжал я, – поскольку во всех лучших университетах существует мнение, что те, кто не любит и не понимает литературу, обычно плохо понимают и многое другое.
Харрингтон промолчал, но чуть прищурился, явно скрывая досаду.
– Литература развивает способность мыслить, расширяет душу, – сказал я, – а вам, по-моему, неплохо было свою душу чуточку расширить.
Он изумленно на меня глянул, непривычный к столь прямым упрекам.
Я ободряюще ему улыбнулся и продолжил:
– Расширив свое восприятие, вы с удивлением обнаружите, что школа и жизнь имеют много общего. Если угодно, школа – это некий тренировочный механизм жизни, некая безопасная модель человеческого общества, благодаря которой можно получить не только знания по предметам, предлагаемым школьным расписанием, но определенное умение общаться с людьми, а также воспринимать такие идеи, с которыми никогда раньше не сталкивался. Говорят, что страус, оказавшись перед чем-то неизвестным и непонятным, просто прячет голову в песок. Ну, для страуса это, может, и годится… – Я посмотрел на свои часы и встал из-за стола, но потом все же не удержался и прибавил: – Но в целом среди тех, кто стремится в университет, «страусы» встречаются не так уж часто.
Ну что ж, Харрингтон был, безусловно, умен. Сохранив прежнее, вежливое, выражение лица, он тем не менее ясно показал мне, что прекрасно все понял. При этом на его мраморных щеках выступил лишь легкий румянец, да спина, казалось, стала еще прямее; однако его неизбывное «сэр» (когда он в очередной раз его произнес) упало как камень, холодный камень, лишенный каких бы то ни было чувств.
– Я всего лишь пытаюсь как ваш учитель и, надеюсь, как друг, – это была неправда, но мне хотелось хотя бы частично смягчить свои слова, убрать из них ядовитое жало, – объяснить, что школа – это отнюдь не то место, где вам кто-то силой или обманом навязывает свои идеи. Школа – это некое привилегированное сообщество людей, где вас, учеников, знакомят с великим множеством новых идей, и некоторые из этих идей, возможно, совпадут с вашими собственными мыслями и представлениями, а некоторые нет. Вы, разумеется, можете их отвергнуть – но лишь после того, как внимательно изучите. И помните: у человека, прячущего голову в песок, для коммуникации с остальным миром остается еще только одно отверстие.
У любого другого мальчишки подобное завершение разговора с учителем могло бы вызвать улыбку. Но Харрингтон не улыбнулся. Он лишь сдержанно кивнул, словно помечая меня этим кивком в качестве объекта, в дальнейшем подлежащего уничтожению, подхватил свой рюкзак и вышел из класса, оставив в моей душе четкое опасение, что я не только не сумел установить с этим мальчиком контакт, но и, возможно, приобрел себе заклятого врага.
Глава пятая
Осенний триместр, 1981
Дорогой Мышонок!
Мистер Стрейтли мне не нравится. И я ему тоже. Он так преподает нам латынь, словно это шутка, доступная лишь его пониманию. Ну что ж, он получит от меня merda, раз ему так этого хочется. (Видишь, чем я там занимаюсь? Склоняю слово merda! Впрочем, от merda недалеко и до murder[38]. А мне еще со всех сторон твердят, что у меня нет чувства юмора!)
Смешно, до чего иначе я воспринимал многие вещи, пока не оказался здесь. Впрочем, дома я прежний, такой же, каким был всегда. Мои родители перемен не любят. Впрочем, они мое присутствие замечают лишь в тех случаях, когда случается нечто ужасное. В церкви я терпелив и вежлив. На собраниях старательно изображаю искреннее участие. Иногда я даже хожу исповедаться в совершенных грехах. Точнее, грешках. Но все остальное так и осталось неизменным. Но о таких вещах, я думаю, никто и слышать не захочет.
Я очень часто думаю о той пластинке – об «Animals» группы «Пинк Флойд». Слова всех песен я переписал в свой дневник на самые последние странички. В одном месте там используется неприличное слово на букву «f». Но Гарри даже таким вещам особого значения не придает. Впрочем, сам я покупать такую пластинку вовсе не собираюсь. Смысла нет. Все равно отец никогда не разрешит мне ее слушать. Даже если он ничего не будет знать о том, какие слова там встречаются. Ему достаточно один раз увидеть фотографию на обложке альбома, и он сразу все поймет. И скажет, что это извращенцы. Да, он их называет извращенцами или еще дегенератами. Для отца вообще любой мужчина с длинными волосами – это непременно либо извращенец, либо дегенерат. Мне иногда страшно хочется отрастить длинные волосы. И когда я наконец отсюда сбегу, то обязательно попытаюсь это сделать. Да, Мышонок, именно так мне это сейчас и представляется. Как бегство.
До бегства мне осталось всего пять лет. А пока придется притворяться. Просить. Стараться понравиться. Кувыркаться через голову, если попросят. Я даже выгляжу как обыкновенный домашний пес, хотя на самом деле я волк в чужом обличье. И никто (кроме Гарри, возможно) даже не подозревает, что я просто притворяюсь.
Из всех преподавателей «Сент-Освальдз» один лишь Гарри – человек по-настоящему хороший. Мистера Стрейтли мы с тобой уже обсуждали. Мистер Скунс вечно долдонит о поездках в Париж, о Жаке Тати[39] и каких-то допотопных вонючих французских фильмах. Есть еще мистер Спейт, он преподает у нас историю реформистской церкви. Он, кстати, принадлежит к той же церкви, что и мы, и, по-моему, как раз из-за него мои родители и выбрали «Сент-Освальдз» – считали, что мистер Спейт всегда сможет там за мной присмотреть. Они вообще о нем очень высокого мнения. А сам мистер Спейт искренне верит, что существуют счастливые, здоровые, богобоязненные мальчики. Впрочем, он верит и в демонов, и в то, что йога и вегетарианство – это «удобная калитка в оккультизм», а рок-музыка, комиксы и романы-«ужастики» содержат дьявольские послания, способные не только «промыть мозги» молодому поколению, но и отправить их души прямиком к Люциферу. Что, если честно, попросту смешно.
А все же я как-то ухитрился приспособиться к здешним условиям. По-моему, у меня и с оценками будет все в порядке – за исключением разве что английского, где я должен сидеть и выслушивать этого козлину мистера Фабриканта, зная, что прямо над нами Гарри ведет урок в своей группе. У него не только на переменах, но и на уроках всегда весело. Иногда в погожий день, когда окна открыты, я даже голос его могу услышать. А порой он включает музыку. И еще они на уроках часто смеются. Однажды они хохотали так громко, что мистер Фабрикант даже окно закрыл.
Как бы мне хотелось учиться у Гарри! В его классе даже список книг для чтения куда лучше, чем у нас. Они читают и «Повелителя мух» Голдинга, и «1984» Оруэлла, и «Юлия Цезаря» Шекспира, а мы – всякую муть. Но я пари готов держать: если бы нас учил Гарри, мы бы любые книжки читали с удовольствием. «Повелителя мух» я уже начал читать. Попросил эту книгу у Гарри. Там на полях множество всяких пометок, сделанных его рукой, и это особенно приятно – словно он сам тайком меня учит. Словно делится со мной своими мыслями. Словно я его тайный дневник читаю.
А мистер Стрейтли по-прежнему жутко меня раздражает. Совершенно ясно, что одним из его любимчиков мне никогда не стать. Двум другим новичкам он тоже не нравится. Голди смотрит на него так, словно это какая-то дрянь, которую кот в дом притащил, а Пудель даже во время перемен из класса почти не выходит и все время что-то рисует в своем учебнике по латыни. Ни тот, ни другой здесь еще толком не прижились. Ни тот, ни другой авторитетом в классе не пользуются. Пудель, по-моему, – чуточку фрик, а Голди слишком высокого мнения о себе, чтобы присоединиться к какой-то компании, даже самой крутой.
Что ж, в этом мы с ними, пожалуй, схожи. Впрочем, я вообще никогда особой популярностью не пользовался. Я вообще вместе с остальной стаей не бегаю. Я из другого племени. Но, учитывая Мое Состояние, совершенно ни к чему, чтобы меня сочли одиночкой. А поскольку до настоящего альфа-самца я еще не дорос, я пока не могу себе позволить самостоятельно выбрать кого-то себе в приятели. Впрочем, теперь это особого значения уже не имеет, ибо сегодня кое-что случилось. Кое-что действительно важное, Мышонок. Для меня словно приоткрылась некая дверь. Перевернулась некая страница. А началось все с яблока.
«Сент-Освальдз» – школа церковная. Они там все время устраивают благотворительные сборы то с одной, то с другой целью. И нужно что-нибудь покупать – то букетик маков, то цветной флажок, то, скажем, булочку с изюмом. Сегодня, например, в обеденный перерыв притащили яблоки. За пять пенсов – опять же на нужды благотворительности – можно было купить одно яблоко и какой-то стикер в придачу. Классная комната мистера Кларка была прямо-таки забита мальчишками – да еще и мы туда притащились: Голди, Пудель и, разумеется, я. Туда же один первогодок из «lower sixth» приволок целый ящик этих яблок.
Сперва, правда, никто покупать особенно не спешил. Целых пять пенсов за какое-то яблоко! Да за пять пенсов можно тонну всяких сладостей купить. Но мистер Кларк – нет, Гарри – сказал: «Ага, запретный плод! Разве можно тут устоять?»
Ну и, естественно, после таких слов всем захотелось яблочка. Мы стали по очереди подходить к учительскому столу, отдавать свои денежки и хватать яблоки из коробки, а стикеры прилепляли прямо ко лбу. А потом я заметил, что яблок там осталось совсем мало и среди них было одно некрасивое. Не испорченное, нет, просто очень маленькое и с каким-то смешным наростом, вроде тех бородавок, что у ведьмы на носу рисуют. К этому времени все уже взяли себе по яблоку, так что в коробке на дне лежало всего три штуки, и одно из них некрасивое. Гарри некрасивое взял себе, а два хороших оставил.
И тот мальчишка, что принес яблоки, попытался его остановить: «Сэр, не берите это яблоко, оно на чью-то рожу похоже», но Гарри улыбнулся, посмотрел на меня – я с ним рядом стоял – и сказал: «Ничего, внутри-то оно наверняка вполне вкусное. Ведь самое главное – каково оно изнутри, верно?»
В общем, тот парнишка так и ушел, озадаченный, но я сразу понял, что Гарри имел в виду. Он ведь специально выбрал такое яблоко, которое никто другой не взял бы. Безобразное яблоко. Странное. Не такое, как другие. Я тоже всегда был странным, не таким, как все. Даже в детстве, еще до «Нетертон Грин», меня всегда выбирали последним.
Но мистер Кларк – нет, Гарри! – тоже не такой, как все. Он понимает, на что я способен. Он, например, запросто одолжил мне своего «Повелителя мух» – свой собственный экземпляр, со своими личными пометками! А ведь Гарри не из тех, кто станет одалживать свои книги первому попавшемуся. И теперь я поднимаюсь к нему в класс каждую перемену и еще во время ланча. По утрам я приношу ему чай из большого чайника на кухне. Я поливаю его цветы. Вытираю пыль у него в книжном шкафу. Разбираю его пластинки и расставляю их в алфавитном порядке. Мне всегда нравилось помогать кому-нибудь в школе, а в чем помочь там всегда найдется.
Мисс Макдональд из «Нетертон Грин» даже называла меня своим «особым маленьким помощником». Ну, может, это и не слишком удачный «титул», да и вообще ничего хорошего из той истории с ней не вышло, но с Гарри-то у нас все по-другому. Да и для всех остальных я больше уже не восьмилетний малыш. А отношения у нас с Гарри вполне взрослые. Я могу с ним беседовать на самые разные темы. О музыке, о жизни. И он, по-моему, прекрасно понимает, насколько я взрослее всех тех, кто в его группе учится.
Это, разумеется, связано с Моим Состоянием. Я за свою жизнь уже успел увидеть и узнать столько, сколько большинству этих ребят никогда не удастся. Гарри это чувствует. И сознает, что я – явление исключительное. Да и я, как мне кажется, тоже его понимаю – ну, хотя бы отчасти. Я, например, с уверенностью могу сказать, что он действительно очень любит свою работу, хоть иногда и выглядит ужасно усталым. Интересно было бы знать, почему он попал именно сюда, а не в какую-нибудь другую школу, получше? И почему он до сих пор просто учитель, а не член Совета директоров или еще какое-нибудь начальство? И почему он не женат? Он ведь такой умный, такой симпатичный, да и не слишком стар еще, чтобы жениться. Возможно, он, как и я, просто не любит чересчур близких отношений с людьми. Возможно, у него, как и у меня, есть некое прошлое, о котором он говорить не любит.
Я уж хотел было спросить его об этом, но передумал. Нет, нельзя. Существует некая невидимая черта (хотя я вижу ее отчетливо, словно проведенную мелом), которая отделяет меня от Гарри, сидящего за учительским столом. Хотя он сам предложил мне называть его по имени. Хотя он всегда разговаривает со мной как с ровней. И при всем при том он всегда остается учителем, а я – учеником. И между нами по-прежнему существует определенная дистанция. Но я, между прочим, еще сильней уважаю его за то, что он о своей личной жизни помалкивает.
Ничего, я могу и подождать. Уж это-то я умею очень хорошо. Ты же знаешь, Мышонок, как хорошо я умею ждать. Я долгое время могу казаться точно таким же, как все остальные мальчишки; по крайней мере, чисто внешне. Но когда-нибудь, когда я буду абсолютно в нем уверен, я все ему расскажу – о Банни, о мисс Макдональд, о той собаке, о наших играх в глиняном карьере, даже о тебе, Мышонок. Потому что ты просто пустое место по сравнению со мной. И мистер Кларк все поймет…
Но пока что до этого далеко.
Сейчас, в конце концов, еще только сентябрь.
Глава шестая
7 сентября 2005
Это была, я полагаю, некая проверка способности Харрингтона очаровывать аудиторию. Сперва ведь никто и не обратил особого внимания на его двух новых помощников. Мне, например, они показались просто очередной парочкой Офисных Костюмов. Но когда Харрингтон направил на них мощный луч своего мальчишеского обаяния, я невольно насторожился: мне показалось, что я, скорее всего, недооценил уровень той угрозы, которую они собой представляют.
Такие люди, как Джонни Харрингтон, обычно не стремятся с кем-то делить внимание, выходя под яркий свет софитов. Однако у каждого шоумена всегда должна быть парочка надежных помощников, которые действуют эффективно, но не слишком заметно, обеспечивая, так сказать, техническую сторону шоу.
Он представил их сразу после выступления нашего казначея – с такой же беззаботной небрежностью, с какой кот, главный герой детской книжки Сьюза «Кот в шляпе»[40], выпускает на волю своих тварей, Вещь № 1 и Вещь № 2.
– Как вам известно, – сказал он, – недавние события привлекли внимание Совета директоров к определенным моментам, связанным с управлением нашей школой и вызвавшим у членов Совета некую… повышенную озабоченность. Роль моих заместителей, моей антикризисной команды – роль, кстати сказать, чисто временная, – заключается в том, чтобы, во-первых, помочь преподавательскому составу школы обрести статус кво, а во-вторых, облегчить переход от старых способов преподавания к новым. Нашей главной целью является сохранение традиций на фоне повышения качества знаний. Прогресс через традицию. В ближайшее же время этот девиз вы увидите на подготовленных нами многочисленных материалах, стимулирующих развитие новых навыков преподавания. Как только что весьма доходчиво объяснил наш казначей, нам необходимо вернуть в «Сент-Освальдз» выгодную клиентуру, а для этого мы прежде всего обязаны восстановить доверие к школе и учеников, и их родителей. Не сомневаюсь, что мы, объединив усилия, сумеем с помощью антикризисной команды создать абсолютно новую школу, лучше и надежней, чем прежняя, ибо она будет вооружена не только богатым опытом прошлого, но и новыми методами, а значит, будет готова спокойно смотреть будущему в лицо.
Эффекта ради Харрингтон сделал небольшую паузу, затем провозгласил:
– Итак, представляю вам доктора Маркуса Блейкли и госпожу Ребекку Бакфаст, моих замечательных помощников и заместителей.
Под театральные аплодисменты аудитории, возглавляемой директором и Бобом Стрейнджем, Вещь № 1 и Вещь № 2 заняли свое место на сцене. Подобно персонажам из книги Доктора Сьюза, они были до странности друг на друга похожи, что – в связи с их принадлежностью к антикризисной команде – имело весьма малое отношение к их собственным чертам, зато было самым непосредственным образом связано с их, так сказать, корпоративной однотипностью, с некой облаченной в строгие костюмы гомогенностью, столь же неприятно-раздражающей, как вид пары пластмассовых стульев рядом с покрытой рубцами старинной дубовой партой.
Итак, Вещь № 1 – доктор Блейкли. Ему лет сорок с небольшим; на голове заметная лысина; он не особенно высок; а выбрит так тщательно, что в носу свербит от блеска его щек, розовых, как целлулоид. Вещь № 2 – госпожа Бакфаст. Это крупная дама примерно того же возраста; круглолицая; рыжеволосая; с короткой стрижкой «боб» и красным мазком помады на губах. Оба, разумеется, в офисных костюмах, хотя и не таких стильных, как у Харрингтона; у обоих костюмы весьма строгие, угольного оттенка, но все же оживлены золотистым шелковым галстуком (у Вещи № 1) и шелковым шарфом с этническим рисунком, завязанным весьма искусно (у Вещи № 2).
Харрингтон объяснил, что оба они – прекрасные специалисты в том, что связано с «фандрайзингом и созданием должного имиджа», а также с преодолением духовных и гендерных проблем и всевозможных сложностей в области культурной восприимчивости и освоении учащимися того или иного предмета. Он сказал также, что отныне именно госпожа Бакфаст будет отвечать за «ребрендинг» школы, а доктор Блейкли, самым тесным образом связанный с организацией «Выжившие», занимается «детской благотворительностью», а также является организатором государственного «мыслительного центра», занятого проблемами различных видов насилия в отношении детей; он также всячески продвигает в жизнь проект «политики нулевой толерантности» по отношению к хулиганам и любителям устраивать травлю тем, кто заведомо слабее.
Я с трудом подавил негодующее «уфф». Интересно, какая политика могла бы предотвратить то, что случилось у нас в прошлом году? И потом, как подсказывает мне мой опыт, помощь в решении «духовных и гендерных проблем», которые возникают у мальчиков, и канцелярщина, связанная с письменной отчетностью, всегда существовали в обратной пропорции друг к другу, как здравый смысл и дрессировка.
Впрочем, от комментариев я в очередной раз воздержался. Все эти дельцы в офисных костюмах (как и разные директора) приходят и уходят вместе со своей политикой, сменяя друг друга. «Сент-Освальдз» и прежде не раз выдерживал их атаки, но всегда оставался жив и невредим; надеюсь, что так будет и на этот раз. Но все же подозреваю, что на этот раз нам светят бесконечные утомительные занятия по повышению квалификации – причем под пристальным наблюдением Вещи № 1 и Вещи № 2, – и во время этих занятий вашего покорного слугу все-таки заставят познакомиться и с кибер-устрашением, и с интернет-обслуживанием, и в ролевых играх заставят участвовать, и крепости из мебели строить, и потворствовать всевозможным светским развлечениям, которые так любит наша кафедра драмы.
Значит, доктор Блейкли у нас – «гуру по решению проблем, связанных с различными видами насилия»? О, великие боги!
Разумеется, некоторые мои коллеги на подобные идиотские предложения откликнутся с энтузиазмом младшего отряда скаутов, весело скачущих вокруг своего Акелы. Например, те же супруги Джефф и Пенни Нейшн, недавно принятые на кафедру германистики; они оба давно являются членами подобного «мыслительного центра» и участвуют в деятельности разнообразных «групп по интересам»; кроме того, Пенни однажды прослушала курс под названием «Дети советуют», после чего у нее возникло совершенно иллюзорное представление о собственной «полной доступности» для детей любого возраста, а также о том, что у нее с «юной порослью» отличные отношения.
Боб Стрейндж, со своей стороны, был, как мне кажется, особенно впечатлен тем, что при новом режиме все текущие проблемы «Сент-Освальдз» будут преобразованы в серию политических документов, благодаря чему попросту перестанут существовать в реальном мире. Что же касается доктора Дивайна… Что ж, он-то наверняка помнит дело Гарри Кларка. С другой стороны, у него Джонни Харрингтон никогда не учился и никаких особых дел с ним не имел. Эрик тоже, разумеется, в курсе всей той истории; но он тогда постарался ото всего отстраниться, и его реальную роль в тех событиях помню главным образом только я.
И все же transit umbra[41]. Подозреваю, что эта антикризисная команда здесь не задержится. В прошлом триместре у нас в учительской как-то даже возник разговор о том, что подобные команды редко работают в той или иной школе дольше одного учебного года. Как только заканчивается бумажная (простите, компьютерная) возня с документами, они стремятся поскорей перебраться на новое пастбище, а преподавателям остается лишь вновь доказывать, сколь мало соотносится реальная жизнь с миром подобных «модернизирующих» выдумок.
Выдумок? Ну нельзя же создать хорошую школу на основе голых теорий, на продукции всевозможных «мыслительных центров» и форумов! Любой приличный школьный учитель это понимает и соответствующим образом преподносит и свой предмет, и свой образ. В былые времена мы, преподаватели, хорошо умели обращаться с «низшей стихией». И нам отнюдь не требовалась какая-то особая политика, чтобы разъяснить мальчикам, что нехорошо терроризировать тех, кто слабее тебя, что нужно быть вежливым и стараться вести себя как истинные джентльмены. Тогда, правда, практически не было никаких «мыслительных центров», никаких курсов и семинаров «по модернизации школы» и, разумеется, никаких «гуру по борьбе с насилием». И применение одной-единственной формулы – точнее, одной-единственной латинской фразы – могло разрешить любые случайности, любые противоречия между учениками и учителями.
In loco parentis[42]. Для нас это обычно означало: «Действуй так, как поступили бы разумные родители». Теперь же вряд ли кто-то понимает, что означают эти слова. И потом, большинство нынешних родителей можно назвать какими угодно, только не разумными. Мало того, они зачастую не только неразумно себя ведут, но и откровенно сутяжничают, или кичатся своими титулами, или, наоборот, проявляют излишнюю доверчивость, или же сразу занимают оборонительную позицию и начинают грубить учителям; в общем, они прямо-таки одержимы желанием во что бы то ни стало полностью окупить те деньги, что затрачены ими на образование ребенка. И тут, пожалуй, наш новый директор прав, когда пытается доказать, что их теперь уже не стоит воспринимать как родителей учеников – теперь это просто наши клиенты.
Отныне большинство клиентов «Сент-Освальдз» наверняка будут обожать нашего нового директора – причем по тем самым причинам, по которым мне он столь сильно не нравится. Они будут в восторге от его обаяния, молодости, ораторских способностей и даже от того, с какой легкостью он пользуется современным жаргоном школьников. Лично я очень хотел бы посмотреть, как наш новый директор справится (особенно во второй половине дня в пятницу) с буйными юнцами пятого года обучения, которым вскоре сдавать выпускные экзамены. Только вряд ли я этого дождусь. Такие люди, как Джонни Харрингтон, никогда не испытывают потребности, засучив рукава и пачкая руки мелом, что-то дополнительно объяснять у школьной доски. Такие люди, как Джонни Харрингтон, спокойно сидят у себя в кабинете, создавая всевозможные планы и заставляя других воплощать эти планы в жизнь. Такие люди, как Джонни Харрингтон, прекрасно знают, как привести в движение и заставить работать целый коллектив; они способны завести любой человеческий механизм и натянуть струны таким образом, чтобы они зазвучали в полном соответствии с выбранной мелодией…
Однако наше собрание, казавшееся мне бесконечным, в итоге все же подошло к концу. Директор и его антикризисная команда удалились – видимо, чтобы еще разок обсудить генеральный план «ребрендинга» школы, попивая чаек с печеньем и удобно устроившись во внутреннем святилище, то есть в директорском кабинете. Я этот кабинет знаю очень хорошо, тем более наш последний директор ничего в нем не изменил, и он остался в точности таким же, каким был и при старом Шкуродере Шейкшафте, разве что извечный запах сыра сменился ароматом цветочного освежителя воздуха. Боб Стрейндж, разумеется, тут же последовал за директорской группой – ну в точности верный бассет, ожидающий приказа любимого хозяина! – а мы, все остальные преподаватели, остались в учительской и, собравшись вокруг нашего любимого чайника, стали обмениваться впечатлениями. Китти Тиг передала мне печенье, и я спросил у нее:
– Ну и что вы обо всем этом думаете?
Китти одарила меня той снисходительной улыбкой, которую обычно приберегает для самых медлительных своих учеников, и сказала:
– По-моему, Харрингтон – сторонник активных действий. И «Сент-Освальдз» это пойдет на пользу. Мы давно нуждаемся в небольшой встряске. Особенно после прошлогодних событий.
– Встряске? Но мы же не баночка с простоквашей.
– Судя по вашему тону, вы как-то не очень в этом убеждены.
– Да нет, я просто считаю, что он для подобной работы не годится.
– Но почему? Только потому, что он слишком молод? Или потому, что раньше никогда преподавателем не был?
Ну, если хорошенько задуматься, так обе эти причины – более чем достаточное основание для недоверия. «Сент-Освальдз» – корабль старый, требующий осторожного обращения. Никто в здравом уме не отдаст старое судно в руки юнги. И потом, даже если бы у меня и не было никаких сомнений в компетентности Харрингтона (по крайней мере, в области пиара), все же настоящий директор школы должен иметь за плечами достаточно долгую преподавательскую практику. Он должен с мелом в руках отстоять положенные годы у классной доски; должен приобрести определенный опыт, пережив немало весьма неприятных школьных инцидентов; должен, так сказать, набить себе трудовые мозоли на обеих руках. Однако то поколение, к которому принадлежит наш новый директор, – это какая-то совершенно иная разновидность людей. Все они прекрасно владеют компьютером; обладают не только представительной, но и привлекательной внешностью; политически корректны; хорошо знакомы со всеми новыми методологиями – но пока такой человек, назначенный на должность директора, не поработает учителем, нечего и ждать от него понимания того, чем мы здесь, в школе, занимаемся. Он и учеников-то вряд ли понять сможет. Я уж и не говорю о преподавателях.
– Я, конечно, не очень хорошо во всем этом разбираюсь, – сказала Китти, – но теперь события развиваются так быстро. По-моему, нам просто необходим кто-то, способный все взять в свои руки и помочь нам в соревновании с другими школами в условиях быстро меняющегося рынка. Я думаю, Рой, что Харрингтон будет нам полезен. Нам всем. Ей-богу, «Сент-Освальдз» нуждается в человеческом лице.
Человеческое лицо? У Джонни Харрингтона? Великие боги! Неужели я единственный, кого он еще не успел соблазнить?
Я заметил, что Китти сегодня надела строгий офисный костюм – впервые с тех пор, как я ее знаю. Вот что делает с человеком продвижение по службе! Впрочем, не стоит ее за это упрекать. Китти всего тридцать пять, она еще молода, и ей светит многообещающее будущее. И, вполне возможно, она совсем ничего не знает о том, что случилось здесь двадцать четыре года назад. А вот доктор Дивайн – дело другое. На него я возлагал куда большие надежды. И на Эрика тоже. Ведь Эрик был здесь с самого начала, хотя ему, наверное, многое хотелось бы позабыть; однако тот, кто не желает помнить прошлое, обречен непременно его повторить.
Впрочем, мне, должно быть, не стоило так строго судить и своих коллег, и себя самого. Ведь тогда, осенью 1981 года, никто из нас не заметил приближения тех ужасных событий. Никто из нас не догадался, что способно в итоге произрасти из того, самого первого, невероятного семени – так «на глазах у изумленных зрителей» из шляпы фокусника «произрастает» нескончаемая гирлянда ярких бумажных цветов, и безвкусные эти цветы еще долго потом красуются на чьей-то могиле…
Глава седьмая
Осенний триместр, 1981
Дорогой Мышонок!
А знаешь, так ведь было не всегда. И притворяться мне приходилось далеко не всегда. И отец мой не всегда был таким напыщенным, а мама иногда даже улыбалась. Но потом на нас обрушилось Горе. Именно так, Мышонок, с большой буквы. Горе – это то, что посылает нам Господь, когда считает, что мы уделяем Ему слишком мало внимания. Это может быть рак, или саранча, или фурункулы по всему телу. Или просто несчастный случай. Или, например, Бог может у вас что-то отнять. Что-нибудь особенно вам дорогое. Вашу любимую драгоценность, или возможность пользоваться руками и ногами, или в некоторых случаях даже жизнь.
У нас Господь отнял моего брата.
Его настоящее имя было Эдвард, но мама и папа всегда называли его Кролик Банни. Мне было семь лет, когда он умер. На самом деле из-за него меня и в школу отправили, потому что до его рождения мама сама меня воспитывала, дома. Но когда родился Банни, она решила, что воспитывать сразу двоих детей – это чересчур, и я оказался в «Нетертон Грин». Пока я учился в школе, мама дома воспитывала Банни.
В школу мне совсем не хотелось. А эта школа, «Нетертон Грин», оказалась какой-то ужасно шумной и очень большой. И там было слишком много других детей, а я других детей не очень-то любил. Я их даже немного боялся. Так что в первые три дня я там вообще ни с кем не разговаривал, только лаял, как собака. Мне казалось, что так лучше, потому что собак люди любят. Но в итоге я только заработал кличку «придурок», да так с ней и остался.
Никто мне толком не рассказал, что же на самом деле случилось с Банни. Наверное, родители решили, что я еще слишком мал. Они сказали только: «Его забрал Господь». Все остальное я узнал от чужих людей. В общем, мама решила выкупать Банни и, пока малыш плескался в ванне, отошла на минутку, чтобы ответить на телефонный звонок. Всего на одну минуту! Да и Банни к этому времени был уже довольно большой, почти два года. И все-таки он ухитрился утонуть, хотя воды в ванне было едва дюймов на шесть[43].
По-моему, именно тогда я впервые начал по-настоящему бояться Бога. Если Он смог забрать Банни, значит, может забрать и меня. И, что еще хуже, мои родители без конца говорили об этом, словно попасть в рай – это какая-то веселая экскурсия вроде поездки в Диснейленд. Но иногда я слышал, как мама плачет у себя в комнате. А еще как-то раз я в церкви подслушал разговор миссис Плам с миссис Констебль, и миссис Плам сказала, что моя мама ничуть не лучше других и теперь-то, возможно, ей станет ясно, что у Бога любимчиков нет.
Миссис Констебль моих родителей не любила, потому что папа когда-то давно сказал кому-то в церкви, что дочка миссис Констебль живет во грехе с одной женщиной из Лидса. После этого миссис Констебль вообще перестала с моими родителями разговаривать, а мистер Констебль создал «Группу поддержки гомосексуальных семей», а это, по словам моего отца, прямой путь к одобрению безнравственности. Я, правда, был маловат, чтобы во всем этом разобраться, но папа объяснил мне, что быть геем – это очень плохо, неправильно, что так и в Библии написано. С тех пор, конечно, много воды утекло. Теперь-то подобная связь даже незаконной не считается. Ну вот как это может быть? Неужели правила настолько переменились? А если правила и впрямь переменились, как же теперь быть людям, которые за свои гомосексуальные наклонности были отправлены прямиком в ад? Получат ли эти люди полное отпущение всех грехов и свободу? Или так и будут вечно страдать в аду?
Сегодня во время перерыва на обед мы втроем снова поднялись в класс мистера Кларка. Мистер Кларк – Гарри! – проверял тетради. Он на большой перемене как раз обычно этим и занимается. А ребята из его класса либо ходят обедать в столовую, либо играют в футбол на школьном дворе, а некоторые предпочитают сидеть в гостиной – у старшеклассников есть своя гостиная. Те же несколько человек, что остаются в классе, жуют сэндвичи и слушают музыку. Иногда Гарри сам ставит какую-нибудь пластинку, а иногда позволяет ребятам выбирать.
Я сразу сказал, что хотел бы послушать «Animals». Голди промолчал – он уже развернул свой завтрак. Пудель тоже ничего не говорил и только смотрел на Гарри, как верный пес, ожидающий, что хозяин бросит ему печеньице.
Гарри быстро на меня глянул и вытащил из коробки какую-то большую пластинку в конверте.
– Сегодня я хочу поставить вам одну вещь, которую уже почти можно было бы назвать классикой. И, по-моему, это вам непременно понравится.
Это был альбом Дэвида Боуи «Взлет и падение Зигги Стардаста и марсианские пауки»[44]. О самом Дэвиде Боуи я мало что знал, хотя его фотографии в журналах, конечно, видел. Таких певцов, как он, мой отец особенно сильно презирает, а мистер Спейт и вовсе считает воплощением дьявола, потому что волосы у Боуи длинные, как у женщины, да и лицо тоже какое-то женское. Зато глаза горят, как у демона. Для моего отца каждое слово мистера Спейта свято, особенно когда речь заходит о демонах. Он считает, что мистер Спейт обладает особым нюхом, как собака-ищейка, и сразу способен учуять любое зло. Отец, во всяком случае, совершенно в этом уверен. Эх, если б он знал, какие демоны скрываются у нас дома, у него буквально под самым носом!
Мне хотелось получше рассмотреть фотографию на конверте, но Гарри отложил конверт в сторону, а пластинку протер мягкой тряпочкой и поставил на диск, а потом, как всегда, проверил проигрыватель – стоит ли нужная скорость и нет ли на игле пыли. Он вообще со своими пластинками очень осторожно обращается.
Я устроился возле учительского стола. Голди и Пудель тоже подошли ко мне и уселись рядом. А остальные ребята открыли свои коробки с завтраком и занялись едой. Я еще в самом начале перемены успел поменять один из своих сэндвичей на шоколадное печенье из коробки Голди, а шоколадку «Вэгон Уил» – на пирог со свининой, который притащил Пудель. Но есть я не стал: мне казалось неправильным что-то жевать, когда звучит музыка, которую для нас выбрал сам Гарри. Я чувствовал, что эту пластинку он поставил специально для меня, и понимал, что должен прослушать ее очень внимательно. А уж когда заиграла музыка, я и вовсе почти забыл о еде. У меня и мысли все словно разбежались. Мне казалось, что эта волшебная музыка смыкается вокруг меня, точно сжатые в кулак пальцы, и проникает мне прямо в сердце.
Я не очень-то хорошо разбираюсь в инструментовке, но все же сумел расслышать саксофон, гитары и несколько клавишных, а еще – несколько голосов (или, может, какой-то один голос, точнее, голос одного и того же человека?), рассказывавших некую историю, которую я уже откуда-то знал или просто видел во сне. Это было нечто удивительное, потрясающее. Поистине огромное. Более сильного впечатления я никогда не испытывал. Я сидел, совершенно потрясенный, забыв, что все еще держу в руках шоколадное печенье, и внимал этой музыке, едва осмеливаясь дышать. А Голди преспокойно жевал свои сэндвичи. И Пудель, как всегда, что-то рисовал на полях школьного дневника. Но никто из них, похоже, не ощутил того благоговейного ужаса, который внушала услышанная нами музыка. Для них это была просто музыка. А для меня она была словно распахнутая дверь, открывшая моей душе дорогу в иной мир.
– Можно еще раз это поставить, сэр?
Гарри по-прежнему проверял тетради, но, услышав мой вопрос, внимательно посмотрел на меня и улыбнулся.
– Неужели вы никогда раньше этого не слышали?
– Мой отец не любит рок-музыку.
– Это не просто музыка. Это вибрация души. Такое произведение не забудут и через пятьдесят лет.
И после этих слов я наконец сумел рассмотреть, что было изображено на конверте: Зигги Стардаст со своей гитарой, стоящий на каком-то ночном перекрестке под знаком, на котором написано «K. WEST». Оказалось, что это не фотография, а настоящий рисунок; художник очень тщательно прорисовал каждый кирпич в стене дома и блестящие дождевые лужи на асфальте. На переднем плане виднелась груда мусора и старые картонные коробки, а все вместе это создавало какую-то тревожную атмосферу грязных улиц, нездорового возбуждения и опасности. И хотя сам Зигги явно был звездой шоу, но на этом рисунке он казался маленьким и одиноким; он стоял под дождем у запертой двери дома, все окна которого приветливо светились желтым светом, но Зигги, никому не нужный, промокший насквозь, продолжал торчать снаружи, словно не желал, черт побери, обращать внимание на такую ерунду, как дождь.
И тут я вдруг с изумлением заметил, что Гарри немного похож на этого Зигги. Только Гарри был, конечно, постарше и в очках. Этакий повзрослевший, набравшийся опыта Зигги.
Я и через пятьдесят лет этого не забуду.
Через пятьдесят лет мне будет шестьдесят четыре. А потом еще каких-то шесть лет – и конец: семьдесят. Странно, отчего это у меня в душе каждый раз, даже в самые лучшие моменты жизни, возникают мысли о смерти? Эти мысли – точно привязчивая собака, которая тащится за тобой и никак не хочет отстать. И все же я понимал, что Гарри прав: эти мгновения я буду помнить до самой смерти.
– Мне бы очень хотелось, сэр, чтобы наша жизнь была как эта пластинка. Чтобы можно было взять и все начать сначала.
Он перестал проверять тетради и отложил ручку.
– Почему?
– Видите ли, сэр, – сказал я, – мне кажется, что все слишком быстро проходит. Проходит мимо. И не хватает времени, чтобы правильно понять происходящее. Словно за нас все уже решено и мы ничего не можем сделать, чтобы это изменить.
И тут я вдруг смутился. Надеюсь все же, что я не показался Гарри ни кривлякой, ни фриком. (Пожалуй, мои слова и впрямь прозвучали как-то чересчур претенциозно.)
Но Гарри и не думал надо мной смеяться.
– Понимаете, – сказал он, – жизнь – это дар Вселенной. И мы, все мы, вольны делать то, чего хочется нам самим. И все мы можем быть именно такими, какими захотим сами. Все мы можем меняться, если этого захотим. Для этого требуется всего лишь немного мужества.
– Мужества… – повторил я.
– Да, именно мужества. – И Гарри снова улыбнулся этой своей улыбкой. Когда он улыбается, то щурит глаза и становится похож на китайца. – Немного мужества – и все получится. И можно будет чувствовать себя совершенно свободным.
– Неужели вы действительно в это верите, сэр?
– Конечно, верю, – сказал он. – А вы разве нет?
Глава восьмая
7 сентября 2005
Пока что все в учительской согласны с тем, что наш новый директор – человек вполне здравомыслящий. Впрочем, доктору Дивайну чувство собственного достоинства не позволило поделиться своим мнением с нами, обычными преподавателями. А Эрик и вовсе залег на дно. Он даже меня избегает после своих позорных льстивых аплодисментов, которыми так старательно сопровождал каждое слово нового начальства. Зато все остальные уже высказали вслух уверенность, что Харрингтон для нашей школы будет очень даже кстати, – и наш капеллан доктор Бёрк, и Боб Стрейндж, и Робби Роач, наш подающий надежды историк, который, правда, так и не пришел в себя, узнав, что в ближайшее время в нашей школе появятся девочки из «Малберри Хаус»; это сообщение привело его в крайнее возбуждение, и он все никак не мог успокоиться. Роач, конечно, – полный идиот; Стрейндж – подхалим; ну а наш капеллан вообще существует в своем собственном мире, редко имеющем соприкосновение с реальной действительностью. Но мне казалось, что уж Эрик-то мог бы проявить по отношению ко мне хоть немного лояльности.
Я в последний раз налил себе чаю и приготовился возвращаться к себе на колокольню. Я вдруг почувствовал, что столь светло начавшийся осенний триместр не будет таким уж многообещающим. Проходя мимо кабинета Боба Стрейнджа, я услышал чьи-то громкие голоса и, заглянув в приоткрытую дверь, увидел, что перед письменным столом Стрейнджа стоит доктор Дивайн.
Он стоял вполоборота к двери, и нос его порозовел от избытка чувств, а голос звучал чрезвычайно возбужденно, когда он сказал:
– Рой Стрейтли знает…
Тут он заметил меня и умолк. На мгновение наши взгляды пересеклись. Он дважды раздраженно дернул носом и прямо у меня перед носом захлопнул дверь кабинета. Оставшись в коридоре, я тщетно пытался понять, что же такое я успел услышать.
Рой Стрейтли знает… Что я знаю? Что латынь может быть вообще исключена из государственного списка школьных предметов? Что мне не следует лакомиться лакричными леденцами? Что мои дни сочтены?
Добравшись до своего класса № 59, я обнаружил там молодого мужчину в комбинезоне, который, стоя на парте, протирал верхнюю часть дверной рамы. На вид ему было лет тридцать; стройный; острые черты лица; одет в голубую блузу с капюшоном и голубой комбинезон. Один из новых уборщиков, несомненно; все это затеи нашего казначея, связанные с экономией средств. Наверняка это он заменил кем-то более дешевым пожилую уборщицу Мэри, нравственные устои которой (вполне, впрочем, разумные) преломлялись в сложном наборе правил, понятных лишь ей одной.
Я протянул ему руку и сказал:
– Доброе утро. Я мистер Стрейтли, в данное время являющийся обитателем класса № 59. А вы кто?
Новый уборщик явно растерялся, поскольку я, пожилой преподаватель, первым обратился к нему.
– Э-э… моя фамилия Уинтер, сэр, – промямлил он. – Вы не возражаете, если я закончу? Мне просто показалось… уж больно здесь пыльно, сэр. Пол я уже вымыл, и все же…
Его речь показалась мне куда более правильной, чем можно было бы ожидать, хотя и несколько неуверенной, как бывает, если человек в детстве сильно заикался.
– Конечно, конечно, продолжайте. Рад был с вами познакомиться, мистер Уинтер.
Это его, похоже, несколько удивило. Наш казначей или Боб Стрейндж всегда обращаются к обслуживающему персоналу по имени. Но мне подобное высокомерие совершенно не свойственно. Пока новый уборщик сам не предложит мне называть его как-то иначе, он для меня будет мистером Уинтером, а я для него – мистером Стрейтли.
– И откуда же вы родом, мистер Уинтер?
– Из Белого Города. С того конца, где банк.
Ну что ж, по крайней мере, он местный. Это уже хорошо. Хотя, конечно, этому парню далеко до нашей Мэри, которая называла нас своими мальчиками; мне она порой приносила куски домашнего пирога, тяжелого, как бетон, и, завернув в салфетку, оставляла в нижнем ящике моего письменного стола, чтобы утром я мог сразу их там найти. Впрочем, новый уборщик, безусловно, лучше любого из нанятых по контракту уборщиков из Шеффилда или из Лидса, готовых работать за минимальную зарплату и в два раза быстрее, чем наша старая команда, зато и убирающих в два раза хуже.
Я сел, допил принесенный из учительской чай, поставил кружку на стол и спросил:
– Лакричный леденец хотите? – Я протянул Уинтеру пакет, и он выбрал голубой, а я взял «сэндвич» – он с одной стороны черный, а с другой желто-розовый. Если с кем-то разделить даже такую «трапезу», то сразу возникнет определенный контакт. Это одинаково для всех – и для моих коллег, и для моих учеников, и даже для Дивайна, который, как ни странно, любит утром выпить вместе со мной чашку кофе. Но, разумеется, доктор Дивайн и ему подобные никогда не станут водить компанию с человеком в спецовке. А я за тридцать четыре года в «Сент-Освальдз» отлично понял: школу поддерживает на плаву именно обслуживающий персонал – привратники, уборщики, секретари. Это, разумеется, секрет Полишинеля, однако он неизвестен таким людям, как мистер Стрейндж, которые слишком сильно заняты собственным статусом, собственным обогащением, государственным списком обязательных школьных предметов и прочими совершенно иррелевантными проблемами.
– Осторожней, мистер Уинтер, – сказал я. – Если можно, постарайтесь не проявлять к здешней пыли излишней жестокости. Мы с ней старые друзья и отлично друг друга понимаем.
Он улыбнулся.
– Я постараюсь, сэр.
Отмыв дверную раму, он принялся за верхние полки книжных шкафов. Сомневаюсь, чтобы их хоть кто-нибудь протирал с тех пор, как от нас ушла Глория, предшественница Мэри, красотка с испанскими очами. Во всяком случае, уборщик он явно старательный, подумал я. Хотя одного старания мало. Было бы неплохо, если б он обладал и еще кое-какими полезными качествами. Например, лояльностью.
Я горестно вздохнул. Слишком уж быстро все меняется на борту нашего дорогого старого фрегата. У руля теперь Джонни Харрингтон. В старших классах появятся девочки из «Малберри». А вместо привычных уборщиц – уборщики. Боже мой! Я поудобней устроился в кресле и вытащил школьный журнал за этот учебный год. По крайней мере, хоть мой-то класс остался прежним. Уже кое-что. Разные преподаватели могут уходить и приходить, сменяя друг друга, но наши мальчики, наши ученики, в целом остаются прежними: трепетными, полными неутолимого любопытства и энтузиазма, способными постоянно напоминать нам о том, что жизнь все-таки продолжается.
Сегодня был какой-то на редкость длинный день, и домой я добрался, когда уже совсем стемнело. Центральное отопление не было включено – я забыл поставить таймер, – так что пришлось поскорее разжечь газовый камин в гостиной и выпить горячего какао. В знакомой обстановке родного дома мне трудно было поверить, что жизнь моя уже пошла наперекосяк. Это-то и есть главная опасность моей профессии. «Сент-Освальдз» как бы втягивает в себя тех, кто там работает, обволакивая их точно коконом иллюзией постоянства и полной безопасности. Именно поэтому история с Гарри Кларком и оказалось тогда для всех нас полной неожиданностью. Даже доктор Дивайн утратил обычное равновесие. Даже наш Шкуродёр Шейкшафт. А я и сейчас еще чувствую отвратительную вонь того гнусного дела – словно где-то в классе за плинтусом сдохла от отравы мышь, но найти ее так и не сумели, и она по-прежнему лежит там, испуская зловоние.
Но, пожалуй, с этой историей я все-таки слишком забегаю вперед. К сожалению, в старости так часто бывает. Старея, человек начинает невольно перескакивать с одной мысли на другую, теряя нить повествования и забывая о времени. А то, что случилось давным-давно, вдруг становится в его восприятии ближе вчерашних событий. И мысли о давно, казалось бы, позабытых вещах и событиях вдруг снова начинают тебя тревожить, возникая в самое неподходящее время – особенно когда ты уже лег в постель и мечтаешь отключиться и заснуть, но это тебе никак не удается.
Сегодня по телевизору шел старый информационный фильм – такие фильмы раньше часто показывали; я давно их не смотрю, но многие помню вполне отчетливо. Например, некая зловещая личность в плаще с капюшоном наблюдает за группой детей, играющих рядом с затопленным карьером, где раньше добывали гравий; человек в капюшоне словно ждет того момента, когда обвалится край карьера, или сломается ветка дерева, или ушедший под воду заброшенный автомобиль вдруг словно оживет и поглотит свою юную жертву. ОПАСНО! КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО! – на экране то и дело появляется плакат с этой надписью, но играющие у воды дети не обращают на него ни малейшего внимания. И тогда за кадром слышится голос, зловещий, скрипучий, словно бросающий вызов всему живому: Я дух темных пустынных вод…
Почему мне вспомнилось сейчас именно это? Какая мысль пытается всплыть из глубин моего подсознания? От камня, упавшего в темные пустынные воды, до сих пор, даже двадцать четыре года спустя, по поверхности расходятся круги. И откуда-то из тайников моей памяти возникает голос того человека, лицо которого скрыто под капюшоном плаща…
Глава девятая
Осенний триместр, 1981
Дорогой Мышонок!
Голди считает, что Дэвид Боуи – гей. Он так сегодня и заявил, когда мы во время ланча сидели в классе Гарри. Отец Голди иногда читает проповеди у нас в церкви; он, насколько я знаю, абсолютно уверен, что Британии не дают развиваться именно гомосексуалисты, «мертвой хваткой вцепившиеся в науку и искусство».
– Да никакой он не гей, – сказал я.
– И вообще – куда важнее та роль, которую он играет в реальной жизни, – поддержал меня Пудель. – А он в реальной жизни женат и все такое. И вообще, сейчас уже восьмидесятые годы. Так что какая тебе разница? – Голди посмотрел на него с явным отвращением, но Пудель, как ни странно, на этот раз и не подумал заткнуться. – Я знаю, – сказал он, – что гомосексуализм в Библии считается грехом. С другой стороны, там грехом считается и употребление в пищу моллюсков и ракообразных.
Гарри в это время сидел за столом, проверяя тетради, но я был уверен: он к нашему разговору прислушивается. Он даже голову чуточку вбок повернул, словно стараясь ничего не пропустить. И на лице у него было какое-то очень странное выражение – вроде бы и улыбка, но не совсем.
– А вы как считаете, сэр? – напрямик спросил я у него.
Он посмотрел на меня:
– Вы это о чем?
– Вы же слышали: об этом грехе.
Гарри улыбнулся, и я уж решил, что и впрямь зашел слишком далеко. Но он сказал так:
– Я не верю, что на самом деле Богу есть дело до того, чем ты питаешься, как ты одет и кого ты любишь. По-моему, если уж Господь создал звезды, то впереди у Него еще немало иных великих планов и дел.
После этих слов наш разговор как-то сам собой увял. Но мне слова Гарри еще долго не давали покоя. Понимаешь, Мышонок, по-моему, он хотел сказать, что Господь слишком велик, чтобы беспокоиться о том, кто с кем каким сексом занимается. Да и с какой стати, в конце концов, это должно Его заботить? С какой стати Его вообще должны заботить отношения между людьми? И тут я, естественно, вспомнил о Моем Состоянии и стал думать о том, будет ли Богу все равно, если Он узнает, что я не такой, как все…
Разумеется, мои родители считают, что Ему это не безразлично. С другой стороны, мои родители очень религиозны: постоянно посещают церковь и верят во всю эту чушь. А отец иногда даже проповеди читает. После смерти Банни и того, что случилось в «Нетертон Грин», родители и меня стали заставлять ходить в церковь, надеясь, что это поможет мне преодолеть Мое Состояние. Однако Мое Состояние ничуть не изменилось; просто я научился лучше его скрывать. Я догадывался, что Господь либо не слышит меня, либо сам хочет, чтобы я оставался таким, какой я есть. А притворяться я здорово научился: то начинал всякую чепуху нести, то в обморок падал. Именно так и надо вести себя в нашей церкви – если, конечно, знаешь, что от этого тебе будет лучше. Иногда я таким образом даже развлекался. Сразу оказываешься в центре внимания, словно только что выиграл в футбол, и все вокруг орут, все тебя обнимают. Хотя меня обычно никто не обнимает. Меня не очень-то и обнимешь – не люблю я этого.
В «Нетертон Грин» меня считали фриком и странной личностью. А в этой школе, Мышонок, все по-другому. «Сент-Освальдз» вообще оказался местом вполне для меня подходящим. У меня там даже нормальное прозвище появилось. Разве я тебе не говорил? Да, это правда, и теперь меня все называют Зигги. Из-за моего любимого альбома «Ziggy and the Spiders from Mars». Прозвище – это в школе очень важно, особенно когда стараешься быть крутым и со всеми ладить. А такое прозвище, как Зигги, – это по-настоящему круто. Даже мой отец, похоже, так думает.
– Во всяком случае, твои дружки выглядят ребятами неиспорченными, – сказал он вчера вечером за обедом. (Неиспорченные – самая высшая похвала в устах моего папы). Дружки. А это уже смахивает на собачью кличку Дружок. Впрочем, и Голди, и Пуделю это слово очень подходит. Но вслух я, разумеется, ничего такого не сказал. Я уже давно понял, что далеко не все мои шутки папа воспринимает адекватно.
– Ага, они хорошие, – сказал я. – И весьма крутые.
– Не «ага», а «да», – поправила меня мама. – Ты что, американец?
Я только улыбнулся про себя. Для мамы американец – это почти так же плохо, как гей. Хотя есть, конечно, и хорошие (с ее точки зрения) американцы, которые возглавляют разные «харизматичные» церкви и выступают с проповедями против геев, чернокожих и евреев, которые разрушают их страну.
На самом деле их обоих, этих моих «почти-друзей», можно считать какими угодно, но «неиспорченными» они точно не являются. Голди – типичный ханжа, да еще и страшно высокомерный, а Пудель – просто маленький фрик, который занимается всякой ерундой и вечно что-то бессмысленно рисует или чертит. Он говорит, что ничего не может с собой поделать и это просто у него привычка такая. Даже не привычка, а что-то вроде тика. У него и другие привычки такие же; вечно он то пальцами барабанит, то дергается, то рожи корчит. В старое время его бы, наверно, юродивым назвали. Или одержимым. Эти церковники одержимых демонами просто обожают.
Отец мой, будучи прихожанином весьма активным, тоже очень демонами интересуется. Когда он читает проповеди, мать Пуделя на него прямо-таки щенячьими глазами смотрит. Смешно, до чего эти верующие женщины падки на некоторых проповедников. В нашей церкви таких фанатичек полно, поскольку она считается церковью харизматичной, и прихожан там великое множество. Иногда в нашу церковь приходит одна девушка из школы «Малберри Хаус»; она играет на гитаре и поет. Мне она кажется немного похожей на фламинго – наверное, из-за ярко-рыжих волос и длинной шеи. Голосок у нее типично «церковный», то есть чистый и гибкий, но не слишком богатый. Я как-то видел ее возле «Сент-Освальдз». Оказывается, у нее чуть ли не главная роль в совместном школьном спектакле. Видимо, она вообще выступать любит – и в церкви, и на сцене. Я заметил, как на нее смотрят другие мальчишки, особенно Голди и Пудель, но не могу понять, что они в ней такого находят. Вообще-то, она довольно хорошенькая, хотя и не в моем вкусе.
– Если тебе захочется пригласить своих друзей к нам домой, ты вполне можешь это сделать, – сказала мне мама, которая всегда старается помочь мне «поддерживать социальные контакты». Господь свидетель, ей бы радоваться, что у меня вообще появились какие-то друзья! Она всегда так об этом мечтала.
– В следующий четверг Ночь Костров, – продолжала она. – В парке разожгут большой костер. Я тут подумала: может, нам тоже туда сходить? Всем вместе, а? И после этого мы вместе с твоими друзьями могли бы вернуться к нам и выпить чаю. Можно было бы и родителей их пригласить…
Вообще-то, мои родители Ночь Костров не любят. Они считают, что этот праздник – прямой путь к язычеству. Как будто под эгидой церкви людей на костре заживо не сжигали! Однако мне было ясно: мама просто умирает от желания познакомиться с моими новыми замечательными друзьями и их родителями. И именно поэтому нам – Голди, Пуделю и мне – будет позволено праздновать в парке Ночь Костров, в то время как наши родители, устроившись у нас дома, будут пить шерри и обсуждать церковные дела и школу «Сент-Освальдз».
Я понимаю, все это выглядит просто отвратительно. Но пойми, Мышонок, все это части моего плана. Пудель правильно говорит: самое главное – та роль, которую ты играешь в жизни. Выбрав себе правильную роль, я смогу скрывать свое «я» где угодно даже при самом ярком свете. И, пока я буду играть эту роль, я смогу делать все, что мне угодно. Выбрав правильную роль, я и всех прочих смогу заставить делать все, что мне угодно, – и моих родителей, и Пуделя, и Голди, и учителей в школе. Все они будут плясать под мою дудку, как марионетки.
Почему? Да просто потому, что я это могу, вот и все. Почему Господь создал меня таким? Почему Господь забрал Банни? Почему? Потому что Он это мог. Потому что Он – Бог. Он создал нас всех по своему образу и подобию, не так ли? А значит, я – Его маленькая частица. Но наш Бог – не только большой шутник; Он еще и вор, и убийца. Как же Ему мной не гордиться, если я хочу стать таким, как Он?
Глава десятая
Осенний триместр, 1981
Мой разговор с юным Джонни Харрингтоном имел только один положительный результат: жалобы от его отца поступать перестали. Но я отнюдь не чувствовал, что мне удалось существенно продвинуться в понимании этого мальчика.
Я слово в слово помню его характеристику, полученную из прежней школы; она была написана от руки на предпоследней странице его личного дела в голубой обложке. «Харрингтон – ученик способный, хорошо себя ведет, пунктуален» – такой краткой отпиской учитель обычно отделывается в том случае, когда ему больше нечего сказать. А разве я сам сумел бы выразить словами то зыбкое ощущение, что с Харрингтоном что-то не в порядке, что ему словно чего-то не хватает? Ведь он не совершал никаких дурных или неправильных поступков. Его имя всего раз или два мельком упоминалось в связи тем, что кто-то другой затеял в классе небольшую драку, кто-то другой вслух выразил свое недовольство неудовлетворительным уровнем преподавания одного из предметов, кто-то другой оставил неуместное граффити на старой, покрытой рубцами дубовой стене школьной столовой. Впрочем, во всех этих случаях Харрингтон – как и двое его друзей – был объявлен невиновным. Каким-то он, пожалуй, выглядел слишком невинным для четырнадцатилетнего мальчишки; на мой взгляд, просто ненормально, если у подростка столь мало очевидных пороков.
«Однако, – говорилось далее в характеристике Харрингтона, – его оценки по английской литературе свидетельствуют, к сожалению, о недостаточно серьезном отношении и к данному предмету в целом, и к тому списку литературы, который рекомендован для самостоятельного чтения. Остается надеяться, что в следующем учебном году он проявит большее прилежание и поднимет свои оценки по английскому языку до того уровня, которого уже достиг по другим предметам».
Черт побери! Я начинал нервничать, потому что это было уж совсем неестественно. И дело вовсе не в том, что я предпочитаю бунтарей и хулиганов; но этих-то я, по крайней мере, способен понять. Я ведь и сам в четырнадцать лет отнюдь не был воплощением добродетели, благодаря чему и стал в итоге настоящим учителем, способным живо реагировать на любые поступки и переживания своих учеников. Однако я не находил абсолютно ничего, что можно было бы вменить в вину Харрингтону, Наттеру или Спайкли; они не совершали никаких проступков и ничем не нарушали нормы поведения, но мне не давала покоя их отчужденность, даже, пожалуй, некоторая надменность в отношениях с остальными.
Конечно, потом я об этом еще обязательно расскажу. Но даже и без этого ретроспективного взгляда, без этого безупречного «заднего окошка», через которое мы оглядываемся на последствия автокатастрофы, мимо которой только что проехали, я готов поклясться: я уже тогда почувствовал в «троице Харрингтона» что-то не совсем нормальное. Почувствовал, если угодно, на уровне чистой интуиции. Во всяком случае, с ними явно что-то было не так, и это вызывало во мне ощущение приближающейся беды.
Вторая половина осеннего триместра была, как обычно, отмечена празднованием Ночи Костров и моего дня рождения, а двумя неделями позже природа преподнесла нам неожиданный и довольно двусмысленный подарок – чрезвычайно ранний, внезапно выпавший снег, который мальчишки восприняли с безудержным восторгом в отличие от преподавателей, понимавших, сколь вреден может быть подобный «снежный» энтузиазм для нормального усвоения учебного материала.
Наш старый директор даже провел общее собрание, на котором применил самые разнообразные угрозы – по большей части неосуществимые, – обвиняя учеников в таких опасных забавах, как забрасывание друг друга снежками, а также в том, что они регулярно забывают вытирать ноги о коврик, входя в здание школы. Все его угрозы, разумеется, были проигнорированы. На мои уроки латыни мальчишки являлись в мокрых рубашках и носках, а насквозь пропитавшиеся водой башмаки оставляли в коридоре на радиаторах; в результате за три дня весь Средний коридор буквально провонял мальчишечьим потом и мокрой обувью.
Три вечера в начале декабря всегда полагалось отводить для встреч с родителями – с ними следовало обсуждать работу детей в классе, результаты экзаменов или еще какие-то вопросы, вызывавшие озабоченность той или другой стороны; впрочем, от родителей Харрингтона я особо серьезных претензий не ожидал. Да и юный Харрингтон после той нашей беседы возле школьных шкафчиков больше ни слова мне не сказал, а на вопросы в классе отвечал так холодно и снисходительно, словно оказывал мне этим большую услугу.
Впрочем, забот у меня хватало и без Харрингтона, и эти заботы отнимали немало времени. Один из моих учеников, например, завалил экзамен по латыни, и я был вынужден заниматься с ним дополнительно; у другого родители пребывали в состоянии развода, и он очень болезненно это переживал; кроме того, четверо моих учеников пятого года обучения были заняты в спектакле «Антигона» по пьесе Софокла, который ставили девочки из «Малберри Хаус», и в результате двое мальчишек влюбились в одну и ту же особу, исполнявшую главную роль, – довольно привлекательную рыжеволосую девицу, которой судьба явно сулила славный путь актрисы. Эта драматическая полудетская любовная история случилась в самое неподходящее время и вполне могла стоить всем троим как минимум снижения оценки на экзамене.
А потому вы должны понять, что Харрингтон застал меня врасплох, когда пришел ко мне сильно встревоженный и сказал, что ему необходимо серьезно со мной поговорить. Я заволновался. Во-первых, потому, что он обратил внимание на данную проблему раньше, чем это успел сделать я сам; а во-вторых, потому, что он, четырнадцатилетний мальчик, оказался на редкость проницательным. В итоге я был вынужден не только переоценить душевные способности Джонни, но и поставить под вопрос надежность моих собственных инстинктов.
Это случилось в последнюю неделю ноября, в пятницу. После обычной утренней Ассамблеи мальчики отправились в часовню, а я остался в своей классной комнате № 59, чтобы просмотреть кое-какие документы, касавшиеся группы четвертого года обучения. В восемь сорок пять небо все еще оставалось темным, но на нем уже появился какой-то болезненный оранжевый отблеск, не суливший ничего хорошего.
И тут в класс вошел Харрингтон; он был один; одежда, как всегда, тщательно отглажена; лицо сияет, точно сама весна.
– Простите, сэр, нельзя ли мне с вами переговорить?
Я поспешно отложил ручку и сказал:
– Конечно. А что случилось?
Он, похоже, некоторое время обдумывал мой вопрос, потом сказал:
– Возможно, что и случится.
– Ну ладно, – сказал я, – садитесь. И спокойно рассказывайте.
Признаюсь, сердце у меня ёкнуло. После того скандала с «mensa – merda» и последовавшего за этим потока жалоб от родителей Харрингтона я был почти уверен, что теперь не за горами обвинение меня, классного наставника, в богохульстве – скажем, из-за «Кентерберийских рассказов» Чосера, – или в нарушении моральных норм на уроках географии; хотя с тех пор, как я столь неудачно попытался побеседовать с Джонни возле школьных шкафчиков, возмущенных писем от Харрингтона-старшего больше не приходило. Их поток прекратился столь же внезапно, как и начался.
Джонни сел за одну из ближайших к моему столу парт. Мне всегда представлялось, что в облике классной комнаты № 59 есть нечто от морского судна; два двойных ряда деревянных парт, повернутых лицом к моей кафедре, напоминали скамьи гребцов на галере, а я, возвышаясь на кафедре, чувствовал себя капитаном на мостике пиратского корабля, взирающим на сидящих внизу рабов, прикованных к веслам. Но сейчас я чувствовал себя не капитаном, а Верховным судьей, выслушивающим жалобщика. Впрочем, Харрингтон говорил все тем же бесцветным голосом, что и всегда, но, как мне показалось, на этот раз голос его все же чуточку дрожал – возможно, то был отголосок неких тщательно скрываемых эмоций.
– Речь пойдет об одном моем друге, сэр, – сказал он. – Мне кажется, ему грозит беда.
Когда используется выражение «один мой друг», это обычно связано с проблемой весьма деликатного свойства. Интересно, думал я, почему с данной проблемой Харрингтон вздумал прийти именно ко мне, а, скажем, не к нашему капеллану, который в школе считается официальным советчиком по всем вопросам, касающимся души и сердца.
– Нет, сэр, это не я, – вновь проявил проницательность Харрингтон. – Это действительно один мой друг.
Что ж, у этого мальчика не так уж много друзей. Если он говорит не о себе, это могут быть только Наттер или Спайкли, остальные две трети неразлучной троицы. Дэвид Спайкли – это, на мой взгляд, самый обычный средний мальчик из самой обычной средней семьи, разве что, пожалуй, успехи у него так себе, особенно по французскому; но в целом вряд ли есть основания предполагать, что проблемы могли возникнуть именно у него. А Чарли Наттер – экземпляр и вовсе, по-моему, неинтересный; бледный худенький мальчик со следами экземы на руках; в классе вечно молчит; внимания к себе старается не привлекать.
А вот отец Чарли, Стивен Наттер, один из местных ЧП[45], похожий на резинового бульдога, всегда славился своими откровенными высказываниями. Он, как мне казалось, вполне мог быть разочарован тем, что у него такой заурядный сынок, – некоторые люди, особенно мужчины, испытывают острую потребность самоутвердиться еще и за счет своих отпрысков, и, насколько я мог это себе представить, Наттер-старший, готовясь стать отцом, безусловно, мечтал об ином сыне, куда более мужественном и успешном. Но его сын оказался удивительно похожим на мать; миссис Наттер, дама аристократически-бледная и вежливо-вкрадчивая, была такой же худенькой, хрупкой и остролицей, как Чарли. Она весьма активно занималась благотворительностью и часто выступала на страницах местной газеты «Молбри Икземинер» то с одной, то с другой доброй инициативой. Весьма сомнительно, что при таких родителях у Чарли Наттера было достаточно возможностей угодить в сколько-нибудь неприятную переделку.
– А ваш… друг… знает, что вы со мной разговариваете?
Джонни Харрингтон молча покачал головой. Мне с моего «капитанского мостика» был хорошо виден его идеальный, как по линейке, пробор.
– Но что заставляет вас думать, что он попал в беду? – спросил я. – Он сам вам так сказал?
– Нет, сэр.
– Что же тогда?
Признаюсь, то, что Харрингтон пришел за советом именно ко мне, вызвало в моей душе какие-то странные чувства. Отцовские, пожалуй. Возможно, мои суждения об этом мальчике оказались слишком поспешными, думал я; в конце концов, он ведь у нас новичок – хотя по возрасту он в любой средней школе оказался бы новичком, – и у него, скорее всего, имеются определенные трудности с привыканием к новым условиям и новому коллективу. Впервые мне подумалось, что мой в целом здравый, хотя, может, и грубоватый, подход к пастырским заботам в случае с Джонни Харрингтоном мог оказаться не самым лучшим.
И я сказал:
– Даже если мы с вами и несколько не совпадаем во взглядах на особенности английской литературы, вы, как я все же надеюсь, понимаете: что бы вы мне сейчас ни сказали, все это останется строго между нами. Я не бегаю с докладом к директору, если кто-то из моих учеников обратился ко мне за помощью. Итак, в чем, по-вашему, заключается проблема вашего друга?
Впервые мне показалось, что Харрингтон с трудом подбирает слова, не зная, как начать.
– Сэр, – начал он, – я не… то есть я хочу сказать…
– Не волнуйтесь, – подбодрил я его. – И не торопитесь.
Он на минуту отвел глаза, но руки его продолжали спокойно лежать на коленях. Затем он снова посмотрел прямо на меня и спросил:
– Сэр, вы верите в одержимость?
Часть вторая
O mihi praeteritos referat si Juppiter annos!
Vergilius[46]
Глава первая
8 сентября 2005
Официально восьмое сентября – первый день триместра. В этот день орды мальчишек вновь вторгаются на территорию школы. Насколько эффективней шла бы работа, если бы этого не происходило, но – насколько скучней.
– Доброе утро, сэр! – Это Аллен-Джонс. Он всегда ухитряется даже в первое утро нового триместра выглядеть так, словно спал одетым. На воротнике у него уже красовалось чернильное пятно, галстук был распущен, зато на лице сияла неизменная улыбка во весь рот – немного нахальная, но удивительно приятная.
– Доброе утро, мистер Аллен-Джонс. Судя по вашему чрезвычайно аккуратному внешнему виду, вы, как мне кажется, провели летние каникулы в полезных трудах, медитации и размышлениях о природе аблативных конструкций?
– Именно так, сэр! – заорал он, швыряя на парту школьную сумку. Прошлогоднюю, со словами «Привет, Киска!», он сменил на другую, еще более не подходящую для школы, и теперь нам предстояло любоваться персонажем комиксов – Чудо-Женщиной[47]. Это, разумеется, нарушение школьных правил, согласно которым учащимся запрещено украшать школьные сумки рисунками или стикерами; разрешается только школьный герб, и его Аллен-Джонс – в виде стикера – провокационно приляпал точнехонько в ложбинку между пышными грудями Чудо-Женщины. Подобные мелкие нарушения, как я знал по опыту, всегда имеют только одну цель: произвести впечатление. Но на эту наживку я, разумеется, не клюнул и – к некоторому разочарованию Аллен-Джонса – сделал вид, что не заметил ни его новой сумки, ни Чудо-Женщины, и принялся изучать новый классный журнал в девственно чистой бумажной обертке, который мне только что принесли из канцелярии.
Я сохранил руководство прошлогодним классом 3S. Правда, теперь он стал уже 4S – то есть был совершен еще один шаг, даже в наши переменчивые времена дающий ощущение надежности и непрерывности процесса. Когда же я наконец поднял голову и оглядел своих учеников, то в очередной раз испытал легкую тревогу – я, разумеется, знаю, что мальчикам в определенном возрасте свойственно очень быстро меняться, но даже после стольких лет работы учителем я никак не могу привыкнуть к тому, насколько они успевают вырасти за летние каникулы. Всего лишь в прошлом триместре они выглядели совсем детьми, а теперь внезапно возмужали, стали значительно шире в плечах и выше ростом, устремляясь ввысь, точно молодые деревца, решительно расталкивающие вокруг себя всю прочую растительность, дабы обрести необходимый простор для своих ветвей.
Все мои шуты гороховые, мои «Броди Бойз», на месте: Аллен-Джонс, Сатклифф, Макнайр. Здесь и Андертон-Пуллитт, немного странный маленький мальчик, в котором уже сейчас заметны черты будущего странного маленького мужчины. А вот и Джексон, большой любитель устраивать драки на школьном дворе; рядом с ним Пинк, наш философ, и Брейзноуз, толстый мальчик, которого мать явно перекармливает. Чуть дальше Ниу, японец, который вопреки всем культурным стереотипам обожает английскую литературу и ненавидит математику и естественные науки.
Ощущается, правда, и чье-то заметное отсутствие. Колин Найт – это имя я вычеркнул из журнала еще в ноябре прошлого года – по-прежнему где-то здесь и безмолвно участвует в общем сборе все с тем же сердитым выражением лица, словно на кого-то дуется. Этот мальчик единственный из всех не стал шире в плечах, ни капли не подрос, и растительности на лице у него не появилось, а голос так и не сломался. Не то чтобы я так уж часто мысленно с ним беседовал, но порой, в самых мрачных снах, он все же ко мне приходит. После его смерти некоторым моим ученикам понадобилась помощь психолога; вряд ли у Найта в школе было много друзей, но смерть ближнего, тем более одноклассника, – это поистине ошеломительный удар для тех, кто считает себя бессмертным.
Сегодня место Колина Найта опять осталось незанятым – это последняя парта в левом углу класса; хотя, по-моему, никто из мальчишек даже не задумался, почему никто из них туда не сел. Понимает это, наверное, только сама бывшая парта Найта, старый боевой конь, который, увы, помнит гораздо больше, чем ему хотелось бы.
Итак, передо мной новенький классный журнал, без единого пятнышка, каждая фамилия аккуратно впечатана, не оставлено никаких пропусков, и все же я невольно замираю, переходя от Джерома Б. к Ноктону Дж. и мысленно пропуская Найта К. – этой крошечной, едва заметной паузы мне вполне достаточно, чтобы можно было перевести дыхание и откашляться; и тут же я словно слышу, как с задней парты доносится это вечное «Сэр!», которое мальчик с сердитым выражением лица произносил, впрочем, с ледяной вежливостью.
Теперь мне иногда приходит в голову, что Колин Найт, пожалуй, хотел бы стать таким, каким был Джонни Харрингтон в юности – холодным, самоуверенным, даже чуточку нагловатым; во всяком случае, уж точно не испытывающим ни малейшего страха перед начальством. Не по этой ли причине я и Колина Найта недолюбливал? Не потому ли, что он чем-то напоминал мне юного Джонни Харрингтона?
– Я слышал, сэр, что с этого года у нас и девочки будут учиться? – Это сказал, разумеется, Тайлер; оба его родителя являются членами правления школы, так что все новости он узнает раньше меня.
– Это правда? – спросил Аллен-Джонс.
– Нас что, сливают с «Малберри Хаус»? – спросил Макнайр.
– Ну, технически это не совсем слияние… – поправил его Андертон-Пуллитт своим тягучим голосом. – По словам доктора Харрингтона, это связано с консолидацией ресурсов…
Похоже, мой Андертон-Пуллитт уже заинтересовался деятельностью антикризисной команды. Возможно, из-за прошлогодних трагических событий – ведь тогда он невольно оказался свидетелем тех ужасных обстоятельств, из-за которых Колин Найт и лишился жизни. Или, может, из-за того, что в этом году Андертон-Пуллитту поставили некий диагноз, требующий «особого обращения» и, как заверила меня его мать, полностью объясняющий некоторые весьма эксцентрические выходки этого ученика.
Я всегда считал, что особого обращения требует каждый ребенок, что это справедливо для всех моих мальчиков; но в наши дни, похоже, одни дети «равнее» других[48], так что я был вынужден проинформировать миссис Андертон-Пуллитт, что если ее сын будет выполнять все мои особые требования – например, вовремя сдавать домашние задания и внимательно слушать объяснения на уроке, – то и я буду обращаться с ним особым образом.
Впрочем, я не слишком на это надеюсь. Андертон-Пуллитт привык, что ему всегда слишком многое прощается, что, по-моему, для него отнюдь не полезно, а теперь эта привычка сочетается у него с самым настоящим нервным синдромом, и я совершенно уверен, что он не замедлит всем этим воспользоваться. В связи с этим, чувствую я, мне в ближайшем будущем предстоит немало встреч с миссис Андертон-Пуллитт; она наверняка попытается убедить меня, что ее сыну необходимо на экзаменах дополнительное время, что его следует освободить от спортивных занятий (спорт он терпеть не может), что я должен разрешить ему не выполнять домашние задания по тем предметам, которые не соответствуют его интересам, и так далее. Вполне вероятно, что вскоре наше с ней противоборство перерастет в постоянную конфронтацию. А если наш новый директор уже успел перейти на сторону Андертон-Пуллиттов…
– Значит, никаких девочек из «Малберри» в школе не будет? – спросил МакНайр.
– В нашем классе – нет! – твердо заявил Аллен-Джонс.
– Такое ощущение, словно тебе это не все равно, – сказал Пинк и усмехнулся.
– Наш класс – зона свободного садоводства, – сказал Аллен-Джонс.
Пинк фыркнул и как-то неприятно заржал. К нему присоединились и остальные мои «Brodie Boys», и мне показалось, что в этом веселье есть некий странный оттенок, не совсем мне знакомый. К тому же я успел заметить, что Аллен-Джонс странно, будто исподтишка, глянул на меня – словно тайком пытаясь определить степень моей заинтересованности.
– А что, девочки из «Малберри» уже фруктами считаются? – спросил Макнайр.
– Только если печешь пирог, – сказал Пинк, и все снова заржали, хотя, вообще-то, мальчишкам достаточно палец показать, и они уже готовы смеяться; эта почти экзистенциальная радость связана у них с прущей изо всех щелей молодостью, с тем чудесным, щекочущим изнутри ощущением, которое, едва возникнув, способно тут же охватить тебя целиком, так, что перехватывает дыхание. Иногда я и сам могу почти в точности вспомнить это ощущение – каким оно было в мои четырнадцать лет, когда казалось, будто внутри, где-то в районе солнечного сплетения, до предела заведена тугая часовая пружина, которая вдруг начинает раскручиваться, запуская в действие весь механизм, что и проявляется снаружи в виде неудержимого смеха. Теперь мой «механизм смеха», конечно, состарился, заржавел, и я крайне редко смеюсь даже просто в полный голос. А когда такое все же случается, то смех мой теперь звучит подобно резкому крику одинокой нескладной птицы.
Что это со мной сегодня такое? Чрезмерная сентиментальность никогда не была мне свойственна. Возможно, я просто вспомнил то старое дело, связанное с Харрингтоном, и теперь это не дает мне покоя. Черт бы побрал этого Харрингтона! Ну с какой стати ему понадобилось являться именно в нашу школу? Наверняка ведь у него имелся выбор – сотня других «неуспешных» школ, которые испытывают потребность в таком супердиректоре. Почему же он выбрал именно «Сент-Освальдз»? Даже если предположить, что он, приближаясь к так называемому среднему возрасту, вдруг испытал некую странную ностальгию, то его воспоминания о «милой старой школе» вряд ли могли быть настолько сладостными.
Прозвучал сигнал к началу уроков. Мальчики мои разбрелись по своим группам, одни поспешно, другие нога за ногу. Андертон-Пуллитт ушел последним и все еще что-то искал у себя в парте, даже когда на урок уже явилась моя новая латинская группа (ребята первого года обучения).
Я с трудом подавил желание сделать парнишке резкое замечание. Андертон-Пуллитт всегда опаздывает, что вызвано его неспособностью вовремя остановиться и перестать перекладывать с места на место свои учебники и тетради. Судя по тому, что написано в его личном деле, это некая навязчивая идея, связанная с его болезненным синдромом и требующая сочувственного и терпеливого отношения. Я, правда, на сей счет придерживаюсь несколько иного мнения, но, учитывая сложившийся в школе климат, мне свое мнение лучше держать при себе. И потом, сегодня меня что-то чересчур активно преследуют призраки моих бывших учеников, которые словно все время что-то нашептывают мне в уши, так что я, стоило мне повернуться к доске, впервые за двадцать четыре года чуть не написал, как когда-то, merda, merdum… и так далее вместо привычного mensa.
А уж неожиданный стук в дверь посреди урока окончательно вывел меня из равновесия. В «Сент-Освальдз» не принято, чтобы преподаватели во время занятий слонялись из класса в класс или директор неожиданно являлся к тебе на урок как раз в тот момент, когда ты, например, пытаешься объяснить двадцати четырем непоседливым первогодкам особенности первого склонения.
– Quid agis, Medice?[49] – сказал я, за шуткой скрывая свое удивление и негодование.
Услышав это, вошедший в класс Харрингтон засиял такой улыбкой, словно включил автомобильные фары.
– Надеюсь, вы не будете возражать, мистер Стрейтли, если я немного посижу у вас на уроке? – сказал он. – Я собираюсь в ближайшие несколько недель постоянно посещать занятия в разных классах, ибо мне, новичку, нужно поскорее ознакомиться с оснасткой и вооружением нашего старого судна. – Последние слова были явно адресованы моим первогодкам, которые послушно заулыбались и зашаркали ногами.
Харрингтон отыскал себе местечко – на последней парте в том самом левом углу, где раньше сидел Колин Найт. Ну, естественно! Этого и следовало ожидать. Впрочем, за тридцать четыре года работы в «Сент-Освальдз» я научился любую бестактность воспринимать с бесстрастным выражением лица. Я даже ухитрился улыбнуться Харрингтону и сказал с напускной строгостью:
– Вот и отлично, молодой человек. У нас сейчас, как вы видите, начальный курс латыни, но не думайте, что вам придется так уж легко. Давайте-ка проверим, что вы еще помните.
Глава вторая
Осенний триместр, 1981
Дорогой Мышонок!
Remember, remember the Fifth of November. Gunpowder, treason and plot[50]. Странно все-таки, что мы празднуем и прославляем смерть. Даже в церкви почти все изображения так или иначе связаны с пытками и страданиями. А ты знаешь, как поступили с Гаем Фоксом? Он спрыгнул с эшафота и сломал себе шею, обманув надежды толпы, собравшейся поглазеть на казнь. Но его все равно сперва повесили, потом четвертовали, а потом надели его отсеченную голову на пику, словно он все еще казался им недостаточно мертвым. Мой папа говорит, что это варварство. Однако и он как ни в чем не бывало ходит вместе со всеми в церковь, где мы постоянно видим Иисуса, гвоздями прибитого к кресту, и святого Стефана, пронзенного множеством стрел. Ну и в чем здесь разница? Мертвый – это мертвый, и мученичество очевидно каждому, кто на это смотрит. Иисус умер, чтобы мы могли жить. Но это звучит куда лучше, чем описание той жертвы, которую он принес. Вообще-то, в целом это похоже на покупку дивана в рассрочку, когда ежемесячно приходится вносить определенную сумму, вот только под конец всех выплат диван успевает здорово износиться.
Я однажды задал мисс Макдональд вопрос: «Почему люди умирают?» И она сказала: «Чтобы освободить место детям, которые еще не родились».
Знаешь, меня это совершенно не убедило. С какой стати нам нужны еще какие-то младенцы? И, если бы новые младенцы на свет не появлялись, я бы жил вечно?
Сегодня в парке Молбри праздновали Ночь Костров. Там еще на прошлой неделе начали к этому готовиться: сложили огромный костер вышиной с дом, навалив целую груду старых соломенных тюфяков вперемешку с дровами, пачками газет и чучелами людей, сделанными из старых половиков и рваной одежды. По сравнению с тем, как пылал этот костер, устроенные неподалеку фейерверки выглядели довольно жалко. Я подошел к огню так близко, как только мог. Сердцевина костра была ярко-оранжевой, а пламя ревело, как разъяренный лев. Я еще подумал, что именно так, наверное, пылает огонь в аду. В награду за смелость я получил глазированное яблоко на палочке. А потом Пуделя стало тошнить от дыма, и нам пришлось отойти от костра подальше.
– И зачем тебе вообще понадобилось так близко к огню подходить? – сердито спросил Голди, сильно раскрасневшись от жара.
– Мне хотелось узнать, каково это – стоять у врат ада, – сказал я, и Голди как-то странно на меня посмотрел, а я прибавил: – Между прочим, когда люди то и дело сжигали на костре ведьм, они считали, что поступают по отношению к ним очень хорошо, проявляя истинное добросердечие и как бы помогая несчастным привыкнуть к тому, что ждет их впереди. Получалось что-то вроде тренировки на выносливость.
– Гадость какая! – возмутился Пудель.
– Не знаю, не знаю… – покачал головой я. – По-моему, это круто.
В том-то и дело, что Голди и Пудель далеко не всегда меня понимают. Да и в целом у нас не так уж много общего. Если, конечно, не считать того, что все мы новички. И каждый – единственный ребенок в семье, ни у кого из нас нет ни сестер, ни братьев. А кроме того, неплохо иной раз хоть с кем-нибудь в церкви словом перекинуться, или сесть рядом на занятиях в школе, или хотя бы просто вместе посмеяться. Наверное, это означает, что я все-таки сумел влиться в коллектив. Внимания к себе я не привлекаю, а потому и со стороны моего отца у меня никаких неприятностей не возникает – и это для всех желанная перемена по сравнению с тем временем, когда я учился в «Нетертон Грин».
Когда мы вернулись из парка домой, там нас ждали и паркины[51], и имбирное печенье, и сэндвичи, а также мистер и миссис Пудель и мистер и миссис Голди. Все взрослые вырядились, как в церковь, и сидели у нас на лужайке, обсуждая школу «Сент-Освальдз». Мистер Пудель говорил о том, что поступление в эту школу – самое лучшее событие в жизни его сына за последние несколько лет, а все остальные только кивали как заведенные.
– Не уверен, впрочем, насчет их классного наставника, – продолжал мистер Пудель. – Мне он не кажется достаточно здравомыслящим.
Здравомыслящим! Ох, Мышонок. Опять это слово!
– Зато капеллан у них, безусловно, человек здравомыслящий, – сказал папаша Голди. – А также, разумеется, Джон Спейт. Вот уж кто человек действительно разумный! Если вам когда-нибудь понадобится с кем-то спокойно посоветоваться…
Мой отец быстро на меня глянул и сказал:
– Да, Джон Спейт просто замечательно умеет с мальчишками обращаться. Жаль, что не он у нас классный наставник. А кстати, кто еще ведет классы в школе второй ступени?
– Ну, мистер Стрейтли, мистер Скунс и еще… – Гарри, чуть не вырвалось у меня, – мистер Кларк. – Я взял кусок паркина и, заметив, что Пудель как-то искоса на меня поглядывает, тут же изобразил улыбку. А потом как ни в чем не бывало продолжил: – Но мистер Спейт и правда крутой. Мне лично хотелось бы, чтобы он у нас был классным наставником.
Я заметил, что папе мои слова пришлись по душе.
– С другой стороны, не могут же все школьные преподаватели нам нравиться, – примирительным тоном сказал он. – Школа для того и существует, чтобы вы могли научиться общению и с теми, кто ваши взгляды вовсе не разделяет.
Господи, если б он знал! Я украдкой подмигнул Пуделю. Ему, бедняге, похоже, все еще было не по себе. У него даже глаз начал немного дергаться.
– Да нет, наш мистер Стрейтли тоже вполне ничего, – бодро сказал я. – Особенно если ты – один из его любимчиков. А их у нас в классе несколько. Они даже во время обеденного перерыва с ним в классе остаются.
Папа нахмурился.
– Боюсь, я подобного поведения совсем не одобряю, – сказал он. – Мне всегда казалось, что преподавателям не следует брататься с учащимися.
– Ой, да нас-то он в эту компанию и не приглашает, – поспешил я его успокоить. – Ведь, с его точки зрения, мы ничего особенного собой не представляем.
Больше мне говорить ничего уже не требовалось; и так было совершенно ясно, что брошенное мной семя упало в благодатную почву. Точнее, несколько семян, причем все довольно ядовитые. И в случае удачи все они вполне могут прорасти. В конце концов, юность – лучшие годы нашей жизни. Когда и веселиться, как не в юности, верно? Вот мы и развлечемся немного. Не так уж у меня в жизни много веселья – не считая, конечно, тех счастливых мгновений, которые мне удается провести в обществе Гарри. Но все еще может измениться. И я очень на это надеюсь. Но мистеру Стрейтли лучше все-таки не вставать у меня на пути. Потому что с теми, кто пытается мне помешать, иногда случаются всякие нехорошие вещи. Мистер Стрейтли вполне заслужил небольшой сюрпризик. А я – небольшое развлечение. Ведь во мне, как справедливо сказал Гарри, заключено куда больше, чем может показаться с первого взгляда.
Глава третья
Осенний триместр, 1981
– Что вы имеете в виду? И что, по-вашему, означает слово «одержимость»? – спросил я, хотя, пожалуй, и несколько резковато. – Уж не то ли, что подразумевают под этим девять десятых наших законов?
Он покачал головой.
– Нет, сэр.
– В таком случае что же?
Разумеется, к этому времени я уже знал, что родители юного Харрингтона – люди глубоко религиозные. Они принадлежали к местному ответвлению, на мой вкус, пожалуй, чересчур современному, которое называлось «Церковь Розы Омега» и занимало скромное прямоугольное здание в старом районе Молбри, именуемом Деревней. Наш «сатанист» мистер Спейт тоже регулярно посещал эту церковь; ее прихожанами были и многие наши ученики. Но вообще-то я, даже зная все это, насчет церкви «Роза Омега» не слишком задумывался.
Сам я принадлежу к государственной англиканской церкви – и по привычке, и по рождению, и в связи с некой ностальгией. Церковь я посещаю в основном только на Рождество, потому что мне нравится этот праздник и рождественские гимны, но к числу истинно верующих я бы себя никогда не причислил. Я считаю, что некоторые проповедуемые церковью идеи (любовь, милосердие, благотворительность и так далее) заслуживают всеобщего одобрения и поддержки, тогда как от многого другого (например, от казни через побивание камнями, или от требования непременно соблюдать посты, или от таких церковных предрассудков, как вера в демонов и в первородный грех, или от презрения к тем, кто не такой, как все остальные) лучше было бы отказаться: пусть бы себе постепенно засыхало на разных умирающих ветвях веры. Впрочем, я понимаю, что многие со мной не согласятся. И Харрингтон-старший в первую очередь.
– Вы имеете в виду одержимость демонами? – спросил я.
– Да, сэр, – кивнул Харрингтон.
Я не сумел сдержаться и рассмеялся. По-моему, это его слегка обидело, и поспешил сказать:
– Извините. Пожалуйста, продолжайте. Итак, вы рассказывали о… вашем товарище, и он…
– Да, сэр. У него все признаки одержимости. Резкие перемены настроения, нервный тик, какие-то пятна на коже… И потом, его прямо-таки одолевают мысли о смерти…
– Видите ли, Харрингтон, все эти неприятности, в общем, свойственны периоду взросления. По-моему, это вполне нормально. Вам так не кажется?
Я улыбнулся, но он, явно так и не оттаяв, холодно ответил:
– Нет, сэр, мне так не кажется. И это не нормально. Он ведь все время об этом думает. И без конца твердит, что скоро умрет, а после смерти будет гореть в аду и ничто его от этого не спасет.
Его слова заставили меня слегка напрячься. В отличие от учениц «Малберри Хаус», нашим мальчишкам совсем не свойственны приступы чрезмерной чувствительности. Да и сам Харрингтон отнюдь не похож на человека, которого терзают всякие нездоровые мысли. Но что, если это мольба о помощи, о внимании? – думал я. Что, если Харрингтон все же имеет в виду себя самого? Я невольно всмотрелся в его лицо, пытаясь обнаружить там упомянутые пятна или хотя бы подростковые прыщи, но сумел разглядеть лишь одно-единственное крохотное пятнышко на подбородке: его идеально чистая кожа была абсолютно лишена прыщей, столь свойственных многим подросткам.
– Скажите, этот… ваш друг… он верующий? – спросил я.
– Был раньше, – сказал Харрингтон. – А теперь я даже и не знаю.
– Но вы можете назвать хотя бы одну причину, которая могла бы дать ему основания чувствовать себя… несчастным?
Он покачал головой.
– Да нет. На самом деле несчастным он себя вовсе не чувствует. Мой отец, например, считает, что в нем просто чего-то недостает. Он как дом, в котором свет выключили.
– Значит, это ваш отец считает, что у вашего друга проблемы?
Харрингтон пожал плечами.
– Мой отец считает, что нам следует молиться. Таков его рецепт для решения любой проблемы.
– Но вы не должны воспринимать понятие одержимости буквально, – сказал я. – Ведь когда вы говорите, например: «Что это тебе в голову втемяшилось?», вы имеете в виду: «Скажи, что с тобой?» или «У тебя что-то случилось?» А когда вы говорите: «Я не в себе…»
– Сэр… Речь не обо мне, сэр.
– Да, разумеется. И я верю, что это так, – солгал я. – Но, поскольку вы не можете назвать мне имя вашего друга или объяснить, почему вы считаете, что он, возможно…
– Одержим.
– Вот именно. – Теперь я уже начинал думать, что Харрингтон просто решил надо мной подшутить. Однако выглядел он, пожалуй, по-настоящему встревоженным. Тут я готов был поклясться даже собственной жизнью.
А Харрингтон искоса на меня глянул и сказал:
– Сэр? Сэр, вы ведь мне не верите?
– А вы себе верите?
Мне казалось, что мой резкий вопрос заставит его вздрогнуть, но он спокойно сказал:
– Я только хочу помочь, сэр.
«Я только хочу помочь». Ну разве после таких слов кто-то смог бы ему не поверить? Искренность, смешанная с неловкостью, – причем именно в той пропорции, какая требуется, – и все это сдобрено нужным количеством озабоченности.
– В таком случае почему бы вам не назвать мне имя вашего друга? – сказал я, и тут как раз прозвонил звонок. Снаружи, в коридоре, сразу стало очень шумно. Я заметил, что Харрингтон глянул в сторону двери, и на мгновение мне показалось, что на лице его промелькнула какая-то тень. Может быть, он заметил кого-то, стоящего за дверью? Того, с кем ему совсем не хотелось встречаться?
– Смотрите на меня, Харрингтон, – сказал я.
Он послушно повернулся ко мне. Сквозь матовое стекло дверной панели мне было видно, как мальчики строятся, перед тем как войти в класс. Может быть, кто-то из них подал Харрингтону некий знак? И нет ли там сейчас кого-то из учителей? Понять это было совершенно невозможно.
– Ну-ну, Харрингтон, не молчите, – поторопил его я. – Как я могу чем-то помочь вашему другу, если не могу даже понять, о ком идет речь?
– Мне казалось, что вы, сэр, и сами легко могли бы это выяснить. Во всяком случае, теперь, когда вам стало известно, что именно нужно искать. Это вовсе не обязательно должно исходить от меня. Вы, например, могли узнать это совершенно случайно…
– Случайно? – удивился я. Видимо, я все еще надеялся на его откровенность. Формула «у моего друга возникли проблемы» стара как мир; она казалась древней еще во времена детства Ноя. Однако я заметил, что за время той короткой паузы выражение лица Харрингтона несколько изменилось; он явно успел восстановить самообладание. Возможно, он и впрямь кого-то заметил сквозь стеклянную дверь; а возможно, просто струсил. Так или иначе, но уязвимость, промелькнувшая было в его глазах, совершенно исчезла, сменившись привычным надменным равнодушием, и я чувствовал, что под этим напускным спокойствием и вкрадчивой вежливостью скрывается затаенная ненависть.
И все-таки я предпринял последнюю попытку:
– Вы уверены, что вам больше нечего мне сказать?
Он кивнул.
– Да, сэр. Мне надо на урок математики, сэр.
Я вздохнул.
– Взрослеть всегда трудно. Подростки способны и приходить в бешенство, и смущаться до слез. Но это отнюдь не означает, что все они одержимы. Просто у них… гормоны бушуют. Так сказать, Angst[52] переходного возраста. Или, как выражается мой коллега Дивайн, Weltschmerz[53].
Харрингтон взял свой портфель, поспешно сказал:
– Спасибо вам, сэр. Мне уже легче. Извините, что отнял у вас так много времени. – И ушел.
А я весь день ломал голову над его словами.
Одержимость? Одержимость демонами?
Разумеется, я ему не поверил. Возможно, он и сам не предполагал, что я ему поверю: он был достаточно умен, чтобы тщательно выбрать мишень для своего выстрела; если бы он действительно хотел подсунуть кому-то нелепую идею об одержимости, то направился бы прямиком к доктору Бёрку или, что еще лучше, к нашему собственному инквизитору и охотнику на ведьм, а по совместительству знатному «сатанисту», мистеру Спейту, который в своем жгучем интересе ко всему оккультному соперничает даже с капелланом.
Нет, пришел к выводу я, Харрингтон, конечно же, пришел ко мне по иной причине. Возможно, ему даже хотелось, чтобы я развенчал его притянутую за уши гипотезу. Возможно, именно мой голос должен был прозвучать для него как голос здравого смысла, тогда как все остальные пребывали в растерянности. И вот тут я никак не мог понять: то ли Харрингтон сам верит во всю эту чушь, то ли это просто косвенная попытка предупредить меня о чем-то совсем ином. Но, так или иначе, неизбежно грядут Родительские Вечера, и если Джонни Харрингтон – или кто-то из его друзей – испытывает определенные эмоциональные затруднения, то теперь самое время выяснить, в чем их причина.
Опытный классный наставник всегда сумеет докопаться до истины, даже вроде бы не задавая никаких конкретных вопросов и умело пользуясь то бархатной перчаткой, а то и латной, способной разбить лицо в кровь. Он точно чувствует, когда следует поднажать и энергично решить ту или иную проблему, а когда лучше деликатно ее обойти или спустить на тормозах. Короче говоря, хороший классный наставник должен быть одновременно и детективом, и социальным работником, и священником. Мне, к сожалению, до такого уровня далеко. В общении с учениками я предпочитаю политику благожелательного невмешательства; в большинстве случаев это работает неплохо, но для Харрингтона и его приятелей мой метод, похоже, не годится. Нет, мне явно нужна еще чья-то помощь; тут требуется человек, способный говорить с Харрингтоном на его языке; человек, пользующийся у него безусловным авторитетом, но обладающий достаточным количеством сил и терпения, чтобы преодолеть ту пропасть, что зачастую разделяет учеников и учителей. Я сразу понял, кто именно мне нужен. Этот человек давно заслужил любовь и доверие учеников и понимал их гораздо лучше меня; именно он смог бы дать нужный совет и мне, и Харрингтону.
А потому, едва дождавшись перерыва на обед, я поднялся в класс Гарри Кларка.
Глава четвертая
Осенний триместр, 1971
Я хорошо помню, как в 1971 году начал работать в «Сент-Освальдз» в качестве младшего преподавателя. Эрик Скунс к этому времени уже успел два года там проработать; из-за него я, собственно, и подал туда заявку. Мы с Эриком крепко дружили еще со школы. И теперь оба вновь оказались в числе новичков – как, впрочем, и молодой доктор Дивайн, не человек, а ходячая бутылка с водой «Алка-Зельцер»; Дивайн тогда только-только окончил колледж и прямо-таки пузырился от избытка энергии и амбиций.
С тех пор, разумеется, многое переменилось; но по сути все осталось неизменным. Мы по-прежнему существуем в изоляции от остального мира, точно золотые рыбки в аквариумах, выстроенных в ряд, и движемся по одному и тому же кругу класс за классом, год за годом. Здесь, в «Сент-Освальдз», никогда ничего особенного не происходит – а уже если произойдет, то разбивает спокойную гладь медленно текущих вод с силой брошенного тяжелого камня, поднимая множество брызг и вызывая концентрические круги, которые, впрочем, довольно быстро исчезают с поверхности воды, и тогда снова воцаряется прежний покой.
Я познакомился с Гарри Кларком лишь в середине своего первого триместра. В «Сент-Освальдз» как-то не очень принято водить дружбу с представителями других кафедр, а Гарри Кларк, хотя его классная комната и находилась точно над моей, был сотрудником той кафедры, которая славилась своими антиобщественными настроениями; во главе ее стоял мистер Фабрикант, выпускник Оксфорда, страдавший заметным тиком (у него подергивался глаз) и еще в молодые годы написавший книгу о жизни маркиза де Сада, чем и заслужил абсолютно несправедливое обвинение в поддержке сексуальной вседозволенности. Короче говоря, тогда я Гарри Кларка знал разве что в лицо; мы изредка встречались в учительской, куда он, впрочем, заглядывал крайне редко, или на собраниях у директора. В тот день я зашел в класс № 54, соседний с моим, – то были владения доктора Дивайна, и я надеялся незаметно «позаимствовать» у него коробку с цветными мелками. По какой-то причине такие мелки принадлежали кафедре германистики, и коробки с ними, сложенные стопками, хранились у Дивайна в классе, за шкафом. Я, естественно, наделся, что самого Дивайна в классе не окажется. Насколько я уже успел понять, к числу филантропов он явно не относился.
К сожалению, Дивайн тоже любил приходить в школу пораньше и обычно в половине восьмого уже сидел в классе за столом, попивая черный кофе из толстостенной (школьной, разумеется) чашки, стараясь до прихода учеников проверить тетради. Но тем ранним утром, заглянув к нему в класс, я, к своему удивлению, увидел, что он стоит на столе спиной к двери и держит в руках садового гнома; выглядел он при этом одновременно и разъяренным, и смущенным и явно пытался скрыть от меня то, что было у него в руках.
Во всяком случае, я понял, что застал его врасплох.
– Стрейтли! – раздраженно воскликнул он, резко ко мне повернувшись.
– Э-э, доброе утро! – поздоровался я, и он гневно на меня глянул.
Доктор Дивайн и в молодости был почти таким же, как сейчас, – только глаза были у него, пожалуй, чуть ярче, а нос – еще чувствительней. Мы с ним невзлюбили друг друга с первого взгляда, инстинктивно угадав, что являемся представителями абсолютно антагонистических типов характера. Даже обстановка в классной комнате Дивайна была полной противоположностью тому, что творилось у меня: все его книги были аккуратно расставлены на полках; тщательно вычищенная мантия висела на вешалке за дверью; доска была девственно-чиста, тщательно вымытая новенькой губкой, а не каким-то старым засохшим комком; доски с оценками и объявлениями были украшены портретами знаменитых немцев.
Так что можете себе представить, насколько я был удивлен, увидев среди этого поистине тевтонского порядка Дивайна стоящим на столе, да еще и с дурацким садовым гномом в руках. Гном был самый обычный, пластмассовый, ярко раскрашенный, и на физиономии у него сияла несколько распутная улыбка до ушей, а на шее красовался, по-моему, галстук «Амадеус Хаус». Доктор Дивайн слез со стола, сунул гнома в портфель и раздраженно заявил:
– Это, разумеется, не мое! – Его явно злило, что он вынужден со мной объясняться. – Я нашел это здесь сегодня утром. – Интонации у него были резкие, скачущие, точно стук пишущей машинки. – На самом деле я вот уже две недели постоянно где-нибудь на эту дрянь натыкаюсь. Наверняка чья-то глупая шутка. И когда я выясню, кто этим занимается…
Я улыбнулся – просто не сумел сдержаться, – и Дивайн тут же возмущенно поджал губы.
– Что ж, я рад, если вам это кажется смешным, – сказал он. – Но вы, очевидно, просто представления не имеете, сколь пагубное воздействие оказывают подобные шутки на класс – особенно во время урока, когда открываешь шкаф, чтобы что-то оттуда достать, или снимаешь с полки словарь, или пытаешься вынуть что-то из ящика своего стола, а тебе оттуда улыбается эта мерзкая тварь. Сегодня, например, гнома пристроили прямо над дверью. Он же мог, свалившись оттуда, нанести мне серьезное увечье!
Стараясь не рассмеяться, я даже губу прикусил.
– Да, это, конечно, полное безобразие, – сказал я, – но разве вы не можете его… просто выбросить?
– Неужели вы думаете, что я не пытался это сделать?! – нетерпеливо воскликнул Дивайн. – Но тот шутник, кто бы он ни был, продолжает его мне подкладывать! На прошлой неделе, например, я нашел гнома на пороге моего дома, прямо под дверью. На пороге моего дома, Стрейтли! И в руках он держал немецкую сосиску! Значит, кто-то посмел притащить его ко мне в дом. Нет, это уже переходит всякие границы! И когда я выясню, кто…
Я сдерживался изо всех сил, пытаясь сохранить на лице серьезное выражение.
– Вы совершенно правы, – с трудом выдавил я и слегка закашлялся. – А вы, случайно… не пытались выяснить, каковы возможные мотивы данного преступления?
– Мотивы? – Дивайн выглядел оскорбленным.
Я отнюдь не случайно задал этот вопрос. С начала триместра Дивайн оставил после уроков четырнадцать мальчиков только из моего класса; кроме того, он подал несколько жалоб на своих соседей по Верхнему коридору, обвиняя их в таких разнообразных преступлениях, как слушание музыки во время обеденного перерыва, плохая уборка его класса, кража цветных мелков, недопустимая перестановка растений на подоконниках и, наконец, упорное нежелание некоторых преподавателей надевать мантию даже на утреннюю Ассамблею. Уже всей школе было известно, что наш директор, доктор Шейкшафт, за глаза называет Дивайна не иначе как «этот маленький дерьмец». А ученики буквально в первые же дни дали ему прозвище Зелен-виноград, которое сохранилось и поныне.
– Какие тут, собственно, могут быть мотивы? Тут одно-единственное желание – сорвать урок! – возмущенно заявил он.
Я только головой покачал и пошел к себе, понимая, что в данный момент моя просьба о цветных мелках была бы встречена в высшей степени холодно. А потом, подумав немного, я решил подняться в класс № 58 к Гарри Кларку. Из-за двери его класса доносилась негромкая музыка, но я все же постучался и вошел.
Тощий, как вешалка, молодой человек в круглых очках и пиджаке из харрисского твида[54] пытался пристроить под стол большую картонную коробку с пластинками, хотя там и так уже стояло несколько таких же коробок, а на самом столе высились стопки книг, и среди них виднелся переносной проигрыватель.
Заметив, что я вошел, молодой человек выпрямился и сказал:
– Вы ведь снизу, верно?
– Стрейтли, латинист, – представился я.
– Гарри Кларк. Английская литература. – Он улыбнулся. – А я уж испугался, что снова явился тот тип, который немецкий язык преподает, и опять начнет жаловаться, что я музыку включаю. Вот уже две недели я каждый день жду, что он вот-вот появится. Причем в любое время. Между прочим, я собирался дать ему послушать вот это…
Он снова улыбнулся, вытащил из стопки на столе какую-то пластинку и поставил ее на проигрыватель. Через некоторое время в классе зазвучала легкая солнечная мелодия. Слушая ее, я невольно опустил глаза и увидел, что в одной из картонных коробок, стоящих под столом, рядами лежат пластмассовые гномы, аккуратно упакованные в полиэтилен. Гномы были в точности такими же, как тот, которого я только что видел в руках у Дивайна…
А та веселая песенка все продолжала звучать – Гарри, как я позже узнал, увлекался коллекционированием всевозможных новинок. Я прислушался к словам и засмеялся. И Гарри Кларк засмеялся вместе со мной.
Да и называлась эта песенка, разумеется, «Смеющийся гном».
Глава пятая
Осенний триместр, 1981
Дорогой Мышонок!
Нам сообщили результаты итоговых экзаменов. Я получил «А» – высший балл – почти по всем предметам: по истории, математике, географии, истории религии, а также по латыни и по химии. Но по английскому у меня только «С» (увы!), и с французским просто кошмар, но не потому, что у меня так уж плохо идет французский, а потому, что в день экзамена мне вдруг стало ужасно скучно – ну просто до смерти все надоело! – и я вместо эссе, которое велел нам написать мистер Скунс (Racontez ce que vous avait fait pendant vos vacances[55]), написал отчет об убийстве (un meurtre), которое совершил в тот уик-энд, и о том, как я расчленил тело (le cadavrе), разрезав его на кусочки (en petits morceaux), и оставил их в школьной кухне, где они были мгновенно засунуты (rapidement incorpores) в начинку для картофельной запеканки.
Оказывается, мистер Скунс подобный черный юмор оценить попросту не способен. Он тут же отправил письмо моим родителям, что само по себе было достаточно плохо, но что было еще хуже – он на две недели запретил мне во время перерыва на обед покидать классную комнату. А это означает, что теперь я смогу увидеться с Гарри только после Рождественских каникул. Даже смешно, до чего быстро я привык к ежедневным посиделкам у него в классе! И знаешь, Мышонок, мне этого будет ужасно не хватать. Мне будет не хватать общения с Гарри. Черт бы побрал этого мистера Скунса! Вот уж напыщенный осел!
Между прочим, у нашего Пуделя результаты оказались совсем уж никудышными. Вот тупица, даже экзамены не мог как следует сдать! Я видел его работу по химии – он там все поля изрисовал своими дурацкими картинками. Он и в классе вечно всякую ерунду рисует, причем совершенно машинально. По-моему, он в «Сент-Освальдз» чувствует себя совершенно несчастным. Это сразу заметно, стоит только приглядеться. А сейчас у него и вовсе все руки в экземе – от пальцев до плеч; и на лбу сплошные прыщи. (Мой папа считает, что прыщи – это верный признак занятия онанизмом.) Меня Пудель почему-то в последнее время стал избегать; старается ни перед занятиями, ни во время ланча со мной не встречаться, а после уроков так быстро ускользает прочь, что у меня нет ни малейшей возможности даже поговорить с ним. Интересно, не связано ли это с какими-то моими высказываниями? Например, с тем, что я сказал тогда у Гарри в классе? А может, что-то грызет его изнутри? Что-то или кто-то.
Некоторые люди очень ловко умеют скрыть все, что угодно. Зато некоторые умеют все, что угодно, выяснить. У меня вообще-то хорошо получается и то и другое. И сегодня, когда Пудель после занятий вышел из школы, я осторожно, на некотором расстоянии, двинулся за ним. Мне сразу же стало ясно, что идет он не домой. Его дом на той стороне парка, в самом конце Миллионерской улицы, а он направился совсем в другую сторону – к тому краю Деревни, где она граничит с Белым Городом; там же рядом школа «Саннибэнк Парк», а дальше всякие пустыри.
Пудель, вообще-то, очень скрытный. Я изо всех сил старался, чтобы он меня случайно не заметил, и вел себя крайне осторожно, не спешил. Я, собственно, сразу догадался, куда именно он направляется, и, как оказалось, не ошибся. Там на пустошах, сразу за Белым Городом, есть одно интересное место – какой-то старый заброшенный канал, а вокруг несколько покрытых жесткой травой терриконов и овраг, заросший колючим кустарником; через канал перекинут мост, за мостом ржавые металлические ворота, а за воротами бывший глиняный карьер. Это и есть тайное убежище Пуделя; туда он ходит, чтобы заниматься своими темными делишками. Мне это место хорошо знакомо – ведь когда-то, Мышонок, оно было нашим с тобой местом.
В былые времена там было, должно быть, не менее дюжины шахт; некоторые до ста футов в глубину; и люди, обвязавшись веревкой, спускались на дно такой шахты и копали там глину, которую поднимали наверх в ведрах или корзинах. Теперь все эти ямы затоплены, а место вокруг них используется как свалка. Я когда-то придумал название для каждой из этих ям. Самую большую я назвал Долгий Пруд; там кое-кто даже рыбу ловит; рыба там и правда плавает, лавируя между старыми затонувшими автомобилями и прочим мусором. Возле Долгого Пруда играть довольно безопасно, особенно у его нижнего края, где мелко. Там, например, хорошо кораблики пускать. Но есть и очень глубокие ямы, особенно опасные во время дождя; берега у них крутые и скользкие. Одну из них я назвал Шурф. В ширину этот Шурфа всего несколько десятков шагов, но берега у него совершенно отвесные; если туда нечаянно свалиться, так, пожалуй, и не выберешься. Иногда там можно увидеть утонувших крыс или даже собак, которые как раз такую ошибку и совершили. В общем, я от Шурфа стараюсь держаться подальше. Другие глубокие ямы я назвал так: Полумесяц, Сахарница, Три Маленьких Индейца и Умывальник. Ни одна из них, конечно, не сравнится с Шурфом, но и достаточно безопасными их считать тоже нельзя. Не особенно опасен, пожалуй, только Полумесяц, который почти до самых краев заполнен водой; просто в нем у одного края немного глубже, чем у другого. Вокруг этих ям повсюду разбросаны старые автомобили, тележки из магазинов, потрепанные коврики, сломанные деревянные топчаны, упаковочные клети, связки комиксов и журналов. Попадаются даже электроплиты и телевизоры с разбитыми кинескопами. Это очень хорошее место, если хочешь от кого-то спрятаться или встретиться с кем-то, кого твои родители не одобряют. Вообще-то, я почти не сомневался, что Пудель постоянно там бывает – уж больно уверенно он шел к своей цели.
Я умею двигаться практически бесшумно, а потому мне удалось подобраться к Пуделю совсем близко, и то он не сразу меня заметил. Спрятавшись за большим валуном, я смотрел, как он уютно устраивается в каком-то старом ржавом автомобиле. Потом он вытащил журнал «Фиеста» и погрузился в чтение. Но я чувствовал, что он кого-то ждет.
Наконец я вылез из своего укрытия, и он прямо подскочил, увидев меня. И попытался спрятать свой журнал.
– Ой, это ты, Зигги!
– И часто ты сюда приходишь?
Он только плечами пожал. По-моему, ему было не по себе. Вообще-то он в этой машине вполне пристойное логово себе устроил; украсил его всякими ковриками, днище матрасами застелил, журналов целую кучу натащил. А ведь издали казалось, что это точно такая же ржавая развалина, как и все остальные. Впрочем, внутри логова тоже было довольно холодно.
– Только маме моей не говори, – предупредил Пудель. – Она думает, что я сейчас у тебя.
– Ладно-ладно, – успокоил я его, – мой отец тоже, наверное, думает, что я у тебя. У тебя подымить нечем?
После этих слов Пудель, похоже, немного расслабился. У него была припасена коробочка шербета и несколько сигарет; мы закурили, устроившись на продавленных сиденьях и глядя на неподвижную темную воду. Родители, разумеется, уверены, что я не курю. Хотя мой папа и сам тайком покуривает. Точно так же мама с папой уверены, что я и комиксов не читаю, и Дэвида Боуи не слушаю, и журналы, где картинки с голыми женщинами, в руки не беру. Мне все это не разрешается главным образом из-за Моего Состояния. Хотя порой мне кажется, что папа так толком и не понял, что, собственно, это Мое Состояние собой представляет.
Свой журнальчик Пудель сразу сунул куда-то на заднее сиденье. Я в марках машин плохо разбираюсь; я только обратил внимание, что верх у этого автомобиля брезентовый и здорово истрепан дождями и ветрами. А еще я успел заметить, как Пудель пририсовал девице, изображенной на обложке того журнала, усы, здоровенный член и яйца.
Пудель заметил, что я на тот рисунок поглядываю, и попытался спрятать журнал, но я успел его перехватить и отдавать ему пока что не собирался. Открыв журнал, я увидел, что он и внутри тоже весь разукрашен такими же «художествами». «Ого, – подумал я, – так, может, та рыженькая девчонка, похожая на фламинго, что поет у нас в церкви, его совсем и не интересует?»
Наблюдая за мной, Пудель прямо-таки побагровел; на фоне покрасневшей кожи его прыщи и шрамы, оставшиеся после прыщей, выглядели почти белыми.
– Это я просто так развлекаюсь, – пробормотал он. – Это не какая-то там склонность или что-то еще…
– Ясное дело, нет. А под сиденьем автомобиля ты прячешь книжки Энид Блайтон[56], верно?
Пудель страшно побледнел, прямо-таки позеленел, и отвернулся. По-моему, он понял, что я обо всем догадался, так что ему нет смысла отрицать, что под старым сиденьем спрятаны груды тех самых журналов для качков, а также парочка романов с такими названиями, что если бы мой дорогой старый папочка их увидел, то сразу получил бы инфаркт.
– А мне казалось, тебе та рыженькая девочка нравится. Ну, которая у нас в церкви на гитаре играет, – сказал я.
Пудель криво усмехнулся.
– Если бы она мне нравилась… – вздохнул он. – Мне тогда куда легче было бы жить. Хотя она вряд ли хоть раз взглянула бы на меня, зато я сам, по крайней мере, чувствовал бы себя нормальным…
– По-моему, ты переоцениваешь понятие нормальности, – заметил я, но это не помогло: Пудель все равно выглядел подавленным.
– Мой отец иного мнения, – сказал он. – Я теперь каждый день жду, когда он затеет со мной очередную беседу о нравственности и станет уверять меня, что от онанизма слепнут, а пятна и прыщи на коже свидетельствуют всего лишь о желании Господа напомнить, что следует почаще принимать холодный душ, и так далее.
– Мне тоже такие беседы знакомы, – усмехнулся я. – Меня с девяти лет так воспитывать пытаются.
– Знаешь, я считал, что если мне… удастся… избавиться от своего любопытства…
– То вместе с любопытством все остальное тоже волшебным образом куда-то исчезнет?
Он поморщился и помотал головой.
– Наверное, это все-таки зависимость, – сказал он. – Ей-богу зависимость! Один-единственный раз позволишь этому взять над тобой верх – и готово! Это навсегда становится частью тебя. Ты только отцу моему не говори. И вообще никому не рассказывай. Я убью себя, если отцу это станет известно. Честное слово. И ты будешь виноват в моей смерти.
– Ты что! Конечно же, я никому не скажу, – пообещал я.
– Перекрестись! И жизнью своей поклянись!
– Вот те крест! Клянусь собственной жизнью, что никому ни слова о тебе не скажу.
Значит, и у Пуделя тоже некое Особое Состояние? Нет, я, честное слово, не собирался никому рассказывать, но школа – это такое странное место. Там очень трудно сохранить тайну. Доверишь кому-то одному свой секрет, и о тебе тут же по всей школе дурная слава пойдет. Наверное, именно так и произошло со мной в «Нетертон Грин». Хотя теперь все это, конечно, в прошлом. Тогда я просто немного сбился с пути под воздействием Моего Состояния. Оно тогда особенно ярко себя проявило, но теперь я полностью держу его под контролем.
А за Пуделем я, кстати, давно уже наблюдаю. И вижу, как он даже в классе постоянно что-то чиркает в дневнике или на полях учебника, оставляя там всякие такие рисуночки. Я замечаю, как он ведет себя по время большой перемены или на школьном дворе. Или в церкви, когда он неотрывно смотрит на обнаженного Иисуса, распятого на кресте. В такие минуты я в точности знаю, о чем он думает. Бедный Пудель, сгорающий от преступной страсти к Иисусу Христу! Да уж, ему и впрямь было бы куда легче сгорать от страсти по этой девице-фламинго, которая так мило играет на гитаре. Но Бог не любит, чтобы людям было легко. Богу нравится все усложнять, вот Он и дал людям иллюзию выбора, вместо того чтобы просто сделать нас всех изначально хорошими. Он предложил нам самим выбрать правильный путь. Тот, что приведет к Нему. И это станет нам наградой за нашу веру в Него.
Я сегодня поднялся к Гарри, чтобы предупредить его о намерении мистера Скунса на две недели запереть меня в классе, лишив обеденного перерыва. Потом я рассказал о своем злополучном сочинении, и Гарри долго смеялся, а после заметил:
– Пожалуй, это было слишком изобретательно для нашей добропорядочной публики.
И я, уныло пожав плечами, сказал:
– Да, сэр, наверное, вы правы. Но мне будет очень вас не хватать.
Он снова засмеялся.
– Вы хотите сказать, моей коллекции пластинок? А знаете что, возьмите-ка на каникулы одну из них. Пусть она поможет вам преодолеть эти временные трудности. Только аккуратней, не поцарапайте ее, хорошо?
Я молча кивнул. Я же прекрасно знал, как Гарри дорожит своими пластинками. Даже больше, чем своим экземпляром романа Оруэлла «1984», где все поля буквально испещрены его пометками, сделанными от руки.
– Итак, что же вы выберете? – спросил Гарри.
– Пожалуйста, сэр, позвольте мне взять «Зигги Стардаст»![57]
Услышав это, мистер Кларк – Гарри! – снова рассмеялся и сказал:
– Ну, сколько же можно ее слушать, ненасытный вы мальчик! А что, интересно, вы скажете вот об этом? Насколько мне известно, вы всегда предпочитали более старые вещи. У вас определенно внутренняя склонность к старине. – И он осторожно вытащил из своего кейса – а вовсе не из той коробки с пластинками, что всегда стоит у него под столом! – альбом «Даймонд Догз»[58]. – По-моему, вам должно понравиться, – сказал он, – хотя это довольно мрачная антиутопия. Некое соединение «Зигги Стардаст» с романом «1984». Конец света, когда человеческие существа безумствуют, приняв животное обличье.
Я внимательно посмотрел на обложку альбома. Ты, я думаю, уже понял, что там было изображено. Впечатление производит странное: это кажется одновременно безобразным и прекрасным; исполненным порока и истинно правдивым. И он, Гарри, много раз это видел и, глядя на эту картину, думал обо мне; точно так же, как тогда – когда он, выбрав самое некрасивое яблоко, подумал обо мне.
А он одарил меня улыбкой – ну, знаешь, той самой – и спросил:
– Не боитесь, что вам этим мозги вышибет?
– Нет, сэр. Нет, Гарри, – ответил я.
Глава шестая
Осенний триместр, 1981
Вот так, в 1971 году, мы с Гарри и стали друзьями. Без малейших усилий – слушая в классе № 58, залитом неярким солнечным светом последних дней октября, песенку «Смеющийся гном». Для людей, жизнь которых проходит за пределами «Сент-Освальдз», подобное знакомство, возможно, не покажется чем-то необычным; но для меня эта внезапно возникшая дружба стала полной неожиданностью. У меня ведь, кроме Эрика, и друзей-то не было – только коллеги и ученики. И я, в общем, по этому поводу совсем не переживал. Я никогда особой общительностью не отличался, а уж стадным животным не был и подавно; даже в юные годы я более всего был счастлив в обществе моих книг, моего радиоприемника и… моего одиночества.
Но с появлением в моей жизни Гарри Кларка все изменилось. Недели, месяцы и годы сменяли друг друга, а мы с ним продолжали видеться каждый день, причем не только по утрам, но и после занятий, когда, удобно устроившись у Гарри в классе и поглощая немыслимое количество чая, мы вместе проверяли тетради, вместе читали газеты и вели бесконечные разговоры, пока в дверях не появлялась наша тогдашняя уборщица – Глория с испанскими глазами – и, уперев руки в аппетитные бедра, не вопрошала возмущенно: «Вам что, ребята, пойти некуда? У вас дома нет?»
О чем мы с ним разговаривали? Да обо всем. О политике, о музыке, о людях, о жизни. Я узнал, что он голосовал за лейбористов (я поддерживал Эдварда Хита[59]); что ему нравится группа «Монти Пайтон»[60] и сериал «Доктор Кто»[61]; что он слушает музыку по Радио-1 и ездит слушать выступления музыкальных групп в Манчестер. Гарри ненавидел футбол, но любил крикет; ему нравились произведения Курта Воннегута и Мюриэл Спарк. Он жил один в Молбри-Вилледж, занимая небольшой стандартный домик в длинном ряду точно таких же домов, выстроившихся вдоль улицы. Женат он никогда не был и, насколько я знал, считал своей семьей школу «Сент-Освальдз».
Иногда мы, взяв с собой Эрика, отправлялись куда-нибудь, чтобы пропустить пару стаканчиков, – Эрик и тогда уже был очень даже не прочь выпить, – например, в местный паб «Жаждущий школяр», который, кстати, и сегодня, что необычайно приятно, ничуть не переменился: все те же кожаные кресла у камина и те же старые столы, испещренные боевыми шрамами. В «Школяра», собственно, ходили все наши преподаватели – за исключением, пожалуй, доктора Дивайна, который то ли совсем не пил, то ли достоинство не позволяло ему появляться в компании простых преподавателей. А у меня самые счастливые воспоминания связаны именно со «Школяром», с нашей тесной компанией из трех человек и с тем весельем, которое так легко зарождалось, если рядом был Гарри.
Встречаются такие вот совершенно исключительные учителя, способные внушить к себе какую-то особую любовь. Таким был Пэт Бишоп; таким был и Гарри Кларк. К этим людям сразу же, абсолютно инстинктивно и безоговорочно начинаешь испытывать доверие. Именно поэтому я и десять лет спустя – когда ко мне явился Джонни Харрингтон со своей зловещей историей об одержимости – сразу же решил пойти посоветоваться с Гарри Кларком, будучи уверенным, что уж он-то поймет, как тут быть.
Был обеденный перерыв, и Гарри, как всегда, остался в классе в окружении ребят. Он вообще крайне редко спускался в столовую и предпочитал отдыхать от занятий в своей комнате за чашкой чая, слушая любимые пластинки.
Увидев меня, он тут же встрепенулся, заулыбался и сказал:
– Ага, вот и мистер Стрейтли! Как раз вовремя, чтобы разрешить возникшее в результате нашей дискуссии противоречие. Что лучше – «Status Quo» или «Procul Harum»?[62] Как латинист, вы должны знать.
– На самом деле правильно было бы procul harun, – сказал я, – но, насколько я понимаю, подобные тонкости вас не интересуют. – Я повернулся к собравшимся вокруг Гарри ученикам: – Джентльмены, мне крайне неприятно прерывать вашу глубокомысленную дискуссию, но, увы, я должен срочно переговорить с мистером Кларком. А status quo вы легко восстановите и несколько позже.
Мальчики довольно весело отреагировали на мою убогую шутку и удалились. А я, оставшись с Гарри наедине, выпалил:
– Я снова по поводу Харрингтона. Мне нужен твой совет.
– Да? – сразу посерьезнел Гарри. – И что там с Харрингтоном?
Я пожал плечами.
– Он сегодня явился ко мне с какой-то историей о своем друге, якобы одержимом демонами.
Гарри усмехнулся.
– Одержимость? Что ж, меня это совсем не удивляет. Харрингтон-старший – орешек крепкий. А эта их церковь, прямо-таки ушибленная борьбой со всевозможной одержимостью и греховной распущенностью, насквозь пропитана идеями Ветхого Завета. Огонь и сера. Смерть гомосексуалистам! Женщина, знай свое место! Вавилон как царство антихриста; ересь; массовая истерия; изгнание демонов из подростков исключительно с помощью веры и чтения хором евангелических проповедей. Я бы сказал, это просто чудо, что Джонни такой, какой есть.
– А какой он есть? – спросил я.
Гарри пожал плечами.
– Я знаю, из-за него у тебя недавно были неприятности. Но Джонни – мальчик в целом неплохой. Пожалуй, несколько зажатый, но вполне разумный. И голова у него на плечах хорошая, хотя с родителями ему явно не повезло. – Гарри вытащил из стола большую жестяную коробку с шоколадными конфетами «Кволити Стрит». – Вот, возьми лучше конфетку.
Даже то, какие конфеты предпочитал Гарри, свидетельствовало о его истинно мужском характере. Я, например, выбрал с нежным клубничным кремом и хрустящей оболочкой из горького шоколада. А он – пурпурный «бразильский орех».