Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар» бесплатное чтение
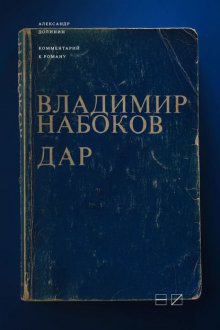
От автора
Я начал разгадывать загадки «Дара» в 1989 году, когда мой добрый приятель, редактор «Радуги» С. Б. Белов заказал мне комментарии к нетривиальному двуязычному «Избранному» Набокова, куда роман вошел вместе с «Пниным», рассказами и стихами.[1] Объем комментариев был строго ограничен, кое-что пришлось выкинуть, многое не удалось найти, но сама работа показалась мне необычайно увлекательной. Возможность продолжить ее представилась десять лет спустя, когда в петербургском издательстве «Симпозиум» стало выходить пятитомное собрание сочинений Набокова русского периода. Для него я сделал новые комментарии к «Дару», намного больше и лучше прежних, но и они не были полными и безошибочными.[2] Наконец, еще через десять лет третий вариант моих комментариев вошел во второй том полного собрания романов Набокова на французском языке, издаваемого в так называемой «Библиотеке Плеяды».[3] Перевод «Дара» для этого престижного издания делался не с русского оригинала, а с авторизованного английского перевода, так что, работая над комментариями в содружестве с переводчиком романа, я смог проследить существенные разночтения между двумя его версиями, оригинальной и переводной.
Многолетнее изучение «Дара» убедило меня в том, что роман требует не только сопроводительного, но и отдельного монографического комментария, поскольку в нем насчитывается более тысячи мест, требующих пояснения. Ориентиром мне служили непревзойденные образцы жанра – комментарии к «Евгению Онегину» Ю. М. Лотмана, к «Двенадцати стульям» и «Золотому теленку» – Ю. К. Щеглова, к «Улиссу» Джойса – Дона Гиффорда (Don Gifford) при участии Роберта Сайдмана (Robert J. Seidman). Последний труд имеет занятный эпиграф – слова, якобы сказанные Джойсом французскому переводчику «Улисса» в ответ на просьбу помочь тому разобраться в романе: «I’ve put in so many enigmas and puzzles that it will keep the professors busy for centuries arguing over what I meant, and that’s the only way of insuring one’s immortality [Я всадил туда так много загадок и головоломок, что профессорам хватит пищи для споров о том, что я имел в виду, на несколько веков, и это единственный способ обеспечить себе бессмертие (англ.)]». У Набокова, который сравнивал «произведения писательского искусства» с шахматными задачами и говорил, что настоящая борьба в них ведется не между героями романа, а между романистом и читателем (Набоков 1999–2000: V, 320–321), загадок и головоломок тоже достанет если не на несколько веков, то по крайней мере лет на сто, и решить многие из них нельзя без знания «правил игры» и другой в ряде случаев труднодоступной информации. В нескольких моих комментариях желающие найдут необходимые подсказки, которые помогут им одержать «победу» над романистом. При этом я оставил без пояснений те загадки, для решения которых не требуются специальные сведения, чтобы не лишать читателя удовольствия самому догадаться, что такое «объявленьице – о расплыве синеватой собаки» (193)[4] или «лист газеты с вырезанным в Европу окном» (247), на какое выражение и чью квартиру намекает название вымышленного литературного альманаха «Башня» (526) и где в финале романа находятся три связки ключей от квартиры Щеголевых. Не поясняются в комментариях и общеизвестные географические названия, мифологические и исторические имена, которые легко можно отыскать в справочниках и словарях, а также в электронной сети.
Кроме загадок, придуманных самим Набоковым, комментарий дает ключи и к загадкам другого рода – таким, которые, по определению В. Э. Вацуро, «созданы не писателем, а временем» (Вацуро 1994: 4). Как неоднократно указывали лучшие мастера комментирования М. Л. Гаспаров и Р. Д. Тименчик, литературные произведения прошлого писались не нами и не для нас и мы не имеем права проецировать на них наши сегодняшние представления и знания (см.: Тименчик 2008: 589). Для восстановления историко-литературных, историко-культурных, историко-лингвистических и собственно исторических контекстов, в которых текст создавался и функционировал, часто требуется научный поиск – в архивах, в старых газетах и журналах, в сочинениях, воспоминаниях и письмах современников, и в моем комментарии читатель найдет результаты подобных разысканий, на которые иногда уходят месяцы или даже годы. Только самонадеянные профаны, засоряющие ноосферу своими невежественными интерпретациями литературных текстов, могут полагать, что составление комментариев – это устаревшее, никому не нужное искусство вроде каллиграфии, хотя им-то грамотные комментарии были бы нужнее всего. Любая интерпретация старого текста, не опирающаяся на подробный профессиональный комментарий, неверна по определению, и это закон, который не знает исключений.
Набоковскому «Дару» в прошлом году исполнилось 80 лет, и вполне естественно, что многое в нем – от быта и топонимики веймарского Берлина до актуальных в 1930-е годы полемических выпадов против авторитетных современников и их идей – со временем превратилось в «темные места», требующие разъяснений. Еще в 1962 году, в предисловии к английскому переводу романа, Набоков писал, что изображенного в романе мира русских интеллигентов-эмигрантов больше нет и его обитатели кажутся ныне каким-то мифическим племенем, «чьи иероглифы» он извлекает теперь «из праха пустыни» (Набоков 1997: 50). В комментарии я старался расшифровать как можно больше подобных созданных временем «иероглифов», которые когда-то были понятными буквами.
Существуют общие для всех формальные правила комментирования, которые я стремился соблюдать, памятуя и о бритве Оккама, но не существует единого метода, который был бы применим ко всем комментируемым произведениям. Каждый сложный текст задает нам свои собственные вопросы, а его жанр, поэтика, стиль, темы, мотивы, подтексты сами подсказывают, где и каким способом лучше искать ответы на них. Состав комментария к «Дару» обусловлен в первую очередь тем, что вся четвертая глава романа и половина второй главы построены как искусные коллажи из цитат и перифраз большого количества документальных источников, многие из которых без соответствующих пояснений можно легко принять за произвольный авторский вымысел. Почти все эти источники теперь установлены, и любознательный читатель получает возможность узнать, говоря словами романа, «прилежно ли автор держится исторической правды» (385). При цитировании источников в большинстве случаев я пользовался теми изданиями, которые были доступны Набокову.[5]
Специфика «Дара» заключается еще и в том, что чрезвычайно важную роль в нем играют экскурсы в две области знаний – в историю русской литературы и в лепидоптерологию, для понимания которых нынешней культурной энциклопедии в большинстве случаев недостаточно. По точному наблюдению одного из первых исследователей «Дара» С. С. Давыдова, развитие героя романа как художника «похоже на тот путь, который проделан русской литературой: от поэзии „золотого века“ к прозе 1830-х годов, через эпоху Гоголя и Белинского к утилитарному „железному веку“ Чернышевского, в „серебряный век“ символизма и акмеизма, а затем в „чугунный век“ соцреализма на родине и к современной литературе в изгнании. Чтобы стать писателем, Федор должен отделить на этом пути истинных отцов и наставников от претендентов и самозванцев» (Давыдов 2001: 318). Поэтому каждая стадия развития русской литературы в «Даре» тщательно отрефлектирована и представлена множеством цитат (нередко скрытых) и подтекстов, раскрываемых в комментарии.
Герою романа переданы и познания Набокова в области лепидоптерологии, которой он почти профессионально занимался с юности. Некоторую часть сведений о бабочках и их исследователях, упомянутых в «Даре», я почерпнул из прекрасного справочника Дитера Циммера (Zimmer 2001), добавив к ним отсылки к тем энтомологическим трудам первой трети ХХ века, которые цитирует и пересказывает Набоков.
Включенные в комментарий иллюстрации должны восприниматься не как визуальные добавки к нему, а как его неотъемлемая часть.
Переводы иноязычных текстов за исключением особо оговоренных случаев принадлежат мне.
Все построчные комментарии пронумерованы по главам; перекрестные отсылки к примечаниям даются в квадратных скобках (например, [1–6]), где первая цифра – номер главы, а вторая – порядковый номер комментария. В очень небольшом количестве случаев, когда комментарий был добавлен уже на последней стадии редактирования текста, – во избежание путаницы с перекрестными ссылками – используется нумерация с литерами.
Комментарий имеет два приложения – календарь «Дара» и сокращенный перевод моей статьи о поэтике романа из «The Garland Companion to Vladimir Nabokov» (1995), выполненный Г. В. Лапиной. Я не стал перерабатывать эту статью, написанную по-английски более двадцати лет назад, и дополнять библиографию к ней, а лишь убрал или переписал те абзацы, которые дублируют комментарий, добавив необходимые отсылки к нему, исправил ошибки и изменил некоторые формулировки.
Я благодарен исследовательскому комитету Университета штата Висконсин-Мадисон за грант, позволивший мне провести месяц в Берлине, где я смог пройти по всем маршрутам Федора Годунова-Чердынцева и отыскать в библиотеке несколько изданий, которыми Набоков, вероятно, пользовался.
В разное время мне помогали советами, предположениями, подсказками, справками, замечаниями К. М. Азадовский, Д. Бетеа, Б. Бойд, Г. Б. Глушанок, С. С. Давыдов, М. В. Ефимов, Д. И. Зубарев, Б. А. Кац, А. В. Лавров, Ю. Левинг, Г. А. Левинтон, М. Э. Маликова, М. Б. Мейлах, В. А. Мильчина, М. И. Назаренко, А. Л. Осповат, Н. Г. Охотин, Т. И. Печерская, О. А. Проскурин, покойный О. Ронен, И. П. Смирнов, Р. Д. Тименчик, Ю. Г. Цивьян, Е. М. и М. Ю. Шульманы и безымянные участники некогда живого, а ныне полумертвого «набоковского» сообщества в Живом журнале [ru-nabokov.livejournal.com]. Сердечно поблагодарить их всех мне доставляет большое удовольствие.
Моя особая благодарность – замечательному редактору тома А. С. Бодровой, чьи всегда умные вопросы, рекомендации и исправления немало способствовали улучшению текста.
Скорее всего, я бы никогда не закончил этот труд, если бы не постоянная забота, помощь и поддержка моей любимой жены Г. В. Лапиной. Никакие слова благодарности не могут полностью выразить то, что я чувствую.
Комментарий
Источники текста
Автограф «Дара» сохранился лишь частично. В той части архива Набокова, которая была передана писателем в Библиотеку Конгресса, находится черновая рукопись первой главы романа с густой правкой (LCVNP. Writings. Box 2; 83 нумерованные страницы). На первой странице (см. иллюстрацию), датированной «23 – VIII – < 19>36», – общее заглавие и эпиграф (вписанный, видимо, позднее), а ниже начата работа над текстом.
Как показывает анализ автографа, он существенно отличается от печатной редакции. Например, на относительно чистой первой странице рукописи, воспроизведенной выше, обнаруживаются следующие отличия от окончательного варианта текста:[6]
Рукопись… мебельный фургон, очень длинный и очень желтый, запряженный буксирным грузовичком…
… синими аршинными литерами, с западной, левой гранью каждой из них (включая квадратную точку) оттененной черной краской…
Мужчина, облаченный в зелено-бурое шерстяное пальто…
Печатная редакция… мебельный фургон, очень длинный и очень желтый, запряженный желтым же трактором…
… синими аршинными литерами, каждая из коих (включая и квадратную точку) была слева оттенена черной краской…
Мужчина, облаченный в зелено-бурое войлочное пальто…
Можно предположить поэтому, что окончательную правку Набоков вносил в сделанную по рукописи машинопись или, что менее вероятно, в другую рукопись перед тем, как отправить ее в «Современные записки» для публикации.
Кроме того, в архиве писателя сохранились следующие материалы, связанные с «Даром»:
1. Машинопись четвертой главы с небольшими поправками чернилами рукой Набокова, а также его жены В. Е. Набоковой. Как указано в прилагаемой записке, правка была внесена при подготовке к печати отдельного издания «Дара» в «Издательстве имени Чехова» (Grayson 1994: 25–26; см. также ниже, с. 27).
2. Вырезанные из номеров «Современных записок» публикации четырех глав «Дара» (главы 1–3 и 5) с небольшой правкой чернилами рукой Набокова и В. Е. Набоковой. Как и в случае с машинописью четвертой главы, правка была внесена при подготовке отдельного издания 1952 года (Ibid.: 22–25).
3. Черновая рукопись с густой правкой, озаглавленная «Второе дополнение к „Дару“», и машинопись первых пяти страниц этого текста с измененным заглавием «Второе приложение к „Дару“», вписанным чернилами (Ibid.: 46–67; Leving 2011: 13–18; см. также ниже, с. 27).
4. Тетрадь с черновыми набросками и заметками к неосуществленному продолжению «Дара» (Grayson 1994: 27–46; Leving 2011: 18–26; см. также ниже, с. 28–31).
Творческая история
Самое раннее свидетельство о начале работы над «Даром» содержится в письме Набокова Г. П. Струве от 23 августа 1933 года, где он сообщал: «… задумал новый роман, который будет иметь непосредственное отношение – угадайте к кому? – к Чернышевскому! Прочел переписку, „Что делать?“ и пр. и пр. и вижу перед собой как живого забавного этого господина. Надеюсь, что сие известие Вас несколько позабавит. Книга моя конечно ничем не будет смахивать на преснейшие и какие-то, на мой вкус, полуинтеллигентные биографии „романсэ“ ала Моруа» (Набоков 2004: 155).
Из слов Набокова остается неясным, сразу ли он задумал роман о молодом писателе-эмигранте, который сочиняет жизнеописание Н. Г. Чернышевского, или вначале замысел ограничивался иронической биографией автора «Что делать?». Во всяком случае, работу над «Даром» Набоков начал именно с его будущей четвертой главы.
Почему же Набоков, до тех пор не выказывавший никакого интереса к отечественной истории и чуравшийся общественно-политической тематики, вдруг решил обратиться к документальной прозе и сделать своим героем Чернышевского – икону как советских коммунистов, так и «социалистов-общественников» в эмиграции?
В самом «Даре» замысел книги о Чернышевском рождается у его героя, Федора Годунова-Чердынцева, по воле случая и неожиданно для него самого: в книжном магазине он берет в долг советский шахматный журнальчик и замечает в нем «статейку с портретом жидкобородого старика, исподлобья глядящего через очки, – статейка была озаглавлена „Чернышевский и шахматы“» (351). Несколько дней спустя, просмотрев все шахматные задачи и убедившись, что «ученические упражнения молодых советских композиторов» лишены «всякой поэзии», Федор от нечего делать «пробежал глазами отрывок в два столбца из юношеского дневника Чернышевского; пробежал, улыбнулся и стал сызнова читать с интересом. Забавно-обстоятельный слог, кропотливо вкрапленные наречия, страсть к точке с запятой, застревание мысли в предложении и неловкие попытки ее оттуда извлечь <… > долбящий, бубнящий звук слов, ходом коня передвигающийся смысл в мелочном толковании своих мельчайших действий, прилипчивая нелепость этих действий (словно у человека руки были в столярном клее, и обе были левые), серьезность, вялость, честность, бедность, – все это так понравилось Федору Константиновичу, его так поразило и развеселило допущение, что автор, с таким умственным и словесным стилем, мог как-либо повлиять на литературную судьбу России, что на другое же утро он выписал себе в государственной библиотеке полное собрание сочинений Чернышевского. По мере того как он читал, удивление его росло, и в этом чувстве было своего рода блаженство» (374–375).
Вполне вероятно, что примерно таким же образом идея книги о Чернышевском зародилась и у самого Набокова. Как установил Д. И. Зубарев, в 1928 году, когда в СССР торжественно отмечали столетие со дня рождения Чернышевского, шахматный журнал «64: Шахматы и шашки в рабочем клубе» откликнулся на юбилей статьей А. А. Новикова «Шахматы в жизни и творчестве Чернышевского» с отрывками из студенческого дневника «выдающегося мыслителя-революционера» и его портретом (Зубарев 2001; см.: [3–66]). Дневниковые записи, в которых Чернышевский чудовищным слогом описывал свои занятия шахматами, должны были удивить и развеселить Набокова своей полнейшей нелепостью. Даже столь простое дело, как покупка шахмат и учебника шахматной игры, «великий мыслитель» умудрился превратить в комедию абсурда: то ему попался неполный комплект, то он не смог как следует пересчитать фигуры и потерял пешку, то получил руководство без двух частей. Об этой «статейке» Набоков мог вспомнить, когда в июле 1933 года В. Ф. Ходасевич с некоторым запозданием откликнулся на публикацию в СССР полного текста дневника Чернышевского, осуществленную в том же юбилейном 1928 году. Ходасевича, как и Годунова-Чердынцева, поразил «умственный и словесный стиль» этого «человеческого документа», особенно выразительный в многочисленных любовных излияниях, отличающихся уморительным соединением мещанского эротизма с прогрессивной идеологией. В них Ходасевич обнаружил семена «социалистического лопуха», который произрастает ныне в советских романах, где «партийные и комсомольские союзы» нередко «заключаются на основе общего служения заветам Ильича, следования директивам партии или предназначениям заводского комитета». Процитировав два фрагмента из дневника Чернышевского, он саркастически заключил: «Этот человек состоял (да и до сих пор состоит для многих) в числе „властителей дум“» (Ходасевич 1933c).[7]
Мысль Ходасевича о генетической связи писаний Чернышевского с современной советской литературой, по-видимому, и дала толчок набоковскому замыслу. Характерно, что «бодучий Н. Г. Ч.» глядит со страниц шахматного журнальчика на героя «Дара», когда тот размышляет: «… отчего это в России все сделалось таким плохоньким, корявым, серым, как она могла так оболваниться и притупиться? Или в старом стремлении „к свету“ таился роковой порок, который по мере естественного приближения к цели становился все виднее, пока не обнаружилось, что этот „свет“ горит в окне тюремного надзирателя, только и всего? Когда началась эта странная зависимость между обострением жажды и замутнением источника? В сороковых годах? В шестидесятых?» (356). Забавный господин Чернышевский с его «пискливым голосом» интересен Набокову-биографу как родоначальник, от которого ведет происхождение новая Россия: «культ скул, исполинский плакат с орущим общим местом в ленинском пиджачке и кепке, и среди грома глупости, литавров скуки, рабьих великолепий – маленький ярмарочный писк грошовой истины» (533–534). Однако Набокова, как и всегда, больше волновала не столько политическая, сколько «литературная судьба России», и потому, скрупулезно воссоздавая по документам «истинную жизнь» нескладного и невезучего тупицы, волею «дуры-истории» возведенного на героический пьедестал, он бросал вызов прежде всего его прямым и побочным наследникам в сфере эстетики, которые превращают искусство в «вечную данницу той или другой орды» (382).
Над «Жизнеописанием Чернышевского» Набоков работал с перерывами по крайней мере до весны 1935 года (Бойд 2001: 487). За это время он изучил огромное количество материалов, связанных с жизнью и писаниями Чернышевского: дневники, письма, воспоминания современников, биографические статьи и монографии, юбилейные сборники и пр. В Берлинской государственной библиотеке, сильно пострадавшей во время войны, чудом сохранилось несколько экземпляров тех книг и журналов, которыми, вероятно, пользовался Набоков. Некоторые места в них отчеркнуты. Вот, например, как выглядит карандашная помета на той странице дневника Чернышевского, которая цитируется и парафразируется в «Даре» (ЛН: I, 259):
Ср.: «… и вот он начинал петь, завывающим фальшивым голосом, – пел „песню Маргариты“, при этом думал об отношениях Лободовских между собой, – „и слезы катились из глаз понемногу“» (402; см.: [4–85]).
Параллельно с работой над биографией Чернышевского Набоков обдумывал образ главного героя романа, первым делом подбирая ему подходящее имя. В самом начале 1934 года он обратился к своему знакомому по берлинским литературным кружкам, гимназическому учителю русской литературы и истории Н. В. Яковлеву (который тогда жил в Риге), с просьбой отыскать старинную русскую фамилию, желательно угасшего боярского рода, которая состояла бы из трех слогов, имела амфибрахическое ударение и содержала шипящую согласную. 18 и 27 января 1934 года Яковлев послал Набокову два небольших списка таких фамилий, обнаруженных в справочнике «Дворянские роды, внесенные в Общий гербовник Всероссийской Империи» А. А. Бобринского (Т. 1–2. СПб., 1890) и «Российской родословной книге» П. В. Долгорукова (Ч. 1–4. СПб., 1854–1857) (Yakovlev, Nikolay // NYVNP. Manuscript Box. Incoming Correspondence). В первом из этих списков Набоков нашел фамилию Чердынцев (происходящую, по замечанию Яковлева, от названия города Чердынь), которую он и дал своему главному герою, соединив ее с боярско-царской Годунов. Кроме того, из списков Яковлева он позаимствовал еще две фамилии для персонажей романа: Кончеев и Сухощоков.
В середине февраля 1934 года Набоков написал рассказ, который впоследствии получит название «Круг»,[8] – своего рода этюд к будущему семейному портрету Годуновых-Чердынцевых. Хотя главный герой «Дара» Федор упомянут в рассказе лишь мимоходом, без имени («… Танин брат, мальчик лет тринадцати, который вдруг пришпорил коня, перегнал всех и карьером понесся в гору, работая локтями как жокей»; «Еще выяснилось, что Танин брат живет в Берлине…»), а усадебный барский быт увиден с «внешней» точки зрения, которая в «Даре» отсутствует, состав и социальное положение семьи, а также образ старшего Годунова-Чердынцева – прославленного путешественника и энтомолога – совпадают с тем, как они изображены в романе.
В письме к Р. Гринбергу от 5 ноября 1952 года, предлагая своему корреспонденту перепечатать забытый рассказ в журнале «Опыты», Набоков заметил: «Эта вещица в несколько страниц называется „Круг“ и построена по принципу „без начала, без конца“, впоследствии употребленному Джойсом в „Fin [negan’s] W [ake]“. Я написал ее в 1934 году, когда сочинял схему „Дара“» (Янгиров 2000: 378–379).[9]
Очевидно, «схема» романа окончательно сложилась у Набокова после публикации «Круга». Об этом в апреле 1934 года он сообщал Ходасевичу:
Роман, который теперь пишу – после «Отчаяния», – чудовищно труден; между прочим, герой мой работает над биографией Чернышевского, а потому мне пришлось прочесть те многочисленные книги, которые об этом господине написаны, – и все это по-своему переварить, и теперь у меня изжога. Он был бездарнее многих, но многих мужественнее. В его дневнике есть подробное описание того, как, каким способом и где он блевал (нищ был, нечистоплотен, питался дрянью в эти его «студентские» годы). Тома его писаний совершенно, конечно, мертвые теперь, но я выискал там и сям (особенно в двух его романах и мелких вещах, написанных на каторге) удивительно человеческие, жалостливые вещи. Его здорово терзали. Он называл Толстого «пошляком, украшающим павлиньими перьями свою пошлую задницу», а Толстой его называл «клоповоняющим» (оба – в письмах к Тургеневу). Жена называла его «мой канашенька» и бешено ему изменяла. Он предпочитал Шпильгагена Флоберу и ставил Беранже выше Пушкина… и т. д. (Долинин 2000: 341; Ливак 2002: 421–422).
Тогда же Набоков начал сочинять стихи за своего главного героя. Об этом свидетельствует помета «Из Ф. Г.-Ч.», то есть «Из Федора Годунова-Чердынцева», предваряющая стихотворение «Торопя этой жизни развязку…» при первой его публикации в «Последних новостях» (1934. № 4844. 28 июня).[10] Характерно, что в сохранившейся черновой рукописи первой главы «Дара» почти все стихотворения героя, в отличие от прозаического повествования, написаны набело, как если бы Набоков копировал их с заранее подготовленных автографов.
Вероятно, следующим этапом работы над романом явился сбор материалов для еще одного вставного текста – полунаписанной Федором биографии отца, бóльшую часть которой занимает описание путешествий К. К. Годунова-Чердынцева по Китаю и Тибету. Как показано в комментарии, рассказ Федора об этих экспедициях основан на тщательном изучении многочисленных (более двадцати) источников – главным образом, путевых записок и отчетов известных русских и западноевропейских путешественников XIX – начала ХХ века. По предположению Б. Бойда, Набоков писал биографию К. К. Годунова-Чердынцева, вошедшую во вторую главу «Дара», в середине 1935 года, после чего другие дела надолго отвлекли его от романа (Бойд 2001: 488). Только в марте 1936 года, по возвращении из триумфальной поездки в Париж, он снова принялся за работу, о чем сообщал Струве: «В Париже я провел необычайно приятный месяц, а теперь засел за роман мой „Дар“, который уже пишу третий год, кажется» (Набоков 1999b: 26). Отметим, что Набоков упоминает здесь окончательное заглавие романа, которое он дал ему, находясь в Париже. Как явствует из его писем жене и З. А. Шаховской, до этого он намеревался озаглавить роман восклицанием «Да!», но теперь решил прибавить «к его первоначальному заглавию <… > одну букву», тем самым превратив «утверждение <… > в нечто цветущее, языческое, даже приапическое!» (Набоков 2018: 257; Nabokov 2015: 260; Глушанок 2014: 266; Schakovskoy, Zinaida, Princess // LCVNP. Correspondence. Box 22. № 19).
К концу лета 1936 года у Набокова, вероятно, были написаны все вставные тексты «Дара», а также какие-то фрагменты третьей и пятой глав. 23 августа он принялся за первую главу романа (дата проставлена в самом начале рукописи) и, закончив ее к концу года, отдал в журнал «Современные записки». Она открывала 63-ю, «пушкинскую» книжку журнала, вышедшую в апреле 1937 года, и имела подзаголовок «Роман в пяти главах». К этому времени парижские литераторы уже знали, что одной из глав романа будет дерзкая, отнюдь не панегирическая биография Чернышевского. Фрагмент из нее Набоков читал 6 февраля того же года на литературном вечере у И. И. Фондаминского. В письме жене он сообщал, что образ молодого Чернышевского произвел удручающее впечатление на редакторов «Современных записок» – В. В. Руднева и М. В. Вишняка, а также на В. М. Зензинова («последний с горечью сказал мне: „он у вас получился омерзительный“»), но очень понравился Фондаминскому. «Остальные, – писал Набоков, – кроме Алданова, Тэффи, Переверзева и Татариновой, просто не понимали, о чем идет речь. Вышло, в общем, довольно скандально, но очень хорошо» (Набоков 2018: 282; Nabokov 2015: 291). День спустя он рассказывал: «Раскаты прочитаннoго („молодо< й> Чернышевский“) необычайно сильны. Вишняк сказал, что выйдет из состава „Совр< еменных> зап< исок>“, если это будет напечатано. Интересно, что будет, когда прочтут всю главу целиком. А ведь до этого еще далеко» (Набоков 2018: 283; Nabokov 2015: 294).
В апреле Набоков отдал еще один фрагмент четвертой главы – «Арест Чернышевского» – в газету «Последние новости», но ее редактор П. Н. Милюков, по словам Набокова, «прочтя <… > отрывок, пришел в ярость, затопал и наотрез отказался печатать». Узнав об этом, Фондаминский предложил, ежели «Современные записки» тоже не пожелают печатать главу о Чернышевском, «поместить оную главу на тех же условиях в новом журнале „Русские записки“» (Набоков 2018: 296; Nabokov 2015: 352).
Начиная публикацию «Дара», Набоков, судя по всему, не сомневался в том, что она будет продолжена в следующем номере «Современных записок» второй главой. Однако непредвиденные личные обстоятельства помешали ему подготовить рукопись к печати в установленный редакцией журнала срок – к началу августа 1937 года. Чтобы найти выход из неприятного положения, Набоков обратился к одному из редакторов «Современных записок» Рудневу с предложением изменить порядок публикации и напечатать вместо второй главы полностью законченное «Жизнеописание Чернышевского», то есть главу четвертую. Идея перестановки глав показалась Рудневу неприемлемой, о чем он написал Набокову еще до прочтения присланной ему рукописи (Долинин 2000: 343–344; Глушанок 2014: 309–310; ответ Набокова см.: Алой 1989: 278; Глушанок 2014: 311). Когда же через несколько дней Руднев прочитал биографию Чернышевского, у него возникли серьезные возражения идеологического характера. «Искренне считаю, – писал он Набокову 10 августа 1937 года, – что „Жизнеописание Ч< ернышевского>“ – одна из самых замечательных вещей. Вещь, правда, ядовитая, издевательская от начала до конца, убийственная для бедного Ч< ернышевского>, но – и дьявольски сильная. Но именно потому, что Ч< ернышевский> – не вымышленный персонаж, а лицо историческое, притом игравшее выдающуюся роль в русском освободительном движении, – неизбежно, дорогой Владимир Владимирович, хотите ли Вы, хочу ли я этого или нет, возникает вопрос: возможно ли к такому произведению приложить оценку лишь художественную исключительно, и не подлежит ли оно, по необходимости, также и критерию общественному?»(Долинин 2000: 344; Глушанок 2014: 312).
Побоявшись взять на себя ответственность за публикацию спорного с «общественной» точки зрения текста, Руднев категорически отказался печатать «Жизнеописание Чернышевского» без согласия других членов редколлегии «Современных записок», М. В. Вишняка и Н. Д. Авксентьева, которых в то время не было в Париже, и попросил Набокова срочно прислать хотя бы часть второй главы. «А с главой „Жизнеописание Ч< ернышевского>“, после возвращения Вашего в Париж и ознакомления с нею остальных членов редакции, – писал он, – мы совместно с Вами, уверен, найдем благополучный выход осенью» (Долинин 2000: 345; Глушанок 2014: 312).
Набоков знал, что на поддержку других редакторов журнала, куда более рьяных «общественников», чем Руднев, ему рассчитывать не приходится, и потому воспринял отказ как цензурный запрет. 16 августа 1937 года он писал Рудневу:
Дорогой Вадим Викторович,
Я внимательно прочел Ваше письмо, и – простите за дружескую откровенность – оно произвело на меня тяжелое впечатление. Вашим отказом – из цензурных соображений – печатать четвертую главу «Дара» Вы отнимаете у меня возможность вообще печатать у Вас этот роман: не сердитесь на меня, а посудите сами – как могу я Вам дать главу вторую и третью (в которой уже намечаются отвергаемые Вами образы и суждения, развитые в четвертой), а затем главу заключительную (в которой между прочим приводятся целиком четыре рецензии на «Жизнеописание Чернышевского», по-разному бранящие автора за оскорбление памяти «великого шестидесятника» и объясняющие, чем эта память свята), когда я заранее знаю, что в «Даре» будет дыра: отсутствие четвертой главы (не говоря о связанных с этим пропусках в остальных), ибо, скажу без обиняков, никакого компромисса и совместных усилий я принять не могу и ни одной строки ни вымарать, ни изменить в ней не намерен. Меня тем более огорчает Ваш отказ от романа, что у меня было всегда особенное чувство по отношению к «Современным Запискам». То, что в них подчас помещались и художественные произведения, и статьи, развивавшие взгляды, с которыми редакция явно не могла быть согласна, было явлением необыкновенным в истории наших журналов и представляло собой такое признание свободы мысли (если только эта мысль высказана талантливо и честно – что, впрочем, едва ли не тавтология), которое было убедительнейшим приговором над положением печати в современной России. Почему же теперь Вы говорите мне об «общественном отношении» к моей вещи? Разрешите мне Вам сказать, дорогой Вадим Викторович, что общественное отношение к литературному произведению есть лишь следствие художественного его действия, а ни в коем случае не априорное суждение о нем. Я не собираюсь защищать моего «Чернышевского», – вещь эта по крайнему моему разумению находится в таком плане, в котором ей защита не нужна. Отмечу только для сведения Ваших соредакторов, что как борец за свободу Чернышевский у меня не умален, – и не потому что я это так сделал сознательно (мне, как Вы знаете, совершенно безразличны все партии мира), а потому вероятно, что больше правды было в одном лагере и больше зла в другом, – а если Вишняк и Авксентьев чтили бы в Чернышевском не только революционера, а мыслителя и критика (что является главной темой вещи), то мои изыскания не могли бы их не переубедить. В заключение позвольте обратить Ваше внимание на курьезное положение, в которое я попадаю: ни в советских изданиях, ни в каких-нибудь «правых» органах, ни в «Последних Новостях» (Милюков, которому я предложил отрывок, обиделся, говорят, за пренебрежительный отзыв о лондонской выставке 1859-го года), ни у Вас, наконец, – я печатать «Чернышевского» не могу. Вы мне предлагаете Вам помочь найти для «Современных Записок» выход; смею Вас уверить, что мое положение гораздо безвыходнее.
Пожалуйста, не примите этого письма за вспышку писательского гонора. Свои романы я пишу для себя, а печатаю ради денег – все остальное баловство случайной судьбы, лакомства, молодой горошек к моим курам. Мне только грустно, что для меня Вы закрываете единственный мне подходящий и очень мною любимый журнал (Алой 1989: 278–280; Глушанок 2014: 313–314).
В тот же день Набоков сообщал о своем конфликте с Рудневым Фондаминскому, напоминая ему об обещании напечатать крамольную главу в журнале «Русские записки». «Не могу выразить, – писал он, – как огорчает меня решение „Современных Записок“ цензурировать мое искусство с точки зрения старых партийных предрассудков. Пожалуйста, сообщите мне <… > остается ли в силе Ваше обещание напечатать, в случае нужды, „Чернышевского“ в „Русских записках“. Если да, то возможно ли напечатать его в ближайшей книжке <… >? Вещь, конечно, может быть напечатана только целиком» (Алой 1989: 280; Глушанок 2014: 315).
Принципиальная позиция Набокова, протестовавшего против цензурного вмешательства в творчество, была бы неуязвима, если б не первопричина конфликта: ведь писатель не выполнил обязательства перед журналом и, чтобы исправить положение, предлагал разрушить композицию своего романа. Понимая это, Руднев уклонился от дальнейшего обсуждения «Жизнеописания Чернышевского» и перевел разговор в практическую плоскость, умоляя Набокова закончить вторую главу и продолжить публикацию «Дара» в правильной последовательности. Набокову пришлось уступить. Он заставил себя приняться за работу и в начале сентября отослал рукопись второй главы Рудневу.
Как установил Б. Бойд, завершив вторую главу «Дара», Набоков «тут же, без перерыва, перешел к третьей», а в декабре 1937 – январе 1938 года закончил пятую (Бойд 2001: 517, 519). Между тем «Современные записки» продолжали публикацию романа: бóльшая часть второй главы была напечатана в № 64 (октябрь 1937 года), ее финал и начало главы третьей – в № 65 (февраль 1938 года), окончание третьей главы – в № 66 (июнь 1938 года).
Концовка третьей главы, где рассказывается о работе Федора Годунова-Чердынцева над биографией Чернышевского, вызвала недовольство Вишняка, который настоял на купировании оскорбительной, по его мнению, характеристики Белинского: «Белинский, этот симпатичный неуч <… > умерший с речью к русскому народу на окровавленных чахоткой устах…» (см. письмо Руднева Набокову от 1 декабря 1937 года: Долинин 2000: 347; Глушанок 2014: 321; [3–112]).
К июню 1938 года окончательно решилась и судьба четвертой главы «Дара». Еще в сентябре 1937 года, во время конфронтации с Набоковым, хитрый Руднев писал Вишняку: «Относительно Сирина: не волнуйся зря заранее. Я категорически написал ему, что не может быть речи о печатании гл< авы> 4-й вне очереди <… > А в очереди – дело к ней дойдет не скоро, – к лету будущего года. <… > На то время у меня есть план, меня лично, мои сомнения – устраняющий. Но это – далеко, мы успеем о нем поговорить в Париже» (Коростелев, Шруба 2011: 842). К сожалению, никаких сведений ни о плане Руднева, ни о последующих переговорах редакции с Набоковым по поводу четвертой главы не сохранилось. Ясно, однако, что Набокову пришлось согласиться на пропуск «Жизни Чернышевского», о чем читателей журнала должно было извещать специальное примечание. 31 мая 1938 года Набоков послал Рудневу свой вариант сноски: «IV глава, целиком состоящая из „Жизни Чернышевского“, написанной героем романа, пропущена вследствие несогласия редакции с освещением и оценкой личности Н. Г. Чернышевского» (Глушанок 2014: 325). В ответном письме Руднев сообщил, что Вишняк и Авксентьев не согласились с набоковской формулировкой, и предложил свою: «Глава 4-ая, целиком состоящая из „Жизни Чернышевского“, написанной героем романа, пропущена с согласия автора» (Там же: 326). Именно такое примечание было напечатано в № 67 журнала как пояснение к заголовку «Глава 4» и двум строкам точек, за которыми следовала глава пятая. В своих мемуарах Вишняк оправдывал решение редакции тем, что «жизнь Чернышевского изображалась в романе со столь натуралистическими – или физиологическими – подробностями, что художественность изображения становилась сомнительной. Уступив настояниям редакции, автор внутренне с ней остался не согласен…» (Вишняк 1993: 180).
В 1938 году оказалась невозможной и отдельная публикация четвертой главы в «Русских записках», о которой Набоков договаривался с Фондаминским, поскольку в апреле главным редактором журнала стал Милюков, ранее отказавшийся печатать фрагмент «Жизнеописания Чернышевского» в «Последних новостях», а ответственным секретарем – все тот же Вишняк. Поэтому еще до выхода в свет 67-й книжки «Современных записок» Набоков начал поиски издателя полного текста романа. В мае он обращается с этим предложением к С. В. Рахманинову (Leving 2011: 40–42; Глушанок 2014: 270); в июне – к М. Н. Павловскому, издателю «Русских записок» (Коростелев, Шруба 2011: 878), а в октябре – к А. С. Кагану, владельцу издательства «Петрополис». Это «моя любимая вещь, над которой я работал свыше трех лет» (цит. по: Янгиров 2000: 503, примеч. 1), – писал он. Каган принял предложение, и в ноябре Набоков отослал ему рукопись.
Из-за большого объема романа у Кагана возникла идея напечатать его в двух книгах. В ответ на неизвестные нам соображения Набокова о делении романа он объяснял: «Относительно раздела „Дара“ можно договориться. На полуслове нельзя, конечно, обрывать, но можно выбрать и середину главы. Главное, чтобы обе части вышли почти одновременно. Соображение, почему я хочу раздробить роман на две части, только порядка целесообразности. Если роман будет дорого стоить, то его не будут покупать и наши взаимные интересы пострадают. Может, мы сделаем с Вами один том длиннее другого» (Petropolis publishers // LCVNP. Box 1; письмо воспроизведено: Leving 2011: 41). С последним предложением Набоков не согласился и, по-видимому, решил увеличить объем второго тома, включив в него, кроме четвертой и пятой глав романа, два приложения: рассказ «Круг» и так называемое «Второе дополнение к „Дару“», которое он написал вчерне, по предположению Б. Бойда, весной 1939 года (см.: Набоков 2001a).
Вопреки обещаниям, «Петрополис» так и не выпустил двухтомный «Дар» в свет. В архиве Набокова сохранились обрывки недатированной открытки, присланной ему Каганом, судя по упоминанию о войне, в конце 1939 года. «Я не отказался от мысли из< дать Ваш ро>ман „Дар“, – писал издатель. – Война меня прав< да выбила из> колеи, но я не прервал своей издательской деятельности и Ваша книга у меня на очереди. Давайте < sic!> еще только немного придти в себя. Рукопись Ваша у меня в полной сохранности» (Petropolis publishers // LCVNP. Box 1). Однако прийти в себя Кагану и его издательству по понятным причинам так и не удалось, и вскоре он, как и Набоков, бежал из оккупированной Европы в США.
Как установил Л. Ливак, отрывок «Арест Чернышевского (из неизданной главы романа „Дар“)» был напечатан в последнем номере парижской газеты «Бодрость» за 1939 год (№ 256. 31 декабря. С. 3–4; Livak 2003: 264, note 17).
После переезда в США Набоков предложил четвертую главу «Дара» для публикации в сборнике «Ковчег» (Нью-Йорк, 1942), но редактор сборника В. Ф. Мансветов, убоявшись скандала и не желая портить отношения с эмигрантами левых убеждений, отказался ее печатать (Boyd 2015: XXXVII–XXXVIII; Бойд 2018: 37). Неудачей закончились и попытки Набокова в 1944–1945 годах напечатать «Дар» без изъятий по предварительной подписке или за свой счет (Глушанок 2001: 70, 81). Полностью роман был опубликован отдельной книгой только в 1952 году в нью-йоркском «Издательстве имени Чехова». Набоков внес в текст «Современных записок» минимальные исправления и добавления, а также восстановил купюру в третьей главе (см. о ней: [3–112]). В коротком авторском предисловии к книге сообщалось: «Роман, предлагаемый вниманию читателя, писался в начале тридцатых годов и печатался (за выпуском одного эпитета и всей главы IV) в журнале „Современные записки“, издававшемся в то время в Париже)». Набоков прислал это предисловие в издательство вместе с письмом от 31 марта 1952 года. Как явствует из письма, предисловие было написано от руки (Набоков объяснял, что у него нет с собой русской пишущей машинки). Вероятно, этот автограф не сохранился, а в архиве издательства вместо него к письму Набокова прикрепили англоязычную справку об авторе «Дара» и аннотацию романа, к составлению которых писатель, судя по плохому английскому языку, не имел никакого отношения. Именно эту издательскую аннотацию, где Федор Годунов-Чердынцев назван «альтер-эго автора», Юрий Левинг ошибочно принял за авторское предисловие к роману и воспроизвел в своей монографии (Leving 2011: 46).
Второе, более тщательно исправленное автором издание вышло в американском издательстве «Ардис» (Анн Арбор) в 1975 году и может считаться дефинитивным.
В 1963 году вышел в свет английский перевод романа: Nabokov V. The Gift / Transl. by M. Scammel with the collaboration of the author. New York, 1963. В предисловии к нему Набоков предостерег читателей от отождествления героя «Дара» с его автором, заявив, что узнает самого себя скорее в поэте Кончееве и прозаике Владимирове, нежели в Федоре Годунове-Чердынцеве. Героиней романа писатель назвал не Зину Мерц, а русскую литературу и охарактеризовал его композицию следующим образом: «Сюжет первой главы сосредоточен вокруг стихов Федора. Глава вторая – это рывок к Пушкину в литературном развитии Федора и его попытка описать отцовские зоологические экспедиции. Третья глава сдвигается к Гоголю, но подлинная ее ось – это любовные стихи, посвященные Зине. Книга Федора о Чернышевском, спираль внутри сонета, берет на себя главу четвертую. Последняя глава сплетает все предшествующие темы и намечает контур-эскиз книги, которую Федор мечтает когда-нибудь написать, – „Дара“. Интересно, как далеко воображение читателя последует за молодыми влюбленными после того, как автор отпустил их на волю» (Nabokov 1991b: n.p.; Набоков 1997: 50). О переводе, его истории и рецепции см.: Leving 2011: 373–412; 438–471.
Как указывалось выше, в архиве Набокова сохранилась французская школьная тетрадь с черновыми набросками продолжения «Дара». Действие в них происходит в конце 1930-х годов в Париже, куда «недавно приехали из Германии» Федор и Зина. Они уже много лет женаты, живут бедно, и их отношения далеко не безоблачны; Федор – автор нескольких романов, но ему приходится заниматься литературной поденщиной на киностудии. Первый набросок – это диалог Зины и докучного гостя, русского фашиста Кострицкого, родственника ее отчима Щеголева, восторгающегося гитлеровским режимом. Их спор прерывает возвращение домой раздраженного Федора. Во втором наброске рассказывается о внезапном увлечении героя молоденькой парижской проституткой Ивонн и весьма подробно описаны два сексуальных акта с ней в гостинице. Кроме того, в тетради содержатся рабочие пометы и записи, черновик окончания пушкинской «Русалки», сочиненного Федором, и сжатый конспект финальных сцен задуманного романа: весной 1939 года, попав под автомобиль, погибает Зина; Федор в отчаянии уезжает на Лазурный берег, вступает в короткую связь со своей русской знакомой, затем проводит лето в одиночестве и возвращается в Париж после начала войны. Роман должен был заканчиваться реальной встречей Федора с Кончеевым, которому он под звуки сирен воздушной тревоги читает свое окончание «Русалки». Все эти материалы были недавно опубликованы с некоторыми ошибками в транскрипциях и комментариях (Набоков 2015; разбор ошибок см.: Долинин 2015b).
История замысла и хода работы Набокова над вторым томом «Дара» остается не до конца проясненной. Поскольку на тетради стоит разрешительный штемпель французской цензуры, который после начала войны ставился на книги, рукописи и документы, вывозимые из страны,[11] а в конспекте окончания романа упоминаются воздушные тревоги в Париже,[12] мы можем с уверенностью утверждать, что Набоков начал заполнять тетрадь не ранее середины сентября 1939 года и не позднее 20 мая 1940 года, то есть дня отплытия Набоковых в США. Однако в эти же месяцы он должен был работать над новым романом «Solus Rex», начало которого было напечатано в «Современных записках» в апреле 1940 года, что ставит вопрос о взаимоотношении этих неосуществленных замыслов.[13]
На сей счет были выдвинуты три гипотезы:
Гипотеза 1. Задумав было написать продолжение «Дара» и набросав несколько сцен, к концу ноября 1939 года Набоков отказывается от этого замысла, пишет повесть «Волшебник», а затем приступает к работе над «Solus Rex», куда из набросков переходит тема гибели любимой жены (Бойд 2001: 598–599).
Гипотеза 2. Замысел продолжения «Дара» возник у Набокова не во Франции, а в Америке в 1941 году после того, как он по неизвестной причине оставил мысль закончить «Solus Rex». Соответственно, тема гибели любимой жены и таинственный образ «воображаемого Фальтера» (он упоминается в конспекте финала второй части «Дара» как мучающий Федора призрак) переходят из незаконченного романа в черновые наброски (Бабиков 2015).
Гипотеза 3. Известные нам фрагменты «Solus Rex» должны были вместе с линией Федора войти в состав второго тома «Дара» и, в конце концов, оказаться сочинениями и/или фантазиями его главного героя – «одинокого короля» книги. Роман мог быть изначально задуман как продолжение «Дара» с трехслойной структурой, где основные события трех планов отражают друг друга: Федор пишет повесть о художнике Синеусове, потерявшем любимую жену, и медиуме Фальтере; в этой повести Синеусов, в свою очередь, воображает историю северного короля, переживающего такую же потерю; наконец, тот же сюжет воспроизводится в «реальности» самого Федора (Долинин 2004: 278–293).
Гипотеза 1 опровергается несколькими документами, свидетельствующими о том, что и после переезда в Америку Набоков некоторое время не прекращал думать о продолжении «Дара». 18 марта 1941 года в письме к жене он рассказывает о своей болезни и внезапном выздоровлении: «Утром проснулся в насквозь мокрой пижаме идеально здоровый <… > В чем дело? Мне кажется, что это был настоящий кризис, ибо контраст между ночью и утром был совершенно потрясающий, – настолько потрясающий, что я из него вывел довольно замечательную штуку, которая пойдет на удобрение одного места в новом „Даре“» (Набоков 2018: 399; Nabokov 2015: 441). Месяц спустя он получает письмо от Алданова, который в самом начале 1941 года через Португалию прибыл в Нью-Йорк, где начал собирать редакционный портфель для первого номера затевавшегося тогда «Нового журнала». «Не забудьте, – напоминал Алданов, – что Вы твердо обещали нам новый роман – продолжение „Дара“. Я сегодня получил письмо от Бунина, он сообщает, что уже выслал мне „Темные аллеи“» (Чернышев 1996: 128; письмо от 14 апреля 1941 года). Наконец, в 1964 году Набоков в одной из дневниковых записей замечает, что «около двадцати пяти лет назад, в Нью-Йорке, играл с идеей продолжить „Дар“, то есть обратиться к жизни Ф< едора> и З< ины> в Париже [I should note that some twenty five years ago, in New York, I had been toying with the idea of continuing my Дар, i.e. going on to F’s and Z’s life in Paris (англ.)]» (Nabokov 2014: 14).
Гипотеза 2 опровергается неоспоримой датировкой заполнения тетради с набросками. Кроме того, само предположение, что в Америке Набоков решил прекратить работу над «Solus Rex» и заняться вторым томом «Дара», противоречит известным нам фактам. Уже после того, как Набоков обещал Алданову дать продолжение «Дара» в журнал, а в письме к жене сообщал, что придумал для «нового Дара» «довольно замечательную штуку», он жаловался Эдмунду Уилсону:
Единственное, что меня по-настоящему беспокоит, – это то, что я, за исключением нескольких мимолетных свиданий украдкой, не имел регулярных совокуплений с моей русской Музой, а я слишком стар, чтоб перемениться конрадикально (шутка недурна),[14] и уехал из Европы посередине огромного русского романа [in the middle of a vast Russian novel], который скоро начнет сочиться из какой-нибудь части моего тела, если я оставлю его внутри (Nabokov, Wilson 2001: 50–51; письмо от 29 апреля 1941 года).
Вне всякого сомнения, Набоков имел в виду начатый в Европе «Solus Rex», который он по-прежнему хотел закончить, и, следовательно, ни о какой «преемственности» двух замыслов речи быть не может.
Гипотеза 3 не противоречит ни одному из приведенных выше фактов, но ввиду их малочисленности не может быть доказана. Во всяком случае, только она способна объяснить, почему в конце 1941 года Набоков окончательно прекратил работу над «огромным романом», если не считать единственными причинами нехватку времени, проблемы адаптации к американскому быту и решение перейти из русской литературы в англоязычную. Возможно, ему не удалось найти удовлетворительный способ соединения истории Федора и Зины с сюжетами «Solus Rex», из-за чего амбициозный замысел «нового Дара» так и остался неосуществленным.
Критическая рецепция
Критические отзывы современников о романе не были многочисленными и в основном ограничивались газетными обзорами текущих номеров «Современных записок». Ходасевич отмечал огромную образную и стилистическую насыщенность романа, высочайший уровень его художественной культуры, который «в равной степени чужд и советской словесности, переживающей в некотором роде пещерный период <… > и словесности эмигрантской, подменившей традицию эпигонством и боящейся новизны пуще сквозняков» (Возрождение. 1937. № 4078. 15 мая). Во второй главе его восхитил рассказ об отце героя, написанный «с замечательной живостью и с такой богатой изобретательностью по части развертывания сюжета, что могло бы служить любопытнейшим материалом для исследования современной прозы» (Возрождение. 1937. № 4101. 15 октября); в третьей – он обратил особое внимание на рассказ о том, как герой работал над биографией Чернышевского, где «под видом озорной шутки сказаны очень важные и печальные вещи», и предсказал автору много плохого: «Все выученики и почитатели прогрессивной полиции умов, надзиравшей за русской литературой с сороковых годов прошлого века, должны взбеситься. Их засилье не совсем еще миновало, и над автором „Дара“ они взовьются теперь классическим „журнальным роем“ слепней и комаров» (Возрождение. 1938. № 4137. 24 июня). Окончательную оценку «Дара» Ходасевич предполагал дать в «особой статье», когда роман «появится в отдельном издании, без сокращений» (Возрождение. 1938. № 4157. 11 ноября), но этому не суждено было случиться.
Первые отзывы Г. В. Адамовича, постоянного оппонента Ходасевича и Набокова, были беглыми, но комплиментарными. После публикации второй главы романа критик писал: «… восхитительный по мастерству, своеобразию и одушевлению, рассказ об отце героя, не менее восхитительные строки о Пушкине заслуживают того, чтобы, так сказать, les saluer au passage [мимоходом отдать им дань восхищения (фр.)]. Газданов, например, тоже очень даровитый стилист. Но здесь, у Сирина, совсем не то. Здесь удивляет и пленяет не стиль, не умение прекрасно писать о чем угодно, а слияние автора с предметом, способность высечь огонь отовсюду, дар найти свою, ничью другую, а именно свою тему, и как-то так ее вывернуть, обглодать, выжать, что, кажется, больше ничего из нее уж и извлечь невозможно» (Последние новости. 1937. № 6039. 7 октября). Однако, узнав себя в Мортусе, высмеянном в третьей главе «Дара», обиженный Адамович резко сменил тон. В очередном обзоре «Современных записок» он упомянул роман лишь в одной, последней фразе: «„Дар“ Сирина длится – и сквозь читательский, не магический „кристалл“ еще не видно, куда и к чему его клонит» (Последние новости. 1938. № 6144. 20 января). По этому поводу Ходасевич написал Набокову 25 января 1938 года: «Мортус, как Вы, конечно, заметили, озверел, но это полезно» (Мальмстад 1987: 281). Столь же лаконичным был и отзыв о следующей части романа, хотя Адамович признал, что «Сирин романист слишком талантливый, чтобы досада довольно быстро не сменилась удовлетворением от остроты и выразительности его письма» (Последние новости. 1938. № 6276. 2 июня). Наконец, по завершении публикации «Дара» критик особо отозвался о включенных в пятую главу пародиях на критические рецензии (и в том числе его собственные):
Пародия самый легкий литературный жанр, и будем беспристрастны: Сирину его «рецензии» удались. Если все же эти страницы «Дара» как-то неловко и досадно читать, то потому главным образом, что они не только портретны, но и автопортретны; ясно, что Линев – это такой-то, Христофор Мортус – такой-то, но еще яснее и несомненнее, что Годунов-Чердынцев – это сам Сирин!.. Ограниченные критики отзываются о Годунове отрицательно, прозорливые и понимающие – положительно: рецепт до крайности элементарен. Некоторые, самые проницательные, утверждают даже, что «за рубежом вряд ли наберется десяток людей, способных оценить огонь и прелесть этого сказочно-остроумного сочинения». Насчет остроумия можно согласиться, хоть и отбросив «сказочность». Сирин действительно исключительно остроумный писатель, остроумный не в смысле зубоскальства или насмешливости, сказавшихся в пародии, а в смысле умения делать из неожиданных наблюдений самые непредвиденные выводы. Остроумно всякое его сравнение, всякое описание. Но остроумие и ум – вовсе не то же самое: порой даже они друг друга исключают. <… > Все эти замечания ничуть не изменяют, конечно, отношения к автору «Дара» как к художнику. О его блестящих данных, о его удивительной самостоятельности мне приходилось писать не раз. В напечатанном отрывке романа – много страниц, укрепляющих установившееся мнение; например, сцена в лесу. Писателя, как, впрочем, и всякого человека, следует брать таким, как он есть. А Сирин, каковы бы ни были его недостатки, в нашей новой литературе все-таки один, и было бы глупо и мелочно поддаваться случайному раздражению, как в иных случаях глупо и мелочно поддаваться лести (Последние новости. 1938. № 6437. 10 ноября).
Еще один адресат набоковских пародий – рижский критик старшего поколения П. М. Пильский (1879–1941; см. о нем: Абызов, Исмагулова 1999) – уже в первой главе «Дара» увидел авангардистское ниспровержение традиции, эксперимент небесталанного «литературного фокусника», которому «надоели все прежние словесные формы – и прежние, и теперешние, особенно русские» и который «презирает, а может быть и ненавидит труд писателя, этот процесс, эту профессиональную технику» (Сегодня. 1937. № 117. 29 апреля; Мельников 2000: 151–152).[15] В следующей рецензии он похвалил прекрасные страницы о бабочках в начале второй главы – «ливень слов, россыпь красок, их сияние, мерцание, их сверкающий каскад», но не удержался от критических замечаний, показав свою полную некомпетентность: «Конечно, и здесь у Сирина нескрываемы злая ирония, склонность к пародированию и сатире, насмешливое упоминание о <… > кокетничающих, вычурных и бездарных стихах какого-то Годунова-Чердынцева, – в романе эта фамилия является как бы собирательным псевдонимом» (Сегодня. 1937. № 274. 6 октября). Когда в пятой главе «Дара» критик Линев, рецензируя «Жизнеописание Чернышевского», путает почти все имена и названия, даже имя автора, эти ляпсусы явно указывают на Пильского, умудрившегося не понять, что Годунов-Чердынцев – это фамилия главного героя рецензируемого им романа (см.: [5–2]).
После публикации третьей главы Пильский негодовал:
Сирин – чучельщик, творец живых и неживых чудес. Главным образом, – не живых, ему и бабочки интересны только в коллекциях, а его герои – не живые люди, а восковые фигуры, это не мир – а музей. Сирин живет в царстве кукол и петрушек. Он дергает за нитку эти фигуры, и они кривляются, подмигивают, улыбаются, подпрыгивают, – минутами это бывает совсем так, как у настоящих живых людей. Наиболее сильная сторона сиринского дарования заключается в его умении пародировать. Например, в последнем отрывке он очень хорошо схватывает речевые оттенки некоего Буша, его несуразные, с виду многозначительные формулы, его карикатурную фигуру, доверчивость и глупость. Но и этот Буш – тоже не живой, это – тоже чучело, искусственная помесь овцы и осла. Немыслимо передать содержание этих новых глав сиринского романа. Да, целуются, да, сходятся, да, говорят, но это игра теней, лопотание заводных фигур <… > Сирина обуяла непрерывная скоропись. Кажется, будто он уже не может остановиться, и в каждой его новой вещи все явственнее чувствуются ослабление, случайность и внезапность появления новых лиц, странных тем, необъяснимых экскурсий, скучных отступлений, – хоть бы остановиться, хоть бы кто-нибудь удержал эту писательскую руку! (Сегодня. 1938. № 146. 27 мая).
В итоговой статье о романе Пильский назвал Сирина «ярчайшим выразителем протеста и всякого неповиновения», который не скрывает «своей брезгливости, своего тайного высокомерия, отчуждения, ссоры с прошлым». «Неизменно и неустранимо во всех его писаниях звучит насмешливое, презрительное отношение ко всему воспетому, – писал критик. – Ах, вам нравятся эти картины, вы поддельно или неподдельно восхищаетесь красотами природы, – какая глупость, какое заблуждение! Сирин борется с привычным, узаконенным, вкоренившимся. Он ищет пошлости даже в непошлом. Ее запах ему чуется повсюду. Поэтому он должен быть очень несчастен, вечно неудовлетворен. Сирин испытывает непрерывную тошноту. <… > Пародические фигуры, насмешливо и зло перерисованные картины, живые люди, обращенные в уродливых паяцев, – собственный, личный театр марионеток под управлением и дирижерством Сирина, покорно исполняют розданные им роли, и когда дирижер дергает за нитку, начинают неистово и уродливо кривляться неодушевленные фигуры, – выдуманный, несуществующий мир». Согласно Пильскому, Сирин «почти безмерно талантлив» только в карикатуре: «с улыбкой и наслаждением читаешь в „Даре“ страницы пародий на критические отзывы» (Сегодня. 1938. № 245. 26 октября; перепечатка: Новое русское слово. 1938. № 9445. 15 декабря). В качестве примера Пильский привел отзыв критика Линева о книге Годунова-Чердынцева, по-видимому не узнав, в отличие от Адамовича, пародию на самого себя (подробнее см.: [3–62], [5–2]).
Недоброжелательные отзывы о «Даре» встречаются и в переписке «старших» писателей-эмигрантов, прежде всего Б. К. Зайцева и И. А. Бунина (см.: Зайцев 1982: 147–148; Бунин 1983: 179; Мельников 2013: 44, 56–57).
Как ни странно, самые существенные замечания по поводу журнальной публикации «Дара» содержались в рецензиях на текущие номера «Современных записок» менее именитых критиков: С. А. Риттенберга (1899–1975) в выборгском «Журнале Содружества», Л. Н. Гомолицкого (1903–1988; псевдоним Г. Николаев) в варшавской газете «Меч» и К. С. Елиты-Вильчковского (1904–1960) в редактируемой им парижской газете «Бодрость», одиозном органе монархистов-«младороссов». Прочитав только полторы главы романа, Риттенберг писал:
Новый роман Сирина написан с исключительным благородством. После острых и причудливых «Отчаяния» и «Приглашения на казнь» с их своеобразной символикой Сирин возвращается в «Даре <… > к более реалистичной манере «Защиты Лужина» и «Подвига», но письмо его стало еще тоньше, точнее и как бы прозрачнее. Между прочим, Сирин – единственный русский писатель, не только как читатель, но и как художник, воспринявший Пруста с его пристальным, как бы под микроскопом, разглядыванием мельчайших, едва доходящих до сознания впечатлений. На многих русских беллетристов Пруст влиял (часто очень неблаготворно), но только Сирин воспринял его органически и многому у него научился без всякого ущерба для своей исключительной самобытности.
Очень правдиво в «Даре» чередование мыслей об отце с мыслями о Пушкине. Пушкин, как никто другой из русских писателей, теснейшим образом связан с первыми впечатлениями пробуждающегося сознания, и светом, пусть отраженным, его творчества освещены у многих из нас самые дорогие воспоминания о первых проявлениях духовной близости с родителями (Риттенберг 1937: 21).
В рецензии на 65-ю книжку журнала, где были напечатаны конец второй и начало третьей главы, Гомолицкий первым из критиков отметил чрезвычайную важность для романа Набокова темы двоемирия:
У Сирина герой один, но жизнь его происходит во многих плоскостях сразу. <… > Настоящее входит безо всякого трения в прошлое, задевая одновременно будущее (воспоминания об отце, сплетенные с воспоминанием о своем детстве, вызваны подготовительной работой к книге о жизни и работе знаменитого отца). Какая-нибудь подсознательно отмеченная ассоциация, тень на панели от листьев и… без предупреждения мы оказываемся на дорожке, ведущей к поляне, – прямо с берлинской улицы. При этом улица действительности, населенная призраками и оборотнями, куда менее реальна воспоминаний. На этой улице мы никогда не знаем, что подлинно и что существует лишь в воображении. Тут герой Сирина ведет страстный литературный разговор с другим начинающим поэтом, уже достигшим признания, и только по чрезмерной легкости, по порханию реплик мы начинаем догадываться, что разговор вымышленный. Сирин подмигивает нам из-за плеча героя и, наконец, натешившись недоумением нашим, поясняет, что собеседник-то был призраком. И мы уже не верим здесь ничему…
<… > Сирин заставляет читателя с одинаковым увлечением пробегать страницы, проглатывая все – и перечень названий бабочек, и кропотливое повествование о том, как его герои бреются и как они спешат на автобус, отправляясь на урок, и как они беседуют с призраками и подробно вспоминают свое детство, – при этом с увлечением истинного художника-виртуоза он как бы доказывает все время: главное в искусстве все-таки как, а не что. Ведь если разобраться по-настоящему, роман его сводится к борьбе сознания и бытия. Потому и не важны действия его героев, а важны их воспоминания и галлюцинации; потому и план реальности прозрачен, обнаруживает за собою другой мир, воображаемый, но более подлинный и прочный. Только конца этой борьбе нет, нет ее разрешения, так и остается неизвестным: что от чего, – бытие от сознания или сознание от бытия (Меч. 1938. № 8. 27 февраля).
Рецензируя тот же номер «Современных записок», Елита-Вильчковский обратил внимание на стихи, сочиненные героем романа:
Едва ли не лучшие стихи в <… > книжке <… > – не в отделе стихов, а в отделе прозы, небрежно подкинутые герою «Дара» расточительным Сириным и вкрапленные в текст, как прозаические строки, с безошибочно рассчитанной скромностью. Конечно, такие изысканно-неожиданные строфы не похожи на ленивую, постельную импровизацию Годунова-Чердынцева. Но не все ли равно? Сирин заставляет нас поверить и этому. В этом и заключается его поистине удивительное искусство, что верится всему, что бы он ни нарассказал. То, что у писателя менее даровитого раздражало бы, как нестерпимое «трюкачество», у Сирина так естественно, так оправдано, что читаешь его не раздумывая, не анализируя, до последней строки, поддаваясь его очарованию. А когда потом, при вторичном чтении, вырисовывается тончайшая техника сиринских построений, испытываешь новое наслаждение – уже несколько иного порядка: какая ловкость! какая уверенность в себе! какое гениальное акробатство!» (Бодрость. 1938. № 163. 6 февраля).
Интересен и отклик критика на финальную часть романа:
… сиринский «Дар» заканчивается, как и начался, капризно, ловко, с лиризмом, которому веришь и который искупает карикатуры, пародии и прочие издевательские штучки, особенно обильные в этом последнем отрывке. Немножко меньше остроумия было бы, конечно, желательно, история с мнимым дождем и умирающим Чернышевским уж очень эффектна, но все это, конечно, второстепенно: вещь слишком хороша, чтобы придираться к мелочам (Бодрость. 1938. № 202. 27 ноября).
Известна лишь одна рецензия на полное «чеховское» издание романа 1952 года – статья «Новое слово» в еженедельнике «Посев» (1952. № 28. 13 июля. С. 10), подписанная инициалами Г. А. (Berdjis 1995: 23–24; Leving 2011: 50). Она интересна тем, что ее автором был Г. Андреев (псевдоним Г. А. Хомякова, 1909 или 1910–1984), «бывший советский», попавший на Запад после немецкого плена и, по его словам, прежде Набокова не читавший. В «Даре» он увидел «большое явление, значительность которого заключается в том, что он – своеобразное «новое слово в русской литературе». Набоков, утверждал критик, продолжил «искания новых литературных форм, отвечающих нашему современному сознанию», начатые «литературным серебряным веком – последние годы прошлого столетия и начало настоящего – с его символизмом и многими другими школами»[16] и писателями первых лет революции. Но если в Советской России свободное развитие литературы было подавлено коммунистической диктатурой, то в эмиграции «русское творческое чувство» снова набрало силу, и «В. Набоков, формировавшийся, как писатель, в свободных условиях <… > в романе „Дар“ наиболее близко подошел к требуемому нашим временем новому стилю русской литературы». При этом Андреев отметил и недостаток романа, диссонирующий с «основами русской литературы»: отсутствие «тепла человечности» и «совсем не русский холодок» по отношению ко всем персонажам за исключением главного героя и двух-трех близких ему лиц.
Кроме рецензии Андреева, в эмигрантской печати после выхода в свет полного «Дара» появилось и несколько откликов на главу о Чернышевском. Так, М. Л. Слоним назвал «Дар» «злобно полемическим романом», где Чернышевский выставлен «каким-то полу-идиотом» (Новое русское слово. 1955. № 15772. 3 июля). Адамович в книге «Одиночество и свобода» (1955) мимоходом упрекнул Набокова за то, что он обрушился на Чернышевского с «таким капризным легкомыслием» (Адамович 1996: 82–83). С другой стороны, В. Ф. Марков в эссе «Заметки на полях» отозвался о биографии Чернышевского с одобрением: «Глава о Чернышевском в „Даре“ Набокова – роскошь! Пусть это несправедливо, но все заждались хорошей оплеухи „общественной России“» (Опыты. 1956. № 6. С. 65). Это замечание Маркова возмутило нескольких литераторов и общественных деятелей старшего поколения и прежде всего Вишняка, который резко критиковал его как публично, так и в приватной переписке (см.: Марков 2001).
Литературный фон
Замысел «Дара» возник у Набокова на фоне оживленных дискуссий о кризисе романа и может считаться острой репликой в литературной полемике конца 1920-х – первой половины 1930-х годов. В нем синтезированы три ведущих прозаических жанра этого времени: романизированная биография (biographie romancé), модернистский метароман и автобиографический Künstlerroman.
Как явствует из письма к Струве, процитированного выше, Набоков изначально противопоставлял свою будущую книгу или, во всяком случае, задуманное жизнеописание Чернышевского романизированным биографиям «замечательных людей», вошедшим в большую моду как на Западе, так и в Советской России с середины 1920-х годов. В 1927 году К. В. Мочульский констатировал: жанр романа, «достигший своего расцвета в прошлом веке, несомненно перестает быть господствующим». Причиной этого он назвал «кризис воображения» – если старый роман был «построен на вымысле», то современная эпоха «лишена воображения» и потому ко всякому вымыслу относится с подозрением. Отсюда, утверждает Мочульский, «перестройка исторических жанров в литературные: последним симптоматическим явлением в этой области является возникновение жанра „художественной биографии“ (biographie romancée) или „романов жизни великих людей“. Современный читатель меньше интересуется жизнью Евгении Гранде или отца Горио, чем романами Наполеона, Генриха IV, Талейрана и даже Верцингеторикса. Одни за другими готовятся жизнеописания самых разнородных по величию людей…» (Мочульский 1999: 161–163).
Действительно, книжный рынок и в Западной Европе, и в СССР был в то время наводнен романизированными биографиями. На Западе шедеврами жанра считались книги его родоначальника, французского писателя Андре Моруа, – «Ариель, или Жизнь Шелли» (1923), «Карьера Дизраели» (1927), «Дон Жуан, или жизнь Байрона» (1930), «Тургенев» (1931), – и немцев Эмиля Людвига и Стефана Цвейга; в СССР – «Кюхля» (1925) и «Смерть Вазир-Мухтара» (1927–1928) Тынянова. Литературная мода на биографии затронула и эмигрантскую литературу. В конце 1928 года издательство журнала «Современные записки» затеяло серию «художественных биографий», пригласив участвовать в ней самых известных писателей-эмигрантов: Бунина, Алданова, Ходасевича, Б. Зайцева, Берберову, М. Цетлина. Для этой серии Ходасевич написал «Державина» (отд. издание – 1931), Зайцев – «Жизнь Тургенева» (отд. издание – 1932), Цетлин – книгу «Декабристы: судьба одного поколения» (1933); Берберова – «Чайковского» (1936). Кроме того, после выхода «Державина» Ходасевич начал работу над биографией Пушкина, напечатав в газете «Возрождение» три первые главы книги, но завершить ее не смог.
Набоков, несомненно, отнесся к новому жанру весьма несочувственно. В самом «Даре» имеется несколько язвительных уколов по адресу «романизированных биографий». Ими балуется омерзительный начальник Зины, юрист Траум (370–371); уже в первой главе романа Александр Яковлевич Чернышевский, олицетворяющий банальный «полуинтеллигентский» вкус, советует герою написать «в виде biographie romancée, книжечку о нашем великом шестидесятнике» (226); затем жена Александра Яковлевича предлагает Федору вместо биографии Чернышевского писать «жизнь Батюшкова или Дельвига, – вообще, что-нибудь около Пушкина» (376) – весьма прозрачный намек на «Кюхлю» и «Смерть Вазир-Мухтара». Наконец, объясняя Зине замысел своей книги, Федор говорит ей: «… я хочу это все держать как бы на самом краю пародии. Знаешь эти идиотские „биографии романсэ“, где Байрону преспокойно подсовывается сон, извлеченный из его же поэмы?» (380).
Намекая на популярную книгу Моруа «Дон Жуан, или жизнь Байрона» (см.: [3–110]), Набоков выступает против приема, который можно было бы назвать обратной проекцией, когда фрагменты поэмы или лирического стихотворения пересказываются прозой и в таком виде выдаются за впечатления, размышления, воспоминания, мечты или сны героя, предшествовавшие созданию данного текста. Kроме Моруа, этим приемом охотно пользовались едва ли не все авторы романизированных биографий поэтов – например, Тынянов и Ходасевич в жизнеописаниях Пушкина (см.: Сурат 1994: 88–91; [3–110]), поскольку он открывает широкие возможности для психологизации. Для Набокова же именно психологизация в биографии была категорически неприемлема. В юбилейном франкоязычном докладе «Пушкин, или Правда и правдоподобие» (1937) он говорил, что в современных биографиях ему претит
… la psychologie du sujet, le freudisme folâtre, la description empâtée de ce que le héro pensait à tel moment, – un assemblage de mots quelconques pareils au fil de fer qui retient les pauvres os d’un squelette, – terrain vague de la littérature où, parmi de chardons, traîne un vieux meuble évantré que personne n’a jamais vu y venir (Nabokoff-Sirine 1937: 364) [ … психология исторического лица, игривый фрейдизм, пастозный рассказ о том, что подумал герой в тот или иной момент, – соединение слов, несколько напоминающее проволоку, которой скрепляют бедные косточки скелета, – пустырь литературы, где среди чертополоха валяется старая мебель с распоротой обивкой, невесть откуда взявшаяся (фр.)].
За этой филиппикой в машинописи доклада следует еще одна саркастическая фраза, выпущенная в печатном тексте:
Belle psychologie qui attribue au poête les sentiments de personnages factices recueillis un peu partout parmi les “oeuvres complètes” (“Le vrai et le vraisemblable”, draft // LCVNP. Box 10) [Чудная психология, которая приписывает поэту чувства вымышленных персонажей, выисканные в полном собрании его сочинений (фр.)].
Даже для самого целомудренного ученого – предупреждает далее Набоков – может наступить «роковой момент, когда он почти безотчетно начинает сочинять роман, и тогда напоказ выставляется литературная ложь, не менее грубая в этом труде добросовестного эрудита, чем в поделке бесстыдного компилятора» (Nabokoff-Sirine 1937: 367).
По правдоподобному предположению Л. Ф. Кациса, Набоков имел в виду романы-биографии «добросовестного эрудита» Тынянова (Кацис 1990; см. также: Маликова 2002: 118). Эти оценки, по сути дела, совпадают с тем, что писал о Тынянове Ходасевич, союзник Набокова в литературных войнах 1930-х годов. В «Кюхле», утверждал он, есть «свои достоинства: знание эпохи, хорошая начитанность», но в целом метод этой работы ложен: «для биографии в ней слишком много фантазии, для романа же слишком мало» (Возрождение. 1931. № 2172. 14 мая). «Смерть Вазир-Мухтара» – «кусок биографии Грибоедова, написанный с чрезвычайно вычурными и сознательными отступлениями от исторической правды» (Возрождение. 1935. № 3690. 11 июля). «Пушкин» – «романизированная биография с исключительно развитым элементом вымысла. Пользуясь действительными событиями пушкинской жизни, как конспектом или канвой, Тынянов на ней расшивает бытовые и психологические узоры, подсказанные фантазией» (Там же).
Принципы, которыми сам Ходасевич руководствовался как биограф, он изложил в предисловии к «Державину»:
Биограф – не романист. Ему дано изъяснять и освещать, но отнюдь не выдумывать. Изображая жизнь Державина и его творчество (поскольку оно связано с жизнью), мы во всем, что касается событий и обстановки, остаемся в точности верны сведениям, почерпнутым и у Грота, и из многих иных источников. Мы, однако, не делаем сносок, так как иначе пришлось бы их делать едва ли не к каждой строке. Что касается дословных цитат, то мы приводим их только из воспоминаний самого Державина, из его переписки и из показаний его современников. Такие цитаты заключены в кавычки. Диалог, порою вводимый в повествование, всегда воспроизводит слова, произнесенные в действительности, и в том самом виде, как они были записаны Державиным или его современниками (Ходасевич 1988: 30).
В «Жизни Чернышевского» Набоков в основном держится тех же правил, что и Ходасевич, но, в отличие от последнего, мало занимается психологическими реконструкциями. Почти все немногочисленные предположения касательно чувств Чернышевского и мотивов его поступков переданы вымышленному биографу со значимой фамилией Страннолюбский, alter ego Годунова-Чердынцева, а сам автор искусно монтирует цитаты и перифразы из десятков документальных источников, лишь изредка отклоняясь от фактов и/или подвергая их мягкой художественной обработке (сокращения и лексические замены, добавление имен и мелких деталей, в основном визуальных), но не деформируя до неузнаваемости, как это часто делает тот же Тынянов.
На первый взгляд, такой подход к биографии близок к тому, который прокламировали лефовские теоретики «литературы факта» в СССР. Один из них, Н. Ф. Чужак, в статье «Писательская памятка» подверг резкой критике призыв московского критика Ю. В. Соболева «написать такие увлекательные романы, как биографии <… > Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, Полежаева». По его мнению, Соболев и другие любители беллетризованных биографий «примазываются» к «литературе факта»; это «гурманы старого художества, объевшиеся „красотой“; эстеты, потребители приевшегося вымысла, которых потянуло на „кисленькое“. Задача настоящего писателя-документалиста заключается в том, чтобы «работать на факте» и выявлять в жизни реального человека «натуральную сюжетность», которая «невъедчивому глазу незаметна»: «Искусство увидеть скрытый от невооруженного взгляда сюжет – это значит искусство продвижки факта; а искусство изложить такой сюжет будет литература продвижки факта <… > т. е. изложение скрытосцепляющихся фактов в их внутренней диалектической установке» (Чужак 2000: 25, 224; курсив оригинала).
Формально Набоков ничем не погрешил против заповедей Лефа. В его биографии Чернышевского (в отличие от книг Моруа, Людвига или Тынянова) вообще нет никакой «беллетристики» – нет ни одного вымышленного эпизода и диалога, ни одной произвольно приписанной реальному лицу фразы или мысли; местами повествование строится как «факто-монтаж», где каждая фраза имеет документальную основу. Играя с правилами «литературы факта», Набоков стремится выявить в жизни Чернышевского те самые скрытые сцепления фактов, о которых писал Чужак, но представляет и осмысляет их совсем не так, как этого хотели бы лефовские идеологи.
Обсуждая романы Тынянова, Б. М. Эйхенбаум заметил, что их доминантой является понятие «судьбы», и пояснил: «Я употребил слово „судьба“ в том смысле, в каком оно подчеркивает наличие некоторой необходимости или закономерности и дополняет, таким образом, более безразличное слово – „биография“. Чувство истории вносит в каждую биографию элемент судьбы – не в грубо фаталистическом понимании, а в смысле распространения исторических законов на частную и даже интимную жизнь человека. Исторический роман нашего времени должен был обратиться к „биографии“ – с тем чтобы превращать ее в нечто исторически закономерное, характерное, многозначительное, совершающееся под знаком не случая, а „судьбы“» (Эйхенбаум 1969b: 403). Набоков тоже рассматривает биографию Чернышевского «через призму судьбы», но судьба для него – это не строгая блюстительница исторических предначертаний, а лукавая насмешница, «союзница муз», которая наказывает «властителя дум» за полную эстетическую слепоту и глухоту. Соответственно, «скрытую связность» жизни героя придает вовсе не исторический закон, а закон эстетический, и она носит художественный характер, словно бы индивидуальная судьба была «сочинена» неким творцом, воспользовавшимся наличным биологическим, психологическим и историческим материалом. Из множества документов Набоков тщательно отбирает такие факты, которые кажутся неправдоподобным вымыслом, гротеском, преувеличением; он заостряет внимание на перекличках ситуаций, предметов, имен, дат, складывающихся в тематические ряды, на подробностях, которые могут быть поняты фигурально, на игре случайностей, в которых угадывается тайная закономерность. Иными словами, он разрушает исторически детерминированные образы Чернышевского – вождя, мыслителя, борца, общественного деятеля, мученика, прочитывая его жизнь как изящно построенную и остроумную трагикомедию ошибок, которая скрыта под напластованиями «общественной» агиографии и апологетики.
В отличие от большинства авторов художественных биографий, Набоков нигде не переходит на точку зрения своего героя, а прослеживает его жизнь с позиции внешнего наблюдателя, которого не перестают удивлять и забавлять характер, склад ума и слог Чернышевского. В лекциях 1928 года об искусстве биографа Моруа говорил: «Душа человека, пишущего жизнеописание Карлейла, уподобляется, по крайней мере в определенные моменты, душе Карлейла. Если биограф не способен на такую отзывчивость чувств, он напишет мерзкую биографию» (Maurois 1939: 132). В биографии, написанной Федором Годуновым-Чердынцевым, никакое сродство душ автора и его героя не обнаруживается; напротив, автор разными способами, среди которых преобладает ирония, дает понять, что Чернышевский ему чужд и неприятен, хотя и заслуживает некоторого сочувствия как невинная жертва государственного произвола. Ироническое дистанцирование биографа от мало симпатичных ему героев было излюбленным приемом английского писателя Литтона Стрейчи (Giles Lytton Strachey, 1880–1932), автора знаменитых биографий королевы Виктории («Queen Victoria», 1921) и видных деятелей ее царствования («Eminent Victorians», 1918). Как показала Г. Димент, в подходах Стрейчи и Набокова к биографии много общего: «В лучших традициях Стрейчи Набоков стремится развенчать видного деятеля, который, по его убеждению, воплощает не только заблуждения прошлого, но и катастрофы настоящего. Подобно тому как для Стрейчи кардинал Мэннинг, Флоренс Найтингейл, доктор Арнольд и генерал Гордон олицетворяли все то, что было ложным в викторианской культуре, и, следовательно, несли ответственность за трагедию его поколения, ввергнутого в Первую мировую войну, Чернышевский и его единомышленники для Набокова отвечали не только за примитивное мировоззрение русской радикальной интеллигенции 1860-х годов, но и за разрушительную Революцию и ее последствия» (Diment 1990: 290).
Отмечалoсь и некоторое сходство «охудожествления» биографического нарратива у Набокова с методом, разработанным Стрейчи. Д. П. Мирский писал в 1924 году: «Стречи < sic!> революционизировал искусство биографии, создав новый вид творческой и художественной биографии <… > стремящийся к созданию законченного, замкнутого, сжатого художественного произведения. <… > Он ничего не выдумывает. Каждое утверждение его, каждая фраза, каждый эпизод имеют под собой солидную почву достоверности. Но он комбинирует, и путем комбинации иногда мельчайших и незаметных деталей он создает из своих героев такие живые и убедительные фигуры, что они могут идти в сравнение только с созданиями великих романистов» (Мирский 2014: 75–76). Как заметила М. Э. Маликова, это описание «как нельзя точно относится <… > к методу самого Набокова в „Жизни Чернышевского“, основанной не столько на формалистской „деформации“ обширного и скрупулезно собранного документального материала, сколько на его комбинации и выявлении (иногда с добавлением „окраски“) мелких, но красноречивых деталей» (Маликова 2016: 233).
В русской литературе до Набокова подобный комбинаторный метод начал разрабатывать Г. П. Блок в небольшой книге «Рождение поэта. Повесть о молодости Фета. По неопубликованным материалам» (1924), которая, по мнению О. Ронена, могла повлиять на «Жизнь Чернышевского» (Ronen 1993: 50). Он строит документальное повествование, основанное на переписке и автобиографической прозе трех университетских друзей – Фета, Иринарха Введенского и Аполлона Григорьева, в художественном ключе – расцвечивает портреты действующих лиц, описания мест и событий яркими подробностями, перифразирует и монтирует цитаты (часто раскавыченные) из разных источников, дает иронический авторский комментарий к документальным свидетельствам. Любопытно, что среди эпизодических персонажей «Рождения поэта» появляется молодой Чернышевский, охарактеризованный как «рыжеволосый юноша с крикливым, тонким голосом, заядлый спорщик» (Блок 1924: 89). У Набокова тоже отмечены рыжеватые/с рыжинкой волосы Чернышевского и его тонкий, «пискливый» голос (см.: [4–2], [4–66], [4–245], [4–249], [4–252], [4–479]).
В рецензии на книгу Блока, напечатанной в «Современных записках», Мирский отметил, что ее метод «замечательно близок» к методу Литтона Стрейчи; он «одновременно и художественен, и строго научен; все утверждения строго обусловлены материалом, но преображены в „явления стиля“», и потому книга «подлежит именно художественной критике». При этом Мирский указал и на существенные недостатки книги: «Блок смеет писать хорошо. <… > Это ему не всегда удается, у него иногда не хватает такта и вкуса, иные приемы неуместно лиричны». Главное же, в чем Блок уступает Стрейчи, – в «искусстве композиции, меры и пропорции». По мнению критика, книга могла бы стать первой главой «Жизни Фета», но только при условии существенной переработки, чтобы пропорции диктовались не «наличностью материала, но композиционной схемой целого» (Мирский 2014: 116–117).
Биографии Фета Блок так и не написал, но Набоков, как кажется, учел его опыт. В его «Жизнеописании Чернышевского» «композиционная схема целого» – как сказано в романе, «кольцо, замыкающееся апокрифическим сонетом» (384), внутри которого развертывается ряд сквозных тем (см.: Johnson 1985: 94), – строго расчислена, а пропорции соблюдены. В отличие от Стрейчи и Блока, Набоков ведет повествование от лица персонифицированного нарратора, который внимательно следит за ходом своего рассказа и время от времени комментирует его устройство. Приведем несколько примеров таких метакомментариев на первых пятнадцати страницах текста:
– Тут автор заметил, что в некоторых уже сочиненных строках продолжается, помимо него, брожение, рост, набухание горошинки, – или, определеннее: в той или иной точке намечается дальнейший путь данной темы, – темы «прописей» <… > Развивается, замечаем, и тема «близорукости», начавшаяся с того, что он отроком знал только те лица, которые целовал, и видел лишь четыре из семи звезд Большой Медведицы. <… > Проследим и другую, тему «ангельской ясности». Она в дальнейшем развивается так: <… > И еще третья тема готова развиться – и развиться довольно причудливо, коли недоглядеть: тема «путешествия», которая может дойти Бог знает до чего – до тарантаса с небесного цвета жандармом, а там и до якутских саней, запряженных шестеркой собак (393–395).
– У меня продолжают расти (сказал автор) без моего позволения и ведома идеи, темы, – иные довольно криво, – и я знаю, что мешает: мешает «машина»; надо выудить эту неуклюжую бирюльку из одной уже сложенной фразы. Большое облегчение. Речь идет о перпетуум-мобиле (395).
– Мы, сознательно, залетели вперед; вернемся к той рысце, к тому ритму Николиной жизни, с которым наш слух уже свыкся (397).
– Но стоп: тема слез непозволительно ширится… вернемся к отправной ее точке (399).
– … ребячески нелепые планы ссыльный Чернышевский, старик Чернышевский, придумывает для достижения трогательнейших целей. Вот как она пользуется минутой невнимания и распускается, эта тема. Стой, свернись (403).
– Вступает тема кондитерских (404).
– Но как ни хочется поскорее вылезти из черного уголка, куда нас завел разговор о кондитерских, и перейти на солнечную сторону жизни Николая Гавриловича, все же (ради некой скрытой связности) я еще немного тут потопчусь (405–406).
В результате биография приобретает некоторые черты метанарратива, обычно не присущие этому жанру, и тем самым становится чем-то вроде встроенной модели всего романа в целом, поскольку «Дар», как было многократно замечено исследователями, тоже имеет кольцевую композицию, подобную ленте Мебиуса (Ronen 2015: 85) или уроборосу (Johnson 1985: 95), и содержит большое количество разнообразных метатекстов и метакомментариев (подробнее см.: Левин 1981: 199–204). Набоков несомненно знал о том, что в 1920‐е годы как в западной, так и в русской литературе было предпринято несколько интересных попыток создать модернистский метароман, героем которого был бы писатель, а сюжетом (или, по крайней мере, темой) – сама история создания им литературного произведения. Наиболее известным западным романом подобного типа были «Фальшивомонетчики» (1925) Андре Жида, о которых много писали как эмигрантские, так и советские критики. Один из его героев, писатель Эдуард Х., сначала обдумывает, а потом начинает писать свой роман под тем же названием, где, по его словам, центральной фигурой является персонаж-романист, а сюжетом – «борьба между фактами, которые ему предлагает реальность, и идеальной действительностью [la lute entre les faits proposés par la réalité, et la réalité idéale (фр.)] » (Gide 1958: 1082). Эдуард обсуждает замысел романа со своими знакомыми, которые впоследствии станут прототипами его персонажей, и даже показывает одному из них черновик эпизода, ему посвященного. Повествование от лица всезнающего автора перемежается с большими выдержками из дневника Эдуарда, где он излагает свои мысли о будущей книге и ее героях. Как заметил В. В. Вейдле (критик, которого Набоков высоко ценил), «перед нами, таким образом, как бы одновременно – действительность и ей параллельное, слагающееся из нее художественное произведение: два мира, – и мы то постепенно, то внезапно переходим из одного в другое. Жид хочет дать нам сразу и роман, и картину создания этого романа и размышления по поводу его создания» (Вейдле 1928).
Несмотря на совпадение заглавий, роман Эдуарда и тот роман, который мы читаем, ни в коем случае не могут быть отождествлены. Это постоянно подчеркивает всезнающий автор основной части текста, когда, например, признается, что его герой часто раздражает его (Gide 1958: 1108–1109), или подробно рассказывает историю самоубийства юноши, которую Эдуард отказывается включить в свой роман, и т. п. Неправы критики, – замечал Мочульский, – полагающие, что «Эдуард не кто иной, как сам автор, и все рассуждения его – рассуждения Андре Жида. Выходит очень просто и очень плоско: автор дает рецепт жанра и тут же его стряпает. Теория: вот как следует писать романы (дневник Эдуарда), и параллельно практическое упражнение (сложная фабула с переплетающимися интригами). Эта двойственность построения, конечно, вполне мнимая. Стоит только вспомнить, что Эдуард не автор, пишущий „Фальшивомонетчиков“, а главный герой этого романа. Его дневник – не комментарий, без которого действие могло бы свободно обойтись, а самый источник действия. В этом приеме вся необычность и своеобразие композиции» (Мочульский 1999: 263).
Перевод «Фальшивомонетчиков» вышел в Ленинграде меньше чем через год после оригинала (Жид 1926) и стимулировал развитие отечественного метанарратива. Почва для апроприации новшеств Жида была подготовлена работами русских формалистов и прежде всего Шкловского, который неоднократно указывал на авторефлективность классических образцов жанра – «Дон Кихота», «Тристрама Шенди» и «Евгения Онегина», чьим главным содержанием он полагал «его собственные конструктивные формы» (Шкловский 1923a: 211). За короткий период с 1927 по 1929 год в СССР появились три значительных романа – «Вор» Леонида Леонова, «Козлиная песнь» и «Труды и дни Свистонова» Константина Вагинова, – в которых так или иначе были использованы некоторые приемы «Фальшивомонетчиков»: игра с двойным авторством, введение разнообразных «текстов в тексте», несовпадения между этими текстами и показанной «внешним» автором «реальностью», децентрированный сюжет и т. п. Некоторые черты метанарратива отмечались и в «Египетской марке» Мандельштама (Сегал 1981: 195–197).
В «Воре», o сходстве которого с романом Жида говорили уже первые критики (см.: Shepherd 1992: 42), писатель Федор Фирсов (тезка Годунова-Чердынцева) погружается в жизнь московского воровского дна, чтобы написать о нем книгу; как Эдуард, он ведет записную книжку, которая «с изуверством зеркала отпечатлевала всякую ничтожную мелочь», и ее фрагменты приводятся в тексте (Леонов 1928: 203, 387–393); в нем борются желание быть верным жизненной правде и стремление искажать ее «до слепительного великолепия» в кривом зеркале воображения; его прототипы читают посвященные им страницы и не узнают собственные портреты (Там же: 367, 375); в конце романа мы узнаем, что книга Фирсова «Злоключения Мити Смурова»[17] увидела свет, и знакомимся с отрицательными рецензиями на нее.
У Вагинова в «Козлиной песни» нет персонажа-писателя, который играл бы роль двойника «внешнего» автора, но зато сам автор то и дело прерывает повествование своими насмешливыми «междусловиями» и другими вторжениями в собственный текст, создавая эффект, который Шкловский называл «подчеркиванием рампы, установкой на условность искусства, педалированием его» (Шкловский 1929: 116). При этом статус автора по отношению к персонажам почти до конца романа остается не определенным. С одной стороны, он приглашает их на ужин, подсматривает за ними, подслушивает их разговоры, а с одним из главных героев – Неизвестным поэтом – дважды вступает в диалог, то есть сосуществует с ними в одной «реальности». С другой стороны, в тексте имеется немало намеков на то, что все эти встречи и беседы происходят лишь в воображении автора: после ужина гости «бледнеют и один за другим исчезают» (Вагинов 1991: 92); автор слышит разговор персонажей, который физически слышать не может (Там же: 45); он видит своих героев «стоящими в воздухе» (Там же: 145). Ближе к концу романа, в последнем «междусловии», автор описывает свою внешность. У него «остроконечная голова с глазами, полузакрытыми желтыми перепонками» и «уродливые от рождения руки: на правой руке три пальца, на левой – четыре» (Там же: 144). Иными словами, он больше похож не на человека, а на какого-то доисторического ящера или птицу, гостя из потусторонности, чье присутствие ощущают персонажи. Ответственность за его появление в романе возлагается на Неизвестного Поэта, который перед «туманным высоким трибуналом», в который входят Данте, Гоголь, Ювенал и Персий, признается: «… я породил автора <… > я растлил его душу и заменил смехом <… > Я позволил автору погрузить в море жизни нас и над нами посмеяться» (Там же: 75). О. В. Шиндина полагает, что в Неизвестном Поэте следует видеть «персонификацию» автора (Шиндина 1993: 223), но возможна и противоположная интерпретация: «печальный трехпалый автор» есть «посмертная» ипостась Неизвестного Поэта, который, по сюжету романа, теряет свой поэтический дар, превращается в гражданина Агафонова и затем пускает себе пулю в лоб. В конце романа вся описанная автором «реальность» приравнивается к театральному представлению, а романные персонажи – к актерам и актрисам, что меняет местами две параллельныe «реальности» романа и, как точно заметила Шиндина, вводит новый код для его повторного чтения (Там же: 227).
«Труды и дни Свистонова» – роман о том, как пишется роман, – построены иначе. На протяжении всего действия мы следим за тем, как его главный и, по сути дела, единственный герой, писатель Свистонов, собирает материал для будущего произведения, отыскивая его в книгах, газетных вырезках, старых журналах, в реальной жизни среди своих знакомых; как трансформируются его находки в литературные образы, а живые люди – в гротескных персонажей, как ему становятся ясны «площадь романа, пейзажи и линии» (Вагинов 1991: 255). Последние главы включают и ряд написанных Свистоновым кусков, причем в одном из них среди героев появляется его двойник: «Дорога постепенно озарялась солнцем. Пустой летний сад шелестел. В отдалении видна была Нева. <… > В это время писатель Вистонов, одержимый мыслью, что литература – загробное существование, высматривал утренние пейзажи, чтобы перенести их в свой роман» (Там же: 255). В конце концов, окружающая жизнь теряет для Свистонова какой-либо интерес, а сам он целиком переходит в собственный текст как в некую высшую реальность и растворяется в нем.
Все эти романы составляли часть литературного фона, на котором задумывался «Дар» и который в нем так или иначе отразился. Ю. И. Левин, кажется, первым указал на структуру «Фальшивомонетчиков» как параллель к «Дару» (Левин 1981: 224, примеч. 11). Л. Ливак подробно обсудил не только жанрово-структурные, но и тематические переклички двух романов, особенно в связи с линией Яши Чернышевского, хотя не все его сопоставления кажутся одинаково убедительными (Livak 2003: 164–203). Критические рецензии на вышедшую книгу Федора, приведенные в заключительной главе «Дара», и встреча героя (пусть воображаемая) с автором единственного положительного отзыва на «Жизнь Чернышевского» несколько напоминают последнюю часть «Вора», где рассказывается о шквале отрицательных рецензий на повесть Фирсова, который ищет встречи с одним из немногих «умных доброжелателей», рассмотревших его повесть не с идеологической, а с художественной точки зрения.
Есть в «Даре» и отголоски романов Вагинова (об аллюзии на «Козлиную песнь» см.: [3–49а]). Так, и Свистонов, и Годунов-Чердынцев метафорически приравнивают свои творческие поиски к охоте или ловитве. Роман о Свистонове начинается с его сна, в котором он «за всеми, как за диковинной дичью, гонится; то нагнется и в подвал, как охотник в волчью яму, заглянет – а нет ли там человека, то в садике посидит и с читающим газету гражданином поговорит» (Вагинов 1991: 162). Себя он относит к тем «настоящим ловцам душ», которые «делают вид, что они любят жизнь, но любят они одно только искусство» (Там же: 182). Годунов-Чердынцев тоже мыслит себя охотником, ловцом. В первой главе, радуясь (напрасно) появлению хвалебной рецензии на свой сборник стихов, Федор думает: «Он говорит, что я настоящий поэт, – значит, стоило выходить на охоту» (205). Когда он прекращает работу над биографией отца, то в письме матери объясняет свое решение той же метафорой: «Хочешь, я тебе признаюсь: ведь я-то сам лишь искатель словесных приключений, – и прости меня, если я отказываюсь травить мою мечту там, где на свою охоту ходил отец» (321).
Однако, несмотря на отдельные схождения, «Дар» еще меньше похож на романы Жида, Леонова и Вагинова, чем «Жизнь Чернышевского» на модные романизированные биографии. Набоков и в данном случае вступает в эстетический и даже идеологический спор со своими предшественниками. Как заметили Омри и Ирэна Ронен, «Фальшивомонетчики», «каковы бы ни были их метадескриптивные достоинства, с точки зрения набоковской поэтики никуда не годятся, потому что Жиду, оперирующему набором клише, не под силу создать иллюзию реальности, не говоря уж о двойной реальности» (Ronen 2015: 85).[18] То же самое можно было бы сказать и о «Воре», где Леонов пытался привить психологические «надрывы» в духе Достоевского к «советскому дичку». Если поэтика Вагинова могла показаться Набокову отнюдь не чуждой, то его миропонимание должно было вызвать у него отторжение. И «Козлиная песнь», и роман о Свистонове – это, так сказать, пессимистические трагикомедии о петербургской культуре и ее последних приверженцах, обреченных либо на уничтожение, либо на перерождение. Потеряв привычную среду обитания, они не способны выжить в культурном вакууме, среди пошляков и коммунистических варваров. «Дар», напротив, утверждает благотворность отчуждения и одиночества для художника (которому, правда, противостоит не советское агрессивное варварство, а всего лишь равнодушная мещанская заграница) и прославляет его умение «быть счастливым», сказать «да» миру вопреки всем трагическим потерям и ударам судьбы. На страх и отчаяние «внутреннего эмигранта» Вагинова Набоков отвечает прославлением эмиграции внешней как «охранной грамоты», позволяющей художнику сохранить свою свободу и свой дар.
В поэтике «Дара» легко обнаруживаются некоторые приемы, которые ранее были опробованы в других метароманах, но они во всех случаях радикально усложнены и необычным образом транспонированы. Вместо фрагментарных и немногочисленных «текстов в тексте», сочиненных героями-писателями Жида и его русских последователей, роман содержит – полностью или частично – 28 стихотворений Годунова-Чердынцева разной степени завершенности (более 250 строк); написанную им биографию Чернышевского объемом в 4,5 печатного листа (почти четверть всей книги), большую часть незаконченного биографического очерка об отце и его экспедициях, философские афоризмы «Делаланда». Кроме того, в состав «Дара» входят рецензия критика Мортуса на книгу поэта Кончеева и три стиха последнего, шесть рецензий на книгу Федора (три полностью и три в извлечениях), пространная цитата из вымышленных записок вымышленного Сухощокова, образец писаний графомана Ширина и даже четверостишие, сочиненное героем за Пушкина. Вместо четкого разделения на «жизнь», показанную «внешним» автором, и ее художественное изображение автором «внутренним» мы имеем дело с поэтикой «просачиваний и смешений» (определение Ю. И. Левина), с установкой на неиерархичность, которая проявляется «в постоянных метаморфозах, в свободных переходах в пространстве и во времени, и между различными планами повествования, в менах лиц и точек зрения» (Левин 1981: 222). Повествовательная структура «Дара» настолько прихотлива, многослойна и динамична, что в работах о романе до сих пор не выработан единый взгляд на то, с каких точек зрения ведется рассказ, кому принадлежат различные «я» и «мы», неожиданно появляющиеся в разных эпизодах, и кого в конечном счете следует считать «главным автором» текста – самого героя-писателя или некую незримо наблюдающую за ним инстанцию. Одна группа исследователей полагает, что точка зрения в романе везде совпадает с точкой зрения Федора, который является его единственным имплицитным автором (Там же: 205–208, 221), а сам текст таким образом представляет собой, с одной стороны, реализацию замысла «замечательного» автобиографического романа, о котором Федор в финале рассказывает Зине, а с другой – хронику тех событий в жизни героя, которые предшествовали возникновению у него идеи будущей книги (Бойд 2001: 536–537; Давыдов 2004: 134; Ronen 2015: 85). Дж. Коннолли усложнил это чтение, выделив в образе Федора два компонента – «персонажный» и «авторский» (Connolly 1992: 217). С. Блэквел предложил считать автором повзрослевшего и помудревшего Федора, каким он станет за пределами романного времени, когда услышит рассказы Зины и переймет ее «творческую восприимчивость» (Blackwell 2000: 10). В более поздней работе он попытался описать нарративную структуру «Дара» как «мультистабильную систему» (в физике так называются системы с двумя или более альтернирующими устойчивыми состояниями, а в теории зрительного восприятия – двойственное восприятие особым образом устроенных оптических иллюзий), допускающую две равноправных стратегии чтения, причем выбор между ними чисто субъективен (Blackwell 2017).
С другой стороны, П. Тамми выявил в «Даре» три различных повествовательных плана и пришел к выводу, что Федору нельзя приписывать авторство всего текста, потому что персонаж в мире Набокова не может получить контроль над той реальностью, частью которой является его сознание (Tammi 1985: 97). Споря с Ю. И. Левиным, он показал, что по крайней мере в двух случаях точка зрения рассказчика не совпадает с точкой зрения Федора – в сцене проводов Щеголевых на вокзале, где герой не присутствует (534–535), и в неожиданном flashforward’e во второй главе: «Федор Константинович тревожно думал о том, что несчастье Чернышевских является как бы издевательской вариацией на тему его собственного, пронзенного надеждой горя, – и лишь гораздо позднее он понял все изящество короллария и всю безупречную композиционную стройность, с которой включалось в его жизнь это побочное звучание» (275; Tammi 1985: 92). К этому можно прибавить внутренний монолог умирающего Александра Яковлевича (485–486), эпизод в конце третьей главы, когда мы вдруг видим героя глазами Зины («Мимоходом из передней в его полуоткрытую дверь Зина увидела его, бледного, с разинутым ртом, в расстегнутой крахмальной рубашке, с подтяжками, висящими до пола, в руке перо, на белизне бумаг чернеющая полумаска» [386]), и несколько фраз с двусмысленным местоимением «мы» (см., например: [1–116]). Эти хорошо замаскированные прорывы за пределы сознания Федора заставляют предположить присутствие в романе «внешнего» автора, который, по формуле Флобера в изложении Набокова, должен «быть невидимым и быть всюду, как Бог в своей вселенной» (см.: [5–12]). В таком случае «Дар» предполагает три последовательных чтения – первое, при котором статус текста остается неопределенным вплоть до финального разговора Федора с Зиной о его замысле; второе, при котором мы полагаем Федора единственным имплицитным автором, и, наконец, третье, при котором в повествовании обнаруживается спрятанный богоподобный автор, распоряжающийся судьбой близкого ему по духу героя (см.: Toker 1989: 160–161; Dolinin 1995: 163–165; Долинин 2004: 140–142; Grishakova 2006: 241–249; Leving 2011: 260–270, а также Приложение II). Данную интерпретацию поддерживает объяснение самого Набокова, переданное его женой в письме к У. Минтону: «Дар состоит из пяти глав, четыре из которых написаны автором (как „невидимым наблюдателем“), а пятая (четвертая по порядку) выдает себя за сочинение главного героя» (цит. по: Гришакова 2000: 311). Истинный голос «невидимого наблюдателя» мы, как кажется, слышим только в онегинской строфе на последней странице «Дара», где автор прощается со своей книгой подобно тому, как прощается Пушкин со своим «свободным романом» и его читателями в конце «Евгения Онегина».
Сравнительно большая временная протяженность действия, главное содержание которого – становление писательского дара героя, его движение от слабеньких поэтических опытов русской юности через недурные стихи эмигрантской молодости к отличной прозе и сильное автобиографическое начало заставляют соотнести роман Набокова с жанром модернистского Künstlerroman’a. В проницательной рецензии на английский перевод «Дара» С. Спендер сравнил его с двумя западными Künstlerroman’ами, тоже основанными на автобиографической рефлексии, – «Записками Мальте Лауридса Бригге» Р. М. Рильке, «еще одним романом, сотканным из воспоминаний, снов, истории и интроспекции», и «Портретом художника в молодости» Дж. Джойса, который тоже рассказывает «о молодом человеке, осознающем свой дар» (Spender 1963: 5). К ним следует добавить «В поисках утраченного времени» М. Пруста (Foster 1993: 151–155) и «Жизнь Арсеньева» Бунина, жанр которой Ходасевич определил как «вымышленная автобиография» или «автобиография вымышленного лица» (Ходасевич 1933d).
В предисловии к английскому переводу «Дара» Набоков предостерег читателей от восприятия романа как автобиографического: «Я не Федор Годунов-Чердынцев и никогда им не был; мой отец не исследователь Центральной Азии, каковым я, быть может, еще когда-нибудь стану. Я не ухаживал за Зиной Мерц и не был озабочен мнением поэта Кончеева или любого другого писателя» (Nabokov 1991b: n.p.; Набоков 1997: 49). Конечно, Набоков лукавил, ибо примерно то же самое мог бы сказать о себе каждый автор модернистской «вымышленной автобиографии». Пруст, как известно, не ухаживал ни за Альбертиной, ни за какой другой героиней своего цикла, а Джойс не боготворил Эмму К…, музу Стивена Дедала. Даже Бунин, чей роман, пожалуй, ближе к его подлинной биографии, чем у других авторов, отрекался от автобиографизма: «Вот думают, что история Арсеньева – это моя собственная история. А ведь это не так. Не могу я правды писать. Выдумал я и мою героиню. И до того вошел в ее жизнь, что поверил в то, что она существовала, и влюбился в нее» (Последние новости. 1933. № 4621. 16 ноября; цит. по: Бунин 1965–1967: VI, 329). Как и все его предшественники, Набоков передал своему герою многое из того, что ему самому пришлось испытать в жизни, что входило в золотой запас его памяти и формировало личность, – счастливое детство в петербуржско-лужских декорациях, увлечение поэзией, бабочками и шахматными задачами, потерю любимого отца, нищенский эмигрантский быт в неприветливом Берлине, движение от поэзии к прозе, борьбу за признание. Но важнее другое: и Федор, и Стивен Дедал, и Марсель, и Мальте Бригге, и Алексей Арсеньев разделяют со своими создателями их эстетические вкусы и принципы, метафизические устремления, философские идеи и, главное, обостренное до предела видение мира как поставщика материала для художественного творчества. «Я учусь видеть», – повторяет у Рильке его одинокий поэт-изгнанник, скитающийся по свету с «сундучком и связкой книг» (ср. в начале «Дара»: «а у меня в чемодане больше черновиков, чем белья»), и такие же уроки, по слову Ходасевича, «умного зрения» (Ходасевич 1933d) берут все остальные герои-художники модернистских «вымышленных автобиографий».
В XI и XII главах пятой книги «Жизни Арсеньева» ее герой, начинающий писатель, бродит по городу, собирая «мимолетные впечатления» для будущих сочинений:
теперь меня все ранило – чуть не всякое мимолетное впечатление – и, ранив, мгновенно рождало порыв не дать ему, этому впечатлению, пропасть даром, исчезнуть бесследно, – молнию корыстного стремления тотчас же захватить его в свою собственность и что-то извлечь из него. <… > Дальше – богатый подъезд, возле тротуара перед ним чернеет сквозь белые хлопья лаковый кузов кареты, видны как бы сальные шины больших задних колес, погруженных в старый снег, мягко засыпаемый новым, – я иду и, взглянув на спину возвышающегося на козлах толстоплечего, по-детски подпоясанного под мышки кучера в толстой, как подушка, бархатной конфедератке, вдруг вижу: за стеклянной дверцей кареты, в ее атласной бонбоньерке, сидит, дрожит и так пристально смотрит, точно вот-вот скажет что-нибудь, какая-то премилая собачка, уши у которой совсем как завязанный бант. И опять, точно молния, радость: ах, не забыть – настоящий бант! <… > Зажигались фонари, тепло освещались окна магазинов, чернели фигуры идущих по тротуарам, вечер синел, как синька, в городе становилось сладко, уютно… Я, как сыщик, преследовал то одного, то другого прохожего, глядя на его спину, на его калоши, стараясь что-то понять, поймать в нем, войти в него… <… > Вечер уже переходил в ночь, газовый фонарь на мосту горел уже ярко, под фонарем гнулся, запустив руки подмышки, по-собачьи глядел на меня, по-собачьи весь дрожал крупной дрожью и деревянно бормотал: «ваше сиятельство!» стоявший прямо на снегу босыми красными лапами золоторотец в одной рваной ситцевой рубашке и коротких розовых подштанниках, с опухшим угреватым лицом, с мутно-льдистыми глазками.
Я быстро, как вор, хватал и затаивал его в себе, совал ему за это целый гривенник… (Бунин 1965–1967: VI, 231, 233)
Подобным же сбором зрительных впечатлений для будущих книг на протяжении всего «Дара» – от желтого фургона на первой странице до темной кирки с желтыми часами на последней – занимается герой Набокова. Как и Арсеньев, он старается «везде и всегда, вообразить внутреннее прозрачное движение другого человека, осторожно садясь в собеседника, как в кресло, так чтобы локти того служили ему подлокотниками и душа бы влегла в чужую душу» (222). Набоков, как кажется, вступает в соревнование с Буниным, стремясь доказать, что его зрение «умнее», а метафоры и сравнения оригинальнее, чем у мэтра (ср.: [1–40]).
К последней книге «Жизни Арсеньева», опубликованной (не полностью) в 1933 году, возможно, восходит и общий замысел «Дара». В XIII главе Арсеньев погружается «в свое обычное утреннее занятие: в приготовление себя к писанию – в напряженный разбор того, что есть во мне, в выискивание внутри себя чего-то такого, что вот-вот, казалось, образуется…». Он думает: «Что ж <… > может быть, просто начать повесть о самом себе? Но как? Вроде „Детства, отрочества“? Или еще проще? „Я родился там-то и тогда-то… “ Но, Боже, как это сухо, ничтожно – и неверно!» (Бунин 1965–1967: VI, 236–237). Ответа на эти вопросы Арсеньев – в отличие от Годунова-Чердынцева[19] – так и не находит, но в рецензии на журнальную публикацию еще незаконченного романа Ходасевич предположил, что будет дальше:
Арсеньев – писатель. <… > Сейчас мы его застаем в ту минуту, когда «впечатления бытия» для него еще новы. Желание их выразить обуревает его, но он еще не знает, о чем писать. <… > Нетрудно угадать, что будет дальше. Арсеньев сделается писателем, научится строить сюжеты и фабулы, которые, в свою очередь, сложатся в идеи его произведений. Он будет хорошим писателем. Однако, в конце концов, испытает он то неудовлетворение, о котором выше говорено, – и обратится к автобиографии. Он сбросит узы воображения вместе с порожденными воображением фабулами и отбросит фабулы вместе с возникающими из них идеями. Добытым творческим опытом он воспользуется отчасти для того, чтобы разучиться ранее постигнутым законам и правилам художества, отчасти для того, чтобы научиться новым. Тогда-то он и напишет ту самую «Жизнь Арсеньева», которую нам за него пишет Бунин (Я думаю, впрочем, что он озаглавит ее «Моя жизнь», а не «Жизнь Арсеньева».) (Ходасевич 1933d).
Ходасевич не угадал, но Набоков вполне мог использовать нереализованную идею кольцевой композиции с двойным авторством, не отказываясь при этом ни от «уз воображения», ни от фабулы, связанной с идеей судьбы, о которой Федор в финале рассказывает Зине. Интересно, что в лекциях о Прусте для американских студентов он дал такое описание структуры цикла «В поисках утраченного времени», которое mutatis mutandis приложимо к «Дару». Рассказчик в финале, – говорит он, – «понимает, что произведение искусства есть единственное средство воскресить время» и «обдумывает <… > идеальный роман, который ему предстоит написать. Произведение Пруста – только копия этого идеального романа, но какая копия!» (Nabokov 1982a: 249, 210–211).
Заглавие и имена героев
Первоначальное заглавие романа – жизнеутверждающее «Да» – по предположению Б. Бойда, отсылало к финальному монологу Молли Блум в «Улиссе» Джойса, который заканчивается многократно повторенным «Yes»: «… and then he [Bloom] asked me would I yes to say yes my mountain flower and first I put my arms around him yes and drew him down to me so he could feel my breasts all perfume yes and his heart was going like mad and yes I said yes I will Yes [… и тогда он [Блум] спросил меня хочешь да сказать да мой горный цветок и я сначала обняла его да и потянула вниз на себя чтоб почувствовал мои груди весь аромат да и его сердце колотилось как бешеное и да я сказала да хочу. Да (англ.)] » (Joyce 1972: 704; Boyd 2000). В лекциях об «Улиссе» Набоков с очевидным удовольствием цитировал его концовку, прокомментировав ее единственной ударной фразой: «Yes: Bloom next morning will get his breakfast in bed [Да: на следующее утро Блум получит завтрак в постель (англ.)] » (Nabokov 1982a: 370). В контексте эмигрантской полемики между литературными партиями набоковское «Да» должно было прозвучать как ответ на нигилистические настроения поэтов и писателей «парижской ноты», перекликающийся с тем, как возражал им Г. П. Федотов, когда призывал: «Сквозь хаос, обступающий нас и встающий внутри нас, пронесем нерасплесканным героическое – да: Богу, миру и людям» (Федотов 1931: 148).
Изменив заглавие, Набоков перенес акцент с метафорики согласия и приятия на топику дарения как акта, в котором, по определению, взаимодействуют два участника – даритель и реципиент и который поэтому может быть сопоставлен с отношениями между автором художественного текста и его героем. В романе последовательно обыгрываются и тематизируются все основные значения самого слова «дар» и его производных, от родительских подарков сыну и писательского дарования в первых главах до бездарности Чернышевского в четвертой главе и отождествления жизни и чувственно воспринимаемого мира с подарками «от Неизвестного» – в пятой. Даже поговорка, приведенная в словаре Даля: «Даром и чирей не сядет», реализуется в нескольких взаимосвязанных эпизодах романа (220, 338–339, 398).
Традиционный мотив творческого дара, принимаемого с благодарностью и дающего возможность преодолеть «удары судьбы», Набоков начал разрабатывать уже в ранних стихах. Ср., например:
- Блаженно-бережно таи
- дар лучезарный, дар страданья, —
- живую радугу, рыданья
- неизречимые свои…
- И вспомнил я свой дар, ненужных светлых муз,
- недолговечные созвучья и виденья…
- Или достойно дар приму,
- великолепный и тяжелый —
- всю полнозвучность ночи голой
- и горя творческую тьму?
В последнем стихотворении отвергнутой альтернативой принятию дара оказывается самоубийство («И дула кисловатый лед / прижав о высохшее небо, / в бесплотный ринусь ли полет / из разорвавшегося гроба?»), что предвосхищает антитезу «Федор Годунов-Чердынцев – Яша Чернышевский» в романе.
Особо следует отметить стихотворения «Путь» (Там же: 640), где к «божественному дару» соприравнено само изгнание («Великий выход на чужбину / как дар божественный ценя, / веселым взглядом мир окину, / отчизной ставший для меня»), и «Катится небо, дыша и блистая…», в котором поэт приветствует мир как «дар Божий» (Там же: 501).
Те же мотивы появляются в «Благости», одном из самых ранних рассказов Набокова, где герой – художник в изгнании – начинает понимать, что «мир вовсе не борьба, не череда хищных случайностей, а мерцающая радость, благостное волнение, подарок, не оцененный нами» (Там же: 114).
Из множества изречений на тему дарения Набоков, как кажется, в первую очередь учитывал новозаветное: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходят свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий» (Иак 1: 17–18). Недаром все три «отца-дарителя» в романе – Константин Кириллович, Пушкин и богоподобный «невидимый автор» – находятся вне времени и пространства повествования и ассоциируются с источниками света и тепла, прежде всего с солнцем. Солярно-световые образы, появляющиеся уже в первых эпизодах «Дара» (действие начинается «светлым днем»; название «перевозчичьей фирмы» – Мах. Lux – может быть прочитано как «максимальная освещенность»; зеркало отражает «белое ослепительное небо», в котором плывет «слепое солнце»), проходят через весь текст, включая «Жизнеописание Чернышевского», вплоть до предфинальной эпифании героя, когда он чувствует, что существует, «только поскольку существует оно [солнце]», и его собственное я «силой света» растворяется и приобщается к красоте мира (508).
В русской классической поэзии наиболее близкая параллель к набоковской оптимистической концепции жизни-дара – это концовка стихотворения Г. Р. Державина «На смерть Кн. Мещерского» (1779):
- Жизнь есть небес мгновенный дар;
- Устрой ее себе к покою
- И с чистою твоей душою
- Благословляй судеб удар.
По наблюдению П. М. Бицилли (Бицилли 1929: 353, 360), Пушкин пародировал эти строки в ядовитом стихотворении-памфлете «На выздоровление Лукулла. Подражание латинскому» (1835):
- Так жизнь тебе возвращена
- Со всею прелестью своею;
- Смотри: бесценный дар она;
- Умей же пользоваться ею…
Еще раньше, в стихотворении «Дар напрасный, дар случайный…», датированном днем его рождения (26 мая 1828 года), Пушкин переосмыслил топос «жизнь есть Божий дар» в скептическом духе:
- Дар напрасный, дар случайный,
- Жизнь, зачем ты мне дана?
- Иль зачем судьбою тайной
- Ты на казнь осуждена?
- Кто меня враждебной властью
- Из ничтожества воззвал,
- Душу мне наполнил страстью,
- Ум сомненьем взволновал?..
- Цели нет передо мною:
- Сердце пусто, празден ум,
- И томит меня тоскою
- Однозвучный жизни шум.
Полемика Набокова с этим стихотворением раскрывается в финале «Второго добавления к „Дару“», где Константин Кириллович Годунов-Чердынцев говорит какому-то собеседнику: «Да, конечно, напрасно сказал: случайный и случайно сказал напрасный, я тут заодно с духовенством, тем более что для всех растений и животных, с которыми мне приходилось сталкиваться, это безусловный и настоящий…» (Набоков 2001a: 108–109). Говоря о солидарности с духовенством, отец Федора имеет в виду стихотворный ответ на «Дар напрасный» митрополита Филарета:
- Не напрасно, не случайно
- Жизнь от Бога мне дана,
- Не без воли Бога тайной
- И на казнь осуждена.
- Сам я своенравной властью
- Зло из темных бездн воззвал,
- Сам наполнил душу страстью
- Ум сомненьем взволновал.
- Вспомнись мне, забвенный мною!
- Просияй сквозь сумрак дум, —
- И созиждется Тобою
- Сердце чисто, светел ум.
Пропущенным подлежащим во фразе: «Да, конечно, напрасно сказал: случайный и случайно сказал напрасный», вне всякого сомнения, может быть только «он» или «Пушкин», но отнюдь не «я», как ошибочно утверждал Б. Бойд (Boyd 2000; см. резонные возражения Г. А. Барабтарло, напечатанные после этой заметки Бойда).
Кроме стихотворения Филарета, Набоков, вероятно, знал и другой ответ Пушкину – «Жизнь» И. П. Клюшникова (1811–1895):
- Дар мгновенный, дар прекрасный,
- Жизнь, зачем ты мне дана?
- Ум молчит, а сердцу ясно:
- Жизнь для жизни мне дана.
- Все прекрасно в Божьем мире:
- Сотворивый мир в нем скрыт.
- Но Он в храме, но Он в лире,
- Но Он в разуме открыт.
- Познавать его в творенье,
- Видеть духом, сердцем чтить —
- Вот в чем жизни назначенье,
- Вот что значит в Боге жить!
В поэзии Серебряного века позицию, сходную с набоковской, декларировал А. А. Блок в первых двух строках стихотворения 1907 года из цикла «Заклятие огнем и мраком»:
- Приявший мир, как звонкий дар,
- Как злата горсть, я стал богат…
Ср. в связи с этим денежные метафоры в третьей главе романа: «постоянное чувство, что наши здешние дни – только карманные деньги, гроши, звякающие в темноте, а что где-то есть капитал, с коего надо уметь при жизни получать проценты в виде снов, слез счастья, далеких гор» (344).
Другим возможным подтекстом заглавия называлось стихотворение Ходасевича 1921 года, начинающееся строфой:
- Горит звезда, дрожит эфир,
- Таится ночь в пролеты арок,
- Как не любить весь этот мир,
- Невероятный Твой подарок?
Любопытно, однако, что строку «Невероятный твой подарок» Набоков помнил по цитате в последней строфе стихотворения Г. П. Струве «В. Ф. Ходасевичу» (1922):
- Невероятный твой подарок —
- Быть может, жизнь, быть может, смерть.
- Был голос глух и взор неярок,
- Но потолок синел, как твердь.
В письме к Струве (февраль 1931 года) он писал: «А помните ваши стихи, – „невероятный твой подарок“ и что-то очень хорошее о потолке?» (Набоков 2003: 143).
Второе значение заглавного слова – дарование, талант, или, по Далю, «способность данная от Бога» – многократно эксплицируется в тексте. Федор мечтает о том, что его поэтический дар будет оценен (196); отмечает «резкий и своеобразный дар» художника Романова (243); ищет «создания чего-то нового, еще неизвестного, настоящего, полностью отвечающего дару, который он как бремя чувствовал в себе» (277); радуется «возмужанию дара» (502). По наблюдению И. П. Смирнова, «Набоков не был первым, кто привнес в заголовке литературного труда в пушкинский дар жизни („Дар напрасный, дар случайный… “) созначение художественного вдохновения. Ранее, на исходе романтической поры, такое же интертекстуальное наращивание смысла предприняла Елена Ган в предсмертной повести „Напрасный дар“ (1842). Героиня этого текста, Анюта, дочь управляющего степным имением, открывает в себе поэтические задатки, но нужда, наступившая после смерти отца, заставляет ее забросить стихотворство, сжечь свои творения и зарабатывать уроками на хлеб насущный. Новый управляющий имением объявляет погруженность Анюты в поэтическиe грезы опасным безумием; не нашедшая признания девушка сгорает от скоротечной чахотки» (Смирнов 2016: 225). Смирнов полагает, что Набоков безусловно учитывал обращение Ган к Пушкину и был хорошо знаком со всем ее творчеством (Смирнов 2015). Однако сильное предубеждение Набокова против женщин-писательниц (см.: Шраер 2000) заставляет усомниться в этом утверждении. Известно, например, что только после настойчивых увещеваний Эдмунда Вилсона он прочитал Джейн Остин и включил ее роман «Мэнсфилд-парк» в программу своего университетского курса по литературе (Nabokov, Wilson 2001: 20, 265, 268, 270–271).
Имя и двойная фамилия главного героя «Дара» имеют сложную ассоциативную ауру. Имя Федор, которое в переводе с древнегреческого означает «дар Бога», синонимично заглавию романа и содержит его фонетический отголосок. Вместе с боярско-царской фамилией Годунов, отсылающей прежде всего к упомянутой в тексте трагедии Пушкина, оно намекает на то, что в главном герое «Дара» следует видеть «царевича», любимого «царского сына» (напомним, что исторический Федор Годунов был сыном царя Бориса), но, конечно, не в прямом, а в переносном смысле, поскольку для Набокова «царь» или «король» – это прежде всего фигуральные титулы художника, творца, провидца (ср. в стихотворении Пушкина «Поэту» (1830): «Ты царь: живи один»). Зная пристрастие Набокова к игре с иноязычной лексикой, нельзя не отметить и присутствие в фамилии Годунов английского God – «Бог».
О происхождении второй фамилии героя см. выше, с. 19–20.
Фамилию Зины Мерц Набоков мог заметить в эмигрантских газетах. Например, в «Накануне» печаталось объявление о розыске некоего Иосифа Фальковича Мерца (1923. № 489. 18 ноября); в сообщениях о скандальной тяжбе по поводу завещания княгини Е. Ф. Шаховской-Глебовой-Стрешневой неоднократно упоминалась контора петербургского нотариуса Р. Р. Мерца, жившего, кстати, в доме 2 по Почтамтской улице, то есть в двух шагах от особняка Набоковых (см., например: Возрождение. 1933. № 3083. 10 ноября); в 1935 году сообщалось о казни в Германии коммивояжера Пауля Мерца, обвиненного в государственной измене (Возрождение. 1935. № 3539. 10 февраля). Видный советский инженер Николай Васильевич Мерц – персонаж повести Л. В. Никулина «Высшая мера» (1928), которая, возможно, была одним из объектов полемики в «Подвиге» Набокова (см.: Долинин 2004: 87). Театральная инсценировка повести называлась «Инженер Мерц (Высшая мера)» (1928).
В комментариях учитывались следующие комментированные издания «Дара», подготовленные другими авторами:
Набоков В. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Правда, 1990. Т. 3. С. 463–479 (комментарий О. И. Дарка);
Nabokov V. Gesammelte Werke / Hrsg. von D.E. Zimmer. Hamburg: Rowohlt, 1993. Bd. V. S. 623–795 (комментарий А. Энгель-Брауншмидт и Д. Циммера);
Набоков В. Дар. СПб.: Азбука, 2000. С. 515–574 (комментарии Л. Ф. Клименко).
Посвящение и эпиграф
посвящение И Эпиграф
0–1
Памяти моей матери – посвящение памяти Елены Ивановны Набоковой (урожд. Рукавишниковой, 1876–1939) дано роману в отдельном издании 1952 года. Английский перевод «Дара» посвящен В.E. Набоковой.
0–2
Дуб – дерево. <… > Смерть неизбежна. – Эпиграф точно воспроизводит текст упражнения для разбора из гимназического «Учебника русской грамматики» (см., например: 17-е изд. М., 1903. С. 78) Петра Владимировича Смирновского (1846–1904).
Глава первая
1–1
Облачным, но светлым днем, в исходе четвертого часа, первого апреля 192 … года … – Сокрытие даты здесь носит игровой характер, так как многочисленные хронологические указания в тексте позволяют установить, что действие романа начинается 1 апреля (по новому стилю) 1926 года, а заканчивается 29 июня 1929 года. Этими же числами впоследствии датировал начало и конец романа сам Набоков (Nabokov 1995: 649; Leving 2011: 149–151). Следует отметить, однако, что внутренний календарь «Дара» далеко не всегда совпадает с календарем реальным. Многие упоминания об исторических событиях 1920-х годов представляют собой явные анахронизмы; иногда расходится с календарным временем и фабула. Так, по календарю романа, 29 июня 1929 года и следующий за ним день – будни (Зина приходит домой с работы и сообщает, что завтра получит жалованье), тогда как на самом деле это были суббота и воскресенье. В этом смысле «Дар» действительно начинается и заканчивается в 192 … году (подробнее о временной структуре романа см.: Долинин 2004: 297–300).
1–2
… иностранный критик заметил как-то, что хотя многие романы, все немецкие например, начинаются с даты, только русские авторы – в силу оригинальной честности нашей литературы – не договаривают единиц … – Замечание «иностранного критика», по всей вероятности, выдумано Набоковым, так как не соответствует действительности. В большинстве русских романов, начинающихся с даты, она приводится полностью. См., например, однотипные начала романов Тургенева: «В тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, недалеко от Кунцева, в один из самых жарких летних дней 1853 года лежали на траве два молодых человека» ( «Накануне» [Тургенев 1978–2014: VI, 161] ); «Что, Петр? не видать еще? – спрашивал 20 мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора на *** шоссе, барин лет сорока с небольшим, в запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого малого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазами» ( «Отцы и дети» [Там же: VII, 7] ); «10 августа 1862 года, в четыре часа пополудни, в Баден-Бадене, перед известною „Conversation“ толпилось множество народа» ( «Дым» [Там же, 249] ); «Весною 1868 года, часу в первом дня, в Петербурге, взбирался по черной лестнице пятиэтажного дома в Офицерской улице человек лет двадцати семи, небрежно и бедно одетый» ( «Новь» [Там же: IX, 135] ).
С точной даты начинается и роман Чернышевского «Что делать»: «Поутру 11 июля 1856 года прислуга одной из больших петербургских гостиниц у станции московской железной дороги была в недоумении, отчасти даже в тревоге» (Чернышевский 1939–1953: XI, 5).
В 1920-е годы Набоков наверняка читал первые два романа И. Г. Эренбурга, которые начинались по-тургеневски: «26 марта 1913 года я сидел, как всегда, в кафе „Ротонда“ на бульваре Монпарнас перед чашкой давно выпитого кофе, тщетно ожидая кого-нибудь, кто бы освободил меня, уплатив терпеливому официанту шесть су» ( «Хулио Хуренито» [Эренбург 1962–1967: I, 11] ); «Одиннадцатого апреля 1927 года в 9 часов 15 минут утра владелец крупнейшей фабрики консервов в Чикаго мистер Твайвт приступал к первому завтраку» ( «Трест Д. Е.» [Там же: 237] ).
Ср. также начало «Белой гвардии» Булгакова: «Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй» (Булгаков 1927: 5).
Как представляется, Набоков отсылает к двум подтекстам романа, которые начинаются с неопределенной даты. Во-первых, это «Капитанская дочка» Пушкина (начинающаяся так: «Отец мой, Андрей Петрович Гринев, в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-маиором в 17 … году» [Пушкин 1937–1959: VIII, 279] ), сюжет которой, как и сюжет «Дара», строится на обменах дарами и возмещениях за потери (другие отсылки к «Капитанской дочке» см. на с. 280, 288, 320; [2–32], [2–36], [2–63], [2–205] ). Во-вторых – «Детство» Л. Н. Толстого с его началом: «12‐го августа 18 …, ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой – из сахарной бумаги на палке – по мухе» (Толстой 1978–1985: I, 11). Первая русская полуфикциональная автобиография важна прежде всего для тех эпизодов, в которых герой вспоминает свое детство. Они тоже имеют автобиографическую основу, которая, как и у Толстого, загримирована под чистый вымысел, а стилистически ориентированы на то, что Эйхенбаум назвал толстовской «мелочностью», когда подробнейшим образом, как «под микроскопом», описываются предметы, животные, насекомые, позы, жесты людей, детали душевной жизни (Эйхенбаум 1922: 72–74).
1–3
… по Танненбергской улице … – По иронии судьбы улица носит имя деревни в Восточной Пруссии, близ которой в 1914 году немецкие войска нанесли сокрушительное поражение наступавшей русской армии. В честь этой битвы в Берлине была названа не улица (Strasse), а аллея (Tannenbergallee), которая находится близ северо-восточной оконечности лесопарка Груневальд (см. о нем: [1–99] ), довольно далеко от того района, куда Набоков поместил эту вымышленную улицу.
1–4
… мебельный фургон, очень длинный и очень желтый … – По предположению Ю. Левинга, этот образ мог быть подсказан Набокову рассказом Саши Черного «Желтый фургон» (1926), опубликованным в парижском журнале «Иллюстрированная Россия» (Левинг 1999: 52–53). Кроме того, следует отметить, что фургон у Набокова может ассоциироваться с цирком (ср. в концовке «Весны в Фиальте»: «… желтый автомобиль <… > потерпел за Фиальтой крушение, влетев на полном ходу в фургон бродячего цирка …»), что связывает начальную сцену с цирковыми мотивами в романе, которые, как правило, носят характер автометаописательных тропов (см. в третьей главе описание «замечательного забора», составленного «из когда-то разобранного в другом месте (может быть, в другом городе), ограждавшего до того стоянку бродячего цирка, но доски были теперь расположены в бессмысленном порядке, точно их сколачивал слепой, так что некогда намалеванные на них цирковые звери, перетасовавшись во время перевозки, распались на свои составные части: тут нога зебры, там спина тигра, а чей-то круп соседствует с чужой перевернутой лапой» – 357).
1–5
На лбу у фургона виднелась звезда вентилятора … – Ю. Левинг усматривает здесь реминисценцию стиха из «Сказки о царе Салтане …»: «А во лбу звезда горит» (Leving 2011: 350).
1–6
… комический персонаж, непременный Яшка Мешок в строю новобранцев … – по-видимому, имеется в виду солдат Яшка (Яшка Красная Рубашка; Яшка Медная Пряжка), комический персонаж популярных в XIX веке лубков, копеечных книг для народа и казарменных прибауток, восходящий к псевдонародным россказням И. И. Башмакова (ум. 1865; печатался под псевдонимом Иван Ваненко).
1–7
… отвечает на суриковую улыбку продавца улыбкой лучистого восторга. – Суриковая (то есть ярко-красная) улыбка – метонимия, модификация поэтического образа «алая улыбка», встречающегося, например, у П. А. Вяземского в стихотворении «К графу В. А. Соллогубу (в Дерпт)» ( «Улыбка алая уста ее объемлет …» [Вяземский 1958: 246] ), у М. А. Волошина в «Закат сиял улыбкой алой …» (Волошин 2003: 25) и у ряда других поэтов. В рассказе Ф. К. Сологуба «Красногубая гостья» у героини – женщины-вампира, аватары Лилит – «безумно-алая улыбка» (Сологуб 1912–1913: XII, 134).
1–8
… из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкаф, по которому, как по экрану, прошло безупречно-ясное отражение ветвей, скользя и качаясь не по-древесному, а с человеческим колебанием, обусловленным природой тех, кто нес это небо, эти ветви, этот скользящий фасад. – Ср. стихотворение Набокова «Зеркало» из сборника «Горний путь»:
- Ясное, гладкое зеркало, утром, по улице длинной,
- будто святыню везли. Туча белелась на миг
- в синем глубоком стекле, и по сини порою мелькала
- ласточка черной стрелой … Было так чисто оно,
- так чисто, что самые звуки, казалось, могли отразиться.
- Мимо меня провезли этот осколок живой
- вешнего неба, и там, на изгибе улицы дальнем,
- солнце нырнуло в него: видел я огненный всплеск.
- О, мое сердце прозрачное, так ведь и ты отражало
- в дивные, давние дни солнце и тучи и птиц!
- Зеркало ныне висит в сенях гостиницы пестрой;
- люди проходят, спешат, смотрятся мельком в него.
Как и в стихотворении, образ движущегося зеркала, поднятого высоко над землей и ясно отражающего небо, носит характер развернутого автометаописательного тропа. Набоков усложняет и динамизирует традиционное сравнение романа с зеркалом (ср., например, декларацию Сологуба в предисловии ко второму изданию «Мелкого беса»: «Этот роман – зеркало, сделанное искусно. Я шлифовал его долго, работая над ним усердно. Ровна поверхность моего зеркала, и чист его состав. Многократно измеренное и тщательно проверенное, оно не имеет никакой кривизны. Уродливое и прекрасное отражаются в нем одинаково точно» [Сологуб 1912–1913: VI, VIII] ), которое он пародировал в «Защите Лужина», где оно вложено в уста изъясняющегося пошлыми клише психиатра-фрейдиста (Набоков 1999–2000: II, 408).
Соединяя мотив зеркала с мотивом движения, Набоков, как показал Л. Ливак, отталкивается от афоризма, который приведен в качестве эпиграфа к главе XIII первой части «Красного и черного» Стендаля и приписан французскому писателю XVII века, аббату Сезару Сен-Реалю: «Un roman: c’est un miroir qu’on promène le long d’un chemin [Роман: это зеркало, которое несут (проносят, ведут на прогулку) по дороге (фр.)]» (Stendhal 1973: 74; Livak 2003: 173). В главе XIX «Красного и черного» Стендаль, несколько изменив формулировку, использует то же сравнение для защиты миметического искусства, которое, как он хочет сказать, не может не отражать низменные стороны реальности: «Hé, monsieur, un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l’azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Et l’homme qui porte miroir dans sa hotte sera par vous accusé d’être immoral! Son miroir montre la fange, et vous accuser le miroir! Accusez bien plutôt le grand chemin où est le bourbier, et plus encore l’inspecteur des routes qui laisse l’eau croupir et le bourbier se former [Эх, сударь, роман – это зеркало, которое движется по большой дороге. Оно отражает для вас то лазурь небес, то вязкую грязь дорожных размывов. И вы обвиняете в безнравственности человека, который несет зеркало в своей заплечной корзине! Его зеркало показывает грязь, и вы обвиняете зеркало! Обвиняйте лучше саму дорогу, на которой есть размывы, или, вернее всего, смотрителя дороги, позволившего воде застояться и образовать это грязное месиво (фр.)]» (Stendhal 1973: 313). Набоков, как кажется, полемизирует с этой декларацией реализма, перенося ударение с объекта отражения на атипичные свойства движущегося отражателя – его необычный поворот (ср. в четвертой главе «Дара»: «… всякое подлинно новое веяние есть <… > сдвиг, смещающий зеркало» (417) и [4–179] ), особый ритм колебаний, обусловленный индивидуальностью «носителей», обращенность к невидимому источнику света, чьи лучи зеркало «пересылает» герою.
1–9
… до сих пор неизвестного автора … – В «Современных записках» опечатка: «до сих неизвестного автора» (1937. Кн. LXIII. С. 11).
1–10
… небольшая книжка, озаглавленная «Стихи» (простая фрачная ливрея, ставшая за последние годы такой же обязательной, как недавние галуны – от «лунных грез» до символической латыни) … – Заглавие «Стихи» (достаточно популярное в поэзии 1910–1920-х годов) носила юношеская книга Набокова, изданная им на собственные средства в 1916 году. В нее, кстати, входило и стихотворение «Лунная греза» (Набоков 2002: 485).
Слово «грезы» в заглавии книги – характерный признак дилетантской и графоманской поэзии 1900–1910-х годов. Ср., например, «Заветные грезы» А. Заграйского (1908), «Юные грезы. Стихотворения» Б. Самовского (1909), «Грезы Севера» Г. Вяткина (1909), «Лучи и грезы: стихи, поэмы и миниатюры» Н. Шульговского (1912), «Крымские грезы: стихотворения» Р. Иванова (1913), «Грезы и жизнь» В. Опочинина (1915), «Грезы» Х. Алчевской (1916) и особенно «Напевные грезы» (СПб., 1914, 1916) М. Дружинина, чьи курьезные стихи нередко цитировались в печати как образец нелепицы (еще ряд примеров см.: Тименчик 2016: 184).
Латинские названия, наоборот, характерны для «высокой» поэзии того же периода. Моду на них инициировал В. Я. Брюсов сборниками «Me eum esse» ( «Это – я», 1897), «Tertia Vigilia» ( «Третья стража», 1900) и «Urbi et orbi» ( «Городу и миру», 1903). За ним среди прочих последовали Вяч. И. Иванов с двумя книгами «Cor ardens» ( «Пылающее сердце», 1911), А. И. Тиняков с «Navis nigra» ( «Черный корабль», 1912), В. Г. Шершеневич с «Carmina» ( «Песни», 1913) и др.
1–11
… он дозволил проникнуть в стихи только тому, что было действительно им, полностью и без примеси … – В «Современных записках» (1937. Кн. LXIII. С. 12) слово «им» было выделено разрядкой.
1–12
Или тут колоссальная рука пуппенмейстера вдруг появилась на миг среди существ, в рост которых успел уверовать глаз … – Уподобление автора текста «пуппенмейстеру» (нем. Puppenmeister – кукольник, кукловод, режиссер кукольного театра) восходит к прологу и эпилогу романа У. М. Теккерея «Ярмарка тщеславия», где автор называет себя кукольником, а своих персонажей марионетками, которых укладывают в ящик после конца представления.
1–13
В целом ряде подкупающих искренностью … нет, вздор, кого подкупаешь? кто этот продажный читатель? не надо его. – В архиве Набокова сохранилось его пояснение к этой сцене, раскрывающее адресата пародии: «Моему герою <… > только что сообщили, что появилась рецензия на его стихи. Он еще не читал ее, но живо ее воображает. Это дало мне повод сочинить пародию на всем известный род критики. Между прочим, я имел в виду некоего Петра Пильского, писавшего в рижской газете „Сегодня“, совершенно незабываемой по какой-то своей роскошной пошлости, литературные фельетоны» (Poetry reading, «Recital in New York …», introductory remarks // LCVNP. Box 10). П. М. Пильский (см. о нем преамбулу, с. 33), возглавлявший литературный отдел газеты «Сегодня», неоднократно выступал в нем с критикой произведений Набокова (см., например, его отзыв о романе «Подвиг»: Мельников 2000: 89–90; там же, в преамбулах составителя, приведены фрагменты из ряда других его рецензий).
1–14
Наш поэт родился двенадцатого июля 1900 года в родовом имении Годуновых-Чердынцевых Лешино. – День рождения героя совпадает с днем рождения Н. Г. Чернышевского (по старому стилю). Прототипом Лешино являются родовые имения семьи Набокова Выра и Рождествено, описанные (под разными названиями и без оных) в целом ряде произведений писателя, начиная с «Машеньки», и в его автобиографических книгах. Название, как кажется, восходит прежде всего к раннему рассказу Набокова «Нежить», где повествователю-эмигранту является из родной усадьбы «прежний Леший», символ «непостижимой красоты и векового очарования» родины (Набоков 1999–2000: I, 29–31).
1–15
В своих интересных записках такой-то вспоминает, как маленький Федя с сестрой, старше его на два года, увлекались детским театром и даже сами сочиняли для своих представлений … Любезный мой, это ложь. Я был всегда равнодушен к театру; но, впрочем, помню, были какие-то у нас картонные деревца и зубчатый дворец с окошками из малиновокисельной бумаги, просвечивавшей верещагинским полымем, когда внутри зажигалась свеча, от которой, не без нашего участия, в конце концов и сгорело все здание. – Приписывая Федору и его сестре увлечение театром, воображаемый критик пародирует биографию Пушкина. По воспоминаниям Ольги Сергеевны Павлищевой (урожд. Пушкиной, 1797–1868), которая была на два года старше брата, Пушкин в детстве, начитавшись Мольера, начал писать комедии по-французски. «Брат и сестра для представления этих комедий соорудили в детской сцену, при чем он был и автором пьес, и актером, а публику изображала она» (Вересаев 1936: I, 51).
Освещение детского театра сравнивается с колоритом картины художника-баталиста В. В. Верещагина (1842–1904) «Зарево Замоскворечья» (цикл «1812 год»), на которой изображен пожар Москвы.
Как отметил Р. Д. Тименчик, эта аллюзия должна привести на память пословицу «От копеечной свечи Москва загорелась», которая «создает определенное сюжетное ожидание, ратифицированное автором в следующей фразе» (Тименчик 1998: 418).
1–16
Английская Набережная – идет по левому берегу Невы, от Сенатской площади к Николаевскому мосту (затем мост Лейтенанта Шмидта, ныне Благовещенский). Недалеко от Английской набережной, в том же аристократическом районе Петербурга, находились особняк родителей Набокова на Большой Морской улице и особняк его деда по материнской линии на Адмиралтейской набережной.
1–17
… алматолитовый божок с голым пузом. – В словарях и энциклопедиях слово «алматолит» (как и использованная в английском переводе «Дара» его калька «almatolite») не зафиксировано. По точному предположению, высказанному в Живом журнале Алексеем Русановым [www.livejournal.com/users/nell0/199213.html#cutid1], Набоков имел в виду агальматолит (англ. agalmatolite), или пагодит, мягкий поделочный камень, из которого в Китае изготовляют резные фигурки. Как показало изучение рукописи первой главы «Дара», Набоков не был уверен в написании слова: сначала он написал его правильно: «агальматолитовый», затем вычеркнул «га» и мягкий знак и, наконец, сделал помету под строкой, восстанавливающую вычеркнутые буквы. Очевидно, этот корректурный знак остался незамеченным при перепечатке текста, что привело к увековечиванию ошибки.