Прощай, Гульсары! бесплатное чтение
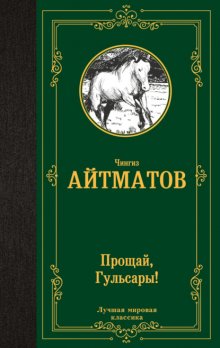
Серия «Лучшая мировая классика»
Серийное оформление и дизайн обложки В. Воронина
© Ч. Т. Айтматов, наследники, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023
Джамиля
Вот опять стою я перед этой небольшой картиной в простенькой рамке. Завтра с утра мне надо ехать в аил, и я смотрю на картину долго и пристально, словно она может дать мне доброе напутствие.
Эту картину я еще никогда не выставлял на выставках. Больше того, когда приезжают ко мне из аила родственники, я стараюсь запрятать ее подальше. В ней нет ничего стыдного, но это далеко не образец искусства. Она проста, как проста земля, изображенная на ней.
В глубине картины – край осеннего поблекшего неба. Ветер гонит над далекой горной грядой быстрые пегие тучки. На первом плане – красно-бурая полынная степь. И дорога черная, еще не просохшая после недавних дождей. Теснятся у обочины сухие, обломанные кусты чия. Вдоль размытой колеи тянутся следы двух путников. Чем дальше, тем слабее проступают они на дороге, а сами путники, кажется, сделают еще шаг – и уйдут за рамку. Один из них… Впрочем, я забегаю немного вперед.
Это было в пору моей ранней юности. Шел третий год войны. На далеких фронтах, где-то под Курском и Орлом, бились наши отцы и братья, а мы, тогда еще подростки лет по пятнадцати, работали в колхозе. Тяжелый повседневный крестьянский труд лег на наши неокрепшие плечи. Особенно жарко приходилось нам в дни жатвы. По целым неделям не бывали мы дома и дни и ночи пропадали в поле, на току или в пути на станцию, куда свозили зерно.
В один из таких знойных дней, когда серпы, казалось, раскалились от жатвы, я, возвращаясь на порожней бричке со станции, решил завернуть домой.
Возле самого брода, на пригорке, где кончается улица, стоят два двора, обнесенные добротным саманным дувалом. Вокруг усадьбы возвышаются тополя. Это наши дома. С давних пор живут по соседству две наши семьи. Я сам – из Большого дома. У меня два брата, оба они старше меня, оба холостые, оба ушли на фронт, и давно уже нет от них никаких вестей.
Отец мой, старый плотник, с рассветом совершал намаз и уходил на общий двор, в плотницкую. Возвращался он уже поздним вечером.
Дома оставались мать и сестренка.
В соседнем дворе, или, как называют его в аиле, в Малом доме, живут наши близкие родственники. Не то наши прадеды, не то наши прапрадеды были родными братьями, но я называю их близкими потому, что жили мы одной семьей. Так повелось у нас еще со времен кочевья, когда деды наши вместе разбивали стойбища, вместе гуртовали скот. Эту традицию сохранили и мы. Когда в аил пришла коллективизация, отцы наши построились по соседству. Да и не только мы, а вся Аральская улица, протянувшаяся вдоль аила в междуречье, – наши одноплеменники, все мы из одного рода.
Вскоре после коллективизации умер хозяин Малого дома. Жена его осталась с двумя малолетними сыновьями. По старому обычаю родового адата, которого тогда еще придерживались в аиле, нельзя выпускать на сторону вдову с сыновьями, и наши одноплеменники женили на ней моего отца. К этому его обязывал долг перед духами предков: ведь он доводился покойному самым близким родственником.
Так появилась у нас вторая семья. Малый дом считался самостоятельным хозяйством: со своей усадьбой, со своим скотом, но, по существу, мы жили вместе.
Малый дом тоже проводил в армию двух сыновей. Старший, Садык, ушел вскоре после того, как женился. От них мы получали письма, правда, с большими перерывами.
В Малом доме остались мать, которую я называл «кичи-апа» – младшей матерью, и ее невестка – жена Садыка. Обе они с утра до вечера работали в колхозе. Моя младшая мать, добрая, покладистая, безобидная женщина, в работе не отставала от молодых, будь то рытье арыков или поливы, – словом, прочно держала в руках кетмень. Судьба словно в награду послала ей работящую невестку. Джамиля была под стать матери – неутомимая, сноровистая, только вот характером немного иная.
Я горячо любил Джамилю. И она любила меня. Мы очень дружили, но не смели друг друга называть по имени. Будь мы из разных семей, я бы, конечно, звал ее Джамиля. Но я называл ее «джене», как жену старшего брата, а она меня «кичине бала» – маленьким мальчиком, хотя я вовсе не был маленьким и разница у нас в годах совсем невелика. Но так уж заведено в аилах: невестки называют младших братьев мужа «кичине бала» или «мой кайни».
Домашним хозяйством обоих дворов занималась моя мать. Помогала ей сестренка, смешная девочка с ниточками в косичках. Мне никогда не забыть, как усердно она работала в те трудные дни. Это она пасла за огородами ягнят и телят обоих дворов, это она собирала кизяк и хворост, чтобы всегда было в доме топливо, это она, моя курносая сестренка, скрашивала одиночество матери, отвлекая ее от мрачных дум о сыновьях, пропавших без вести.
Согласием и достатком в доме наше большое семейство обязано моей матери. Она полновластная хозяйка обоих дворов, хранительница семейного очага. Совсем молоденькой вошла она в семью наших дедов-кочевников и потом свято чтила их память, управляя семьями по всей справедливости. В аиле с ней считались как с самой почтенной, совестливой и умудренной опытом хозяйкой. Всем в доме ведала мать. Отца, по правде говоря, жители аила не признавали главой семьи. Не раз приходилось слышать, как люди по какому-либо поводу говорили: «Э-э, да ты лучше не иди к устаке, – так почтительно у нас называют мастеровых людей, – он только и знает, что свой топор. У них старшая мать всему голова – вот к ней и иди, так оно вернее будет…»
Надо сказать, что я, несмотря на свою молодость, частенько вмешивался в хозяйственные дела. Это было возможно только потому, что старшие братья ушли воевать. И меня чаще в шутку, а порой и серьезно называли джигитом двух семей, защитником и кормильцем. Я гордился этим, и чувство ответственности не покидало меня. К тому же мать поощряла мою самостоятельность. Ей хотелось, чтобы я был хозяйственным и смекалистым, а не таким, как отец, который день-деньской молча строгает и пилит.
Так вот, я остановил бричку возле дома в тени под вербой, ослабил постромки и, направляясь к воротам, увидел во дворе нашего бригадира Орозмата. Он сидел на лошади, как всегда, с подвязанным к седлу костылем. Рядом с ним стояла мать. Они о чем-то спорили. Подойдя ближе, я услышал голос матери:
– Не быть этому! Побойся бога, где это видано, чтобы женщина возила мешки на бричке? Нет, малый, оставь мою невестку в покое, пусть она работает, как работала. И так света белого не вижу, ну-ка, попробуй управься в двух дворах! Ладно еще дочка подросла… Уж неделю разогнуться не могу, поясницу ломит, словно кошму валяла, а кукуруза вон томится – воды ждет! – запальчиво говорила она, то и дело засовывая конец тюрбана за ворот платья. Она делала это обычно, когда сердилась.
– Ну что вы за человек! – проговорил в отчаянье Орозмат, покачнувшись в седле. – Да если бы у меня нога была, а не вот этот обрубок, разве стал бы я вас просить? Да лучше бы я сам, как бывало, накидал мешки в бричку и погнал лошадей!.. Не женская это работа, знаю, да где взять мужчин-то?.. Вот и решили солдаток упросить. Вы своей невестке запрещаете, а нас начальство последними словами кроет… Солдатам хлеб нужен, а мы план срываем. Как же так, куда это годится?
Я подходил к ним, волоча по земле кнут, и, когда бригадир заметил меня, он необычайно обрадовался – видно, его осенила какая-то мысль.
– Ну, если вы так уж боитесь за свою невестку, то вот ее кайни, – с радостью указал он на меня, – никому не позволит близко к ней подойти. Уж можете не сомневаться! Сеит у нас молодец. Эти вот ребятки – кормильцы наши, только они и выручают…
Мать не дала бригадиру договорить.
– Ой, да на кого же ты похож, бродяга ты мой! – запричитала она. – А голова-то, зарос весь… Отец-то наш тоже хорош, побрить голову сыну никак не найдет времени…
– Ну вот и ладно, пусть сынок побалуется сегодня у стариков, голову побреет, – ловко подхватил Орозмат в тон матери. – Сеит, оставайся сегодня дома, лошадей подкорми, а завтра с утра дадим Джамиле бричку: будете вместе работать. Смотри у меня, отвечать будешь за нее. Да вы не тревожьтесь, байбиче, Сеит не даст ее в обиду. И если уж на то пошло, отправлю с ними Данияра. Вы ж его знаете: безобидный такой малый… ну, тот, что недавно с фронта вернулся. Вот и будут втроем на станцию зерно возить. Кто же посмеет тогда тронуть вашу невестку? Верно ведь, Сеит? Ты как думаешь, – вот хотим Джамилю возницей поставить, да мать не соглашается, уговори ты ее.
Мне польстила похвала бригадира и то, что он советуется со мной, как со взрослым человеком. К тому же я сразу представил себе, как будет хорошо вместе с Джамилей ездить на станцию. И, сделав серьезное лицо, я сказал матери:
– Ничего ей не сделается. Что, ее волки съедят, что ли?
И, как завзятый ездовой, деловито сплюнув сквозь зубы, я поволок за собой кнут, степенно покачивая плечами.
– Ишь ты! – изумилась мать и вроде бы обрадовалась, но тут же сердито прикрикнула: – Я вот тебе покажу волков. Тебе-то откуда знать, умник какой нашелся!
– А кому же знать, как не ему, он у вас джигит двух семейств, гордиться можете! – вступился за меня Орозмат, опасливо поглядывая на мать: как бы она опять не заупрямилась.
Но мать не возразила ему, только как-то сразу поникла и проговорила, тяжело вздохнув:
– Какой уж там джигит, дитя еще, да и то день и ночь пропадает на работе… Джигиты-то наши ненаглядные бог знает где! Опустели наши дворы, точно брошенное стойбище…
Я уже отошел далеко и не расслышал, что еще говорила мать. На ходу хлестнул кнутом угол дома так, что пыль пошла, и, не ответив даже на улыбку сестренки, которая, прихлопывая ладошками, лепила во дворе кизяки, важно прошел под навес. Тут я присел на корточки и не спеша вымыл руки, поливая себе из кувшина. Войдя затем в комнату, я выпил чашку кислого молока, а вторую отнес на подоконник и принялся крошить туда хлеб.
Мать и Орозмат все еще были во дворе. Только они уже не спорили, а вели спокойный негромкий разговор. Должно быть, они говорили о моих братьях. Мать то и дело вытирала припухшие глаза рукавом платья и, задумчиво кивая головой в ответ на слова Орозмата, который, видно, утешал ее, смотрела затуманенным взором куда-то далеко-далеко, поверх деревьев, будто надеялась увидеть там своих сыновей.
Поддавшись печали, мать, кажется, согласилась на предложение бригадира. А он, довольный, что добился своего, стегнул лошадь камчой и выехал со двора быстрой иноходью.
Ни мать, ни я не подозревали тогда, конечно, чем все это кончится.
Я нисколько не сомневался, что Джамиля управится с пароконной бричкой. Лошадей она знала, ведь Джамиля – дочь табунщика из горного аила Бакаир. Наш Садык тоже был табунщиком. Однажды весной на скачках он будто не сумел догнать Джамилю. Кто его знает, правда ли, но говорили, что после этого оскорбленный Садык похитил ее. Другие, впрочем, утверждали, что женились они по любви. Но как бы там ни было, а прожили они вместе всего четыре месяца. Потом началась война, и Садыка призвали в армию.
Не знаю, чем объяснить, может, оттого, что Джамиля с детства гоняла с отцом табуны, – она у него была одна, и за дочь и за сына, – но в характере у нее проявлялись какие-то мужские черты, что-то резкое, а порой даже грубоватое. И работала Джамиля напористо, с мужской хваткой. С соседками ладить умела, но, если ее понапрасну задевали, никому не уступала в ругани, и бывали случаи, что и за волосы кое-кого таскала.
Соседи не раз приходили жаловаться:
– Что это у вас за невестка такая? Без году неделя, как переступила порог, а языком так и молотит! Ни тебе уважения, ни тебе стыдливости!
– Вот и хорошо, что она такая! – отвечала на это мать. – Невестка у нас любит правду в глаза говорить. Это лучше, чем скрытничать да исподтишка жалить. Ваши тихонями прикидываются, а такие вот тихони – что протухшие яйца: снаружи чисто и гладко, а внутри – нос заткни.
Отец и младшая мать никогда не обходились с Джамилей с той строгостью и придирчивостью, как это положено свекру и свекрови. Относились они к ней по-доброму, любили ее и желали только одного – чтобы она была верна Богу и мужу.
Я понимал их. Проводив в армию четырех сыновей, они находили утешение в Джамиле, единственной невестке двух дворов, и потому так дорожили ею. Но я не понимал своей матери. Не такой она человек, чтобы просто любить кого-нибудь. У моей матери властный и суровый характер. Она жила по своим правилам и никогда не изменяла им. Каждый год с приходом весны она ставила во дворе и окуривала можжевельником нашу кочевую юрту, которую отец сладил еще в молодости. Она и нас воспитала в строгом трудолюбии и почтении к старшим. Она требовала от всех членов семьи беспрекословного подчинения.
А вот Джамиля с первых же дней, как пришла к нам, оказалась не такой, какой положено быть невестке. Правда, она уважала старших, слушалась их, но никогда не склоняла перед ними голову, зато и не язвила шепотком, отвернувшись в сторону, как другие молодухи. Она всегда прямо говорила то, что думала, и не боялась высказывать свои суждения. Мать часто поддерживала ее, соглашалась с ней, но всегда решающее слово оставляла за собой.
Мне кажется, что мать видела в Джамиле, в ее прямодушии и справедливости, равного себе человека и втайне мечтала когда-нибудь поставить ее на свое место, сделать ее такой же властной хозяйкой, такой же байбиче, хранительницей семейного очага.
– Благодари Аллаха, дочь моя, – поучала мать Джамилю, – ты пришла в крепкий благословенный дом. Это – твое счастье. Женское счастье – детей рожать да чтобы в доме достаток был. А у тебя, слава богу, останется все, что нажили мы, старики, – в могилу ведь с собой не возьмем. Только счастье – оно живет у того, кто честь и совесть свою бережет. Помни об этом, соблюдай себя!..
Но кое-что в Джамиле все-таки смущало свекровей: уж слишком откровенно была она весела, точно дитя малое. Порой, казалось бы, совсем беспричинно начинала смеяться, да еще так громко, радостно. А когда возвращалась с работы, то не входила, а вбегала во двор, перепрыгивая через арык. И ни с того ни с сего принималась целовать и обнимать то одну свекровь, то другую.
А еще любила Джамиля петь, она постоянно напевала что-нибудь, не стесняясь старших. Все это, конечно, не вязалось с устоявшимися в аиле представлениями о поведении невестки в семье, но обе свекрови успокаивали себя тем, что со временем Джамиля остепенится: ведь в молодости все, мол, они такие. А для меня лучше Джамили никого не было на свете. Нам было вместе очень весело, мы могли хохотать без всякой причины и гоняться друг за другом по двору.
Джамиля была хороша собой. Стройная, статная, с прямыми жесткими волосами, заплетенными в две тугие, тяжелые косы, она ловко повязывала свою белую косынку, чуть наискосок спуская ее на лоб, и это очень шло ей и красиво оттеняло смуглую кожу гладкого лица. Когда Джамиля смеялась, ее иссиня-черные миндалевидные глаза вспыхивали молодым задором, а когда она вдруг начинала петь соленые аильные песенки, в ее красивых глазах появлялся не девичий блеск.
Я часто замечал, что джигиты, в особенности фронтовики, вернувшиеся домой, заглядывались на нее. Джамиля и сама любила пошутить, но, правда, давала по рукам тем, кто забывался. И все-таки это всегда задевало меня. Я ревновал ее, как ревнуют младшие братья своих сестер, и если замечал возле Джамили молодых людей, то старался хоть чем-нибудь помешать им. Я пыжился и смотрел на них с такой злостью, что как бы говорил своим видом: «Вы не больно тут гогочите. Она жена моего брата, и не думайте, что некому вступиться за нее!»
В такие минуты я с нарочитой развязностью, к месту и не к месту, встревал в разговор, пытался высмеять ее ухажеров, а когда из этого ничего не получалось, терял самообладание и, набычившись, сопел.
Парни прыскали со смеху.
– Ой, ты только погляди на него! Да никак она его джене! Вот потеха-то, а мы и не знали!
Я крепился, но чувствовал, как предательски загорались у меня уши и от обиды слезы навертывались на глаза. А Джамиля, моя джене, понимала меня. Едва сдерживая рвущийся наружу смех, она делала серьезное лицо.
– А вы думали, что джене на дороге валяются? – приосанившись, говорила она джигитам. – Может, у вас и валяются, а у нас нет! Пошли отсюда, кайни мой, ну вас! – И, красуясь перед ними, Джамиля гордо вскидывала голову, вызывающе поводила плечами и, уходя вместе со мной, молча улыбалась.
И досаду и радость видел я в этой улыбке. Может быть, она думала тогда: «Эх ты, глупенький! Если только захочу дать себе волю, кто меня удержит? Всей семьей следите – не уследите!» Я в таких случаях виновато молчал. Да, я ревновал Джамилю, боготворил ее, гордился тем, что она моя джене, гордился ее красотой и независимым, вольным характером. Мы с ней были самыми задушевными друзьями и ничего не таили друг от друга.
В те дни в аиле было мало мужчин. Пользуясь этим, некоторые парни вели себя с женщинами нагло и относились к ним пренебрежительно: чего, мол, с ними канителиться, только помани пальцем – любая побежит.
Однажды на сенокосе к Джамиле стал приставать Осмон, наш дальний родственник. Он тоже был из тех, которые считали, что перед ними ни одна не устоит. Джамиля неприязненно оттолкнула его руку и встала из-под стога, где она отдыхала в тени.
– Отстань! – проговорила она с болью и отвернулась. – Хотя чего от вас еще ждать, жеребцы вы табунные!
Осмон, развалившись под стогом, презрительно скривил мокрые губы.
– Для кошки то мясо вонючее, что высоко на шесте висит… Чего ломаешься, небось самой до смерти хочется, а тоже – нос воротишь.
Джамиля резко обернулась.
– Может, и хочется! Да только судьба нам выпала такая, а ты, дурак, смеешься. Сто лет буду солдаткой, а на таких, как ты, и плевать не захочу: противно. Посмотрела бы я, если бы не война, кто бы стал с тобой разговаривать!
– Вот я и говорю! Война – ты и бесишься без мужниной камчи! – Осмон ухмыльнулся. – Эх, была бы ты моей бабой, тогда бы ты не то запела.
Джамиля кинулась было к нему, хотела что-то сказать, но промолчала: поняла, что не стоит связываться. Она смотрела на него долгим ненавидящим взглядом. Потом, брезгливо сплюнув, подняла с земли вилы и зашагала прочь.
Я стоял на мажаре за скирдой. Увидев меня, Джамиля круто повернула в сторону. Она поняла, в каком я был состоянии. У меня было такое ощущение, что не ее, а меня оскорбили, что именно меня опозорили. С душевной болью я упрекал ее:
– Зачем ты связываешься с такими, зачем ты с ними разговариваешь?
До самого вечера Джамиля ходила, мрачно насупившись, ни словом не обмолвилась со мной и не смеялась, как прежде. Когда я подгонял к ней мажару, Джамиля, чтобы не дать мне заговорить о той страшной обиде, которую она таила в себе, с размаху втыкала вилы в копну и, разом приподняв ее всю, несла перед собой, пряча за ней лицо. Она скидывала сено рывком и тут же бросалась к другой копне. Мажара быстро наполнялась. Удаляясь, я оборачивался и видел, как она понуро стояла минутку-другую, опираясь на черенок вил, и о чем-то думала, а потом, спохватившись, снова бралась за работу.
Когда мы загрузили последнюю мажару, Джамиля, словно позабыв обо всем на свете, долго смотрела на закат. Там, за рекой, где-то на краю казахской степи, отверстием горящего тандыра[1] пламенело разомлевшее вечернее солнце косовицы. Оно медленно уплывало за горизонт, обагряя заревом рыхлые облачка на небе и бросая последние отсветы на лиловую степь, уже подернутую в низинах просинью ранних сумерек. Джамиля смотрела на закат с таким тихим восторгом, словно ей явилось сказочное видение. Лицо ее светилось нежностью, по-детски мягко улыбались ее полураскрытые губы. И тут Джамиля, точно отвечая на мои невысказанные упреки, которые все еще просились у меня с языка, повернулась и заговорила таким тоном, будто мы продолжали разговор:
– А ты не думай о нем, кичине бала, ну его! Разве это человек?.. – Джамиля умолкла, провожая взглядом угасающий край солнца, и, вздохнув, задумчиво продолжала: – Откуда им знать, таким, как Осмон, что у человека на душе? Никто этого не знает… Может, и нет таких мужчин на свете…
Пока я разворачивал лошадей, Джамиля уже успела подбежать к женщинам, что работали в стороне от нас, и до меня донеслись их громкие веселые голоса. Трудно сказать, что с ней произошло, может, просветлело у нее на душе, когда она глядела на закат, может, просто развеселилась оттого, что хорошо поработала. Я сидел на мажаре, на высокой копне сена, и смотрел на Джамилю. Она сорвала с головы свою белую косыночку и побежала за подружкой по скошенному лугу, широко раскинув руки. На ветру трепетал подол ее платья. И от меня тоже вдруг отлетела грусть: «Стоит ли думать о болтовне Осмона!»
– Но-о, пошли! – заспешил я, подхлестывая лошадей.
В тот день, как мне и наказывал бригадир, я решил дождаться отца, чтобы побрить голову, а тем временем принялся писать ответ на письмо Садыка. И тут у нас были свои правила: братья писали письма на имя отца, аильский почтальон вручал их матери, читать письма и отвечать на них было моей обязанностью. Еще не начав читать, я наперед знал, что писал Садык. Все его письма походили одно на другое, как ягнята в отаре. Садык постоянно начинал со слов «Послание о здравии» и затем неизменно сообщал: «Посылаю это письмо по почте моим родным, живущим в благоухающем, цветущем Таласе: премного любимому, дорогому отцу Джолчубаю…» Далее шла моя мать, затем его мать, а потом уже все мы в строгой очередности. После этого следовали непременные вопросы о здоровье и благополучии аксакалов рода, близких родственников, и только в самом конце, вроде бы второпях, Садык приписывал: «А также шлю привет моей жене Джамиле…»
Конечно, когда живы отец с матерью, когда здравствуют в аиле аксакалы и близкие родственники, называть жену первой, а тем более писать письма на ее имя просто неудобно, даже неприлично. Так считает не только Садык, но и каждый уважающий себя мужчина. Да тут и толковать нечего, так уж было заведено в аиле, и это не только не подлежало обсуждению, но мы просто над этим не задумывались, да и не до того было. Ведь каждое письмо – желанное, радостное событие.
Мать заставляла меня по нескольку раз перечитывать письмо, потом с набожным умилением брала его в свои потрескавшиеся руки и держала листок так неловко, словно птицу, которая вот-вот выпорхнет. С трудом шевеля негнущимися пальцами, она складывала наконец письмо в треугольник.
– А-а, дорогие мои, как талисман мы будем хранить ваши письма! – приговаривала она дрожащим от слез голосом. – Вот ведь справляется, как там отец, мать, родичи… Да куда мы денемся, мы-то ведь у себя в аиле. А каково-то вам? Хоть одно словечко черкните, жив, мол, я, и все – нам большего не надо…
Мать еще долго смотрела на треугольник, потом прятала его в кожаный мешочек, где хранились все письма, и запирала в сундук.
Если в это время Джамиля оказывалась дома, то и ей давали прочитать письмо. Каждый раз, когда она брала в руки треугольник, я замечал, как она вспыхивала. Она читала про себя, жадно, торопливо пробегая глазами по строчкам. Но чем ближе подходила к концу, тем ниже опускались ее плечи и огонь на щеках медленно угасал. Она хмурила свои упрямые брови и, не дочитав последних строк, возвращала письмо матери с таким холодным равнодушием, словно отдавала то, что брала в долг.
Мать, видно, по-своему понимала настроение невестки и старалась подбодрить ее.
– Ты что это? – говорила она, запирая сундук. – Вместо того чтобы радоваться, поникла вся! Или только у тебя одной муж в солдатах? Не ты одна в беде – горе народное, с народом и терпи. Думаешь, есть такие, что не скучают, что не тоскуют по мужьям по своим… Тоскуй, но виду не показывай, в себе таи!
Джамиля молчала. Но ее упрямый, тоскливый взгляд, кажется, говорил: «Ничего-то вы не понимаете, матушка!»
Письмо Садыка и на этот раз пришло из Саратова. Он лежал там в госпитале. Садык писал, что, Бог даст, осенью вернется домой по ранению. Об этом он сообщал и раньше, и мы все радовались скорой встрече с ним.
Я все-таки не остался в тот день дома, а поехал на ток. Там я ночевал обычно. Лошадей отвел на люцерник и спутал их. Председатель не разрешал пасти скот на люцерне, но, чтобы лошади у меня были справными, я нарушал запрет. Я знал одно укромное местечко в низине, к тому же ночью никто ничего не мог заметить, но в этот раз, когда я выпряг лошадей и повел их, оказалось, что кто-то уже пустил на люцерник четырех лошадей. Это меня возмутило. Ведь я был хозяином пароконной брички, что давало мне право возмущаться. Не раздумывая, я решил отогнать чужих лошадей куда-нибудь подальше, чтобы проучить наглеца, вторгшегося в мои владения. Но вдруг я узнал двух коней Данияра, того самого, о котором говорил днем бригадир. Вспомнив, что с завтрашнего дня мы будем вместе с Данияром возить зерно на станцию, я оставил его лошадей в покое и вернулся на ток.
Данияр, оказывается, был здесь. Он только что кончил смазывать колеса своей брички и сейчас подкручивал гайки на осях.
– Данике, это твои лошади в низине? – спросил я.
Данияр медленно повернул голову.
– Две мои.
– А другая пара?
– Это, как ее, Джамили, что ли, это ее лошади. Она тебе кем доводится? Джене твоя?
– Да, джене.
– Бригадир сам их тут оставил, приказал присмотреть…
Как хорошо, что я не отогнал лошадей!
Наступила ночь, улегся вечерний ветерок, дувший с гор. На току тоже утихло. Данияр расположился возле меня под скирдой соломы, но спустя немного времени поднялся и пошел к реке. Он остановился неподалеку, над обрывом, да так и остался стоять, заложив руки за спину и чуть склонив на плечо голову. Он стоял спиной ко мне. Его длинная, угловатая фигура, словно вытесанная топором, резко выделялась в мягком лунном свете. Казалось, он чутко прислушивался к шуму реки, все отчетливей нарастающему ночью на перекатах. А может, он прислушивался еще к каким-то неуловимым для меня звукам и шорохам ночи. «Опять он задумал ночевать у реки, вот чудак!» – усмехнулся я.
Данияр недавно появился в нашем аиле. Как-то на сенокос прибежал мальчишка и говорит, что в аил пришел раненый солдат, а кто и чей, он не знает. Ох, что тут было! Ведь в аиле-то как: вернется кто-нибудь из фронтовиков, так все до едина, и старые и малые, гуртом бегут поглядеть на прибывшего, за ручку поздороваться, расспросить, не видал ли близких, послушать новости. Тут крик поднялся невообразимый, каждый гадал: может, наш брат вернулся, а может, сват? Ну и помчались косари узнать, в чем дело.
Оказывается, Данияр был коренным нашим земляком, уроженцем аила. Рассказывали, что в детстве он остался сиротой, года три мыкался по дворам, а потом подался к казахам в Чакмакскую степь – родственники по материнской линии у него казахи. Близких родных не было, чтобы вернуть мальчонку назад, так и позабыли о нем. Когда его спрашивали, как жилось ему после ухода из дому, Данияр отвечал уклончиво. И все-таки можно было понять, что он с лихвой хлебнул горюшка, вдоволь познал сиротскую долю. Жизнь гоняла Данияра, как перекати-поле, по разным краям. Он долгое время пас овец на чакмакских солончаках, а когда подрос, рыл каналы в пустынях, работал в новых хлопкосовхозах, потом – на Ангренских шахтах под Ташкентом, а оттуда ушел в армию.
Возвращение Данияра в родной аил народ встретил с одобрением. «Сколько ни мотало его по чужим краям, а вернулся – значит, суждено пить воду из родного арыка. И ведь не забыл своего языка, на казахский чуть сбивается, а так говорит чисто!»
«Тулпар[2] за тридевять земель отыщет свой косяк. Кому не дорога своя родина, свой народ! Молодец, что вернулся. И мы довольны и духи твоих предков. Вот, Бог даст, добьем германа, заживем мирно, и ты, как и другие, обзаведешься семьей, и у тебя взовьется свой дымок над очагом!» – говорили старые аксакалы.
Припомнив предков Данияра, они точно установили, из какого он рода. Так появился в нашем аиле «новый родич» – Данияр.
И вот бригадир Орозмат привел к нам на сенокос высокого сутуловатого солдата, прихрамывающего на левую ногу. Перекинув шинель через плечо, он порывисто шагал, стараясь не отставать от семенящей иноходью приземистой кобыленки Орозмата. А сам бригадир рядом с длинным Данияром своим небольшим росточком и подвижностью чем-то напоминал беспокойного речного кулика. Ребята даже рассмеялись.
Раненая нога Данияра, тогда еще не совсем зажившая, не сгибалась в коленке, потому в косари он не годился, и его назначили к нам, ребятам, на сенокосилки. Скажу по чести, не очень-то он нам понравился. Прежде всего не пришлась нам по душе его замкнутость. Говорил Данияр мало, а если и говорил, то чувствовалось, что думает он в это время о чем-то другом, постороннем, что у него какие-то свои мысли, и не поймешь, видит он тебя или не видит, хотя и глядит прямо тебе в лицо своими задумчиво-мечтательными глазами.
– Бедный парень, видать, все еще не может опомниться после фронта! – говорили про него.
Но что интересно – при такой вот постоянной задумчивости Данияр работал быстро, точно, и со стороны можно было подумать, что он общительный и открытый человек. Может быть, трудное сиротское детство приучило его скрывать свои чувства и мысли, выработало в нем такую сдержанность? Возможно, и так.
Тонкие губы Данияра с твердыми морщинками по углам всегда были плотно сомкнуты, глаза смотрели печально, спокойно, и только гибкие, подвижные брови оживляли его худощавое, всегда усталое лицо. Иногда он настораживался, словно услышал что-то недоступное другим, и тогда взлетали у него брови и глаза загорались непонятным восторгом. А потом он долго улыбался и радовался чему-то. Нам все это казалось странным. Да и не только это, у него были и другие странности. Вечером мы выпрягали лошадей, собирались у шалаша и ждали, когда кухарка сварит еду, а Данияр взбирался на караульную сопку[3] и просиживал там дотемна.
– Что он там делает, на дозор поставлен, что ли? – смеялись мы.
Однажды и я ради любопытства полез за Данияром на сопку. Казалось бы, ничего особенного здесь не было. Широко простиралась окрест предгорная степь, погруженная в сиреневые сумерки. Темные, смутные поля, казалось, медленно растворялись в тишине.
Данияр даже не обратил внимания на мой приход; он сидел, обхватив колено, и смотрел куда-то перед собой задумчивым, но светлым взглядом. И опять мне показалось, что он напряженно вслушивается в какие-то не доходящие до моего слуха звуки. Порой он настораживался и замирал с широко раскрытыми глазами. Его что-то томило, и мне думалось, что вот сейчас он встанет и распахнет свою душу, только не передо мной – меня он не замечал, – а перед чем-то огромным, необъятным, неведомым мне. А потом я глянул и не узнал его: понуро и вяло сидел Данияр, будто просто отдыхал после работы.
Сенокосы нашего колхоза разбросаны по угодьям в пойме реки Куркуреу. Недалеко от нас Куркуреу вырывается из ущелья и несется по долине необузданным, бешеным потоком. Пора косовицы – это пора половодья горных рек. С вечера начинала прибывать вода, замутненная, пенистая. В полночь я просыпался в шалаше от могучего содрогания реки. Синяя, отстоявшаяся ночь заглядывала звездами в шалаш, порывами налетал холодный ветер, спала земля, и только ревущая река, казалось, угрожающе надвигалась на нас. Хотя мы находились и не у самого берега, ночью вода была так близко ощутима, что невольно нападал страх: а вдруг снесет, вдруг смоет шалаш? Товарищи мои спали непробудным сном косарей, а я не мог уснуть и выходил наружу.
Красива и страшна ночь в поймище Куркуреу. Там и здесь темнеют на лугу стреноженные лошади. Они напаслись вдоволь на росистой траве и сейчас, изредка пофыркивая, чутко дремлют. А рядом, сгибая исхлестанный мокрый тальник, набегая на берег, глухо перекатывает камни Куркуреу. Неистовым, грозным шумом наполняет ночь неумолчная река. Жуть берет. Страшно.
В такие ночи я всегда вспоминал о Данияре. Он обычно ночевал в копнах у самого берега. Неужели ему не страшно? Как только он не глохнет от шума реки? Спит он или нет? Почему он ночует один у реки? Что он находит в этом? Странный человек, не от мира сего. Где же он сейчас? Смотрю по сторонам – никого не видать. Пологими холмами уходят вдаль берега, в темноте проступают гребни гор. Там, в верховьях, тихо и звездно.
Казалось бы, пора было уже Данияру завести в аиле друзей. Но он по-прежнему оставался одиноким, словно ему было чуждо понятие дружбы или вражды, симпатии или зависти. А ведь в аиле тот джигит на виду, который может постоять за себя и за других, кто способен сделать добро, а порой и зло причинить, кто, не уступая аксакалам, распоряжается на пиршествах и поминках, – такие и у женщин на примете.
А если человек, подобно Данияру, держится в стороне, не вмешиваясь в повседневные дела аила, то одни его просто не замечают, а другие снисходительно говорят:
– Никому от него ни вреда, ни пользы. Живет, бедняга, перебивается кое-как, ну и ладно…
Такой человек, как правило, является предметом насмешек или жалости. А мы, подростки, которым всегда хотелось казаться старше своего возраста, чтобы быть на равной ноге с истинными джигитами, если не прямо в лицо, то между собой постоянно смеялись над Данияром. Мы смеялись даже над тем, что он сам стирал свою гимнастерку в реке. Выстирает – и еще не просохшую наденет: она у него была одна.
Но странное дело – казалось бы, тихий и безобидный был Данияр, а мы так и не решались обходиться с ним запанибрата. И не потому, что он был старше нас, – подумаешь, три или четыре года разницы, с такими мы не церемонились и называли их на «ты», – и не потому, что он был суров или важничал, что подчас внушает подобие уважения, нет, что-то недоступное таилось в его молчаливой, угрюмой задумчивости, и это сдерживало нас, готовых поднять на смех кого угодно.
Возможно, поводом для нашей сдержанности послужил один случай. Я был очень любопытным малым и нередко надоедал людям своими вопросами, а расспрашивать фронтовиков о войне было моей настоящей страстью. Когда Данияр появился у нас на сенокосе, я все искал подходящий случай выведать что-нибудь у нового фронтовика.
Вот сидели мы как-то вечером после работы у костра, поели и спокойно отдыхали.
– Данике, расскажи что-нибудь о войне, пока спать не легли, – попросил я.
Данияр сперва промолчал и вроде бы даже обиделся. Он долго смотрел на огонь, потом поднял голову и глянул на нас.
– О войне, говоришь? – спросил он и, будто отвечая на свои собственные раздумья, глухо добавил: – Нет, лучше вам не знать о войне!
Потом он повернулся, взял охапку сухого бурьяна и, подбросив ее в костер, принялся раздувать огонь, не глядя ни на кого из нас.
Больше Данияр ничего не сказал. Но даже из этой короткой фразы, которую он произнес, стало понятно, что нельзя вот так просто говорить о войне, что из этого не получится сказка на сон грядущий. Война кровью запеклась в глубине человеческого сердца, и рассказывать о ней нелегко. Мне было стыдно перед самим собой. И я никогда уже не спрашивал у Данияра о войне.
Однако тот вечер быстро забылся, так же как быстро пропал в аиле интерес к самому Данияру. Его нелюдимость и замкнутость вызвали у людей равнодушие или просто чувство жалости.
– Бездомный, несчастный малый, – говорили о нем. – Хорошо еще, кормится в колхозе, а то в пору с сумой пойти… Тихий он, безобидный, точно овца!
Постепенно люди свыклись со странным характером Данияра, а потом вообще перестали замечать его. Пожалуй, так оно и должно было быть: если человек ничем не проявляет себя, то о нем постепенно забывают.
На другой день рано утром мы с Данияром привели лошадей на ток, а к тому времени и Джамиля пришла. Еще издали, увидев нас, она крикнула:
– Ой, кичине бала, а ну, веди моих коней сюда! А где мои хомуты? – И, будто всю жизнь была ездовым, принялась с деловым видом осматривать брички, пробуя толчками ноги, хорошо ли подогнаны колесные втулки.
Когда мы с Данияром подъехали, вид наш показался ей потешным. Длинные худые ноги Данияра болтались в готовых вот-вот соскочить кирзовых сапогах с широченными голенищами. А я понукал лошадь босыми, задубелыми до черноты пятками.
– Ну и пара! – Джамиля весело вскинула голову. И, не мешкая, начала командовать нами: – Поживей давайте, чтоб до жары степь проехать!
Она схватила коней под уздцы, уверенно подвела их к бричке и принялась запрягать. И ведь сама запрягала, только один раз попросила меня показать, как налаживать вожжи. Данияра она не замечала, будто его и вовсе не было рядом.
Решительность и даже вызывающая самоуверенность Джамили, видно, поразили Данияра. Недружелюбно, но в то же время со скрытым восхищением он смотрел на нее, отчужденно сомкнув губы. Когда он молча поднял с весов мешок с зерном и поднес его к бричке, Джамиля накинулась на него:
– Это что же, каждый так и будет сам по себе тужиться? Нет, друг, так не пойдет, а ну, давай сюда руку! Эй, кичине бала, что ты смотришь, лезь на бричку, укладывай мешки!
Джамиля сама схватила руку Данияра, и, когда они вместе, на сомкнутых руках, подхватили мешок, он, бедняга, покраснел от смущения. И потом каждый раз, когда они подносили мешки, крепко сжимая друг другу руки, а головы их почти соприкасались, я видел, как мучительно неловко Данияру, как напряженно он кусает губы, как старается не глядеть в лицо Джамиле. А Джамиле хоть бы что, она, казалось, и не замечала своего напарника, перекидываясь шутками с весовщицей. Потом, когда брички были нагружены и мы взяли вожжи в руки, Джамиля, лукаво подмигнув, сказала сквозь смех:
– Эй ты, как тебя, Данияр, что ли? Ты же мужчина с виду, давай первым открывай путь!
Данияр опять молча рванул бричку с места. «Ох ты, горемыка, какой же ты ко всему еще и стыдливый!» – подумал я.
Путь нам предстоял дальний: километров двадцать по степи, потом через ущелье к станции. Одно было хорошо: как выедешь – и до самого места дорога все время идет под гору, лошади не в тягость.
Наш аил Куркуреу раскинулся по берегу реки, на склоне Великих гор, и тянется до самых Черных гор. Пока не въедешь в ущелье, аил с его темнеющими купами деревьев всегда на виду.
За день мы успевали сделать только один рейс. Мы выезжали утром, а приезжали на станцию после полудня.
Солнце немилосердно палило, а на станции толчея, не пробьешься: брички, мажары с мешками, съехавшиеся со всей долины, навьюченные ишаки и волы из дальних горных колхозов. Пригнали их мальчишки и солдатки, черные, в выгоревших одеждах, с разбитыми о камни босыми ногами и в кровь потрескавшимися от жары и пыли губами.
На воротах «Заготзерна» висело полотнище: «Каждый колос хлеба – фронту!» Во дворе – сутолока, толкотня, крики погонщиков. Рядом, за низеньким дувалом, маневрирует паровоз и, выбрасывая тугие клубы горячего пара, дышит угарным шлаком. Мимо с оглушительным ревом проносятся поезда. Раздирая слюнявые пасти, злобно и отчаянно орут верблюды, не желая подниматься с земли.
На приемном пункте под железной накаленной крышей горы зерна. Мешки надо нести по дощатому трапу наверх, под самую крышу. Густая хлебная духота, пыль спирают дыхание.
– Эй ты, парень, смотри у меня! – орет внизу приемщик с красными от бессонницы глазами. – Наверх тащи, на самый верх! – Он грозит кулаком и разражается бранью.
Ну чего он ругается? Ведь мы и так знаем, куда тащить, и дотащим. Ведь несем мы этот хлеб на своих плечах с самого поля, где по зернышку выращивали и собирали его женщины, старики и дети, где и сейчас, в горячую страдную пору, комбайнер бьется у истерзанного, давно отслужившего свой век комбайна, где спины женщин вечно согнуты над раскаленными серпами, где маленькие ребячьи руки бережно собирают каждый оброненный колос.
Я и сейчас еще помню, как тяжелы были мешки, которые я носил на плечах. Такая работа под стать самым крепким мужчинам. Я шел наверх, балансируя по скрипучим, прогибающимся доскам трапа, намертво закусив зубами край мешка, чтобы только удержать его, не выпустить. В горле першило от пыли, на ребра давила тяжесть, перед глазами стояли огненные круги. И сколько раз, ослабев на полпути, чувствуя, как неумолимо сползает со спины мешок, мне хотелось бросить его и вместе с ним скатиться вниз. Но сзади идут люди. Они тоже с мешками, они мои ровесники, такие же юнцы или солдатки, у которых такие же дети, как я. Если бы не война, разве позволили бы им таскать такие тяжести? Нет, я не имел права отступать, когда такую же работу выполняли женщины.
Вон Джамиля идет впереди, подоткнув платье выше колен, и я вижу, как напрягаются крутые мускулы на ее смуглых красивых ногах, вижу, с каким усилием держит она свое гибкое тело, пружинисто сгибаясь под мешком. Иногда только приостанавливается Джамиля, словно чувствуя, что я слабею с каждым шагом.
– Крепись, кичине бала, немного осталось!
А у самой голос незвонкий, придушенный.
Когда мы, высыпав зерно, возвращались назад, навстречу нам попадался Данияр. Он шел по трапу, чуть прихрамывая, сильным мерным шагом, как всегда одинокий и молчаливый. Поравнявшись с нами, Данияр окидывал Джамилю мрачным, жгучим взглядом, а она, разгибая натруженную спину, оправляла измятое платье. Он так глядел на нее каждый раз, словно видел впервые, а Джамиля продолжала не замечать его.
Да, так уж повелось: Джамиля или смеялась над ним, или вовсе не обращала на него внимания. Это зависело от ее настроения. Вот едем мы по дороге, вдруг вздумается ей, и она крикнет мне: «Айда, пошли!» И, гикая и крутя над головой кнут, погонит лошадей вскачь. Я за ней. Мы обгоняли Данияра, оставляя его в густых облаках долго не оседающей пыли. Хотя это делалось в шутку, но не каждый бы стал такое терпеть. А вот Данияр, казалось, не обижался. Мы проносились мимо, а он с угрюмым восхищением смотрел на хохочущую Джамилю, стоявшую на бричке. Я оборачивался. Данияр смотрел на нее даже сквозь пыль. И было что-то доброе, всепрощающее в его взгляде, но еще я угадывал в нем упрямую, затаенную тоску.
Как насмешки, так и полное равнодушие Джамили ни разу не вывели из себя Данияра. Он словно бы дал клятву – сносить все. Вначале мне было его жалко, и я несколько раз говорил Джамиле:
– Ну зачем ты смеешься над ним, джене, ведь он такой безобидный!
– А ну его! – смеялась Джамиля и махала рукой. – Я ведь так просто, в шутку, ничего с этим бирюком не случится!
А потом и я стал подшучивать и подсмеиваться над Данияром не хуже самой Джамили. Меня начали беспокоить его странные, упорные взгляды. Как он смотрел на нее, когда она взваливала себе мешок на плечи! Да и, право, в этом гомоне, толкотне, в этой базарной сутолоке двора, среди мятущихся, охрипших людей Джамиля бросалась в глаза своими уверенными, точными движениями, легкой походкой, словно бы все это происходило на просторе.
И нельзя было не заглядеться на нее. Чтобы взять с борта брички мешок, Джамиля вытягивалась, изгибаясь, подставляла плечо и закидывала голову так, что обнажалась ее красивая шея и бурые от солнца косы почти касались земли. Данияр, как бы между делом, приостанавливался, а потом провожал ее взглядом до самых дверей. Наверно, он думал, что делает это незаметно, но я все примечал, и мне это начинало не нравиться и даже вроде бы оскорбляло мои чувства: ведь уж Данияра-то я никак не мог считать достойным Джамили.
«Подумать только, даже он заглядывается, а что же говорить о других!» – возмущалось все мое существо. И детский эгоизм, от которого я еще не освободился, разгорался жгучей ревностью. Ведь дети всегда ревнуют своих близких к чужим. И вместо жалости к Данияру я испытывал теперь к нему чувство такой неприязни, что злорадствовал, когда над ним смеялись.
Однако наши проделки с Джамилей окончились однажды весьма печально. Среди мешков, в которых мы возили зерно, был один огромный, на семь пудов, сшитый из шерстяного рядна. Обычно мы вдвоем управлялись с ним, одному это не под силу. И вот как-то на току мы решили подшутить над Данияром. Мы свалили этот огромный мешок в его бричку, а сверху завалили его другими. По пути мы с Джамилей забежали в русском селе в чей-то сад, нарвали яблок и всю дорогу смеялись: Джамиля кидала яблоками в Данияра. А потом мы, как обычно, обогнали его, подняв тучу пыли. Нагнал он нас за ущельем, у железнодорожного переезда: путь был закрыт. Отсюда мы уже вместе прибыли на станцию, и как-то получилось, что мы совершенно забыли об этом семипудовом мешке и вспомнили о нем, когда уже кончали разгрузку. Джамиля озорно толкнула меня в бок и кивнула в сторону Данияра. Он стоял на бричке, озабоченно рассматривая мешок, и, видно, обдумывал, как с ним быть. Потом огляделся по сторонам и, заметив, как Джамиля подавилась смешком, густо покраснел: он понял, в чем дело.
– Штаны подтяни, а то потеряешь на полдороге! – крикнула Джамиля.
Данияр метнул в нашу сторону злой взгляд, и не успели мы одуматься, как он передвинул мешок по дну брички, поставил его на ребро борта, спрыгнул, придерживая мешок одной рукой, и, взвалив его на спину, пошел. Сначала мы сделали вид, будто ничего особенного в этом нет. А другие и подавно ничего не заметили – идет человек с мешком, так ведь все идут. Но когда Данияр подходил к трапу, Джамиля догнала его.
– Брось мешок, я же пошутила!
– Уйди! – раздельно сказал он и пошел по трапу.
– Смотри, тащит! – вроде бы оправдываясь, проговорила Джамиля.
Она все еще тихонько посмеивалась, но смех ее становился каким-то неестественным, словно она вынуждала себя смеяться.
Мы заметили, что Данияр стал сильнее припадать на раненую ногу. Как же мы не подумали об этом раньше? До сих пор не могу простить себе этой дурацкой шутки, ведь это я, глупец, такое выдумал!
– Вернись! – вскрикнула Джамиля сквозь невеселый смех.
Но вернуться Данияр уже не мог: позади него шли люди.
Я толком не помню, что было дальше. Я видел Данияра, согнувшегося под большущим мешком, его низко склоненную голову и прикушенную губу. Он шел медленно, осторожно занося раненую ногу. Каждый новый шаг, видно, причинял ему такую боль, что он дергал головой и на секунду замирал. И чем выше он взбирался по трапу, тем сильнее качался из стороны в сторону. Его раскачивал мешок. И мне до того было страшно и стыдно, что даже в горле пересохло. Оцепенев от ужаса, я всем своим существом ощущал тяжесть его груза и нестерпимую боль в его раненой ноге. Вот опять его качнуло, он мотнул головой, и в глазах у меня все закачалось, потемнело, земля поплыла из-под ног.
Я очнулся от оцепенения, когда вдруг кто-то сильно, до ломоты в костях, сжал мою руку. Я не сразу узнал Джамилю. Белая-белая, с огромными зрачками в широко раскрытых глазах, а губы все еще вздрагивают от недавнего смеха. Тут уже не только мы, а все, кто был, и приемщик тоже, сбежались к подножию трапа. Данияр сделал еще два шага, хотел поправить на спине мешок – и начал медленно опускаться на колено. Джамиля закрыла лицо руками.
– Бросай! Бросай мешок! – крикнула она.
Но Данияр почему-то не бросал мешок, хотя давно можно было свалить его боком с трапа в сторону, чтобы он не сбил идущих сзади. Услышав голос Джамили, он рванулся, выпрямил ногу, сделал еще шаг, и снова его замотало.
– Да бросай же ты, собачий сын! – заорал приемщик.
– Бросай! – закричали люди.
Данияр и на этот раз выстоял.
– Нет, он не бросит! – убежденно прошептал кто-то.
И, кажется, все – и те, что шли следом по трапу, и те, что стояли внизу, – поняли: не бросит он мешок, если только сам не свалится вместе с ним. Наступила мертвая тишина. За стеной, снаружи, отрывисто свистнул паровоз.
А Данияр, покачиваясь, как оглушенный, шел вверх под раскаленной железной крышей, прогибая доски трапа. Через каждые два шага он приостанавливался, теряя равновесие, и, снова собрав силы, шел дальше. Те, что шли сзади, старались подладиться к нему и тоже приостанавливались. Это выматывало людей, они выбивались из сил, но никто не возмутился, никто не обругал его. Будто связанные невидимой веревкой, люди шли со своей ношей, как по опасной, скользкой тропе, где жизнь одного зависит от жизни другого. В их согласном безмолвии и однообразном покачивании был единый тяжелый ритм. Шаг, еще шаг за Данияром, и еще шаг. С каким состраданием и мольбой, стиснув зубы, смотрела на него солдатка, что шла за ним следом! У нее у самой заплетались ноги, но она молилась о нем.
Уже осталось немного, скоро кончится наклонная часть трапа. Но Данияр опять зашатался, раненая нога уже не подчинялась ему. Он того гляди сорвется, если не выпустит мешок.
– Беги! Поддержи сзади! – крикнула мне Джамиля, а сама растерянно протянула руки, будто могла этим помочь Данияру.
Я бросился вверх по трапу. Протискиваясь между людьми и мешками, я добежал до Данияра. Он глянул на меня из-под локтя. На потемневшем мокром лбу его вздулись жилы, налитые кровью глаза обожгли меня гневом. Я хотел поддержать мешок.
– Уйди! – грозно прохрипел Данияр и двинулся вперед.
Когда Данияр, тяжело дыша и прихрамывая, сошел вниз, руки у него висели как плети. Все молча расступились перед ним, а приемщик не выдержал и закричал:
– Ты что, парень, сдурел? Разве я не человек, разве я не разрешил бы тебе высыпать внизу? Зачем ты таскаешь такие мешки?
– Это мое дело, – негромко ответил Данияр.
Он сплюнул в сторону и пошел к бричке. А мы не смели поднять глаза. Стыдно было, и зло брало, что Данияр так близко к сердцу принял нашу дурацкую шутку.
Всю ночь мы ехали молча. Для Данияра это было естественно. Поэтому мы не могли понять, обижен он на нас или уже забыл обо всем. Но нам было тяжело, совесть мучила.
Утром, когда мы грузились на току, Джамиля взяла этот злополучный мешок, наступила ногой на край и разодрала его с треском.
– На́ свою дерюгу! – Она швырнула мешок к ногам удивленной весовщицы. – И скажи бригадиру, чтоб второй раз не подсовывал таких!
– Да ты что? Что с тобой?
– А ничего!
Весь следующий день Данияр ничем не проявлял своей обиды, держался ровно и молчаливо, только прихрамывал больше обычного, особенно когда носил мешки. Видно, крепко разбередил вчера рану. И это все время напоминало нам о нашей вине перед ним. А все-таки, если бы он засмеялся или пошутил, стало бы легче – на том и забылась бы наша размолвка.
Джамиля тоже старалась делать вид, что ничего особенного не произошло. Гордая, она хоть и смеялась, но я видел, что весь день ей было не по себе.
Мы поздно возвращались со станции. Данияр ехал впереди. А ночь выдалась великолепная. Кто не знает августовских ночей с их далекими и в то же время близкими, необыкновенно яркими звездами! Каждая звездочка на виду. Вон одна из них, будто заиндевевшая по краям, вся в мерцании ледяных лучиков, с наивным удивлением смотрит на землю с темного неба. Мы ехали по ущелью, и я долго глядел на нее. Лошади в охотку рысили к дому, под колесами поскрипывала щебенка. Ветер доносил из степи горькую пыльцу цветущей полыни, едва уловимый аромат остывающего спелого жита, и все это, смешиваясь с запахом дегтя и потной конской сбруи, слегка кружило голову.
С одной стороны над дорогой нависли поросшие шиповником затененные скалы, а с другой – далеко внизу, в зарослях тальника и диких топольков, бурунилась неугомонная Куркуреу. Изредка где-то позади со сквозным грохотом пролетали через мост поезда и, удаляясь, долго уносили за собой перестук колес.
Хорошо было ехать по прохладе, смотреть на колышущиеся спины лошадей, слушать августовскую ночь, вдыхать ее запахи. Джамиля ехала впереди меня. Бросив вожжи, она смотрела по сторонам и что-то тихонько напевала. Я понимал: ее тяготило наше молчание. В такую ночь невозможно молчать, в такую ночь хочется петь!
И она запела. Запела, быть может, еще и потому, что хотела как-то вернуть прежнюю непосредственность в наших отношениях с Данияром, хотела отогнать чувство своей вины перед ним. Голос у нее был звонкий, задорный, и пела она обыкновенные аильные песенки, вроде: «Шелковым платочком помашу тебе» или «В дальней дороге милый мой». Знала она много песенок и пела их просто и задушевно, так что слушать ее было приятно. Но вдруг она оборвала песню и крикнула Данияру:
– Эй ты, Данияр, спел бы хоть что-нибудь! Джигит ты или кто?
– Пой, Джамиля, пой! – смущенно отозвался Данияр, попридержав лошадей. – Я слушаю тебя, оба уха навострил!
– А ты думаешь, у нас, что ли, ушей нет! Подумаешь, не хочешь – не надо! – И Джамиля снова запела.
Кто знает, зачем она просила его петь! Может, просто так, а может, хотела вызвать его на разговор. Скорее всего ей хотелось поговорить с ним, потому что спустя немного времени она снова крикнула:
– А скажи, Данияр, ты любил когда-нибудь? – и засмеялась.
Данияр ничего не ответил. Джамиля тоже умолкла.
«Нашла кого просить петь!» – усмехнулся я.
У речушки, пересекавшей дорогу, лошади, цокая подковами по мокрым серебристым камням, замедлили ход. Когда мы миновали брод, Данияр подстегнул коней и неожиданно запел скованным, прыгающим на выбоинах голосом:
- Горы мои, сине-белые горы,
- Земля моих дедов, моих отцов!
Он вдруг запнулся, закашлялся, но уже следующие две строчки вывел глубоким, грудным голосом, правда, чуть с хрипотцой:
- Горы мои, сине-белые горы,
- Колыбель моя…
Тут он снова осекся, будто испугался чего-то, и замолчал.
Я живо представил себе, как он смутился. Но даже в этом робком, прерывистом пении было что-то необыкновенно взволнованное, и голос, должно быть, у него был хороший, просто не верилось, что это Данияр.
– Ты смотри! – не удержался я.
А Джамиля даже воскликнула:
– Где же ты был раньше? А ну пой, пой как следует!
Впереди обозначился просвет – выход из ущелья в долину. Оттуда подул ветерок. Данияр снова запел. Начал он так же робко, неуверенно, но постепенно голос его набрал силу, заполнил собой ущелье, отозвался эхом в далеких скалах.
Больше всего меня поразило, какой страстью, каким горением была насыщена сама мелодия. Я не знал, как это назвать, да и сейчас не знаю, вернее, не могу определить: только ли это голос или еще что-то более важное, что исходит из самой души человека, что-то такое, что способно вызвать у другого такое же волнение, способно оживить самые сокровенные думы.
Если бы я только мог хоть в какой-то мере воспроизвести песню Данияра! В ней почти не было слов, без слов раскрывала она большую человеческую душу. Ни до этого, ни после – никогда я не слышал такой песни: она не походила ни на киргизские, ни на казахские напевы, но в ней было и то и другое. Музыка Данияра вобрала в себя все самые лучшие мелодии двух родных народов и по-своему сплела их в единую неповторимую песню. Это была песня гор и степей, то звонко взлетающая, как горы киргизские, то раздольно стелющаяся, как степь казахская.
Я слушал и диву давался: «Так вот он, оказывается, какой, Данияр! Кто бы мог подумать!»
Мы уже ехали степью по мягкой, наезженной дороге, и напев Данияра теперь разворачивался вширь, новые и новые мелодии с удивительной гибкостью сменяли одна другую. Неужели он так богат? Что с ним произошло? Словно он только и ждал своего дня, своего часа!
И мне вдруг стали понятны его странности, которые вызывали у людей и недоумение и насмешки, – его мечтательность, любовь к одиночеству, его молчаливость. Я понял теперь, почему он просиживал целые вечера на караульной сопке и почему оставался один на ночь у реки, почему он постоянно прислушивался к неуловимым для других звукам и почему иногда вдруг загорались у него глаза и взлетали обычно настороженные брови. Это был человек глубоко влюбленный. И влюблен он был, почувствовал я, не просто в другого человека; это была какая-то другая, огромная любовь – к жизни, к земле. Да, он хранил эту любовь в себе, в своей музыке, он жил ею. Равнодушный человек не мог бы так петь, каким бы он ни обладал голосом.
Когда, казалось, угас последний отзвук песни, ее новый трепетный порыв словно пробудил дремлющую степь. И она благодарно слушала певца, обласканная родным ей напевом. Широким плесом колыхались спелые сизые хлеба, ждущие жатвы, и предутренние блики перебегали по полю. Могучая толпа старых верб на мельнице шелестела листвой, за речкой догорали костры полевых станов, и кто-то, как тень, бесшумно скакал по-над берегом, в сторону аила, то исчезая в садах, то появляясь опять. Ветер доносил оттуда запах яблок, молочно-парной медок цветущей кукурузы и теплый дух подсыхающих кизяков.
Долго, самозабвенно пел Данияр. Притихнув, слушала его зачарованная августовская ночь. И даже лошади давно уже перешли на мерный шаг, будто боялись нарушить это чудо.
И вдруг на самой высокой, звенящей ноте Данияр оборвал песню и, гикнув, погнал лошадей вскачь.
Я думал, что и Джамиля устремится за ним, и тоже приготовился, но она не шелохнулась. Как сидела, склонив голову на плечо, так и осталась сидеть, будто все еще прислушивалась к витающим где-то в воздухе звукам. Данияр уехал, а мы до самого аила не проронили ни слова. Да и надо ли было говорить? Ведь словами не всегда и не все выскажешь…
С этого дня в нашей жизни, казалось, что-то изменилось. Я теперь постоянно ждал чего-то хорошего, желанного. С утра мы грузились на току, прибывали на станцию, и нам не терпелось побыстрее выехать отсюда, чтобы на обратном пути слушать песни Данияра. Его голос вселился в меня, он преследовал меня на каждом шагу: с ним по утрам я бежал через мокрый, росистый люцерник к стреноженным лошадям, а солнце, смеясь, выкатывалось из-за гор навстречу мне. Я слышал его голос и в мягком шелесте золотистого дождя пшеницы, подкинутой на ветер стариками веяльщиками, и в плавном, кружащем полете одинокого коршуна в степной выси, – во всем, что видел я и слышал, мне чудилась музыка Данияра.
А вечером, когда мы ехали по ущелью, мне каждый раз казалось, что я переношусь в иной мир. Я слушал Данияра, прикрыв глаза, и передо мной вставали удивительно знакомые, родные с детства картины: то проплывало в журавлиной выси над юртами весеннее кочевье нежных, дымчато-голубых облаков; то проносились по гудящей земле с топотом и ржанием табуны на летние выпасы, и молодые жеребцы с нестрижеными челками и черным диким огнем в глазах гордо и ошалело обегали на ходу своих маток; то спокойной лавой разворачивались по пригоркам отары овец; то срывался со скалы водопад, ослепляя глаза белизной всклокоченной кипени; то в степи за рекой мягко опускалось в заросли чия солнце, и одинокий далекий всадник на огнистой кайме горизонта, казалось, скакал за ним – ему рукой подать до солнца – и тоже тонул в зарослях и сумерках.
Широка за рекой казахская степь. Раздвинула она по обе стороны наши горы и лежит суровая, безлюдная…
Но в то памятное лето, когда грянула война, загорелись огни по степи, затуманили ее горячей пылью табуны строевых коней, поскакали гонцы во все стороны. И помню, как с того берега кричал скачущий казах гортанным пастушьим голосом:
– Садись, киргизы, в седла: враг пришел! – и мчался дальше в вихрях и волнах знойного марева.
Всех подняла на ноги степь, и в торжественно-суровом гуле двинулись с гор и по долинам наши первые конные полки. Звенели тысячи стремян, глядели в степь тысячи джигитов, впереди на древках колыхались красные знамена, позади, за копытной пылью, бился о землю скорбно-величественный плач жен и матерей: «Да поможет вам степь, да поможет вам дух нашего богатыря Манаса!»
Там, где шел на войну народ, оставались горькие тропы…
И весь этот мир земной красоты и тревог раскрывал передо мной Данияр в своей песне. Где он этому научился, от кого он все это слышал? Я понимал, что так мог любить свою землю только тот, кто всем сердцем тосковал по ней долгие годы, кто выстрадал эту любовь. Когда он пел, я видел и его самого, маленького мальчика, скитающегося по степным дорогам. Может, тогда и родились у него в душе песни о родине? А может, тогда, когда он шагал по огненным верстам войны?
Слушая Данияра, я хотел припасть к земле и крепко, по-сыновьи, обнять ее только за то, что человек может так ее любить. Я впервые почувствовал тогда, как проснулось во мне что-то новое, чего я еще не умел назвать, но это было что-то неодолимое, это была потребность выразить себя, да, выразить, не только самому видеть и ощущать мир, но и донести до других свое ви́дение, свои думы и ощущения, рассказать людям о красоте нашей земли так же вдохновенно, как умел это делать Данияр. Я замирал от безотчетного страха и радости перед чем-то неизвестным. Но я тогда еще не понимал, что мне нужно взять в руки кисть.
Я любил рисовать с детства. Я срисовывал картинки с учебников, и ребята говорили, что у меня получается «точь-в-точь». Учителя в школе тоже хвалили меня, когда я приносил рисунки в нашу стенгазету. Но потом началась война, братья ушли в армию, а я бросил школу и пошел работать в колхоз, как и все мои сверстники. Я забыл про краски и кисти и не думал, что когда-нибудь вспомню про них. Но песни Данияра всполошили мою душу. Я ходил, точно во сне, и смотрел на мир изумленными глазами, будто видел все впервые.
А как изменилась вдруг Джамиля! Словно и не было той бойкой, языкастой хохотушки. Весенняя светлая грусть застилала ее притушенные глаза. В дороге она постоянно о чем-то упорно думала. Смутная, мечтательная улыбка блуждала на ее губах, она тихо радовалась чему-то хорошему, о чем знала только она одна. Бывало, взвалит мешок на плечи, да так и стоит, охваченная непонятной робостью, точно перед ней бурный поток и она не знает, идти ей или не идти. Данияра она сторонилась, не смотрела ему в глаза.
Однажды на току Джамиля сказала ему с бессильной, вымученной досадой:
– Снял бы ты, что ли, свою гимнастерку. Давай постираю!
И потом, выстирав в реке гимнастерку, она разложила ее сушить, а сама села подле и долго старательно разглаживала ее ладонями, рассматривала на солнце проношенные плечи, покачивала головой и снова принималась разглаживать, тихо и грустно.
Только один раз за это время Джамиля громко, заразительно смеялась, и у нее, как прежде, сияли глаза. На ток шумной гурьбой завернули мимоходом со скирдовки люцерны молодые женщины, девушки и джигиты – бывшие фронтовики.
– Эй, баи, не вам одним пшеничный хлеб есть, угощайте, а не то в реку покидаем! – И джигиты шутя выставили вилы.
– Нас вилами не запугаешь! Подружек своих найду чем угостить, а вы сами промышляйте! – звонко отозвалась Джамиля.
– Раз так, всех вас в воду!
И тут схватились девушки и парни. С криком, визгом, смехом они толкали друг друга в воду.
– Хватай их, тащи! – громче всех смеялась Джамиля, быстро и ловко увертываясь от нападающих.
Но странное дело: джигиты точно и видели только одну Джамилю. Каждый старался схватить ее, прижать к себе. Вот трое парней разом обхватили ее и занесли над берегом.
– Целуй, а нет – бросим!
– Давай раскачивай!
Джамиля изворачивалась, хохотала, запрокинув голову, и сквозь смех звала на помощь подруг. Но те суматошно шагали по берегу, вылавливая в реке свои косынки. Под дружный хохот джигитов Джамиля полетела в воду. Она вышла оттуда с растрепанными мокрыми волосами, но даже еще красивее, чем была. Мокрое ситцевое платье прилипло к телу, облегая округлые сильные бедра, девичью грудь, а она, ничего не замечая, смеялась, покачиваясь, и по ее разгоряченному лицу стекали веселые ручейки.
– Целуй! – приставали джигиты.
Джамиля целовала их, но снова летела в воду и снова смеялась, откидывая кивком головы мокрые тяжелые пряди волос.
Над затеей молодых все на току смеялись. Старики веяльщики, побросав лопаты, вытирали слезы, морщины на их бурых лицах лучились радостью и ожившей на миг молодостью. И я смеялся от души, забыв на этот раз о своем ревностном долге оберегать Джамилю от джигитов.
Не смеялся один Данияр. Я случайно заметил его и умолк. Он одиноко стоял на краю гумна, широко расставив ноги. Мне показалось, что он сорвется сейчас, побежит и выхватит Джамилю из рук джигитов. Он смотрел на нее, не отрываясь, грустным, восхищенным взглядом, в котором сквозила и радость и боль. Да, и счастье и горе его были в красоте Джамили. Когда джигиты прижимали ее к себе, заставляя целовать каждого, он опускал голову, делал движение, чтобы уйти, но не уходил.
Между тем и Джамиля заметила его. Она сразу оборвала смех и потупилась.
– Побаловались, и хватит! – неожиданно осадила она разошедшихся джигитов.
Кто-то еще попытался обнять ее.
– Отстань! – Джамиля отпихнула парня, вскинула голову, мельком бросила виноватый взгляд в сторону Данияра и побежала в кусты выжимать платье.
Мне не все еще было ясно в их отношениях, да я, признаться, и боялся думать об этом. Но почему-то мне было не по себе, когда я замечал, что Джамиля становится грустной оттого, что сама же сторонится Данияра. Лучше бы уж она по-прежнему смеялась и подшучивала над ним. Но в то же время меня охватывала необъяснимая радость за них, когда мы возвращались по ночам в аил и слушали пение Данияра.
По ущелью Джамиля ехала на бричке, а в степи слезала и шла пешком. Я тоже шел пешком, так лучше – идти по дороге и слушать. Сперва мы шли каждый около своей брички, но шаг за шагом, сами не замечая того, все ближе и ближе подходили к Данияру. Какая-то неведомая сила влекла нас к нему, хотелось разглядеть в темноте выражение его лица и глаз – неужели это он поет, нелюдимый, угрюмый Данияр!
И каждый раз я замечал, как Джамиля, потрясенная и растроганная, медленно тянула к нему руку, но он не видел этого, он смотрел куда-то вверх, далеко, подперев затылок ладонью, и покачивался из стороны в сторону, а рука Джамили безвольно опускалась на грядку брички. Тут она вздрагивала, резко отдергивала руку и останавливалась. Она стояла посреди дороги понурая, ошеломленная, долго-долго смотрела ему вслед, потом снова шла.
Порой мне казалось, что мы с Джамилей встревожены каким-то одним, одинаково непонятным чувством. Может быть, это чувство было давно запрятано в наших душах, а теперь пришел его день?
В работе Джамиля еще забывалась, но в те редкие минуты нашего отдыха, когда мы задерживались на току, она не находила себе места. Она слонялась возле веяльщиков, бралась им помогать, высоко и сильно вскидывала на ветер несколько лопат пшеницы, потом вдруг бросала лопату и уходила прочь к скирдам соломы. Здесь она садилась в холодке и, точно боясь одиночества, звала меня:
– Иди сюда, кичине бала, посидим!
Я всегда ждал, что она скажет мне что-то важное, объяснит, что тревожит ее. Но она ничего не говорила. Молча клала она мою голову к себе на колени, глядя куда-то вдаль, ерошила мои колючие волосы и нежно гладила меня по лицу дрожащими горячими пальцами. Я смотрел на нее снизу вверх, на это лицо, полное смутной тревоги и тоски, и, казалось, узнавал в ней себя. Ее тоже что-то томило, что-то копилось и созревало в ее душе, требуя выхода. И она страшилась этого. Она мучительно хотела и в то же время мучительно не хотела признаться себе, что влюблена, так же как и я желал и не желал, чтобы она любила Данияра. Ведь в конце-то концов она невестка моих родителей, она жена моего брата.
Но такие мысли лишь на мгновение пронизывали меня. Я гнал их прочь. Для меня тогда истинным наслаждением было видеть по-детски приоткрытые, чуткие губы, видеть ее глаза, затуманенные слезами. Как хороша, как красива она была, каким светлым одухотворением и страстью дышало ее лицо! Тогда я только видел все это, но не все понимал. Да и теперь я часто задаю себе вопрос: может быть, любовь – это такое же вдохновение, как вдохновение художника, поэта? Глядя на Джамилю, мне хотелось убежать в степь и криком кричать, вопрошая землю и небо, что же мне делать, как мне побороть в себе эту непонятную тревогу и эту непонятную радость. И однажды я, кажется, нашел ответ.
Мы, как обычно, ехали со станции. Уже опускалась ночь, кучками роились звезды в небе, степь клонило ко сну, и только песня Данияра, нарушая тишину, звенела и угасала в мягкой темной дали. Мы с Джамилей шли за ним.
Но что случилось в этот раз с Данияром – в его напеве было столько нежной, проникновенной тоски и одиночества, что слезы к горлу подкатывали от сочувствия и сострадания к нему.
Джамиля шла, склонив голову, и крепко держалась за грядку брички. И когда голос Данияра начал снова набирать высоту, Джамиля вскинула голову, прыгнула на ходу в бричку и села рядом с ним. Она сидела окаменевшая, сложив на груди руки. Я шел рядом, забегая чуть вперед, и смотрел на них сбоку. Данияр пел, казалось, не замечая возле себя Джамили. Я увидел, как ее руки расслабленно опустились и она, прильнув к Данияру, легонько прислонила голову к его плечу. Лишь на мгновение, как перебой подстегнутого иноходца, дрогнул его голос – и зазвучал с новой силой. Он пел о любви!
Я был потрясен. Степь будто расцвела, всколыхнулась, раздвинула тьму, и я увидел в этой широкой степи двух влюбленных. А они и не замечали меня, словно меня и не было здесь. Я шел и смотрел, как они, позабыв обо всем на свете, вместе покачивались в такт песне. И я не узнавал их. Это был все тот же Данияр, в своей расстегнутой, потрепанной солдатской гимнастерке, но глаза его, казалось, горели в темноте. Это была моя Джамиля, прильнувшая к нему, такая тихая и робкая, с поблескивающими на ресницах слезами. Это были новые, невиданно счастливые люди. Разве это не было счастьем? Ведь всю свою огромную любовь к родной земле, которая рождала в нем эту вдохновенную музыку, Данияр целиком отдал ей, он пел для нее, он пел о ней.
Мной опять овладело то самое непонятное волнение, которое всегда приходило с песнями Данияра. И вдруг мне стало ясно, чего я хочу. Я хочу нарисовать их.
Я испугался собственных мыслей. Но желание было сильнее страха. Я нарисую их такими вот, счастливыми! Да, вот такими, какие они сейчас! Но смогу ли я? Дух захватывало от страха и радости. Я шел в сладко-пьяном забытьи. Я тоже был счастлив, потому что не знал еще, сколько трудностей доставит мне в будущем это дерзкое желание. Я говорил себе, что надо видеть землю так, как видит ее Данияр, я красками расскажу песню Данияра, у меня тоже будут горы, степь, люди, травы, облака, реки. Я даже подумал тогда: «А где же я возьму краски? В школе не дадут – им самим нужны!» Будто все дело только и заключалось в этом.
Песня Данияра неожиданно оборвалась. Это Джамиля порывисто обняла его, но тут же отпрянула, замерла на мгновение, рванулась в сторону и спрыгнула с брички. Данияр нерешительно потянул вожжи, лошади остановились. Джамиля стояла на дороге, повернувшись к нему спиной, потом резко вскинула голову, глянула на него вполоборота и, едва сдерживая слезы, проговорила:
– Ну что ты смотришь? – и, помолчав, сурово добавила: – Не смотри на меня, езжай! – И пошла к своей бричке. – А ты чего уставился? – накинулась она на меня. – Садись, бери свои вожжи! Эх, горе мне с вами!
«Что это она вдруг?» – недоумевал я, погоняя лошадей. А догадаться-то ничего не стоило; нелегко ей было, ведь у нее законный муж, живой, где-то в саратовском госпитале. Но мне решительно не хотелось ни о чем думать. Я сердился на нее и на себя и, быть может, возненавидел бы Джамилю, если бы знал, что Данияр больше не будет петь, что мне уже никогда не доведется услышать его голос.
Смертельная усталость ломила тело, хотелось быстрее добраться до места и повалиться на солому. Колыхались в темноте спины рысивших лошадей, невыносимо тряслась бричка, вожжи выскальзывали из рук.
На току я кое-как стянул хомуты, бросил их под бричку и, добравшись до соломы, упал. Данияр в этот раз сам отогнал лошадей пастись.
Но утром я проснулся с ощущением радости в душе. Я буду рисовать Джамилю и Данияра. Я зажмурил глаза и очень точно представил себе Данияра и Джамилю такими, какими я их изображу. Казалось, бери кисть и краски и рисуй.
Я побежал к реке, умылся и бросился к стреноженным лошадям. Мокрая холодная люцерна сочно стегала по босым ногам, щипало потрескавшиеся, в цыпках ступни, но мне было хорошо. Я бежал и отмечал на ходу, что делалось вокруг. Солнце тянулось из-за гор, а к солнцу тянулся подсолнух, что случайно вырос над арыком. Жадно обступили его белоголовые горчаки, но он не сдавался, ловил, перехватывал у них своими желтыми язычками утренние лучи, поил тугую, плотную корзинку семян. А вот развороченный колесами переезд через арык, вода сочится по колеям. А вот сиреневый островок вымахавшей по пояс пахучей мяты. Я бегу по родимой земле, над моей головой носятся наперегонки ласточки. Эх, были бы краски, чтобы нарисовать и утреннее солнце, и бело-синие горы, и росистую люцерну, и этот подсолнух-дичок, что вырос у арыка!
Когда я вернулся на ток, мое радужное настроение сразу омрачилось. Я увидел хмурую, осунувшуюся Джа-милю. Она, наверно, не спала в эту ночь, темные тени залегли у нее под глазами. Мне она не улыбнулась и не заговорила со мной. Но когда появился бригадир Орозмат, Джамиля подошла к нему и, не поздоровавшись, сказала:
– Забирайте свою бричку! Посылайте, куда угодно, а на станцию ездить не буду!
– Ты чего это, Джамалтай, овод тебя укусил, что ли? – добродушно удивился Орозмат.
– Овод у телят под хвостом! А меня не допытывайте! Сказала – не хочу, и все тут!
Улыбка исчезла с лица Орозмата.
– Хочешь не хочешь, а возить зерно будешь! – Он стукнул костылем о землю. – Если обидел кто, скажи – костыль на его шее обломаю! А нет – не дури: хлеб солдатский возишь, у самой муж там! – И, круто повернувшись, он запрыгал на своем костыле.
Джамиля смутилась, зарделась вся и, глянув в сторону Данияра, тихонько вздохнула. Данияр стоял чуть поодаль, спиной к ней, и рывками стягивал супонь на хомуте. Он слышал весь разговор. Джамиля постояла еще немного, теребя в руке кнут, потом отчаянно махнула рукой и пошла к своей бричке.
В этот день мы вернулись раньше обычного. Данияр всю дорогу гнал лошадей. Джамиля была мрачна и молчалива. А мне не верилось, что передо мной лежит выжженная, почерневшая степь. Ведь вчера она была совсем не такая. Будто в сказке я слышал о ней, и из головы не выходила перевернувшая мое сознание картина счастья. Казалось, я схватил какой-то самый яркий кусок жизни. Я представлял его себе во всех деталях, и только это волновало меня. И не успокоился я до тех пор, пока не выкрал у весовщицы плотный лист белой бумаги. Я забежал за скирды с колотящимся в груди сердцем и положил его на деревянную, гладко обструганную лопату, которую по пути стащил у веяльщиков.
– Благослови, Аллах! – прошептал я, как когда-то отец, впервые сажая меня на коня, и тронул карандашом бумагу. Это были первые неумелые штрихи. Но когда на листе обозначились черты Данияра, я забыл обо всем! Мне уже казалось, что на бумагу легла та августовская ночная степь, мне казалось, что я слышу песню Данияра и вижу его самого, с запрокинутой головой и обнаженной грудью, и вижу Джамилю, прильнувшую к его плечу. Это был мой первый самостоятельный рисунок: вот бричка, а вот они оба, вот вожжи, брошенные на передок, спины лошадей колышутся в темноте, а дальше степь, далекие звезды.
Я рисовал с таким упоением, что не замечал ничего вокруг, и очнулся, когда надо мной раздался чей-то голос:
– Ты что, оглох, что ли?
Это была Джамиля. Я растерялся, покраснел и не успел спрятать рисунок.
– Брички давно нагружены, целый час кричим не докричимся! Ты что тут делаешь?.. А это что? – спросила она и взяла рисунок. – Гм! – Джамиля сердито вздернула плечи.
Я готов был провалиться сквозь землю. Джамиля долго-долго рассматривала рисунок, потом подняла на меня опечаленные, повлажневшие глаза и тихо сказала:
– Отдай мне это, кичине бала… Я спрячу на память… – И, сложив лист вдвое, она сунула его за пазуху…
Мы уже выехали на дорогу, а я никак не мог прийти в себя. Как во сне все это произошло. Не верилось, что я нарисовал нечто похожее на то, что видел. Но где-то в глубине души уже поднималось наивное ликование, даже гордость, и мечты – одна другой дерзновеннее, одна другой заманчивее – кружили мне голову. Я уже хотел написать множество разных картин, но не карандашом, а красками. И я не обращал внимания на то, что мы ехали очень быстро. Это Данияр так гнал лошадей. Джамиля не отставала. Она глядела по сторонам, порой чему-то улыбалась, трогательно и виновато. И я улыбался: значит, она уже не сердится на нас с Данияром и если попросит, то Данияр споет сегодня…
На станцию мы приехали в этот раз намного раньше обычного, зато лошади были взмылены. Данияр с ходу начал таскать мешки. Куда он спешил и что с ним творилось, трудно было понять. Когда мимо проходили поезда, он останавливался и провожал их долгим, задумчивым взглядом. Джамиля тоже смотрела туда, куда и он, словно пыталась понять, что у него на уме.
– Подойди-ка сюда, подкова болтается, помоги оторвать, – позвала она Данияра.
Когда Данияр сорвал подкову с копыта, зажатого между колен, и распрямился, Джамиля негромко заговорила, глядя ему в глаза:
– Ты что – или не понимаешь?.. Или на свете только я одна?..
Данияр молча отвел глаза.
– Думаешь, мне легко? – вздохнула Джамиля.
Брови Данияра взлетели, он посмотрел на нее с любовью и грустью и что-то сказал, но так тихо, что я не расслышал, а потом быстро зашагал к своей бричке, даже довольный чем-то. Он шел и поглаживал подкову. Я глядел на него и недоумевал: чем могли утешить его слова Джамили? Какое уж тут утешение, если человек говорит с тяжелым вздохом: «Думаешь, мне легко?..»
Мы уже кончили разгрузку и собирались уезжать, когда во двор зашел раненый солдат, худой, в помятой шинели, с вещевым мешком за плечами. За несколько минут до этого на станции остановился поезд. Солдат огляделся по сторонам и крикнул:
– Кто тут из аила Куркуреу?
– Я из Куркуреу! – ответил я, раздумывая, кто бы это мог быть.
– А ты чей будешь, браток? – Солдат направился было ко мне, но тут он увидел Джамилю и удивленно и радостно заулыбался.
– Керим, это ты? – воскликнула Джамиля.
– Ой, Джамиля, сестрица! – Солдат бросился к ней и сжал обеими руками ее ладонь.
Оказывается, это был земляк Джамили.
– Вот кстати-то! Как знал, завернул сюда! – возбужденно говорил он. – Ведь я только от Садыка, вместе лежали в госпитале, Бог даст, и он через месяц-другой вернется. Когда прощались, сказал ему: напиши письмо жене, свезу… Вот оно, получай, в целости и сохранности. – И Керим протянул Джамиле треугольник.
Джамиля схватила письмо, вспыхнула, потом побелела и осторожно покосилась на Данияра. Он одиноко стоял возле брички, как тогда на гумне, широко расставив ноги, и глазами, полными отчаяния, смотрел на Джамилю.
Тут со всех сторон сбежались люди, сразу нашлись у солдата и знакомые, и родные, посыпались расспросы. А Джамиля не успела даже поблагодарить за письмо, как мимо нее прогрохотала данияровская бричка, вырвалась со двора и, подпрыгивая на выбоинах, запылила по дороге.
– Очумел он, что ли! – закричали ему вслед.
Солдата уже куда-то увели, а мы с Джамилей все еще стояли посреди двора и смотрели на удаляющиеся клубы пыли.
– Поедем, джене, – сказал я.
– Езжай, оставь меня одну! – с горечью ответила она.
Так, первый раз за все время, мы ехали порознь. Горячая духота обжигала высохшие губы. Потрескавшаяся, выжженная земля, раскаленная за день добела, казалось, сейчас остывала, покрываясь соленой сединой. И в таком же соленом белесом мареве колыхалось на закате зыбкое, бесформенное солнце. Там, над смутным горизонтом, собирались оранжево-красные буревые тучки. Порывами налетал суховей, белой накипью оседая на конских мордах, и, тяжело откидывая гривы, уносился прочь, вороша по пригоркам метелки полыни.
«К дождю, что ли?» – думал я.
Каким бесприютным почувствовал я себя, какая тревога охватила меня! Я подстегивал лошадей, норовивших все время перейти на шаг. Тревожно пробежали куда-то в балку длинноногие, сухопарые дрофы. На дорогу выносило пожухлые листья пустынных лопухов, таких у нас нет, их принесло откуда-то с казахской стороны. Закатилось солнце. Вокруг ни души. Только истомившаяся за день степь.
Когда я приехал на ток, было уже темно. Тишина, безветрие. Я кликнул Данияра.
– Он ушел к реке, – ответил сторож. – Духотища-то какая, все разошлись по домам. Без ветра на току и делать нечего!
Я отогнал лошадей пастись и решил завернуть к реке – я знал излюбленное место Данияра над обрывом.
Он сидел, ссутулившись, склонив голову на колени, и слушал ревущую под обрывом реку. Мне захотелось подойти, обнять его и сказать ему что-нибудь хорошее. Но что я мог ему сказать? Я постоял немного в сторонке и вернулся. А потом долго лежал на соломе, смотрел на темнеющее в тучах небо и думал: «Почему так непонятна и сложна жизнь?»
Джамиля все еще не возвращалась. Куда она запропастилась? Мне не спалось, хотя морила усталость. Далекие зарницы вспыхивали над горами, в глубине туч.
Когда пришел Данияр, я еще не спал. Он бесцельно бродил по току, то и дело поглядывая на дорогу. А потом повалился за скирдой на солому возле меня. Уйдет он куда-нибудь, не останется теперь в аиле. А куда ему идти? Одинокий, бездомный, кому он нужен? И уже сквозь сон я услышал медленное постукивание приближающейся брички. Кажется, приехала Джамиля…
Не помню, сколько я проспал, только вдруг у самого уха зашуршали по соломе чьи-то шаги, будто мокрое крыло легко задело меня по плечу. Я открыл глаза. Это была Джамиля. Она пришла с реки в прохладном, отжатом платье. Джамиля остановилась, беспокойно огляделась по сторонам и села возле Данияра.
– Данияр, я пришла, сама пришла, – тихо сказала она.
Вокруг стояла тишина, бесшумно скользнула вниз молния.
– Ты обиделся? Очень обиделся, да?
И опять тишина, только с мягким всплеском оборвалась в реку подмытая глыба земли.
– Разве я виновата? И ты не виноват…
Над горами вдали прогромыхал гром. Профиль Джамили осветила молния. Она оглянулась и припала к Данияру. Плечи ее судорожно вздрагивали под руками Данияра. Вытянувшись на соломе, она легла рядом с ним.
Запаленный ветер набежал из степи, вихрем закружил солому, ударился в пошатнувшуюся юрту, что стояла на краю гумна, и кособоко заюлил волчком по дороге. И снова заметались в тучах синие всполохи, с сухим треском переломился над головой гром. Жутко и радостно стало: надвигалась гроза, последняя летняя гроза.
– Неужели ты думал, что я променяю тебя на него? – горячо шептала Джамиля. – Да нет же, нет! Он никогда не любил меня. Даже поклон и то в самом конце письма приписывал. Не нужен мне он со своей запоздалой любовью, пусть говорят что угодно! Родимый мой, одинокий, не отдам тебя никому! Я давно любила тебя. И когда не знала – любила и ждала тебя, и ты пришел, будто знал, что я тебя жду!
Голубые молнии одна за другой, изламываясь, вонзались под обрыв в реку. Зашуршали по соломе косые студеные капли дождя.
– Джамилям, любимая, родная Джамалтай! – шептал Данияр, называя ее самыми нежными казахскими и киргизскими именами. – Я ведь тоже давно люблю тебя, я мечтал о тебе в окопах, я знал, что моя любовь на родине, это ты, моя Джамиля! Повернись, дай мне поглядеть тебе в глаза!
Гроза разразилась.
Забилась, хлопая крыльями, как подбитая птица, сорванная с юрты кошма. Бурными порывами, словно целуя землю, хлынул дождь, подстегнутый понизу ветром. Наискось, через все небо раскатывался могучими обвалами гром. Весенним палом тюльпанов зажигались на горах яркие вспышки зарниц. Гудел, неистовствовал в яру ветер.
Дождь лил, а я лежал, зарывшись в солому, и чувствовал, как бьется под рукой сердце. Я был счастлив. У меня было такое ощущение, будто я вышел впервые после болезни посмотреть на солнце. И дождь и свет молний достигали меня под соломой, но мне было хорошо, я засыпал, улыбаясь, и не понимал, то ли это шептались Данияр и Джамиля, то ли это шелестел по соломе стихающий дождь.
Теперь пойдут дожди, скоро осень. В воздухе уже настаивался по-осеннему влажный запах полыни и намокшей соломы. А что ожидало нас осенью? Об этом я почему-то не думал.
В ту осень, после двухлетнего перерыва, я снова пошел в школу. После уроков я частенько ходил к реке на кручу и сидел возле прежнего гумна, теперь заглохшего и опустевшего. Здесь я писал свои первые этюды ученическими красками. Даже по тогдашним моим понятиям, мне не все удавалось.
«Краски негодные! Вот были бы настоящие краски!» – говорил я себе, хотя и не представлял, какими же они должны быть.
Лишь значительно позднее мне довелось увидеть настоящие масляные краски в свинцовых тюбиках.
Краски красками, а все же учителя, кажется, были правы: этому надо учиться. Но об учебе не приходилось мечтать. Где там, когда от братьев так и не было никаких вестей, и мать ни за что не отпустила бы меня, своего единственного сына, «джигита и кормильца двух семей»! Об этом я и не смел заговорить. А осень, как назло, выдалась такая красивая, только пиши ее.
Обмелела студеная Куркуреу, обнаженные валуны на перекатах поросли темно-зеленым и оранжевым мхом. Краснел по ранним заморозкам голый нежный тальник, но топольки еще сберегли желтые плотные листья.
Прокопченные, омытые дождями юрты табунщиков чернели в поймище на порыжелой отаве, и над дымовыми отверстиями вились сизые пахучие струйки. По-осеннему голосисто ржали поджарые жеребцы – разбредались матки, и теперь уже до самой весны нелегко их будет удержать в косяках. Скот, вернувшийся с гор, гуртами бродил по стерне. Побуревшую сухостойную степь вдоль и поперек пересекли ископыченные тропы.
Вскоре задул степняк, помутилось небо, пошли холодные дожди – предвестники снега. Как-то выдался сносный день, и я пошел к реке – уж очень приглянулся мне на отмели огненный куст горной рябины. Сел я неподалеку от брода, в тальнике. Вечерело. И вдруг я увидел двух людей, которые, судя по всему, перешли реку вброд. Это были Данияр и Джамиля. Я не мог оторвать глаз от их суровых, тревожных лиц. С вещевым мешком за плечами Данияр шагал порывисто, полы распахнутой шинели хлестали по кирзовым голенищам его стоптанных сапог. Джамиля повязалась белым полушалком, сбитым сейчас на затылок, на ней было ее лучшее цветастое платье, в котором она любила щеголять по базару, а поверх него – вельветовый стеганый жакет. В одной руке она несла небольшой узелок, а другой держалась за лямку данияровского мешка. Они о чем-то переговаривались на ходу.
Вот они пошли тропой через лог по зарослям чия, а я смотрел им вслед и не знал, что делать. Может, окликнуть? Но язык точно присох к нёбу.
Последние багряные лучи скользнули по быстрой веренице пегих тучек вдоль гор, и сразу начало темнеть. А Данияр и Джамиля, не оглядываясь, уходили в сторону железнодорожного разъезда. Раза два еще мелькнули их головы в зарослях чия, а потом скрылись.
– Джамиля-а-а! – закричал я что было силы.
«А-а-а-а!» – бесприютно откликнулось эхо.
– Джамиля-а-а! – крикнул я еще раз и, не помня себя, бросился бежать за ними через реку, прямо по воде.
Тучи ледяных брызг летели мне в лицо, одежда намокла, а я бежал дальше, не разбирая пути, и вдруг со всего размаха упал на землю, обо что-то зацепившись. Я лежал, не поднимая головы, и слезы заливали мне лицо. Тьма будто навалилась мне на плечи. Тонко, тоскливо посвистывали гибкие стебли чия.
– Джамиля! Джамиля! – всхлипывал я, захлебываясь слезами.
Я расставался с самыми дорогими и близкими мне людьми. И только сейчас, лежа на земле, я вдруг понял, что любил Джамилю. Да, это была моя первая, еще детская любовь.
Долго лежал я, уткнувшись в мокрый локоть. Я расставался не только с Джамилей и Данияром – я расставался со своим детством.
Когда я прибрел впотьмах домой, во дворе был переполох, звенели стремена, кто-то седлал лошадей, а пьяный Осмон, гарцуя на коне, орал во всю глотку:
– Давно надо было гнать из аила эту приблудную собаку-полукровку! Срам, позор всему роду! Попадись он мне, убью на месте, пусть судят – не позволю, чтобы каждый бродяга уводил наших баб! Айда, садись, джигиты, никуда ему не уйти, догоним на станции!
Я похолодел: куда они поскачут? Но, убедившись, что погоня пошла по большой дороге на станцию, а не на разъезд, я незаметно прокрался в дом и завернулся с головой в отцовскую шубу, чтобы никто не видел моих слез.
Сколько разговоров и пересудов было в аиле! Женщины наперебой осуждали Джамилю.
– Дура она! Ушла из такой семьи, растоптала счастье свое!
– На что позарилась, спрашивается? Ведь у него добра только шинелишка да дырявые сапоги!
– Уж конечно, не полон двор скота! Безродный скиталец, бродяга – что на нем, то и его. Ничего, опомнится красотка, да поздно будет.
– Вот то-то и оно. А чем Садык не муж, чем не хозяин? Первый джигит в аиле!
– А свекровь? Такую свекровь не каждому Бог дает! Пойди сыщи еще такую байбиче! Погубила она себя, дура, ни за что ни про что!
Может быть, только я один не осуждал Джамилю, свою бывшую джене. Пусть на Данияре старая шинель и дырявые сапоги, но я-то ведь знал, что душой он богаче всех нас. Нет, не верилось мне, что Джамиля будет несчастна с ним. Только жалко мне было мать. Мне казалось, что вместе с Джамилей ушла ее былая сила. Она приуныла, осунулась и, как я теперь понимаю, никак не могла примириться с тем, что жизнь иной раз так круто ломает старые устои. Если могучее дерево выворотит буря, оно уже не поднимется. Раньше мать никого не просила вдеть ей нитку в иголку, гордость не позволяла. А вот вернулся я однажды из школы и вижу: дрожат руки у матери, не видит она ушка иголки и плачет.
– На, вдень нитку! – попросила она и тяжело вздохнула. – Пропадет Джамиля… Эх, какой хозяйкой была бы она в семье! Ушла… Отреклась… А зачем ушла? Или худо ей было у нас?..
Мне захотелось обнять, успокоить мать, рассказать ей, что за человек Данияр, но я не посмел, я бы на всю жизнь оскорбил ее.
И все-таки мое невинное участие в этой истории перестало быть тайной…
Вскоре вернулся Садык. Он, конечно, горевал, хотя и говорил по пьянке Осмону:
– Ушла – туда ей и дорога. Подохнет где-нибудь. А на наш век баб хватит. Даже золотоволосая баба не стоит самого что ни на есть никудышного парня.
– Это-то верно! – отвечал Осмон. – Только жаль, не попался он мне тогда, убил бы – и все тут. А ее за волосы да к конскому хвосту! Небось на юг подались, на хлопок, или по казахам пошли, ему-то не впервой бродяжничать! Только вот в толк не возьму, как все получилось, и знать никто не знал, да и подумать бы никто не мог. Это она все, подлая, сама устроила! Я б ее!..
Слушая такие речи, мне так и хотелось сказать Осмону: «Не можешь забыть, как она тебя отчитала на сенокосе. Подлая ты душонка!»
И вот сидел я как-то дома, рисовал что-то для школьной стенгазеты. Мать хлопотала у печи. Вдруг в комнату ворвался Садык. Бледный, со злобно прищуренными глазами, он кинулся ко мне и сунул мне под нос лист бумаги.
– Это ты рисовал?
Я оторопел. Это был мой первый рисунок. Живые Данияр и Джамиля глянули в тот миг на меня.
– Я.
– Это кто? – ткнул он пальцем в бумагу.
– Данияр.
– Изменник! – крикнул мне в лицо Садык.
Он разорвал рисунок на мелкие клочки и вышел, с треском хлопнув дверью.
После долгого гнетущего молчания мать спросила:
– Ты знал?
– Да, знал.
С каким укором и недоумением смотрела она на меня, прислонившись к печи. И когда я сказал: «Я еще раз их нарисую!» – она горестно и бессильно покачала головой.
А я смотрел на клочки бумаги, валявшиеся на полу, и нестерпимая обида душила меня. Пусть считают меня изменником. Кому я изменил? Семье? Нашему роду? Но я не изменил правде, правде жизни, правде этих двух людей. Я никому не мог рассказать об этом, даже мать не поняла бы меня.
В глазах у меня все расплывалось, клочки бумаги, казалось, кружились по полу, как живые. В память так врезался тот миг, когда Данияр и Джамиля глянули на меня с рисунка, что мне вдруг почудилось, будто я слышу песню Данияра, которую пел он в ту памятную августовскую ночь. Я вспомнил, как они уходили из аила, и мне нестерпимо захотелось выйти на дорогу, выйти, как они, смело и решительно, в трудный путь за счастьем.
– Я поеду учиться… Скажи отцу. Я хочу быть художником! – твердо сказал я матери.
Я был уверен, что она начнет укорять меня и заплачет, вспоминая погибших на войне братьев. Но, к моему удивлению, она не заплакала. Только грустно и тихо сказала:
– Поезжай… Оперились вы и по-своему крыльями машете… Да откуда нам знать, высоко ли взлетите? Может, и ваша правда. Поезжай… А может, там одумаешься. Не ремесло это – рисовать да малевать… Поучись – узнаешь… Да не забывай дом свой…
С того дня Малый дом отделился от нас. А я вскоре уехал учиться.
Вот и вся история.
В академию, куда меня послали после художественного училища, я представил свою дипломную работу – это была картина, о которой я давно мечтал.
Нетрудно догадаться, что на этой картине изображены Данияр и Джамиля. Они идут по осенней степной дороге. Перед ними широкая светлая даль.
И пусть несовершенна моя картина – мастерство не сразу приходит, – но она мне бесконечно дорога, она мое первое осознанное творческое беспокойство.
И сейчас бывают у меня неудачи, бывают и такие тяжелые минуты, когда я теряю веру в себя. И тогда меня тянет к этой родной мне картине, к Данияру и Джамиле. Подолгу я смотрю на них и каждый раз веду с ними разговор:
«Где вы сейчас, по каким дорогам шагаете? Много у нас теперь в степи новых дорог по всему Казахстану до Алтая и Сибири! Много смелых людей трудится там. Может, и вы подались в те края. Ты ушла, моя Джамиля, по широкой степи, не оглядываясь. Может, ты устала, может, потеряла веру в себя? Прислонись к Данияру. Пусть он споет тебе свою песню о любви, о земле, о жизни! Пусть всколыхнется и заиграет всеми красками степь! Пусть вспомнится тебе та августовская ночь! Иди, Джамиля, не раскаивайся, ты нашла свое трудное счастье!»
Я смотрю на них – и слышу голос Данияра. Он зовет меня в путь-дорогу – значит, пора собираться. Я пойду по степи в свой аил, я найду там новые краски.
Пусть в каждом мазке моем звучит напев Данияра! Пусть в каждом мазке моем бьется сердце Джамили!
Первый учитель
Я открываю настежь окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В яснеющем голубоватом сумраке я всматриваюсь в этюды и наброски начатой мною картины. Их много, я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще своего главного, того, что приходит вдруг так неотвратимо, с такой нарастающей ясностью и необъяснимым, неуловимым звучанием в душе, как эти ранние летние зори. Я хожу в предрассветной тиши и все думаю, думаю, думаю. И так каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина – еще только замысел.
Я не сторонник того, чтобы заранее говорить и оповещать даже близких друзей о незаконченной вещи. Не потому, что я слишком ревниво отношусь к своей работе, – просто, мне думается, трудно угадать, каким вырастет ребенок, который сегодня еще в люльке. Так же трудно судить и о незавершенном, невыписанном произведении. Но на этот раз я изменяю своему правилу – я хочу во всеуслышание заявить, а вернее, поделиться с людьми своими мыслями о еще не написанной картине.
Это не прихоть. Я не могу поступить иначе, потому что чувствую: мне одному это не по плечу. История, всколыхнувшая мне душу, история, побудившая меня взяться за кисть, кажется мне настолько огромной, что я один не могу ее объять. Я боюсь не донести, я боюсь расплескать полную чашу. Я хочу, чтобы люди помогли мне советом, подсказали решение, чтобы они хотя бы мысленно стали со мной рядом у мольберта, чтобы они волновались вместе со мной.
Не пожалейте жара своих сердец, подойдите поближе, я обязан рассказать эту историю…
Наш аил Куркуреу расположен в предгорьях на широком плато, куда сбегаются из многих ущелий шумливые горные речки. Пониже аила раскинулась Желтая долина, огромная казахская степь, окаймленная отрогами Черных гор да темной черточкой железной дороги, уходящей за горизонт на запад, через равнину.
А над аилом, на бугре, стоят два больших тополя. Я помню их с тех пор, как помню себя. С какой стороны ни подъедешь к нашему Куркуреу, прежде всего увидишь эти два тополя, они всегда на виду, точно маяки на горе. Даже и не знаю, чем объяснить, – то ли потому, что впечатления детских лет особенно дороги человеку, то ли это связано с моей профессией художника, – но каждый раз, когда я, сойдя с поезда, еду через степь к себе в аил, я первым долгом издали ищу глазами родные мои тополя.
Как бы высоки они ни были, вряд ли так уж сразу можно увидеть их на таком расстоянии, но для меня они всегда ощутимы, всегда видны.
Сколько раз мне приходилось возвращаться в Куркуреу из дальних краев, и всегда с щемящей тоской я думал: «Скоро ли увижу их, тополей-близнецов? Скорей бы приехать в аил, скорей на бугорок к тополям. А потом стоять под деревьями и долго, до упоения слушать шум листвы».
В нашем аиле сколько угодно всяких деревьев, но эти тополя особенные: у них свой особый язык и, должно быть, своя особая, певучая душа. Когда ни придешь сюда, днем ли, ночью ли, они раскачиваются, перехлестываясь ветвями и листьями, шумят неумолчно на разные лады. То кажется, будто тихая волна прилива плещется о песок, то пробежит по ветвям, словно незримый огонек, страстный, горячий шепот, то вдруг, на мгновенье затихнув, тополя разом, всей взбудораженной листвой шумно вздохнут, будто тоскуя о ком-то. А когда набегает грозовая туча и буря, заламывая ветви, обрывает листву, тополя, упруго раскачиваясь, гудят, как бушующее пламя.
Позже, много лет спустя, я понял тайну двух тополей. Они стоят на возвышенности, открытой всем ветрам, и отзываются на малейшее движение воздуха, каждый листик чутко улавливает легчайшее дуновение.
Но открытие этой простой истины вовсе не разочаровало меня, не лишило того детского восприятия, которое я сохраняю по сей день. И по сей день эти два тополя на бугре кажутся мне необыкновенными, живыми. Там, подле них, осталось мое детство, как осколок зеленого волшебного стеклышка…
В последний день учебы, перед началом летних каникул, мы, мальчишки, мчались сюда разорять птичьи гнезда. Всякий раз, когда мы с гиканьем и свистом взбегали на бугор, тополя-великаны, покачиваясь из стороны в сторону, как бы приветствовали нас своей прохладной тенью и ласковым шелестом листьев. А мы, босоногие сорванцы, подсаживая друг друга, карабкались вверх по сучьям и веткам, поднимая переполох в птичьем царстве. Стаи встревоженных птиц с криком носились над нами. Но нам все было нипочем, куда там! Мы взбирались все выше и выше – а ну, кто смелее и ловчее! – и вдруг с огромной высоты, с высоты птичьего полета, точно бы по волшебству, открывался перед нами дивный мир простора и света.
Нас поражало величие земли. Затаив дыхание, мы замирали каждый на своей ветке и забывали о гнездах и птицах. Колхозная конюшня, которую мы считали самым большим зданием на свете, отсюда казалась нам обыкновенным сарайчиком. А за аилом терялась в смутном мареве распростертая целинная степь. Мы всматривались в ее сизые дали, насколько хватало глаз, и видели еще много-много земель, о которых прежде не подозревали, видели реки, о которых прежде не ведали. Реки серебрились на горизонте тоненькими ниточками. Мы думали, притаившись на ветках: это ли край света или дальше есть такое же небо, такие же тучи, степи и реки? Мы слушали, притаившись на ветках, неземные звуки ветров, а листья в ответ им дружно нашептывали о заманчивых, загадочных краях, что скрывались за сизыми далями.
Я слушал шум тополей, и сердце у меня колотилось от страха и радости, и под этот неумолчный шелест я силился представить себе те далекие дали. Лишь об одном, оказывается, я не думал в ту пору: кто посадил здесь эти деревья? О чем мечтал, о чем говорил этот неизвестный, опуская в землю корни деревцев, с какой надеждой растил он их здесь, на взгорье?
Этот бугор, где стояли тополя, у нас почему-то называли «школой Дюйшена». Помню, если случалось кому искать пропавшую лошадь и человек обращался к встречному: «Слушай, не видел ты моего гнедого?» – ему чаще всего отвечали: «Вон наверху, возле школы Дюйшена, паслись ночью кони, сходи, может, и своего там найдешь». Подражая взрослым, мы, мальчишки, не задумываясь, повторяли: «Айда, ребята, в школу Дюйшена, на тополя – воробьев разгонять!»
Рассказывали, что когда-то на этом бугре была школа. Мы и следа ее не застали. В детстве я не раз пытался найти хотя бы развалины, бродил, искал, но ничего не обнаружил. Потом мне стало казаться странным, что голый бугор называют «школой Дюйшена», и я как-то спросил у стариков, кто он такой, этот Дюйшен. Один из них небрежно махнул рукой: «Кто такой Дюйшен? Да тот самый, что и сейчас тут живет, из рода Хромой овцы. Давно это было, Дюйшен в ту пору комсомольцем был. На бугре том стоял чей-то заброшенный сарай. А Дюйшен там школу открыл, детей учил. Да разве же то школа была – название одно. Ох, и интересные же времена были! Тогда, кто мог схватиться за гриву коня и вдеть ногу в стремя, тот сам себе начальник. Так и Дюйшен. Что взбрело ему в голову, то и сделал. А теперь и камешка не найдешь от того сарайчика, одна польза, что название осталось…»
Я мало знал Дюйшена. Помнится, это был пожилой уже человек, высокий, угловатый, с нависшими орлиными бровями. Его двор был по ту сторону реки, на улице второй бригады. Когда я еще жил в аиле, Дюйшен работал колхозным мирабом[4] и вечно пропадал на полях. Изредка он проезжал по нашей улице, подвязав к седлу большой кетмень[5], и конь его был похож чем-то на хозяина – такой же костлявый, тонконогий. А потом Дюйшен постарел, и говорили, что он стал возить почту. Но это к слову. Дело в другом. В моем тогдашнем понятии комсомолец – это горячий на работу и на слово джигит, самый боевой из всех в аиле, который и на собрании выступит, и в газете о лодырях и расхитителях напишет. И я никак не мог себе представить, что этот бородатый смирный человек был когда-то комсомольцем, да к тому же, что самое удивительное, учил детей, будучи сам малограмотным. Нет, не укладывалось такое у меня в голове! Откровенно говоря, я считал, что это одна из многочисленных сказок, которые бытуют в нашем аиле. Но все оказалось совсем не так…
Прошлой осенью я получил из аила телеграмму. Земляки приглашали меня на торжественное открытие новой школы, которую колхоз построил своими силами. Я сразу решил – ехать, не мог же я в такой радостный для нашего аила день усидеть дома. Я выехал даже на несколько дней раньше. Поброжу, думал, погляжу, сделаю новые зарисовки. Из приглашенных ждали, оказывается, и академика Сулайманову. Мне сказали, что она пробудет здесь день-два и отсюда поедет в Москву.
Я знал, что эта прославленная теперь женщина в детстве ушла из нашего аила в город. Став горожанином, я познакомился с ней. Она была уже в преклонном возрасте, полная, с густой проседью в гладко зачесанных волосах. Наша знаменитая землячка заведовала кафедрой в университете, читала лекции по философии, работала в академии, часто ездила за границу. Словом, человеком она была занятым, и мне не удавалось познакомиться с ней поближе, но каждый раз, где бы мы ни встречались, она всегда интересовалась жизнью нашего аила и непременно, пусть даже коротко, высказывала мнение о моих работах. Однажды я решился сказать ей:
– Алтынай Сулаймановна, хорошо бы вам съездить в аил, повидаться с земляками. Вас там все знают, гордятся вами, но знают-то больше понаслышке и, случается, поговаривают, что, мол, наша знаменитая ученая, видно, чурается нас, дорогу позабыла в свой Куркуреу.
– Надо бы, конечно, съездить, – невесело улыбнулась тогда Алтынай Сулаймановна. – Я и сама давно мечтаю побывать в Куркуреу, век уже не была там. Правда, родственников у меня в аиле нет. Но дело ведь не в этом. Непременно поеду, я должна поехать, истосковалась по родным краям.
Академик Сулайманова приехала в аил, когда торжественное собрание в школе вот-вот должно уже было начаться. Колхозники увидели в окно ее машину, и все повалили на улицу. Знакомым и незнакомым, старым и малым – всем хотелось пожать ей руку. Пожалуй, Алтынай Сулаймановна не ожидала такой встречи и, как мне показалось, даже растерялась. Приложив руки к груди, она кланялась людям и с трудом пробиралась в президиум на сцену.
Наверно, не раз на своем веку Алтынай Сулаймановна бывала на торжественных собраниях, и встречали ее, наверно, всегда и с радостью, и с почестями, но здесь, в обыкновенной сельской школе, радушие земляков очень растрогало ее, взволновало, и она все пыталась скрыть непрошеные слезы.
После торжественной части пионеры повязали дорогой гостье красный галстук, преподнесли цветы и ее именем открыли почетную книгу новой школы. Потом был концерт школьной самодеятельности, очень интересный и веселый, после которого директор школы пригласил нас – гостей, учителей и активистов колхоза – к себе.
И здесь не могли нарадоваться приезду Алтынай Сулаймановны. Ее посадили на самое почетное место, украшенное коврами, и всячески старались подчеркнуть свое к ней уважение. Как всегда в таких случаях, было шумно, гости оживленно разговаривали, провозглашали тосты. Но вот в дом вошел местный паренек и подал хозяину пачку телеграмм. Телеграммы пошли по рукам: бывшие ученики поздравляли своих земляков с открытием школы.
– Слушай, а телеграммы эти старик Дюйшен привез, что ли? – спросил директор.
– Да, – ответил парень. – Всю дорогу, говорит, подстегивал коня, хотел поспеть к собранию, чтобы при народе прочитали. Опоздал малость наш аксакал, огорченный приехал.
– Так что ж он там стоит, пусть слезает с коня, зови его!
Парень вышел позвать Дюйшена. Алтынай Сулаймановна, сидевшая рядом со мной, почему-то встрепенулась и как-то странно, словно внезапно вспомнив о чем-то, спросила у меня, о каком это Дюйшене говорят.
– А это колхозный почтальон, Алтынай Сулаймановна. Вы знаете старика Дюйшена?
Она неопределенно кивнула, потом попыталась было встать, но в этот момент мимо окна кто-то с топотом проехал на коне, и парень, вернувшийся назад, сказал хозяину:
– Я его звал, агай, но он уехал, ему еще надо письма развозить.
– Ну и пусть развозит, незачем его задерживать. Потом со стариками посидит, – недовольно проговорил кто-то.
– О-о! Вы не знаете нашего Дюйшена! Он человек закона. Пока дела не выполнит, никуда не завернет.
– Верно, странный он человек. После войны вышел из госпиталя – на Украине это было – и остался там жить, всего лет пять как вернулся. Умирать, говорит, вернулся на родину. Всю жизнь бобылем так и живет…
– А все-таки зайти бы ему сейчас… Ну да ладно. – И хозяин махнул рукой.
– Товарищи, когда-то мы учились, если кто помнит, в школе Дюйшена. – Один из почтеннейших людей аила поднял бокал. – А сам-то он наверняка не знал всех букв алфавита. – Говоривший зажмурил при этом глаза и покачал головой. Весь вид его выражал и удивление и насмешку.
– А ведь и правда, было так, – отозвалось несколько голосов.
Кругом засмеялись.
– Что уж там говорить! Чего только не затевал тогда Дюйшен! А мы-то ведь всерьез считали его учителем.
Когда смех утих, человек, поднявший бокал, продолжал:
– Ну, а теперь люди выросли на наших глазах. Академик Алтынай известна на всю страну. Почти все мы со средним образованием, а многие имеют высшее. Сегодня мы открыли у себя в аиле новую среднюю школу; одно это уже говорит, насколько изменилась жизнь. Так давайте, земляки, выпьем за то, чтобы и впредь сыновья и дочери Куркуреу были передовыми людьми своего времени!
Все опять зашумели, дружно поддержав тост, и только Алтынай Сулаймановна покраснела, чем-то очень смущенная, и лишь пригубила бокал. Но празднично настроенные люди, занятые разговором, не замечали ее состояния.
Алтынай Сулаймановна несколько раз взглянула на часы. А потом, когда гости вышли на улицу, я увидел, что она стоит в стороне от всех у арыка и пристально смотрит на бугор – туда, где покачиваются на ветру порыжевшие осенние тополя. Солнце было на закате – у сиреневой черточки далекой сумеречной степи. Оно светило оттуда меркнущим светом, окрашивая верхушки тополей тусклым, печальным багрянцем.
Я подошел к Алтынай Сулаймановне.
– Сейчас они листву роняют, а посмотрели бы вы на эти тополя весной, в пору цвета, – сказал я ей.
– И я об этом же думаю, – вздохнула Алтынай Сулаймановна и, помолчав, добавила, словно бы про себя: – Да, у всего живого есть своя весна и своя осень.
По ее увядающему, со множеством мелких морщинок вокруг глаз лицу пробежала грустная, задумчивая тень. Она смотрела на тополя как-то очень по-женски, горестно. И я вдруг увидел, что передо мной стоит не академик Сулайманова, а самая обыкновенная киргизская женщина, бесхитростная и в радостях и в печалях. Эта ученая женщина, видимо, вспомнила сейчас ту пору своей юности, которой, как поется в наших песнях, не докричишься с самой высокой горной вершины. Она, кажется, хотела что-то сказать, глядя на тополя, но потом, наверно, передумала и порывисто надела очки, которые держала в руке.
– Московский поезд здесь проходит, кажется, в одиннадцать?
– Да, в одиннадцать ночи.
– Значит, мне надо собираться.
– Почему вдруг? Алтынай Сулаймановна, вы же обещали побыть здесь несколько дней. Народ вас не отпустит.
– Нет, у меня срочные дела. Я должна сейчас же ехать.
Как ни уговаривали ее земляки, как ни выражали они свою обиду, Алтынай Сулаймановна была неумолима.
Тем временем стало смеркаться. Огорченные земляки посадили ее в машину, взяв слово, что она приедет в другой раз на неделю, а то и больше. Я поехал проводить Алтынай Сулаймановну до станции.
Почему Алтынай Сулаймановна так неожиданно заторопилась? Обидеть земляков, тем более в такой день, мне казалось просто неразумным. По дороге я несколько раз собирался спросить ее об этом, но не посмел. Не потому, что боялся показаться бестактным, – просто я понял, что она все равно ничего не скажет. Всю дорогу она ехала молча, о чем-то крепко задумавшись. На станции я все-таки спросил ее:
– Алтынай Сулаймановна, вы чем-то расстроены, может, мы обидели вас?
– Ну что вы! И не смейте так думать! На кого я могла обидеться? Разве что на себя. Да, на себя можно было, пожалуй, обидеться.
Так и уехала Алтынай Сулаймановна. Я вернулся в город и через несколько дней неожиданно получил от нее письмо. Сообщая о том, что она задержится в Москве дольше, чем предполагала, Алтынай Сулаймановна писала:
«Хотя у меня множество важных и срочных дел, я решила все отложить и написать вам это письмо… Если вам покажется интересным то, что я здесь пишу, я вас убедительно прошу подумать над тем, как это можно будет использовать, чтобы поведать людям обо всем, что я расскажу. Я считаю, что это нужно не только нашим землякам, это нужно всем, в особенности молодежи. К такому убеждению я пришла после долгих раздумий. Это моя исповедь перед людьми. Я должна исполнить свой долг. Чем больше людей узнает об этом, тем меньше будут мучить меня угрызения совести. Не бойтесь поставить меня в неловкое положение. Ничего не скрывайте…»
Несколько дней я ходил под впечатлением ее письма. И ничего лучшего не придумал, как рассказать обо всем от имени самой Алтынай Сулаймановны.
Это было в 1924 году. Да, именно в тот год…
Там, где сейчас находится наш колхоз, тогда был небольшой аил оседлых бедняков-джатакчей. Мне в ту пору было лет четырнадцать, и жила я у двоюродного брата своего покойного отца. Матери у меня тоже не было.
Еще осенью, вскоре после того, как те, что побогаче, откочевали в горы на зимовья, к нам в аил пришел незнакомый парень в солдатской шинели. Я запомнила его шинель, потому что она была почему-то из черного сукна. Появление человека в казенной шинели явилось для нашего аила, отдаленного от дорог, приткнувшегося где-то под горами, настоящим событием.
Сперва утверждали, что в армии он ходил в командирах, а потому и в аиле будет начальником, потом оказалось, что вовсе он никакой не командир, а сын того самого Таштанбека, который ушел из аила на железную дорогу еще в голод, много лет назад, да так и пропал. А он, сын его Дюйшен, будто прислан в аил для того, чтобы открыть здесь школу и учить детей.
В те времена такие слова, как «школа», «учеба», были в новинку, и люди не очень-то в них разбирались. Кто-то верил слухам, кто-то считал все это бабьими сплетнями, и, быть может, вообще забыли бы о школе, если бы вскоре не созвали народ на сходку. Мой дядя долго ворчал: «Это еще что за собрание такое, вечно отрывают от дела по всяким пустякам», – но потом все-таки оседлал свою лошаденку и поехал на собрание верхом, как и положено всякому уважающему себя мужчине. Вслед за ним вместе с соседскими ребятами увязалась и я.
Когда мы, запыхавшись, прибежали на пригорок, где обычно проходили сходки, там уже перед кучкой пеших и конных людей выступал тот самый бледнолицый парень в черной шинели. Мы не могли расслышать его слов и придвинулись было ближе, но тут один старик в драной шубе, словно очнувшись, торопливо перебил его.
– Слушай, сынок, – начал он заикающейся скороговоркой, – раньше детей учили муллы, а твоего отца мы знали: такая же голытьба, как и мы. Так скажи на милость, когда это ты успел сделаться муллой?
– Я не мулла, аксакал, я комсомолец, – быстро отозвался Дюйшен. – А детей теперь будут учить не муллы, а учителя. Я обучался грамоте в армии и до этого малость учился. Вот какой я мулла.
– Ну, это дело…
– Молодец! – раздались одобрительные возгласы.
– Так вот, комсомол послал меня учить ваших детей. А для этого нам нужно какое-нибудь помещение. Я думаю устроить школу – с вашей помощью, конечно, – вон в той старой конюшне, что стоит на бугре. Что скажете на это, земляки?
Люди замялись, как бы прикидывая в уме: куда он гнет, этот пришлый? Молчание прервал Сатымкул-спорщик, прозванный так за свою несговорчивость. Он давно уже прислушивался к разговорам, облокотясь на луку седла, и изредка поплевывал сквозь зубы.
– Ты постой, парень, – проговорил Сатымкул, прищуривая глаз, словно бы прицеливаясь. – Ты лучше скажи, зачем она нам, школа?
– Как зачем? – растерялся Дюйшен.
– А верно ведь! – подхватил кто-то из толпы.
И все разом зашевелились, зашумели.
– Мы испокон веков живем дехканским трудом, нас кетмень кормит. И дети наши будут жить так же, на кой черт им учение. Грамота начальникам требуется, а мы простой народ. И не морочь нам голову!
Голоса приутихли.
– Так неужели вы против того, чтобы ваши дети учились? – спросил ошарашенный Дюйшен, пристально вглядываясь в лица окруживших его людей.
– А если против, то что, силком заставишь? Прошли те времена. Мы теперь народ свободный, как хотим, так и будем жить!
Кровь схлынула с лица Дюйшена. Обрывая дрожащими пальцами крючки шинели, он вытащил из кармана гимнастерки лист бумаги, сложенный вчетверо, и, торопливо развернув его, поднял над головой.
– Значит, вы против этой бумаги, где сказано об учении детей, где поставлена печать советской власти? А кто вам дал землю, воду, кто дал вам волю? Ну, кто против законов советской власти, кто? Отвечай!
Он выкрикнул слово «отвечай» с такой звенящей, гневной силой, что оно, как пуля, прорезало теплынь осенней тиши и, словно выстрел, отозвалось коротким эхом в скалах. Никто не проронил ни слова. Люди молчали, понурив головы.
– Мы бедняки, – уже тихо проговорил Дюйшен. – Нас всю жизнь топтали и унижали. Мы жили в темноте. А теперь советская власть хочет, чтобы мы увидели свет, чтобы мы научились читать и писать. А для этого надо учить детей…
Дюйшен выжидающе умолк. И тогда тот самый, в драной шубе, что спрашивал его, как он сделался муллой, пробормотал примирительным тоном:
– Ладно уж, учи, если тебе охота, нам-то что… Мы не против закона.
– Но я прошу вас помочь мне. Нам надо отремонтировать эту байскую конюшню на горе, надо перекинуть мост через речку, дрова нужны школе…
– Погоди, джигит, очень уж ты прыткий! – оборвал Дюйшена несговорчивый Сатымкул.
Сплюнув сквозь зубы, он опять прищурил глаз, словно бы прицеливаясь.
– Вот ты на весь аил кричишь: «Школу буду открывать!» А поглядеть на тебя – ни шубы на тебе, ни коня под тобой, ни землицы вспаханной в поле, хоть бы с ладонь, ни единой скотинки во дворе! Так как же ты думаешь жить, дорогой человек? Разве что чужие табуны угонять… Только у нас их нет. А у кого табуны есть – те в горах.
Дюйшен хотел ответить что-то резкое, но сдержал себя и негромко сказал:
– Проживу как-нибудь. Жалованье буду получать.
– А-а, давно бы так! – И Сатымкул, очень довольный собой, с победоносным видом выпрямился в седле. – Вот теперь все ясно. Ты, джигит, сам делай свои дела и на свое жалованье детей учи. В казне денег хватит. А нас оставь в покое, у нас, слава богу, своих забот полон рот…
С этими словами Сатымкул повернул коня и поехал домой. Вслед за ним потянулись и другие. А Дюйшен так и остался стоять, держа в руке свою бумагу. Он, бедняга, не знал, куда ему теперь податься…
Мне стало жаль Дюйшена. Я смотрела на него не отрывая глаз, пока мой дядя, проезжая мимо, не окликнул меня:
– А ты, косматая, что тут делаешь, что рот разинула, а ну, беги домой! – И я кинулась догонять ребят. – Ишь ты, и они уже повадились на сходки!
На другой день, когда мы, девчонки, пошли по воду, нам встретился у реки Дюйшен. Он перебирался вброд на другой берег с лопатой, кетменем, топором и каким-то старым ведром в руках.
С этого дня каждое утро одинокая фигура Дюйшена в черной шинели поднималась по тропинке на бугор к заброшенной конюшне. И лишь поздно вечером Дюйшен спускался вниз, к аилу. Частенько мы его видели с большущей вязанкой курая или соломы на спине. Заметив его издали, люди привставали на стременах и, приложив руку к глазам, удивленно переговаривались:
– Слушай, да это никак учитель Дюйшен несет вязанку?
– Он самый.
– Эх, бедняга! Учительское дело тоже, видно, не из легких.
– А ты как думал. Гляди, сколько прет на себе, не хуже, чем байский батрак.
– А послушаешь его речи, так куда там!
– Ну, это потому, что бумага у него с печатью: в ней вся сила.
Как-то раз, возвращаясь с полными мешками кизяка, который обычно собирали в предгорье над аилом, мы завернули к школе: интересно было посмотреть, что там делает учитель. Старый глинобитный сарай прежде был байской конюшней. Зимой здесь держали кобыл, ожеребившихся в ненастье. После прихода советской власти бай куда-то откочевал, а конюшня так и осталась стоять. Никто сюда не ходил, а все вокруг поросло репьем да колючками. Теперь сорняки, вырубленные с корнем, лежали в стороне, собранные в кучу, двор был расчищен. Обвалившиеся, размытые дождями стены были подмазаны глиной, а скособоченная, рассохшаяся дверь, вечно болтавшаяся на одной петле, оказалась починенной и прилаженной на место.
Когда мы опустили свои мешки на землю, чтобы немного отдохнуть, из дверей вышел Дюйшен, весь заляпанный глиной. Увидев нас, он удивился, а потом приветливо улыбнулся, стирая с лица пот.
– Откуда это вы, девочки?
Мы сидели на земле подле мешков и смущенно переглядывались. Дюйшен понял, что мы молчим от застенчивости, и ободряюще подмигнул нам.
– Мешки-то больше вас самих. Очень хорошо, девочки, что заглянули сюда, вам ведь здесь учиться. А школа ваша, можно сказать, почти готова. Только что сложил в углу что-то вроде печки и даже трубу вывел над крышей, видите какая! Теперь осталось топлива на зиму заготовить, да ничего – курая много вокруг. А на пол постелем побольше соломы и начнем учебу. Ну как, хотите учиться, будете ходить в школу?
Я была старше своих подруг и поэтому решилась ответить.
– Если тетка отпустит, буду ходить, – сказала я.
– Ну почему же не отпустит, – отпустит, конечно. А как тебя звать?
– Алтынай, – ответила я, прикрывая ладонью колено, видневшееся сквозь дыру на подоле.
– Алтынай – хорошее имя, – он улыбнулся как-то так хорошо, что на сердце потеплело. – Ты чья будешь?
Я промолчала: не любила, когда меня жалели.
– Сирота она, у дяди живет, – подсказали подруги.
– Так вот, Алтынай, – снова улыбнулся мне Дюйшен, – ты и других ребят веди в школу. Ладно? И вы, девочки, приходите.
– Ладно, дяденька.
– Меня учителем зовите. А хотите посмотреть школу? Заходите, не робейте.
– Нет, мы пойдем, нам надо домой, – застеснялись мы.
– Ну хорошо, бегите домой. Посмотрите потом, когда придете учиться. А я еще разок схожу за кураем, пока не стемнело.
Прихватив веревку и серп, Дюйшен пошел в поле. Мы тоже поднялись, взвалили на спины мешки и засеменили к аилу. Мне вдруг пришла в голову неожиданная мысль.
– Стойте, девочки! – крикнула я своим подругам. – Давайте высыпем кизяки в школе – все больше топлива на зиму будет.
– А домой придем с пустыми руками? Ишь ты, умная какая!
– Да мы вернемся и насобираем еще.
– Нет уж, поздно будет, дома заругают.
И, уже не ожидая меня, девочки заторопились домой.
До сих пор не могу понять, что заставило меня в тот день решиться на такое дело. То ли я обиделась на подруг за то, что не послушались меня, и потому решила настоять на своем, то ли оттого, что с малых лет моя воля, мои желания были захоронены под окриками и подзатыльниками грубых людей, но мне вдруг захотелось хоть чем-нибудь отблагодарить незнакомого, в сущности, человека за его улыбку, от которой потеплело на сердце, за его небольшое доверие ко мне, за его несколько добрых слов. И я хорошо знаю, я убеждена в этом, что настоящая судьба моя, вся моя жизнь со всеми ее радостями и муками началась именно в тот день, с того самого мешка кизяка. Я говорю так, потому что именно в тот день я первый раз за всю свою жизнь, не задумываясь, не боясь наказания, решила и сделала то, что посчитала нужным. Когда подружки покинули меня, я бегом вернулась к школе Дюйшена, опорожнила мешок под дверью и тут же пустилась со всех ног по лощинам и балкам предгорья собирать кизяк.
Я бежала, не думая куда, словно бы от избытка сил, и сердце мое билось в груди так радостно, словно бы я совершила величайший подвиг. И солнце словно бы знало, отчего я так счастлива. Да, я верю, что оно знало, почему я так легко и вольно бегу. Потому что я сделала маленькое доброе дело.
Солнце уже склонилось к холмам, но оно, казалось мне, медлило, не скрывалось, оно хотело наглядеться на меня. Оно украшало мою дорогу: пожухлая осенняя земля стелилась под ногами в багряных, розовых и лиловых красках. Мерцающим пламенем проносились по сторонам метелки сухих чийняков. Солнце горело огнем на посеребренных пуговицах моего испещренного заплатами бешмета. А я все бежала вперед и мысленно ликовала, обращаясь к земле, к небу и ветру: «Смотрите на меня! Смотрите, какая я гордая! Я буду учиться, я пойду в школу и поведу за собой других!..»
Не знаю, долго ли я так бежала, но потом вдруг опомнилась: надо собирать кизяк. И вот странность какая: все лето здесь бродило столько скота и столько здесь кизяка было всегда на каждом шагу, а сейчас его точно земля проглотила. А может, я просто не искала? Я перебегала с места на место и чем дальше, тем реже находила кизяк. Тогда я подумала, что не успею засветло набрать полный мешок, и перепугалась, и заметалась по кустам чия, заторопилась. Набрала кое-как полмешка. Тем временем угас закат, в лощинах стало быстро темнеть.
Никогда еще не оставалась я одна в поле в такую позднюю пору. Над безлюдными, безмолвными холмами нависло черное крыло ночи. Не помня себя от страха, я перекинула мешок за плечо и бросилась бежать к аилу. Мне было жутко, быть может, я даже закричала бы, заплакала, но меня удерживала от этого, как ни странно, безотчетная мысль о том, что сказал бы учитель Дюйшен, если бы увидел меня такой беспомощной. И я крепилась, запрещая себе лишний раз оглянуться, точно бы учитель наблюдал за мной со стороны.
Я прибежала домой запыхавшись, в поту и пыли. Тяжело дыша, переступила порог. Тетка, сидевшая у огня, угрожающе поднялась мне навстречу. Она была злая и грубая женщина.
– Ты где это пропадала? – подступила она ко мне, и я слова не успела вымолвить, как она выхватила у меня мешок и швырнула его в сторону. – И это все, что ты собрала за весь день?
Подружки мои, оказывается, успели ей насплетничать.
– Ах ты, черномазая тварь! Что тебя понесло в школу? Почему ты не подохла там, в этой школе! – Тетка схватила меня за ухо и принялась колотить по голове. – Сирота поганая! Волчонок никогда не станет собакой. У людей дети в дом тащат, а она – из дома. Я тебе покажу школу, посмей только близко подойти, ноги переломаю. Ты у меня попомнишь школу…
Я молчала, я только старалась не кричать. Но потом, приглядывая за огнем в очаге, я плакала беззвучно, украдкой, тихо поглаживая нашу серую кошку, а кошка, между прочим, всегда знала, когда я плачу, и прыгала ко мне на колени. Я плакала не от теткиных побоев, нет, – к ним мне было не привыкать, – я плакала потому, что поняла: тетка ни за что не пустит меня в школу…
Дня через два после этого ранним утром в аиле беспокойно залаяли собаки, послышались громкие голоса. Оказывается, это Дюйшен ходил по дворам, собирая детей в школу. Тогда не было улиц, подслеповатые серые мазанки наши были беспорядочно разбросаны по аилу, каждый селился там, где ему заблагорассудится. Дюйшен и с ним ребятишки шумной гурьбой переходили от двора к двору.
Наш двор стоял с самого края. Мы с теткой как раз рушили просо в деревянной ступе, а дядя откапывал пшеницу, хранившуюся в яме возле сарая: он собирался везти зерно на базар. Мы, как молотобойцы, поочередно ударяли тяжелыми пестами, но я еще успевала украдкой глянуть, далеко ли учитель. Я боялась, что он не дойдет до нашего двора. И хотя я знала, что тетка не отпустит меня в школу, все-таки мне хотелось, чтобы Дюйшен пришел сюда, чтобы он хотя бы увидел, где я живу. И я молила про себя учителя, чтобы он не повернул обратно, не дойдя до нас.
– Здравствуйте, хозяйка, да поможет вам Бог! А Бог не поможет, так мы всем гуртом поможем, смотрите, сколько нас! – шуткой приветствовал тетку Дюйшен, ведя за собой будущих учеников.
Она что-то промычала в ответ, а дядя – тот даже головы из ямы не поднял.
Это не смутило Дюйшена. Он деловито опустился на колоду, что лежала посреди двора, достал карандаш и бумагу.
– Сегодня мы начинаем учебу в школе. Сколько лет вашей дочери?
Ничего не ответив, тетка со злостью всадила пест в ступу. Она явно не собиралась поддерживать разговор. Я внутренне вся съежилась: что же будет теперь? Дюйшен глянул на меня и улыбнулся. И, как в тот раз, у меня потеплело на сердце.
– Алтынай, сколько тебе лет? – спросил он.
Я не посмела ответить.
– А зачем тебе знать, что ты за проверщик такой! – раздраженно отозвалась тетка. – Ей не до учебы! Не такие безродные, а те, что с отцом да с матерью, и то не учатся. Ты вон набрал себе ораву и гони их в школу, а тут тебе делать нечего.
Дюйшен вскочил с места.
– Подумайте, что вы говорите! Разве она виновата в своем сиротстве? Или есть такой закон, чтобы сироты не учились?
– А мне дела нет до твоих законов! У меня свои законы, и ты мне не указывай!
– Законы у нас одни. И если эта девочка вам не нужна, то нам она нужна, советской власти нужна. А пойдете против нас, так и укажем!
– Да откуда ты взялся, начальник такой! – вызывающе подбоченилась тетка. – Кто же, по-твоему, должен распоряжаться ею? Я ее кормлю и пою или ты, сын бродяги и сам скиталец?!
Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы в этот момент не показался из ямы голый по пояс дядя. Он терпеть не мог, когда жена лезла не в свои дела, забывая, что в доме есть муж, хозяин. Он нещадно бил ее за это. И в этот раз, видно, закипела в нем злоба.
– Эй, баба! – гаркнул он, выбираясь из ямы. – С каких это пор ты стала головой в доме, с каких это пор ты стала распоряжаться? Поменьше болтай, побольше делай. А ты, сын Таштанбека, забирай девчонку, хочешь – учи, хочешь – изжарь ее. А ну, убирайся со двора!
– Ах так, она будет шляться по школам, а дома, а по хозяйству кто? Все я? – заголосила было тетка.
Но муж цыкнул на нее:
– Сказано – все!
Нет худа без добра. Вот как суждено мне было пойти первый раз в школу.
С этого дня каждое утро Дюйшен собирал нас по дворам.
Когда мы в первый раз пришли в школу, учитель усадил нас на разостланную по полу солому и дал каждому по тетрадке, по карандашу и по дощечке.
– Дощечки положите на колени, чтобы удобнее было писать, – объяснил Дюйшен.
Потом он показал на портрет русского человека, приклеенный к стене.
– Это Ленин! – сказал он.
На всю жизнь запомнила я этот портрет. Впоследствии он мне почему-то больше не встречался, и про себя я называю его «дюйшеновским». На том портрете Ленин был в несколько мешковатом военном френче, осунувшийся, с отросшей бородой. Раненая рука его висела на повязке, из-под кепки, сдвинутой на затылок, спокойно смотрели внимательные глаза. Их мягкий, согревающий взгляд, казалось, говорил нам: «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас!» Мне казалось в ту тихую минуту, что он и в самом деле думал о моем будущем.
Судя по всему, у Дюйшена давно хранился этот портрет, отпечатанный на простой, плакатной бумаге, – он потерся на сгибах, края его обтрепались. Но, кроме этого портрета, больше ничего в школьных четырех стенах не было.
– Я научу вас, дети, читать и считать, покажу, как пишутся буквы и цифры, – говорил Дюйшен. – Буду учить вас всему, что знаю сам…
И действительно, он учил нас всему, что знал сам, проявляя при этом удивительное терпение. Склоняясь над каждым учеником, он показывал, как нужно держать карандаш, а потом с увлечением объяснял нам непонятные слова.
Думаю я сейчас об этом и диву даюсь: как этот малограмотный парень, сам с трудом читавший по слогам, не имевший под рукой ни единого учебника, даже самого обыкновенного букваря, как он мог отважиться на такое поистине великое дело! Шутка ли – учить детей, чьи деды и прадеды до седьмого колена были неграмотны. И, конечно же, Дюйшен не имел ни малейшего представления о программе и методике преподавания. Вернее всего, он и не подозревал о существовании таких вещей.
Дюйшен учил нас так, как умел, как мог, как казалось ему нужным, что называется, по наитию. Но я больше чем убеждена, что его чистосердечный энтузиазм, с которым он взялся за дело, не пропал даром.
Сам того не ведая, он совершил подвиг. Да, это был подвиг, потому что в те дни нам, киргизским детям, нигде не бывавшим за пределами аила, в школе, если можно так назвать ту самую мазанку с зияющими щелями, через которые всегда были видны снежные вершины гор, вдруг открылся новый, неслыханный и невиданный прежде мир…
Именно тогда мы узнали, что город Москва, где живет Ленин, во много-много раз больше, чем Аулие-Ата, чем даже Ташкент, и что есть на свете моря, большие-большие, как Таласская долина, и что по тем морям плавают корабли, громадные, как горы. Мы узнали о том, что керосин, который привозят с базара, добывается из-под земли. И мы уже тогда твердо верили, что, когда народ заживет побогаче, наша школа будет помещаться в большом белом доме с большими окнами и что ученики там будут сидеть за столами.
Кое-как постигнув азы, еще не умея написать «мама», «папа», мы уже вывели на бумаге: «Ленин». Наш политический словарь состоял из таких понятий, как «бай», «батрак», «Советы». А через год Дюйшен обещал научить нас писать слово «революция».
Слушая Дюйшена, мы мысленно сражались вместе с ним на фронтах с белыми. А о Ленине он рассказывал так взволнованно, словно видел его своими глазами. Многое из того, что он говорил, как я теперь понимаю, было сложенными в народе сказаниями о великом вожде, но для нас, Дюйшеновых учеников, все это представлялось такой же истиной, как то, что молоко белое.
Однажды без всякой задней мысли мы спросили:
– Учитель, а вы с Лениным за руку здоровались?
И тогда наш учитель сокрушенно покачал головой:
– Нет, дети, я никогда не видел Ленина.
Он виновато вздохнул: ему было неловко перед нами.
В конце каждого месяца Дюйшен отправлялся по своим делам в волость. Он ходил туда пешком и возвращался через два-три дня.
Мы по-настоящему тосковали в эти дни. Будь у меня родной брат, я и его, пожалуй, не ждала бы с таким нетерпением, как ждала возвращения Дюйшена. Тайком, чтобы не заметила тетка, я то и дело выбегала на задворки и подолгу глядела в степь на дорогу: когда же покажется учитель с котомкой за спиной, когда же я увижу его улыбку, согревающую сердце, когда же услышу его слова, приносящие знания.
Среди учеников Дюйшена я была самой старшей. Возможно, поэтому я и училась лучше других, хотя, мне кажется, не только поэтому. Каждое слово учителя, каждая буква, показанная им, – все для меня было свято. И не было для меня ничего важнее на свете, чем постигнуть то, чему учил Дюйшен. Я берегла тетрадь, которую он дал мне, и потому выводила буквы острием серпа на земле, писала углем на дувалах, прутиком на снегу и на дорожной пыли. И не было для меня на свете никого ученее и умнее Дюйшена.
Дело шло к зиме.
До первых снегов мы ходили в школу вброд через каменистую речку, что шумела под бугром. А потом ходить стало невмоготу: ледяная вода обжигала ноги. Особенно страдали малыши, у них даже слезы навертывались на глаза. И тогда Дюйшен стал на руках переносить их через речку. Он сажал одного на спину, другого брал на руки и так по очереди переправлял всех учеников.
Сейчас, когда я вспоминаю об этом, мне просто не верится, что именно так все и было. Но тогда то ли по невежеству своему, то ли по недомыслию люди смеялись над Дюйшеном. Особенно богачи, что зимовали в горах и приезжали сюда только на мельницу. Сколько раз, поравнявшись с нами у брода, таращили они на Дюйшена глаза, проезжая мимо в своих красных лисьих малахаях и в богатых овчинных шубах на сытых диких конях. Кто-нибудь из них, прыская со смеху, подталкивал соседа:
– Гляди-ка, одного тащит на спине, другого на руках!
И тогда другой, подстегивая храпящего коня, добавлял:
– Эх, провалиться мне сквозь землю, не знал я раньше, вот кого надо было взять во вторые жены!
И, обдавая нас брызгами и комьями грязи из-под копыт, они с хохотом удалялись.
Как мне хотелось тогда догнать этих тупых людей, схватить их коней под уздцы и крикнуть в их глумящиеся рожи: «Не смейте так говорить о нашем учителе! Вы глупые, дурные люди!»
Но кто внял бы голосу безответной девчонки? И мне оставалось лишь глотать горючие слезы обиды. А Дюйшен точно бы и не замечал оскорблений, вроде бы ничего такого и не слышал. Придумает, бывало, какую-нибудь шутку-прибаутку и заставит нас смеяться, позабыв обо всем.
Сколько ни старался Дюйшен, не удавалось ему достать леса, чтобы построить мостик через речку. Как-то раз, возвращаясь из школы и переправив малышей, мы остались с Дюйшеном на берегу. Решили соорудить из камней и дерна переступки, чтобы больше не мочить ноги.
Если рассудить по справедливости, то стоило жителям нашего аила собраться да сообща перебросить через поток две-три лесины, глядишь – и мост для школьников был бы готов. Но в том-то и дело, что в те дни люди по темноте своей не придавали значения учебе, а Дюйшена считали в лучшем случае чудаком, который возится с ребятишками от нечего делать. Охота тебе – учи, а нет – разгони всех по домам. Сами они ездили верхом и в переправах не нуждались. А все-таки следовало, конечно, нашему народу призадуматься: ради чего этот молодой парень, который ничем не хуже и не глупее других, ради чего он, терпя трудности и лишения, снося насмешки и оскорбления, учит их детей, да еще с таким необыкновенным упорством, с такой нечеловеческой настойчивостью?
В тот день, когда мы укладывали камни через поток, на земле уже лежал снег и вода была такая студеная, что дух захватывало. Не представляю себе, как терпел Дюйшен, ведь он работал босой, без передышки. Я с трудом ступала по дну, казалось, усеянному жгучими углями. И вот на середине речки судорога в икрах вдруг скорчила меня в три погибели. Я не могла ни вскрикнуть, ни разогнуться и начала медленно валиться в воду. Дюйшен бросил камень, подскочил ко мне, подхватил на руки, выбежал со мной на берег и усадил меня на свою шинель. Он то растирал мои синие, онемевшие ноги, то сжимал в ладонях мои застывшие руки, то подносил их ко рту и согревал дыханием.
– Не надо, Алтынай, посиди тут, согрейся, – приговаривал Дюйшен. – Я и сам справлюсь…
Когда наконец переход был готов, Дюйшен, натягивая сапоги, глянул на меня, нахохленную и озябшую, и улыбнулся:
– Ну как, помощница, отогрелась? Накинь на себя шинель, вот так! – и, помолчав, спросил: – Это ты, Алтынай, оставила в тот раз кизяк в школе?
– Да, – ответила я.
Он улыбнулся чуть заметно, уголками губ, как бы говоря про себя: «Я так и думал!»
Помню, как в ту минуту огнем полыхнули мои щеки: значит, учитель знал и не забывал об этом, казалось бы, пустяковом случае. Я была счастлива, и Дюйшен понял мою радость.
– Ручеек ты мой светлый, – сказал он, ласково гладя меня. – И способности у тебя хорошие… Эх, если бы я мог послать тебя в большой город! Каким бы ты человеком стала!
Дюйшен порывисто шагнул к берегу.
И сейчас он стоит перед моими глазами, как стоял тогда у шумливой каменистой речки, закинув руки на затылок, и смотрит устремленными вдаль сияющими глазами на белые облака, гонимые ветром над горами.
О чем он думал тогда? Может быть, и правда, в мечтах своих отправлял меня учиться в большой город? А я думала в ту минуту, кутаясь в шинель Дюйшена: «Если бы учитель был моим родным братом! Если бы я могла кинуться к нему на шею и крепко обнять его и, зажмурив глаза, прошептать ему на ухо самые лучшие на свете слова! Боже, сделай же его моим братом!»
Наверно, мы все любили тогда своего учителя за его человечность, за его добрые помыслы, за его мечты о нашем будущем. Хотя мы и были детьми, мне думается, мы это уже тогда понимали. Что же еще заставило бы нас каждый день ходить в такую даль и взбираться на крутой бугор, задыхаясь от ветра, увязая в сугробах? Мы сами шли в школу. Никто нас не гнал туда. Никто не заставил бы нас мерзнуть в этом холодном сарае, где дыхание оседало белой изморозью на лицах, руках и одежде. Мы только позволяли себе по очереди греться у печки, пока все остальные сидели на своих местах, слушая Дюйшена.
В один из таких студеных дней – это было, как теперь помню, в конце января – Дюйшен собрал нас, обойдя все дворы, и, как обычно, повел в школу. Шел он молчаливый, строгий, со сдвинутыми, как крылья беркута, бровями, и лицо его казалось выкованным из черного, прокаленного железа. Никогда еще не видели мы таким своего учителя. Глядя на него, мы тоже притихли: почувствовали что-то неладное.
Когда на дороге встречались большие сугробы, Дюйшен обычно сам прокладывал путь, за ним шла я, за мной все остальные. И в этот раз у подножья бугра, где за ночь намело много снега, Дюйшен пошел вперед. Иногда посмотришь на человека со спины – и сразу поймешь, в каком он состоянии, что творится у него на душе. Вот и тогда видно было, что учитель наш убит горем. Он шел с поникшей головой, с трудом волоча ноги. Я до сих пор помню страшное чередование перед глазами черного и белого: мы взбирались гуськом на бугор – под черной шинелью горбилась спина Дюйшена, а выше по крутизне над ним горбились верблюжьими хребтинами белые сугробы, и ветер срывал с них поземку, а еще выше – в белом мутном небе темнела одинокая черная туча.
Когда мы пришли, Дюйшен не стал растапливать печь.
– Встаньте, – приказал он.
Мы поднялись.
– Снимите шапки.
Мы послушно обнажили головы, и он тоже сорвал с головы буденовку. Мы не понимали, к чему это. И тогда учитель сказал простуженным, прерывающимся голосом:
– Умер Ленин. По всей земле люди стоят сейчас в трауре. И вы стойте на своих местах, замрите. Смотрите вот сюда, на портрет. Пусть запомнится вам этот день.
В нашей школе стало так тихо, будто ее накрыла лавина. И слышно было, как ветер врывается в щели. И слышно было, как снежинки с шорохом падают в солому.
В тот час, когда онемели неумолчные города, когда затихли содрогавшие землю заводы, когда замерли на путях грохочущие поезда, когда весь мир погрузился в траур, – в тот скорбный час и мы, маленькая частица частицы народа, затаив дыхание, торжественно стояли в карауле вместе со своим учителем там, в неведомом никому промерзшем сарае, именуемом школой, и прощались с Лениным, мысленно считая себя самыми близкими ему людьми, больше всех горюющими о нем. А наш Ленин в своем несколько мешковатом военном френче, с рукой на перевязи все так же смотрел на нас со стены. И все так же говорил нам своим ясным, чистым взглядом: «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас!» И чудилось мне в ту тихую минуту, что он и в самом деле думает о моем будущем.
Потом Дюйшен вытер глаза рукавом и сказал:
– Я ухожу сегодня в волость. Я иду вступать в партию. Вернусь через три дня…
Эти три дня мне всегда представляются самыми суровыми из всех зимних дней, которые мне пришлось пережить. Словно бы какие-то могучие силы природы пытались восполнить на земле место великого человека, ушедшего из нашего мира: гудел, не стихая, ветер в яру, кружили снежные метели, железно звенел мороз… Не находила себе покоя стихия: металась, билась в плаче о землю…
Притих наш аил, примолк под горами, смутно темнеющими в низких наплывах туч. Из завьюженных труб тянулись тоненькие дымки, люди не выходили из домов. Да к тому еще залютовали вдруг волки. Обнаглели, днем появлялись на дорогах, а по ночам рыскали вблизи аила и до самого рассвета выли голодным, истошным воем.
Боялась я почему-то за нашего учителя: как он там в такие холода, без шубы, в одной шинели? А в тот день, когда Дюйшен должен был вернуться, я совсем потеряла голову: чуяло, видно, сердце что-то недоброе. То и дело выбегала я из дома, смотрела в заснеженную безлюдную степь: не покажется ли учитель на дороге? Но не видно было ни души.
«Где же ты, учитель наш? Умоляю тебя, не задерживайся допоздна, возвращайся быстрей. Мы ждем тебя, ты слышишь, учитель! Мы ждем тебя!»
Но степь не отзывалась на мой безмолвный крик, и я почему-то плакала.
Тетке надоели мои хождения.
– Ты дашь сегодня покой дверям? А ну, садись на свое место, берись за пряжу. Детей поморозила. Попробуй выскочи еще! – погрозила она мне пальцем и больше не выпускала из дома.
Вечерело уже, а я так и не знала, вернулся учитель или нет. И от этого не находила себе места. То утешалась мыслью, что Дюйшен, пожалуй, уже в аиле, ведь не было еще случая, чтобы он не вернулся в обещанный день. То вдруг казалось мне, что он заболел и поэтому идет медленно, а поднимется буран, так и заблудиться недолго ночью в степи. Работа не клеилась, руки не слушались меня, пряжа то и дело обрывалась, и это бесило тетку.
– Да что с тобой сегодня? Руки у тебя деревянные, что ли? – все больше свирепела она, косясь на меня. А потом терпение у нее лопнуло: – Ух, погибели на тебя нет! Иди-ка лучше отнеси старухе Сайкал ихний мешок.
Я чуть не подпрыгнула от радости. Ведь Дюйшен жил как раз у старухи Сайкал. Старики Сайкал и Картанбай доводились мне дальними родственниками по матери. Прежде я частенько у них бывала, а иной раз даже и ночевать оставалась. Вспомнила ли тетка об этом или Бог ей так подсказал, но, сунув мне мешок, она добавила:
– Ты сегодня осточертела мне, как толокно в голодный год. Ступай и, если позволят старики, переночуй там. Иди с глаз моих долой…
Я выскочила во двор. Ветер бесновался, как шаман: захлебывался, а потом внезапно накидывался, швыряя в разгоряченное лицо пригоршни колючего снега. Я зажала мешок под мышкой и пустилась бежать в другой конец аила по свежему раскидистому следу конских копыт. А голову точила только одна мысль: «Вернулся ли, вернулся ли учитель?»
Прибежала, а его нет. Сайкал перепугалась, когда я застыла на пороге, едва переводя дыхание.
– Что с тобой? Ты что так бежала, беда какая?
– Нет, так просто. Мешок вот принесла. Можно я у вас останусь сегодня?
– Оставайся, ниточка моя. Фу ты, негодница, страху-то нагнала. Ты что-то с самой осени не заглядываешь. Садись к огню, грейся.
– А ты, старуха, мяса положи в казан, угости дочку. Да и Дюйшен часом подоспеет, – отозвался Картанбай, который сидел подле окна и подшивал старые валенки. – Давно бы пора ему дома быть, ну да ничего, приедет, пока смеркнется. Наша лошаденка к дому ходкая.
Незаметно подобралась к окнам ночь. Сердце мое, казалось, стояло на страже, оно напряженно замирало, когда лаяли собаки или доносились голоса людей. А Дюйшена все не было. Хорошо еще, Сайкал скрадывала время разговорами.
Так мы ждали его с часу на час, а к полуночи Картанбай устал.
– Давай-ка, старуха, стели постель. Не приедет он сегодня. Поздно уже. Мало ли дел у начальников, задержали, стало быть, а не то давно бы дома был.
Старик стал укладываться.
Мне постелили в углу за печкой. Но я не могла заснуть. Старик все кашлял, ворочался, шептал в ночи молитвы, а потом пробормотал беспокойно:
– Как-то там лошаденка моя? Ведь клочка сена задарма не выпросишь, а овса и за деньги не достанешь.
Картанбай вскоре уснул, но тут ветер не стал давать покоя. Он шарил по крыше, ворошил шершавой пятерней стреху, скребся в стекла. Слышно было, как снаружи поземка билась в стены.
Не успокоили меня слова старика. Мне все казалось, что учитель приедет, и я думала о нем, представляла его себе в пути, среди пустынных снегов. Не знаю, надолго ли я заснула, но вдруг что-то заставило меня оторвать голову от подушки. Гнусавый, утробный вой разнесся над землей и застыл где-то в воздухе. Волк! И не один – их много. Перекликаясь с разных сторон, волки быстро сближались. Их подвывания слились в единый протяжный вой, который вместе с ветром метался по степи, то удаляясь, то приближаясь снова. Иной раз казалось, что они где-то совсем рядом, на краю аила.
– Буран накликают! – прошептала старуха.
Старик промолчал, прислушался, затем вскочил с постели.
– Нет, старуха, неспроста это! Гонят они кого-то. Человека ли, лошадь ли окружают. Слышишь? Упаси бог, Дюйшена. Ведь ему все нипочем, дурень он этакий. – Картанбай всполошился, ища в темноте шубу. – Свет, свет давай, старуха! Да быстрей ты, ради бога!
Дрожа от страха, мы вскочили, и пока Сайкал нашла лампу, пока она засветила ее, яростный вой волков вдруг разом смолк, словно его рукой сняло.
– Настигли, окаянные! – вскрикнул Картанбай и, схватив клюку, кинулся было к двери, но в это время залаяли собаки. Кто-то пробежал под окнами, скрипя подошвами по снегу, и громко, нетерпеливо застучал в дверь.
В комнату ворвалось морозное облако. Когда оно рассеялось, мы увидели Дюйшена. Бледный, задыхающийся, он, шатаясь, перешагнул через порог и прислонился к стене.
– Ружье! – выдохнул Дюйшен.
Но мы словно бы не поняли его. У меня в глазах потемнело, и я слышала только, как запричитали старики:
– Черную овцу – в жертву, белую овцу – в жертву! Да хранит тебя святой Баубедин. Ты ли это?
– Ружье, дайте ружье! – повторил Дюйшен.
– Нет ружья, что ты, куда?
Старики повисли на плечах Дюйшена.
– Дайте палку!
Но старики взмолились:
– Никуда не пойдешь, никуда, пока мы живы. Лучше убей нас на месте!
Я почувствовала вдруг странную слабость во всем теле и молча легла в постель.
– Не успел, настигли у самого дома. – Дюйшен шумно перевел дыхание и швырнул в угол камчу. – Лошадь еще в дороге заморилась, а потом волки погнали, она доскакала до аила и рухнула, как сноп. Там они и набросились на нее.
– Ну и бог с ней, с лошадью, главное, что сам живой остался. А не упади конь, они бы и тебя не упустили! Слава хранителю Баубедину, что все так кончилось. Теперь раздевайся, садись к огню. Давай сапоги стяну, – суетился Картанбай. – А ты, старуха, подогрей, что там у тебя есть.
Они сели к огню, и тогда Картанбай облегченно вздохнул.
– Ну ладно, чему быть, того не миновать. А чего же это ты так поздно выехал?
– Заседание в волкоме затянулось, Караке. Я вступил в партию.
– Это хорошо. Ну выехал бы на другой день с утра, ведь тебя, я думаю, никто не гнал прикладом в дорогу.
– Я обещал детям вернуться сегодня, – ответил Дюйшен. – Завтра с утра начнем заниматься.
– Эх, дурень! – даже привскочил Картанбай и от негодования замотал головой. – Ты послушай только, старуха: он, видишь ли, обещанье дал детям, этим соплякам! А если бы в живых не остался? Да соображаешь ли ты своей головой, что говоришь?
– Это мой долг, моя работа, Караке. Вы о другом скажите: обычно пешком ходил, а тут, черт меня дернул, выпросил у вас лошадь и отдал ее волкам на съедение…
– Да не о том речь. Пропади она пропадом, эта кляча. Пусть будет в жертву тебе принесена! – осерчал Картанбай. – Век был безлошадным и теперь не пропаду. А будет стоять советская власть – наживу еще…
– Дело говоришь, старик, – отозвалась набрякшим от слез голосом Сайкал. – Наживем еще… На-ка, сынок, хлебай, пока горячее.
Они замолчали. А минуту спустя, разгребая кизячный жар, Картанбай задумчиво промолвил:
– Смотрю я на тебя, Дюйшен, вроде бы и не глупый ты, а скорее умный парень. И не пойму никак, чего ради ты мыкаешься с этой школой, с ребятишками несмышлеными? Или не найти тебе другого дела? Да наймись ты к кому-нибудь в чабаны, тепло и сытно будет…
– Я понимаю, Караке, что вы добра мне желаете. Но если эти несмышленыши будут потом вот так же, как вы, говорить, зачем нужна школа, зачем нам учение, то дела советской власти недалеко пойдут. А ведь вы хотите, чтобы она стояла, чтобы она жила. И потому школа для меня не в тягость, Караке. Если бы я мог лучше учить ребят, я бы ни о чем больше не мечтал. Вот ведь и Ленин говорил…
– Да, к слову… – перебил Картанбай Дюйшена и, помолчав, сказал: – Вот ты все убиваешься. А ведь слезами не воскресишь Ленина! Эх, если бы была такая сила на земле! Или, ты думаешь, другие не печалятся, не горюют?.. А ты загляни ко мне под ребра: дымит там сердце горьким дымом. Не знаю, право, сойдется ли это с твоей политикой, но хотя Ленин был человеком другой веры, а я пять раз на день молюсь за него. А иной раз думаю я, Дюйшен, сколько бы мы с тобой его ни оплакивали, все без пользы. Так я это по-своему, по-стариковски, рассудил: Ленин в народе самом остался, Дюйшен, и перейдет по крови – от отцов к сыновьям.
– Спасибо вам за ваши слова, Караке, спасибо. Правильно вы думаете. Ушел он от нас, а мы жизнь по Ленину мерить будем…
Слушая их разговоры, я как бы медленно возвращалась издалека к самой себе. Вначале все походило на сон. Я долго не могла заставить себя поверить, что Дюйшен вернулся живой и невредимый. А потом, как вешний поток, хлынула в мою раскованную душу неуемная, неудержимая радость, и, захлебываясь в этом горячем потоке, я заплакала навзрыд. Может быть, еще никто никогда не радовался так, как я. В эту минуту для меня ничего не существовало: ни этой мазанки, ни буранной ночи на дворе, ни волчьей стаи, терзающей на окраине аила единственную лошадь Картанбая. Ничего! Сердцем, разумом, всем существом своим я ощущала бесконечное, безмерное, как свет, необыкновенное счастье. Я укрылась с головой и зажала рот, чтобы меня не услышали. Но Дюйшен спросил:
– Кто это всхлипывает за печкой?
– Да это Алтынай, перепугалась давеча, вот и плачет, – сказала Сайкал.
– Алтынай? Откуда она? – Дюйшен вскочил с места и, опустившись на колени у моего изголовья, тронул меня за плечо. – Что с тобой, Алтынай? Ты почему плачешь?
А я отвернулась к стене и пуще прежнего залилась слезами.
– Да что ты, милая, чего ты так испугалась? Ну разве можно так, ведь ты у нас большая… А ну, глянь на меня…
Я крепко обняла Дюйшена и, уткнувшись в его плечо мокрым горячим лицом, неудержимо всхлипывала и ничего не могла поделать с собой. Меня била радость, как в лихорадке, и я бессильна была унять ее.
– Да никак сердце у ней сдвинулось с места! – забеспокоился Картанбай и тоже поднялся с кошмы. – А ну, старуха, заговори, пошепчи малость, да поживей…
И все они вдруг всполошились. Сайкал нашептывала заклинания, брызгала мне в лицо то холодной, то горячей водой, обдавала паром и сама плакала вместе со мной.
Ах, если бы они знали, что сердце мое «сдвинулось с места» от великого счастья, о котором я не в силах была рассказать, да, пожалуй, и не сумела бы.
И пока я не успокоилась и не уснула, Дюйшен сидел возле меня и тихо гладил прохладной рукой мой горячий лоб.
Зима откочевала за перевал. Уже гнала свои синие табуны весна. С оттаявших, набухших равнин потекли в горы теплые потоки воздуха. Они несли с собой весенний дух земли, запах парного молока. Уже осели сугробы, и тронулись льды в горах, и тренькнули ручьи, а потом, схлестываясь в пути, они хлынули бурными, всесокрушающими речками, наполняя шумом размытые овраги.
Может быть, это и была первая весна моей юности. Во всяком случае, она казалась мне краше прежних весен. С бугра, где стояла наша школа, открывался глазам прекрасный мир весны. Земля, словно бы раскинув руки, сбегала с гор и неслась, не в силах остановиться, в мерцающие серебряные дали степи, объятые солнцем и легкой, призрачной дымкой. Где-то за тридевять земель голубели талые озерца, где-то за тридевять земель ржали кони, где-то за тридевять земель пролетали в небе журавли, неся на крыльях белые облака. Откуда летели журавли и куда они звали сердце такими томительными, такими трубными голосами?..
С приходом весны мы зажили веселее. Мы придумывали разные игры, беспричинно смеялись, а после уроков от самой школы до аила всю дорогу бежали, громко перекликаясь. Тетке не нравилось это, и она не упускала случая обругать меня:
– Ты-то что резвишься, дуреха? И дела тебе нет, что в девках засиделась. У добрых людей такие, как ты, давно замуж повыходили, родных в дом прибавили, а ты… Нашла себе забаву – в школу ходить… Но погоди, я тебя приберу к рукам…
По правде говоря, я не очень-то близко к сердцу принимала теткины угрозы: не в новость же – всю жизнь ругается. А сказать про меня, что я засиделась, и вовсе было несправедливо. Я просто вытянулась в эту весну.
– Ты еще лохматая девчонка, – смеялся Дюйшен. – Да к тому же, кажется, рыжая!
Его слова меня нисколечко не обижали. Конечно, думала я про себя, я лохматая, но все-таки не совсем рыжая. А вот когда я вырасту, стану настоящей невестой, то разве же я буду такая? Пусть посмотрит тогда тетка, какая я буду красивая. Дюйшен говорит, что у меня глаза блестят, как звездочки, и лицо открытое.
Как-то раз, когда я прибежала из школы, у нас во дворе стояли две чужие лошади. Судя по седлам, по сбруе, хозяева их приехали с гор. И раньше случалось, что они заворачивали к нам по пути с базара или на мельницу.
Еще с порога меня резанул какой-то неестественный смех тетки: «Да ты, племянничек, не очень-то тужи, не обедняешь. Зато потом, когда получишь голубку в руки, добрым словом меня помянешь. Хи-хи-хи!» В ответ послышались поддакивающие, хохочущие голоса, а когда я появилась в дверях, все сразу смолкли. У разостланной на кошме скатерти сидел, как пень, краснолицый, грузный человек. Он покосился на меня из-под лисьей шапки, надвинутой на потный лоб, и, кашлянув, опустил глаза.
– А, доченька, вернулась, заходи, милая! – ласково ухмыляясь, встретила меня тетка.
Дядя сидел на краешке кошмы тоже с каким-то незнакомым мне человеком. Они играли в карты, пили водку и ели бешбармак. Оба были пьяны, и их головы как-то странно мотались, когда они били картами.
Наша серая кошка подобралась было к скатерти, но краснолицый так стукнул ее по голове костяшками пальцев, что она, дико взвизгнув, отскочила в сторону и забилась в угол. Ох, как больно было ей! Мне захотелось уйти, только я не знала, как это сделать. Тут меня выручила тетка.
– Доченька, – сказала она, – там в казане еда, покушай, пока не остыло.
Я вышла, но мне очень не понравилось такое поведение тетки. И на душе стало неспокойно. Я невольно насторожилась.
Часа через два приезжие сели на коней и уехали в горы. Тетка тут же начала осыпать меня обычной бранью, и у меня отлегло от души. «Значит, она просто спьяну была такой ласковой», – решила я.
Вскоре после этого к нам пришла как-то старуха Сайкал. Я была на дворе, но услышала, как она сказала:
– Да что ты, бог с тобой! Погубишь ты ее.
Перебивая друг друга, тетка и Сайкал о чем-то горячо заспорили, и затем старуха вышла из дома очень разгневанная. Она бросила на меня сердитый и в то же время жалостливый взгляд и молча ушла. А мне стало не по себе. Почему она так посмотрела на меня, чем я ей не угодила?
На другой день в школе я сразу заметила, что Дюйшен мрачен и чем-то озабочен, хотя и старается не показать нам виду. И еще я заметила, что он почему-то не смотрит в мою сторону. После уроков, когда мы всей гурьбой вышли из школы, Дюйшен окликнул меня:
– Постой, Алтынай. – Учитель подошел ко мне, пристально посмотрел мне в глаза и положил руку на плечо. – Ты домой не иди. Ты поняла меня, Алтынай?
Я помертвела от страха. Только теперь до меня дошло, что собиралась сделать со мною тетка.
– Я сам за тебя отвечу, – сказал Дюйшен. – А жить ты будешь пока у нас. И далеко от меня не отлучайся.
Наверно, на мне лица не было. Дюйшен взял меня за подбородок и, глядя в глаза, улыбнулся, как всегда.
– Да ты не бойся, Алтынай! – засмеялся он. – Когда я с тобой, никого не бойся. Учись, ходи в школу, как прежде, и ни о чем не думай… А то ведь я знаю, какая ты трусиха… Да, кстати, давно собирался рассказать тебе. – Видно, вспомнив что-то смешное, он опять засмеялся. – Помнишь, в тот раз Караке поднялся спозаранку и куда-то исчез? Смотрю, приводит – кого бы ты думала? – знахарку, Джайнакову старуху. «Зачем?» – спрашиваю. «Пусть, – говорит, – пошаманит, а то у Алтынай сердце сдвинулось с места со страху». А я и говорю: «Гоните ее со двора, от нее иначе как одной овцой не отделаешься. А мы не так богаты. Коня подарить тоже не можем: волкам отдали…» А ты еще спала. Так я и выпроводил ее. А Караке потом целую неделю не разговаривал со мной, обиделся: «Ты, – говорит, – подвел меня, старого». И все-таки хорошие они старики, редкой доброты люди. Ну, теперь пошли домой, пошли, Алтынай…
Как ни старалась я держать себя в руках, чтобы не огорчать понапрасну учителя, тревожные мысли уже не отпускали меня. Ведь в любой час сюда могла заявиться тетка и силой увести меня. А там они сделают со мной, что захотят, и никто в аиле не запретит им этого. Я всю ночь не спала, ожидая беды.
Дюйшен, конечно, понимал мое состояние. И, может быть, поэтому, чтобы как-то отвлечь меня от мрачных дум, он принес на другой день в школу два деревца. А после уроков взял меня за руку и отвел в сторону.
– Сейчас мы с тобой, Алтынай, сделаем одно дело, – сообщил он, загадочно улыбаясь. – Вот эти топольки я принес для тебя. Мы с тобой их посадим. И пока они вырастут, пока наберут силу, ты тоже вырастешь, будешь хорошим человеком. У тебя душа хорошая и ум пытливый. Мне всегда кажется, что ты будешь ученым человеком. Я в это верю, вот посмотришь, у тебя на роду так написано. Ты сейчас молоденькая, точно прутик, такая же, как эти топольки. Так давай посадим их, Алтынай, своими руками. И пусть твое счастье будет в учении, звездочка ты моя ясная…
Деревца были ростом с меня, молоденькие сизостволые топольки. И когда мы их посадили неподалеку от школы, с предгорья набежал ветерок и первый раз тронул их совсем еще маленькие листочки, словно бы жизнь вдохнул в них. Дрогнули листочки, шевельнулись топольки, закачались…
– Погляди, как хорошо! – засмеялся Дюйшен, отступая назад. – А теперь проведем сюда арык вон от того родника. И потом увидишь, какие это будут красивые тополя! Они будут стоять здесь, на бугре, рядышком, как два брата. И всегда они будут на виду, и добрые люди будут им радоваться. Тогда и жизнь настанет иная, Алтынай. Все лучшее еще впереди…
Я и сейчас не могу найти слов, чтобы хоть сколько-нибудь выразить, как я была тронута благородством Дюйшена. А тогда я просто стояла и смотрела на него. Я смотрела так, будто бы впервые увидела, сколько светлой красоты в его лице, сколько нежности и добра в его глазах, будто бы никогда прежде не знала я, как сильны и ловки его руки в работе, как чиста его ясная улыбка, согревающая сердце. И горячей волной поднялось в моей груди новое, незнакомое чувство из неведомого еще мне мира. И я внутренне рванулась к Дюйшену, чтобы сказать ему: «Учитель, спасибо вам за то, что вы родились таким… Я хочу обнять и поцеловать вас!» Но я не посмела, постыдилась произнести эти слова. А может быть, надо было…