Бог тревоги бесплатное чтение
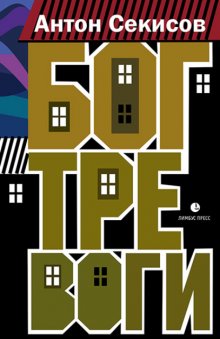
© Лимбус Пресс, 2021
© А. Веселов, оформление, 2021
1
Я проснулся из-за того, что в комнату залетел инородный предмет. Мне показалось, это граната, бомба. Тело сжалось в последний раз перед тем, как разлететься на ошметки и лоскутки – может быть, навсегда, а может, только на неопределенное время.
Я присмотрелся и понял, что предмет – птица. По оперению было видно, что это скворец. Почему-то сразу стало понятно, что скворец мертвый. Труп птицы кротко лежал в углу.
Судя по траектории, он влетел не сам, а кто-то швырнул его в форточку. Как это могло получиться? Мы были на восьмом этаже. Но все-таки на пару секунд возникло полное ощущение, что кто-то стоит за окном. Стоит или даже висит: представился суперзлодей вселенной «Марвел» Зеленый Гоблин, который парит у окна на реактивном глайдере, а в авоське у него – охапка мертвых скворцов. Он подкидывает их жильцам Басманного района Москвы, чтобы внести разлад в их бедные, порабощенные ежедневной рутиной головы.
Не просыпаясь, Рита столкнула меня с матраса, хорошенько двинув ногой. Я взглянул на ее безмятежную лисью мордочку. На улице было жарко. Медленные тупые мысли плыли в голове.
Встать долго не получалось, и я просто лежал на полу и глядел на птицу. Напольный вентилятор шевелил оперение скворца. Голый, сонный, беспомощный, я чувствовал себя тоже птицей, выпавшей из гнезда.
Я все-таки подошел к окну и отдернул штору. За окном не было никого – ни поблизости, ни вообще где бы то ни было, насколько достигал взгляд. А взгляд достигал железнодорожных путей, розовой колокольни XVIII века, стены которой приобрели оттенок воспаленной кожи, сгоревшей на солнце; пыльного и пустого двора и достроенного в 1917 году огромного доходного дома, в котором теперь была академия прокуратуры. Никаких признаков жизни ни в одном из многих сотен окон. Ни одной птицы: ни живой, ни мертвой.
Я встал перед зеркалом в ванной, надавил на тюбик с пастой и вспомнил, что есть плохая примета про птиц. Птица, влетевшая в дом, – это вестник смерти. А что за примета, если и сам вестник смерти мертв? Целое колесо смерти вломилось в окно этим утром.
Долго мыл холодной водой лицо, пытаясь проснуться. Сходил на кухню за мусорными пакетами, веником, совком и перчатками. Мне не хотелось обратно в комнату, и я долго стоял на пороге, ковыряя пальцем в зубах. Но когда зашел, скворца нигде не было. Рита лежала лицом к стенке. Я сел на стул посреди комнаты и поглядел на нее. Представил, что Рита на самом деле не спит и что у нее желтые белки глаз, узкие, как бритва, зрачки, а изо рта торчит птичье перышко.
Одна лопатка у Риты так выпирала, как будто третья рука хотела вырваться из спины. Этой ночью мы старались любить друг друга потише, из уважения к спавшему ровно под нами старому инвалиду. Но он все равно стучал по батарее клюкой. Я сидел и раздумывал, стоит ли сказать прямо сейчас о своем решении. Это решение я принял давно. Оно ударило меня, как разряд тока, именно в тот момент, когда я был внутри нее – Рита не женщина, а трансформатор.
Но сейчас решимости не хватало: я понял, что лучше сперва отрепетировать разговор на друзьях. Раздумывая, я и не заметил, как Рита села в постели и, рассеянно взглянув мимо меня, принялась осторожно ощупывать груди – так, как будто всю жизнь прожила мужчиной, а сегодня проснулась в теле привлекательной женщины. Вы наверняка видели хоть один фильм с такой коллизией.
Я купил новые линзы, поэтому с непривычной отчетливостью видел каменный зад купальщицы в Нескучном саду – очень худой, тусклый, несчастный.
Был еще один аномально теплый день в октябре, и деревья большей частью стояли зелеными, а люди бродили полураздетыми, и только зад купальщицы источал беспокойство, торча молчаливой угрозой сложившемуся порядку вещей. Как будто в нем была заключена вся чугунная серость зимы. Казалось, купальщица вот-вот разорвется, и всю эту жалкую последнюю теплоту, как при обвале, засыплет каменным холодом.
Здесь я объявил своим друзьям, Александру Снегиреву и Оле Столповской, что переезжаю в Петербург. Они узнали первыми о моем намерении.
Оля – скандинавская мраморная королева. Снегирев – арабский шейх, с шерстяными, но аристократическими руками, со странно темной лысиной, в которой, как в черном зеркале, гасли все блики и отражения.
Обычно у Оли были ясно-прозрачные глаза, но сегодня – замутившиеся, как будто они выпали в корыто с мыльной водой и долго плескались там, пока Оля шарила по корыту руками. Но и такими глазами она видела меня целиком, вместе с желтеющими подмышками и всеми рабьими банальными мечтами. И Оля принялась хохотать. Это не шло мраморной королеве.
Снегиреву сделалось неудобно за свою непосредственную жену.
– Что здесь такого? – сказал шейх. – Я тоже думал пожить в Петербурге. Просто смелости не хватало.
Оля продолжала смеяться, она смеялась достаточно долго, чтоб выйти за рамки всех возможных приличий. Но я понимал ее смех. Москвич, переезжающий в Петербург. Мелкий писатель-неудачник в попытке поэтизировать жизнь, переехать в мировую столицу писателей-неудачников. Какой флер романтической глупости тянется за этим решением. Она видела, что перед ней не мужчина, а хоть седоволосый, но по сути младенец, требующий того, чего и сам не в силах понять. Сколько она перевидала таких переездов. Принес ли он счастье хоть одному?
Я глядел на друзей с обидой. Скандинавская королева и арабский шейх, которых как будто свели из геополитических интересов. И их аккуратное королевство в Подмосковье с кукольным дворцом без забора, открытым наступающему на них лесу. Но лес тоже кукольный, из декоративных хрупких берез. Он весь виден насквозь – из этого леса не может выйти ничего страшного – в худшем случае, полевая мышь. В таких декорациях хорошо снимать европейский мистический триллер про благополучную семью, которую мучают призрачные кошмары, так и не проявившиеся во плоти.
У Риты от нервов задергался один глаз, а лицо печально обмякло – может, сбежал один из бородатых атлантов, поддерживавших каркас. Я списал это на лисью Ритину интуицию. Она догадалась про переезд. Для Риты у меня было три нежных прозвища – лисичка, змея, паучиха. Но сейчас ни одно из этих прозвищ к ней не приклеивалось. «Моя переваренная свеклушка», – что-то такое вертелось на языке.
Но причина была в другом. Рита сказала мне, что беременна.
Ее слова подействовали неожиданно. Еще недавно я бросился бы от таких слов на рельсы – мы встретились у эскалаторов на станции «Римская», возле фигурок двух жутких детей с облупившимися физиономиями, они налипли на дорическую колонну, как слизистые насекомые типа улиток.
Но теперь я чувствовал, как все обретает смысл. Переезд в Петербург – это просто тупая блажь. Мне тридцать лет, мне нужно идти по пути, проторенному тысячей моих предков, а не скакать козлом из города в город. Меня ждет обыкновенная семейная жизнь, ее теплый навоз, в котором пришла пора согреться и успокоиться.
Рита не понимала моей улыбки. Когда я обнял ее, почувствовал, что она дрожит. Испуганная светловолосая девочка в белом пуховике. У нее азиатский разрез глаз, но арийский облик. Рита – это Евразия. Вот и новое прозвище, первое прозвище, не привязанное к животному миру или еде.
Евразия вгляделась в меня с тоской и мольбой: как же я мог – здоровенный лоб – не обезопасить ее от такого конфуза?
Я вспомнил смех Оли. Она смеялась не над моим переездом. Белая ведьма, она заглянула в будущее и рассмеялась над всеми моими планами, которые разобьются о завтрашнее известие. Пока я разглядывал тощий каменный зад купальщицы, она прозревала мойр, из лоскутов окровавленной кожи уже давно соткавших мою судьбу.
В комнате было темно, только падал мертвящий свет от абажура, на который Рита набросила синие бархатные штаны. Я ощущал спиной, как светится синеватый лоб Гумилева – с портрета, купленного в музее Ахматовой. Трудно было понять, что выражал взгляд его неодинаковых косых глаз, казавшийся немного враждебным.
На ребрах у Риты наколота паутина – прямолинейный символизм жизни. Но я доволен положением мухи, увязшей в сети. Точнее, меня охватило состояние бурной радости. Но это радость, спущенная сверху, как директива. Приказано радоваться. И кто же отдал приказ? Тело, запрограммированное на размножение, или это зов предков, или, может, древний уродливый бог плодородия внушил это мне?
Мыслями я был далеко над нашей постелью. Монотонно двигаясь, я производил сложные вычисления, во всех мелочах планируя семейную жизнь.
С меня стекал пот, и лилось из носа.
А все-таки, кто переключил во мне невидимый рычажок? Ведь раньше ребенок был для меня сосущий воющий кровопийца и пожиратель времени. Он загонит меня на крест, с которого уже не сойти до конца моих дней. Привяжет ржавой якорной цепью к женщине, к которой мгновенно утрачиваешь всю нежность после такого известия. Как сразу же, раз и навсегда, становится ненавистен маршрут от метро, ведущий к работе.
Но теперь я был спокоен и счастлив. Впервые я видел, что смысл наполняет мою жизнь. На что мне мое время? Уже сколько мне было отпущено, и как я распорядился им? Пусть ребенок сожрет то, что осталось от времени.
И вот я блуждал внутри женщины, которую еще месяца три назад не знал, как в изменяющемся лабиринте. Чувствовал, как она, выпустив когти, крепко держит меня над собой, хотя я и не планировал вырываться.
Утром, заталкивая себя в вагон, я получил от Риты короткое сообщение: «Милый, мы не подарим стране солдата». Моя пацифистка. Она сделала новый тест, сходила к врачу, и оказалось, что беременность улетучилась.
Так, оказывается, бывает: заснула беременной, а проснулась уже не беременной. И медицина не видит в этом ничего странного. Не исключено, что и с женщиной на седьмом или восьмом месяце может случиться что-то подобное. И это событие тоже будет воспринято как само собой разумеющееся и в лучшем случае удостоится нескольких нечитабельных строк в медицинской карте.
Спустя пару станций пришло запоздалое понимание: я все-таки переезжаю в Петербург. Жаль, что этот незаметный для внешнего мира зигзаг судьбы не пробудил во мне даже тени эмоции.
2
Я никогда не был решительным человеком, но в последние годы воля атрофировалась уже до клинической патологии. У меня поднималась температура, когда нужно было решить, какое кино скачать, и я так и ложился спать, ни к чему не придя, до ночи мечась и маясь, бесконечно тасуя вкладки браузера.
Но вот я принял решение впервые за много лет. Правда, несколько раз подбросив монетку в подтверждение выбора, но все-таки это был волевой шаг. И этот волевой шаг дробился на целую серию волевых решений: решение расстаться с Ритой, решение съехать с квартиры, решение уволиться, решение оставить маму одну в городе, и от всего этого мозг непрерывно кипел. Помимо нелегкого разговора с Ритой предстоял разговор с начальником, разговор с арендодателем, разговор с моим барбером – замечательным парнем, который вряд ли переживет, что его многомесячный труд по окантовке затылка обернется трудом Сизифа.
Перед барбером было особенно неудобно. Какие слова подобрать? Как будто мне нужно было признаться в подлости, которой человеческий род еще не знавал. Хотя уж в чем человеческий род никогда не переживал writer’s block, так это в изобретении подлостей. Почему же так тяжело? Я вспоминал, что, парадоксальным образом, настоящие подлости давались мне куда проще.
Я сидел в кабинете начальника, парня на год или два старше меня, с ржаво-рыжей бесформенной бородой, которую он без конца теребил в районе ямочки на подбородке. Когда я положил на угол стола заявление об увольнении, он не удивился и не расстроился, но принялся долго и уныло пытать меня, зачем я переезжаю в Санкт-Петербург. Мне предстояло еще много раз ответить на этот вопрос, и сложность была в том, что нормального человеческого ответа на него не существовало. Чтобы ответить на вопрос, зачем мне переезд в Петербург, нужно было переехать в Петербург. Выходила логическая ловушка. Поэтому оставалось краснеть и потеть, и мямлить, ожидая, когда он сдастся и разрешит уйти.
Было проще всего сказать: семейные обстоятельства или другая, более высокооплачиваемая, работа (в Петербурге? ха-ха), но я почему-то не мог соврать.
Если бы я задался целью честно ответить на этот вопрос, что в принципе невозможно в кабинете начальника, то у меня вышел бы длинный и путаный лирический монолог. И я все-таки приведу его здесь, постаравшись ужать, насколько это возможно.
Уже очень давно меня мучило назойливое и неприятное для самолюбия чувство: что я существую только в качестве некоего наваждения, порожденного, в свою очередь, кем-то не вполне настоящим. Это чувство временами охватывает многих или даже почти всех, но другое дело, когда оно не дает тебе передышки. Я стал настолько размыт, настолько лишился свойств, что напоминал сам себе фантазию или сон второстепенного персонажа из проходной повести писателя далеко не первого ряда.
У людей без личности особенно силен страх ее утратить: мысли о смерти доводили меня до состояния такого животного ужаса, что я переставал себя контролировать. Пожалуй, эту одержимость, этот страх потерять личность следовало использовать как единственную характеристику моей личности.
Вся моя взрослая жизнь протекала меж двух огней – между жаром маминого борща и борща старшей сестры: обжигающий жар двух борщей, в котором я задыхался. За многие годы в Москве я не испытал ни одной глубокой эмоции. Значит, все эти годы можно было спокойно перечеркнуть. А других годов – без борщей – и не было.
На фоне бессобытийной жизни я стал постоянно и очень активно разговаривать сам с собой, иногда эти разговоры превращались в споры с жестикуляцией. Я все чаще не находил сил, чтобы встать с кровати, и сказывался на работе больным.
Я был уверен, что психических проблем у меня нет, но время от времени вспоминал своих близких родственников, много лет пролежавших лицом к стене. Депрессия, осложнившаяся смежными заболеваниями. От лекарств у них страшные белые губы, кроткие козьи глаза с кровяными прожилками, это зомби, в которых вместо человеческой воли действует воля медикаментов. Я никогда не ел из одной посуды, не купался в одном водоеме со своими безумными родственниками. Мне казалось, что я подцеплю от них сумасшествие, как цепляют простуду. И эти предосторожности действовали до поры.
Но теперь мне стал сниться навязчивый сон с двумя мужчинами, один из которых стоял, а другой сидел. Почему-то тот сон доставлял мне особенное беспокойство. Я не помню об этих двоих никаких подробностей, но только черты их лиц в какой-то момент начинали резко сморщиваться и кожа становилась похожей на приставший к черепу пластиковый пакет. Я понимал, что, если они сорвут эти пакеты с голов, случится что-то неотвратимо кошмарное. И казалось, что это вот-вот произойдет.
Настали тридцать лет, самый деятельный, определяющий всё период жизни, а я подошел к нему беспомощным и опустошенным.
Из равновесия меня выводили только рабочие споры. Неистовые и многочасовые, они были посвящены, например, вопросу, как следует писать слово «миллиард» – полностью или сокращать до «млрд». А если писать млрд, то добавлять ли к этой абракадабре точку, вот так – «млрд.». Коллеги, занимавшие ту или иную позицию, отстаивали ее так, как будто речь шла о судьбе континента, как будто ангел и черт вели спор за душу, не отягощенную крупным грехом, но и не благодетельную. Вокруг таких бюрократических изысканий вертелась вся моя жизнь, все разговоры и на работе, и за ее пределами. Я родился и всю жизнь прожил в Москве, но она так и осталась чужим, полным чужих людей городом.
Когда я пытался вспомнить, было ли когда-нибудь по-другому, всякий раз возвращался мысленно в Петербург. Там я ни с кем не обсуждал ни миллиард, ни миллион. Там ко мне подходил незнакомец, бледный от водки, и говорил что-то вроде: «Не правда ли, дорогой друг, что если мы покончим с собой, в нашей жизни это ничего не изменит?»
Было время, когда я часто туда наведывался. Я пытался много писать, а Петербург был город моих героев, нервных печальных людей, застрявших между реальным и потусторонним мирами.
Там жили мои друзья-писатели. Бывший борец Витя был настолько точной копией Хемингуэя, что с ним рядом и я чувствовал себя кем-то наподобие Фицджеральда – или по меньшей мере героем «Полночи в Париже», попавшим во временную яму. Он занимал комнату с недостижимо высокими потолками, и мне казалось, что, живи я тут, и мои мысли воспарили бы к небесам. Это в Москве они крутились вокруг, например, туалетной бумаги – ее то слишком быстрого иссякания, то, напротив, почти вечной жизни для какого-нибудь одного рулона.
Или Валера, писатель и массажист с гигантскими крабьими руками, который выжимал меня на массажном столе, как грязную губку. Во время сеансов я узнавал, как следует забивать барана, как правильней любить женщину в зависимости от расположения ее влагалища, как понимать в «Ветхом Завете» или «Войне и мире» ту или иную строку.
Марат, одновременно жилистый, крепкий и ангелически бестелесный, зашившийся пьяница и установщик дверей, похожий на пожилую брезгливую женщину. Когда я смотрел на него, сосредоточенного бедного человека, без конца твердившего про свои и чужие тексты, то верил, что кроме нежных поэтических образов, которые он вырывал из реальности и сажал в грубые колодки своих рассказов, в мире нет и не может быть ничего важного.
Женя, напоминавший одновременно монаха-отшельника и обезьяну, вечно чесался и вел одновременно по сто дел. Он писал по два романа и рэп-альбом, снимал сериал и снимался сам, издавал книжки и выпускал журнал, и поневоле даже человек с витальностью куклы, попади тот в его поле зрения, начинал что-то предпринимать и куда-то бегать.
Максим – мой проводник и покровитель, устраивавший мне ночлег, всегда знавший, где можно отведать лучших в городе щучьих котлет и выпить самой дешевой водки, и где хороший невролог, и где бассейн без хлорки, и какая где теперь идет выставка. Было необъяснимым, как такой энергичный жизнелюбивый тип, как Максим, мог возникнуть среди этих гранитных болот, на этом холодном ветру, обнимающем всех мокрой колючей проволокой.
Максим свел меня с миллиардом (млрд) друзей, и никто из них никогда не работал, а обязательно что-то писал или где-то пел, чуть реже – снимал, и жил, кажется, одной только милостью божьей, или не божьей, но во всяком случае непостижимым образом, в соответствии с принципом «будет день – будет пища». Причем не только пища, но и даже некоторые излишества, в числе коих – знаменитые «влажные питерские спиды».
Я понимал, что и мне следовало отдаться течению петербургской жизни и с беспечностью наблюдать, куда это течение выведет. Петербург только кажется неудобным для жизни, враждебным жизни северным городом – для таких экзотических хрупких цветов, как я и мои друзья, он был теплицей.
Вспоминая свои приезды, я видел драгоценные черепки, из которых складывается прекрасная альтернативная жизнь, и ей живет в этом городе мой доппельгангер. Жизнь, в которой едешь зимой посреди ночи до станции Царскосельской, чтоб поглядеть на любимую скамейку Иннокентия Анненского. А не жизнь, в которой ползаешь возле кулера, на полу, выдавливая друг другу глаза ради верного написания «миллиарда».
Но я выбрал удобные шерстяные тапки Москвы и ежемесячную зарплату. Я попал в худшую из ловушек, в которую может вляпаться пишущий человек, – журналистику. Сперва репортерская работа и так называемое профессиональное выгорание, явно предшествовавшее овладению профессией. Затем работа редактором – и исправление заметок, написанных небывало плохо, от которых в конце концов и я сам стал терять слух к слову. И вот в тридцать лет, задувая свечи на пироге, я понял, что жизнь обрела все черты тоскливой симуляции.
Я работал в газете «Счастливый возраст», публиковавшей статьи про идеальных российских пенсионеров. Пенсионеров, которым не было дела до пенсионной реформы, спортивных и моложавых, их интересовало только открытие новых катков, танцплощадок и фудкортов. Они знакомились в интернете, вставляли в челюсти протезы стоимостью в хорошую иномарку и не слезали с велосипедов и палок для скандинавской ходьбы. Я думал, что если такие пенсионеры и существовали в реальности, то их, должно быть, завезли специально из Скандинавии или Германии.
А делали эту газету о спортивных ухоженных стариках люди, не имевшие ни малейшего отношения к старикам, спорту и даже, увы, к элементарной ухоженности. Молодой бородатый главред был доброжелательным русским пьяницей. Закупал алкоголь канистрами и канистрами же его опустошал за рабочим столом. Там же и проводил ночь, свернувшись на придверном коврике и озверело храпя. В бороде у него всегда застревало съестное, а на безволосом поросячьем животике, пока он спал, сотрудники иногда оставляли фломастером оскорбительные слова.
Ответственный секретарь, старшекурсница, похожая на комарика, тыкалась во все предметы мебели, как пылесос-робот, и хрипела голосом вылезшей из пруда утопленницы: «Фармацевт! Дайте мне телефон фармацевта-а-а». «А где мой телефон?» – интересовался с пола главный редактор. С этого начинался почти каждый рабочий день в газете про благородную старость.
Отношения с Ритой за неполный триместр проделали полный цикл – от обоготворения и через животную похоть – к ласковому безразличию. Мы не знали и не желали узнать друг друга, а просто спали, считали родинки друг на друге, ели пиццу в кровати и смотрели бесконечный сериал «Лост». Меня пугала ее татуировка, ее портрет Гумилева, ее сосед, который выращивал чайный гриб. У этого гриба даже было имя – Федор, – и когда я ночевал у Риты, он проникал в мои сны. Грибы, они как коровы, но только умнее коров. Во всяком случае, они хитрее. А еще мне казалось, что они с соседом трахались друг с другом безостановочно, стоило только выйти за дверь. Я был уверен, что разрыв пойдет нам обоим на пользу.
Пока у меня еще оставалось немного энергии, я должен был предпринять запоздалый рывок в жизнь. При этом я хорошо понимал, что рывок этот следовало уподобить попытке толстого одышливого мужчины догнать линию горизонта. Толстого одышливого мужчины, не забывавшего ни на секунду, что эта линия не станет ближе и на сантиметр. И все-таки надо бежать.
В сущности, я хотел добавить немного нервозности в жизнь. Щепотку полезной нервозности. Сбросить с себя слоновью кожу, которую нарастил в родной Москве. Точнее, в слоновью кожу, как в чехол, было уложено сердце – кожа была по-прежнему слишком нежной, меня выводила из строя любая мелочь, но вот сердце спало, ничего его не касалось. Меня не манили авантюры старого мира – я не хотел брать Трою, не хотел на Донбасс, не хотел жить дикарем в плохо изведанных уголках планеты. Моя Троянская битва – это переезд в Петербург.
В общем, примерно такой монолог должен был выслушать мой начальник, который бы все это время пыхтел и мечтал о канистре. Я поступил благоразумно, ограничившись несколькими минутами беспомощного мычания.
3
Реакция Риты оказалась ровно такой, как я ожидал. Она только вздохнула и уточнила: когда? Я ответил, и она склонила голову набок – наверное, подсчитывала, сколько раз мы еще переспим до моего отъезда. Хотя я и надеялся, что все выйдет именно так, благоразумно и мирно, меня пронзил страшный укол обиды. Мои мысли потекли в следующем направлении: вот она, современная молодежь.
Вот оно, первое по-настоящему свободное поколение, никак не связанное с Советским Союзом, в отличие от меня, хотя и не заставшего его в сознательном возрасте, но все-таки я, цитируя Олега Газманова, рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Или словами Юрия Шевчука: у-у-у-у, рожденный в СССР! Значит, вирус этого мрачно-диковинного государства есть и в моей крови. А вот у поколения Риты его не было. Про Ритино поколение писал упрямый диссидент Владимир Буковский: «Неужели теперь, на пороге гибели страны, произойдет чудо и возникнет из хаоса новое племя бунтарей, которые сделают то, на что их трусливым отцам пороха не хватило, – покончат с остатками тоталитарного режима, превратившегося в мафию, отстранят поколения, испорченные десятилетиями рабства, и начнут строить новое общество?» Нет, не начнут. Ведь это поколение сломанных роботов, травянистых детей без крови, стержня, чувств, морали, владеющих всеми дискурсами, но не верящих ни в один из них, вечно веселых и таких ироничных всезнаек, но почему-то пичкающих себя антидепрессантами без остановки! Отребье, гниль, падаль, навозные насекомые! – так думал я, не в силах отвести взгляд от ее живота, исчерченного нитями паутины.
Последняя встреча с Ритой прошла в Музее русской иконы имени Андрея Рублева. Этот поход был незапланированным, мы просто оказались возле него, когда, как из шлюзов, прорвался дождь, совмещенный с густыми слизистыми осадками неизвестного происхождения. В первые пару секунд показалось даже, что это дождь из моллюсков.
Никаких особенных мест для укрытия не было – так что нас ждало русское зодчество, находившееся под надзором долговязой старухи-смотрительницы. Это была женщина с овальным серым лицом, напоминавшим утес, вокруг которого, как мох, наросла какая-то лиловатая шелуха – на лбу, на щеках. Старуха шла по пятам и издавала шипение, стоило нам встать слишком близко к одной из икон. Рита выглядела бледной, уставшей, на лбу испарина. Я подумал, что в кино так выглядят женщины после родов. Рита перекрасилась в серебристый цвет, и волосы у нее теперь походили на каску.
У меня был аудиогид, и мы, возможно, в последний раз прижавшись друг к другу, слушали бодрый механический голос, который рассказывал, как святого Георгия пытали колесом, бросали в яму с гашеной известью, кромсали пилой, перебили кости на руках и ногах и в конце концов отрубили голову.
Больше других мне понравилась сюжетная икона с Николаем Чудотворцем. Вот он родился, совершил первое чудо, а вот его уже несут хоронить, а потом он вдруг сидит за столом, а потом сражается с какой-то огромной рыбиной. Было сложно понять, как читать сюжетные иконы, но, когда я разобрался, связности повествованию это не добавило. Наверное, именно так должен воспринимать наш мир бог, у которого все происходит одновременно: рождение, смерть, мелкие происшествия, отделяющие одно большое событие от другого, а также посмертная жизнь.
Конечно, не о чем-то таком я должен был размышлять в последнюю встречу с Ритой, но какое место, такие и мысли. А загнало нас сюда странное чудо, моллюсковый дождь.
Мы прощались у памятника Андрею Рублеву, который придерживал в обеих руках две гранитных доски и как будто ждал, когда кто-нибудь встанет под ними. На голове у Рублева возилась ворона, свивая гнездо. Взгляд у него был упрям и грустен.
Вместо романтических, полагавшихся осени желтых листьев были только комки грязи. Снова пролился сопливый моллюсковый дождь, и я предположил, что сейчас мы пойдем заниматься воспетым во многих поп-песнях прощальным сексом, но Рита сжала мою руку несколько раз, как резиновую игрушку, и пошла домой.
Я смотрел ей вслед, пока она не скрылась за поворотом. Мокрая каска волос светилась во мгле, и казалось, что она идет не домой, а отправляется насаждать мир в одну из ближневосточных стран.
Не может быть, чтобы она плакала, раз за разом прогонял я эту мысль в голове, пока гнусные сопливые моллюски с небес падали мне за шиворот, распуская по шее щупальца.
4
В «Сапсане» я долго возился с вещами, мешая проходу людей. Сумку я взял небольшую, скорее для командировки на пару дней, чем для переезда, но все никак не мог извлечь из нее нужные в дороге предметы. Моя соседка следила за мной с интересом. Я пытался следить в ответ, но взгляд все время соскальзывал с ее невыразительного лица с только одной заметной деталью – непрозрачным пушком над губой, готовым вот-вот обернуться усиками.
Я забронировал кресло номер тринадцать. Не хотел его брать, хотя я не очень-то суеверен, и негативных переживаний у меня с этим числом не было, чего нельзя сказать о числах семнадцать или четыре, но ведь ясно, какая у тринадцати репутация. Ясно, как в народе называется это число, а помимо прочего, я переезжал в город, одно из неофициальных имен которого – Чертоград. С другой стороны, это было единственное свободное место возле окна, и пришлось его выбрать.
Но моя соседка, девушка, у которой было кресло четырнадцать, не поняла, а может и поняла, но сделала вид, что не поняла, что четное место – в проходе, и заняла место возле окна, ну и ладно, даже и хорошо, теперь я был на символически нейтральном кресле четырнадцать.
Я старался как можно скорее надеть наушники, но из-за того, что они перепутались, все же успел услышать реплики пассажиров, каждую из которых я слышал столько же раз, сколько пользовался «Сапсаном». Голос мужчины среднего возраста: «А сапсан – это же птица какая-то?» – сиропный голос старушки: «Раньше таких поездов не было», придурковатый голос подростка: «Хы-хы, угомонись, хы-хы, мы же в культурную столицу едем».
Сапсан незаметно пришел в движение, и соседка принялась комментировать пейзаж за окном. Я вяло поддакивал всем ее замечаниям. Говорил что-то вроде: да, слякоть. Слякоти было много. Пустошь и несколько серых домов, как будто бы возведенных из затвердевших кусков слякоти. На холме стоял двухэтажный панельный дом, похожий на плесневый сыр, весь в бирюзовых прожилках. Серые циклопические постройки, из которых валил то ли пар, то ли дым.
Сделав формальный заход к разговору, она объявила, что едет в Петербург учиться на режиссера. Для нее это второе образование. А первое – это логист, на которого она училась шесть лет.
Между карьерой логиста и прыжком в богемную жизнь Петербурга было длинное путешествие по Латинской Америке автостопом. Таков метод Вернера Херцога – он говорил, что вместо обучения в киношколе режиссер должен пройти автостопом от Стамбула до Киева. Школа жизни вместо школы кино. А она решила сделать двойной удар – и ремесло, и жизнь.
Если верить ее рассказам, моя соседка не просто жила полной жизнью, но пожирала жизнь, как голодный толстяк на конкурсе по поеданию бургеров. Одна история была невероятней другой, но во всех прослеживался один лейтмотив, делавший их неотличимыми.
Место действия – Перу. Она просыпается среди ночи от звуков борьбы и женского плача. Бежит на крик и оказывается в доме хозяев – муж жестоко избивает жену, сидя на ней, как боец ММА в партере. Бедной женщине удается высунуть из-под него руку и показать пальцами – «все о’кей». Моя соседка бросается с воплями на мужчину. Они начинают возиться втроем, вопли, треск вырываемых волос, статичные искры ярости, у кровати ломаются ножки, все трое падают. Наутро мужчина приходит к логистке с огромным букетом цветов. Он говорит, что такая у них традиция, с этим ничего не поделаешь, баб надо профилактически бить в табло, чтоб не задавались. Бабы и сами понимают эту нехитрую истину. В результате он катает логистку на лодке, показывает спрятанные сокровища, которые хранят подворотни грязного перуанского городка, поит местным вином и дарит фамильную драгоценность бабушки.
Следующий эпизод. Она голосует ночью на трассе, и ее подбирает заляпанный грязью джип. Внутри четверо небритых типов с такими же лицами, как бампер машины. Они ведут себя с ней очень нахально, но она храбро им отвечает «фак ю». Бандиты восхищены ее смелостью, они довозят ее до мамы одного из громил, где логистка ночует. Наутро бандиты несут ей цветы. Возят на джипе, показывая спрятанные сокровища, которые хранят подворотни грязного гондурасского городка. А вдобавок поят вином и катают ночью по озеру.
Далее – встреча с необычной парой путешественников – блондинка с большими губами и грудью и тщедушный скрюченный азиат, который похож на носильщика. Но они муж и жена. Она – роковая красавица, актриса, удачно продавшая свое тело то ли одному, то ли сразу нескольким миллионерам с Рублевки. Но вот она полюбила киргизского дворника, случайно занесенного в этот рай за многометровым забором и фсошником у каждого пня.
Она родила ему двойню, бросила все, и теперь они путешествуют на ее накопления. Вместе с логисткой они изучают спрятанные сокровища чилийского городка, попивая вино из пакета. Что будет потом? Абай возобновит дворницкую карьеру. Актриса будет сидеть с детьми. Вот она, настоящая жизнь, которую должен знать художник. Полнокровные люди и их живые поступки, не подчиненные мертвой логике мудреца, спрятавшегося от мира в панельной пятиэтажке.
От этих речей мне сделалось очень тоскливо. Вдобавок я вдруг нащупал во рту пустоту там, где еще недавно никакой пустоты не было. Я понял, что, пока закусывал этот поток историй сапсановским бутербродом, проглотил коронку. Временный зуб на металлическом длинном штыре, с которым я проходил несколько месяцев. Теперь коронка была в моем животе. А логистка продолжала молоть истории – в этот раз о том, как она подружилась с колумбийским рыбаком и как он прокатил ее ночью на лодке по озеру и показал спрятанные сокровища, которые хранят подворотни грязного городка под названием Богота, а потом подарил ей огромную скамью из сучьев местного дерева. И с этой скамьей было множество приключений, открывших с самой лучшей, неожиданной стороны колумбийских таможенников и простых пассажиров. Очень хорошо быть открытым миру и людям, как хорошо жадно впитывать, объедать этот мир своими молодыми зубами, крепко сидящими в челюсти.
Да уж, куда интересней было бы написать роман о пешем путешествии молодой девушки по Латинской Америке, чем о переезде москвича в Петербург. Логлайн, конечно же, так себе – москвич переезжает в Санкт-Петербург. Что же ждет его на этом пути? Давайте узнаем!
А ничего не ждет, ведь он помрет, не доехав до Петербурга, он помрет, как слабоумный бездомный пес, сожравший с помойки то, что сжирать не следовало. Будет корчиться здесь, на красном ковре, у будущей режиссерки перед глазами. Сама история моей гибели не вписывалась в ее формат интересной истории для смол-тока, ее формат – не нелепая смерть, а жизнь яростных, смелых мужчин с цветами, стучащих в ее двери. В лучшем случае я мог стать удобрением для очередной подобной истории.
Например, на помощь мне прибегает бортпроводник. И оказывается, что он был конвоиром в колонии, но потом уехал на Гималаи, где обучился левитации и другим чудесам. Стал экологическим активистом и вызволял животных, отсидел в колонии сам, а потом уехал снайпером на войну, где ему оторвало кисть руки. И вот работа бортпроводника на «Сапсане» стала венцом карьеры однорукого человека. Ночью под полной луной он прокатит ее по пустым железнодорожным путям на дрезине. Покажет спрятанные сокровища, которые хранит ночное депо. Дефицит рук не помешает ему одновременно держать цветы, качать дрезину, открывать бутылку игристого. Жаль, что при этом меня не удастся спасти. Но эту линию она, скорее всего, уберет, как вторичную и затрудняющую восприятие основной истории.
Никаких последствий от проглоченной коронки с металлическим длинным стержнем меня не ждало. Кроме такого последствия: теперь у меня была выгребная яма посередине рта, в которой обречены медленно гнить куски пищи.
Я выходил из поезда сжатым в нервный комок, ожидая, что на меня сразу, как рыболовная сеть, накинется снег с дождем и градом, с первым же шагом я поскользнусь на чьей-то блевотине, упаду, стукнувшись головой о перрон, подбежит цыган и вытащит кошелек, паспорт, ноутбук, и дальше все пойдет в таком же темпе аллегро. А уж если первый натиск города Петербурга удастся преодолеть, то наверняка случится накладка с жильем – никто не ответит, не впустит, и я буду скитаться по ноябрьскому Петербургу, в точности как Данила Багров из кинокартины «Брат», часть первая.
Я слышал много историй о людях, которые ехали в Петербург с огромным комодом вещей, но уже несколько дней или недель спустя тащили комод обратно, униженные и обманутые городом. И вид у них был такой, как будто все это время Петербург трепал их, как молодой сильный урод пытает, поймав, ученика интерната для альтернативно способных детей, не давая передохнуть ни секунды. У бедолаги одновременно течет кровь, моча, сопли, пена. Урода ничуть не смущают все эти жидкости.
Короче, Петербург бывает очень жесток, но меня он встретил нежной погодой, от долгой дороги не ныла спина, да и до дома я добрался без каких бы то ни было сложностей.
Мы сняли с моим другом Костей двухкомнатную квартиру на улице Комсомола, возле метро «Площадь Ленина». Мною этот район был еще не изведан. Путешествуя по нему с помощью гугл-карты, я не нашел тут ничего необычного.
Просторная набережная спрятана за толпой бежевых пыльных домов. Заборы, заводы, изъеденный временем бок тюрьмы «Кресты». Обыкновенные невысотки. Старые, но слишком невыразительные, чтобы назвать их историческими – скорее, постаревшие в тени истории, на уставших глазах рабочих, которые замечали эти дома, только когда пьяными задевали плечом стены.
В такой дом, построенный либо для вертухаев «Крестов», либо для рабочих завода «Арсенал», я и въехал.
Наш дом стоял на отшибе: он так сливался с серо-розовым фоном, что сперва показалось, будто окна просто зависли в воздухе. Я присмотрелся к окнам квартиры, которую мы собирались снять, и увидел в одном из них силуэт человека.
Сумка скользнула с моей руки. Старуха возле подъезда, с беспокойством следившая за каждым моим движением, посмотрела туда же, куда и я, и вдруг захихикала. Ее тощий пес с видом вокзального жулика ронял на дорожку кал. И я, и старуха видели в окне одно и то же – повесившегося монаха.
Это была просторная запущенная квартира с запутанным, как лабиринт, коридором. В нем было четыре кладовки, распахивавшиеся произвольно – от ветра и от шагов, от других причин, которые не могли уловить ни глаз, ни ухо.
Кухня была сколь просторной, столь и непереносимой для жизни. Вся в грязно-зеленых тонах, липкая и сырая, с запахом протухшей рыбы из неведомо какого угла – она напоминала логово подводного бога Дагона. Страшнее кухни была только ванная, ржавая, темно-оранжевая, она пахла так, как будто здесь долго держали, не давая сходить в туалет, почечного больного. Вода вытекала из кранов мутноватой и слабой струйкой, разнося запах стухших в стиралке носков, и в довершение всего от этой воды у меня начинался зуд, из-за которого я не мог даже вымыть руки.
Хозяйка – дама в квадратных очках и с выдающимся лошадиным крупом – была младше меня на пять, а Кости на шесть – восемь лет (точнее сказать было нельзя, потому что Костя старательно пытался забыть свой возраст и дату рождения, надеясь таким образом замедлить или вовсе остановить старение). Но язык не поворачивался назвать ее иначе как «тетя».
В ней была основательность, твердая убежденность в своей правоте, настоящая, а не напускная серьезность – все то, что отличает взрослого человека, и все, чего мы с Костей, ветераны по возрасту, были полностью лишены. Хозяйка эта, списывая данные наших потрепанных паспортов в ежедневник, позволила себе пошутить – в кладовках так много места, что можно складировать трупы. Я улыбнулся тогда, мне понравилось, что эта молодая мещанка проявляет наклонность к черному юмору, но потом, как следует изучив пространство квартиры, я уже не удивился бы, если в какой-то момент обнаружил на антресоли обрубок человеческой кисти.
Я рассчитывал, что с Костей у нас будет добрососедская жизнь, но уже при вселении между нами легла трещина. В этой квартире были две одинаковых по метражу и состоянию комнаты. Разница была только в том, что в одной была кое-какая мебель, а вторую надо было полностью обустраивать. Мебелью тут служили громоздкая проваленная кровать и гигантский шкаф, на редкость маловместительный. От него крепко пахло травой и индийскими благовониями. Элементом декора служили яичные коробки, которыми была целиком заклеена стена над кроватью. Вид этих коробок вызывал рвотный позыв – вероятно, к стене их приклеивали с помощью содержимого носа, спермы, всех других человеческих выделений. На окне стоял горшок с алоэ. Растение полузасохло, верхушкой оно доставало до ручки форточки, в бессильной попытке сбежать на улицу. Я не сразу заметил его за шторой, которой служил монашеский балахон. Он-то и выглядел с улицы как повешенный.
Костя с несвойственной для него проворностью забронировал комнату с обстановкой. Я уже готов был хладнокровно принять свой жребий, но вдруг тень сомнения легла на его лицо. Он понял, что это вышло несправедливо. Я предложил разрешить наш спор, подбросив монетку. Я все чаще прибегал к ее услугам в разрешении важных вопросов – даже завел специальную бронзовую монетку в десять крон. Она лежала в брючном кармане и поэтому всегда была чуть теплой, и ее было приятно сжимать в руках.
Комната с мебелью перешла ко мне. Лицо у Кости сделалось пепельно-серым.
– Я мечтал в ней жить, – проговорил Костя.
Теперь, без этой комнаты с кроватью, утягивавшей к себе на дно, как сом, и шкафом, в который было не всунуть вещи, жизнь стала казаться Косте неполной и жалкой, почти бессмысленной. Ссутулившись, он стал походить на увядающее алоэ. Я мог бы легко ему уступить, но вместо этого провозгласил:
– Теперь уж она моя.
Через пару часов я заглянул в комнату Кости. Он сидел на полу и глядел перед собой, как голем, у которого сняли со лба заклинательную бумажку.
– Расстроился из-за комнаты?
– Да.
– Теперь она моя, – напомнил я.
– Я знаю.
Прежние жильцы оставили коробки из-под яиц не только на стенах. Одна из кладовок оказалась забита ими доверху. В туалете был выстроен зиккурат из втулок туалетной бумаги. Его предназначение было загадочным. Может быть, это некий мистический культ? Или голая втулка олицетворяла собой общество потребления? Возможно, что в этой квартире размещались приверженцы некой философской школы. Естественные мыслители, как называл таких Хармс.
Я попытался узнать больше о маргинальных философах, живших в этой квартире до нас. Оказалось, что жильца, занимавшего мою комнату, зовут Моисей. Я даже нашел его фотографию на одной из полок. По ней можно было сразу представить, как он, с длинными соломенными волосами, с лицом, похожим на брикет киселя, бродит по городу в сломанных «зенхайзерах» и подпевает музыке, звучащей в его черепной коробке. По Петербургу ходит много таких людей, в некоторых районах они как будто бы даже преобладают.
Обычно мне все равно, в каком интерьере жить, меня целиком устраивал абсолютно безличный, невыразительный интерьер, и даже к тошнотворному интерьеру я привыкал мгновенно, но эти яичные коробки действовали на меня разрушительно. Как будто стена вращала сотней пустых глазниц.
Отодрав коробки, я увидел огромное пятно жира на оголенной стене. Формой оно напоминало птеродактиля. С виду это была обычная клякса масла, но что-то в ней было такое, что побуждало упрятать ее подальше от глаз, хоть чем-нибудь занавесить. Пусть и яичными коробками. Но в то же время казалось, что под завесой с этим пятном что-то произойдет. Нет, лучше уж пусть оно останется незавешенным. Жаль, что на ремонт у меня никогда не достанет сил. Но все же следовало скорректировать обстановку, чтобы и самому, спустя время, не обнаружить и себя на коленях в толчке, мастерящим храм втулке.
5
Арабский шейх Снегирев дал мне напутствие перед отъездом. Он сказал, что секрет выживания в Петербурге – это яркие лампочки. Нужно, чтобы их было как можно больше, и чтобы они горели всегда, ведь я переезжаю в мрачнейший город Земли в самое мрачное время года.
Второй совет – держаться подальше от любых авантюр и злоупотребления алкоголем. По крайней мере стараться вести уединенную жизнь. Под яркими лампами. Снегирев думал, что я не человек, а, может быть, алоэ, и все же следовало пойти у мудрого шейха на поводу.
Снегирев принадлежал к числу тех людей, которых нужно всегда и во всем слушаться. Это был безупречно отлаженный человеческий механизм, без грамма лишнего веса в теле, без словесного сора в речах. Каждый день он вставал в семь утра, обливался холодной водой и садился за сочинительство. Он работал неторопливо, но и не слишком медленно, с равными интервалами выпуская книги – чередуя сборник рассказов и роман.
Не слишком часто, но и не редко писал посты в фейсбук. Очень благоразумные, без пошлых мест, без единой ошибки и опечатки, они всегда были привязаны к случаю – празднику, исторической дате или новости, которую обсуждали все. В них был легкий юмор, взгляд с высоты и ненавязчивое нравоучение. Они как бы сообщали читателю: «Да, может быть, время великих романов и писателей-аятолл ушло, но все же перед вами, ув. френды, настоящий русский писатель. А значит, я вижу то, что сокрыто от большинства, и тексты мне диктует тот же старый добрый голос с небес – в этом смысле все осталось по-прежнему. Впрочем, не обращайте внимания, у вас наверняка полно других дел, помимо чтения моих стилистически безупречных постов-новелл, пронизанных тонкой языковой игрой и мифологическими аллюзиями».
Чтоб победить, мне нужно было стать Снегиревым.
Я поехал в «Икею» в первый же день, чтобы купить как можно больше самых разнообразных ламп и световых приборов. Конечно, требовались и другие предметы быта – ведь в квартире на улице Комсомола даже чайные ложки были застланы липкой неоттираемой пеленой, печатью бога подводной вони Дагона. Мне нравилось выбирать тарелки, кружки, вилки, сеточки для заварки чая и другие мелочи, с которых начнется моя новая жизнь, моя запоздалая, но настоящая юность.
Толкая по коридорам «Икеи» заполненную тележку, я думал, что мог бы сейчас выбирать коляску или сидеть на курсах для молодых отцов, если такие курсы вообще бывают. Потеть перед банковским служащим, который с тоской раскладывает пасьянс из моих документов на ипотеку. Но вместо этого я выбирал штопор, которым можно с одинаковыми удобством и легкостью откупоривать как пивные, так и винные бутылки.
Впрочем, тот день я планировал провести с байховым чаем и книгой, под светом множества ламп, которые никогда не позволят сомкнуться над моей головой черным водам тревоги.
Но когда я расплачивался на кассе, позвонил Максим, мой проводник в Петербурге. Максим был антрепренером, организовывал концерты и чтения, а в последние годы и сам стал поэтом, причем успешным. Хотя на поэта он не походил и, думаю, при иных обстоятельствах жизни и круге знакомств ему бы и в голову не пришло рифмовать предложения. Должно быть, он заразился поэзией от близости к ней, как, бывает, санитары заражаются чем-нибудь в инфекционной больнице, если не соблюдают предосторожностей.
А сейчас Максим предлагал мне знакомство с поэтом и панком Алексеем «Лехой» Никоновым. Трудно было понять, зачем Максиму понадобилось нас сводить, зачем Максиму вообще было безостановочно всех со всеми сводить, и днем и ночью кружа по городу.
Может быть, с той же целью, что и бог Гермес, носившийся как подорванный на своих сандалиях, безостановочно сводил богов и людей: ни для кого и ни для чего, а просто чтобы внести в жизнь и тех, и других сумятицу – иначе говоря, для одного только собственного развлечения.
Леха Никонов жил на одной из самых пустых и таинственных улиц петербургского центра, Шпалерной. Здесь не было ни людей, ни машин: только бесконечный ряд стоявших в пыли темных административных зданий. Предположить, что в этих зданиях происходила какая-то жизнь – все равно как поверить, что на руины древнегреческих городов по ночам вылезают древние греки. И все же какая-то жизнь в них была. Я поглядывал на мансарды, забитые досками, и видел сквозь них, что на каждой сидит сгорбленный человек в пиджаке и ведет мое скорбное дело, фиксирует каждый вздох, исписывает нечитабельным мелким почерком листы и сует очередной лист в уже и без того распухшую папку.
Я шел не торопясь, слыша стук лампочек в хозяйственной сумке, они стучали друг о друга, как елочные игрушки, а по улице моталось что-то вертлявое, белое и прозрачное, как привидение болонки. И сперва я принял его за продуктовый пакет, но потом разглядел, что это была надувшаяся от ветра медицинская перчатка.
Возле памятника Дзержинскому (изящного и длинноногого, как модель на подиуме) на меня налетел Максим. Он покрутил у меня перед лицом какой-то экзотической бутылкой – то ли шоколадной текилой, то ли водкой со вкусом «Лакомки». В ответ я решил поделиться с ним наблюдениями о мрачной пустоте Шпалерной улицы, но он чуть отстранился, наморщив нос, и я вспомнил, что со своей выгребной ямой во рту мне лучше помалкивать. И прежде чем зажигать над собой миллион ламп, следовало найти стоматолога.
Я слишком быстро взлетел на шестой этаж без лифта, явно переоценив свои физические возможности, но времени отдышаться не было. Из-за гремящей железной двери показался хозяин квартиры, громадный, с азартно горящими, чуть выпученными глазами Леха Никонов. На нем был голубой костюм и розовый галстук, нервно вздыбившийся на груди, будто ужаленный запонкой.
Несмотря на солидный, во всяком случае в среде панков и нонконформистской поэзии, возраст, возраст, если будет позволено так выразиться, ветхозаветного патриарха, его энергии мог позавидовать даже энерджайзер Максим, что и говорить об остальном человечестве, об угасшей пассионарности которого рассуждают с полным единодушием и прогрессисты, и консерваторы.
От его перемещений по компактной студии кружилась голова – огромный мужик скользил по ней меховыми тапками, макушкой оставляя на потолке глубокие, зараставшие на глазах борозды. Он легко объезжал разбросанные у него на пути кривоногие стулья, и казалось, вот-вот перескочит через них, как через барьер.
На столе лежали красиво растрепанные листы – наверное, это были свеженаписанные стихотворения. Я заметил, что в текстах мало зачеркиваний, а почерк размашистый и элегантный. Панк-легенда Санкт-Петербурга предложил нам клубничный смузи, и хотя я не очень люблю сладкое, отказаться от такого предложения не смог.
Я вспоминал концерт «ПТВП» в Москве, немолодых панков с грязными гребнями, вылезших из неизведанных подземелий только лишь для того, чтобы издать первобытный вой и облиться пивом, после чего я возвращался в реальность, в квартиру Никонова, где мы пили клубничный смузи, а Леха вел речь о Марселе Прусте и поздней прозе Набокова. Я смотрел из окна на двор и видел, как ветер треплет большое ленивое летнее солнце, хотя был последний день октября.
На стене я заметил картину с Иисусом Христом в красных клубах небес. Взгляд застревал в каждом изгибе тощего тела. Он был похож на рыбу, очищенную почти до хребта. Сияла запонка с рубиновым камнем, ядовито-красный смузи перекликался с розовым галстуком Лехи, с кровавыми тучами, обнимавшими Иисуса Христа, цветущая яркая жизнь, среди такого сияния не было никакой нужды в искусственном свете икеевских лампочек.
Кажется, я высказал замечание о Христе-рыбе вслух, потому что Леха, присевший было на стул, снова сорвался с места, схватив со стола рассыпавшуюся в руках пухлую книжку. Это была книга интервью с каким-то сибирским шаманом, и Леха прочел из нее отрывок о том, что все мы, в смысле все люди Земли, – это глубоководные рыбы, которые видят только крошечный процент от происходящего, то есть не видят все многообразие сущностей, заключенных в темной материи. Она составляет восемьдесят, а может быть, и все девяносто девять процентов пространства вокруг. Физики разводят руками перед темной материей. Они не меньшие шарлатаны, чем представители религиозных культов, – так получается, если они в состоянии рассуждать со знанием дела только об одном проценте познаваемого вещества.
Говоря это, Никонов шарил своими грустными, чуть выпученными глазами по комнате, сам похожий на зрячую рыбу, вдруг оказавшуюся на глубине.
Я огляделся тоже, вдруг осознав, что Максим бесследно исчез, оставив на месте, где только что сидел, пустую рюмку, прилипшую к полу, и я оторвал ее, как присосавшуюся пиявку. Леха тем временем достал из шкафчика над моей головой колоду Таро и предложил вытянуть карту.
Я вспомнил, что арабский шейх Снегирев предостерег меня от авантюр, а гадание на картах Таро, безусловно, можно было счесть авантюрой. Особенно если принять на веру слова сибирского шамана о разнообразных невидимых сущностях вокруг нас, наверняка набившихся в эту комнату, как честные труженики в вагон метро с утра пораньше. Но я все же сдвинул несколько верхних карт и вытащил ту, что просилась в руки.
– Это Шут, – сказал Леха, видя, что я уставился в карту так же тупо, как если бы передо мной был пустой лист. – Неплохая карта. Значит, у тебя есть потенциал. Просто нужно найти ему вектор.
Точнее не скажешь. Я чувствовал, что у меня есть потенциал, и чтобы раскрыть его, я и приехал в Санкт-Петербург. Это и есть мой вектор. Я вернул карту, успев всего за пару секунд ее измять и как следует замусолить.
Вскоре пришла девушка Лехи Лиза и французский поэт Венсан, седой и кудрявый, с распотрошенной металлической губкой на голове. Он глядел по сторонам, как птица, сжимая в длинных закостеневших пальцах рюмку водки. Было видно, что он хорошо пьян. Но когда Леха протянул ему карты, он слегка отшатнулся и покачал стальными кудрями: «Нет, я не возьму это в ру́ка».
Леха бросил карты на стол, и они тяжело упали, смешавшись с черновиками.
По набережной во все стороны сразу шатались кучки пьяных людей, а в беспокойной черной Неве подбрасывало на лодке одинокого рыбака, и одинокая чайка кружилась над ним, то ли пытаясь напасть, то ли надеясь на угощение. На гранитных ступеньках Леха сунул мне косяк, и я машинально протянул руку навстречу.
Леха продолжал говорить о темной материи вокруг нас, называя всякий раз новый процент, как будто ее количество менялось ежесекундно и об этих изменениях ему приходили уведомления в телефон. Меня же беспокоил вопрос, почему моя нога никак не могла почувствовать твердое основание и булыжники увиливали из-под ботинка, как волны. Солнце стало закатываться, и закатное небо напоминало огромную глотку, продираемую крепкой травой.
Я вдруг понял, что наша компания выглядит немного комично – все в черных куртках или плащах, в черных очках, шли в ногу, как военные на параде, из колонки у Лизы играл гангста-рэп, а запах травы разносился по всей набережной. Чтобы не выглядеть глупо, я снял очки и, вместо того чтоб сунуть их в карман, положил на забитую мусором урну. Теперь приходилось защищаться от жалившего глаза солнца свободной рукой. Мы прошли мимо шемякинских сфинксов, обращенных оскаленными черепами к тюрьме «Кресты», возле которых был мой новый дом. И, несмотря на все недостатки жилья, я все же должен был благодарить бога, что жилье это не внутри, а всего лишь возле «Крестов».
Тем временем со мной случилась резкая перемена. Сначала я покраснел. Впрочем, и остальные слегка покраснели, но покраснели странно, как будто краска стыда брызнула на лицо, но прошла не по тем сосудам, проступила в форме ломаных линий Кандинского, а у Венсана и вовсе расплылась аккуратной свастикой. Теперь я забеспокоился, что Венсана могут упрятать в тюрьму за пропаганду нацизма из-за таких вот странных пор лица, а заодно и нас всех за компанию.
Время стало мучительно замедляться: Венсан не успел еще договорить одну недлинную фразу, а я уже успел понять ее суть, оспорить с разных сторон, получить в ответ тезисы, привести свои контртезисы, сплести многоветвистый диалог, разросшийся до нескольких альтернативных диалогов, рассыпать все аргументы снова, чтобы по-новому их собрать. Но тут я заметил, что все эти ветви – иллюзия. Мои мысли не развивались и даже не шли по кругу, а уносились из лба. Мозг свистел, как пробитый сразу во многих местах мяч. Тут я заметил, что и у Никонова тоже что-то со лбом. Он стал совершенно мягким.
Да и весь его облик – кожа стала тихонько разматываться, как рулон, хотя вроде и сохраняла прежние очертания. Белый лоб и щека, тоже белая, трепетали как флаг на ветру. Но дело было не только в лице – плащ теперь напоминал черную спираль для поимки мух. Вот почему в окрестностях нет живых насекомых! Все померли на его плаще! Зачем Лехе носить на себе кладбище насекомых?
Венсан все еще говорил – как же медленно он ронял слова, как медленно ступали его ноги. Я решил убежать. Но мое тело плыло в потоке тел спутников, как кусок ваты по небу. От досады и нетерпения я искусал губы, я сгрыз весь рот, превращавшийся в мокрую ранку. Небо совсем раскраснелось. Начался так называемый час между собакой и волком, самый жуткий час, и чувство было такое, как будто кто-то царапается в кишках. В это время меня принялась тормошить Лиза.
– Давай, включайся! У нас тут «Машина образов».
– Какая еще машина? – Я испуганно заозирался по сторонам, ожидая увидеть поблизости какую-нибудь дьявольскую пыточную машину или машину из серии фильмов «Безумный Макс».
– Нужно смотреть на Неву и говорить эпитеты, – объясняла Лиза. – Любые, какие придут в голову. Ты просто смотришь и называешь ассоциации. Я говорю понятно?
– Нева… мокрая, – прошептал я, пытаясь вытереть пот со лба, и вдруг увидел, как из Невы ко мне потянулись пятипалые грязные руки.
Этого я уж не мог стерпеть и с криком бросился прочь от набережной. Перебежал в неположенном месте, не слыша гудков и замечая только, что кто-то бежит за мной. Я подозревал, что это была Лиза, но видел вместо ее лица одну только прыгавшую у виска гигантскую вену.
Хотелось позвать на помощь, но вокруг никого не было, кроме китайцев с печеным картофелем вместо лица, над головами которых, как пращи, свистели камеры. Они не пожалеют своих дорогих устройств, чтобы разбить мне голову. А я беззащитен, я не в состоянии поднять руку, чтобы прикрыть лицо. Гигантская вена спросила меня: «Господи, ты себя видел?»
Наконец заметив магазин алкоголя, я влетел в него, схватил коньяк и, растолкав посетителей, протиснулся к кассе. Руки шли ходуном, и я никак не мог достать кошелек.
«Боже ты мой», – снова сказала вена, и я отшатнулся, упав на стенд с жвачкой. Азиат с безразличным лицом пробил мою бутылку. Не отходя от кассы, я опустошил ее и пошел за второй. В магазин спустился и Леха. Я обратил внимание, что его рулон лица уже замотался.
– Нева мокрая, – с издевкой повторил он. – Назови так свою первую книгу. «Город на мокрой Неве».
Я кивнул и вспомнил только теперь, что со мной нет моей сумки с лампами.
Мы отправились навестить Марата на Южном кладбище. Нас вез туда писатель Кирилл Рябов, приятно округлый парень, похожий на доброго медвежонка из советского мультика. В последние годы он нигде не работал, не пил, не жил, а только производил прозу – в отличие от него самого, энергичную, злую и крепкую. Оставалось гадать, в каких уголках своей мягкой седой головы он хранил всех маньяков-коллекторов, насильников и садистов-отцов в алкогольном делириуме – типичных героев его книг. И теперь, когда я смотрел на него в прямом солнечном свете, казалось, что в его голове нет черепа.
Кирилл уже много лет не покидал окрестностей родного района Озерки по каким-то странным причинам, похоже, мистического порядка. Раньше, если его собирались позвать куда-то за пределами Озерков, он оправдывался работой. Но когда лишился ее, не придумал ничего лучше, чем всякий раз производить какое-то невнятное бормотание, сводившееся к обещаниям все объяснить в переписке, от которой он впоследствии уклонялся.
У меня было две основных версии – либо он находился под сильным влиянием гения Озерков и боялся выйти из-под его защиты, либо сам Кирилл был давно мертв и теперь, как многие призраки, не мог покинуть места смерти. Но вот он сам разрушил свой многолетний миф ради поездки на кладбище к лучшему другу.
С нами поехал и Михаил Енотов, перебравшийся из Москвы в Петербург с полгода назад по тем же смутным причинам, что и мы с Костей.
Костя, как обычно, имел вид человека, только что выпущенного из Черного вигвама, в котором провел последние тридцать лет, – заторможенно двигался, оглядываясь по сторонам с рассеянным видом. Енотов задумчиво гладил бороду, пытаясь напустить на себя грозный вид. И это было легко, учитывая его внешность типичного посетителя клуба исконно славянских единоборств «Витязь». Он был единственный знакомый мне (и не исключено, что единственный существовавший) традиционалист и монархист из плоти и крови. Иногда я думал, что он всерьез готов убивать и умирать за эти давно списанные идеи. Один раз, когда я сказал что-то насмешливое о монархизме, он ответил мне – помню, мы сидели на берегу Москвы-реки, было тепло, был нежный рассвет, и уже обволакивало приятное похмелье, – что ему, возможно, придется убить меня в случае гражданской войны. И все-таки он был один из лучших моих друзей.
Но эту суровую древнюю маску временами, и даже очень часто, срывало с лица, обнажая лицо школьного хулигана, готового на что угодно – пукнуть на зажигалку, сорвать с себя или кого угодно штаны – ради общего смеха класса. Ключ, отмыкавший эту железную маску, – каламбуры. Особенную радость ему доставляли каламбуры с привлечением англицизмов. Например – shitевр. Такой каламбур мог довести его до слез, он мог начать задыхаться от смеха.
Поездка на могилу к Марату была запланирована давно, и я хорошо представлял, какой должна быть эта поездка в первые дни ноября к петербургскому писателю-маргиналу с несчастливой судьбой, умершему трагически, на операционном столе, из-за врачебной ошибки. Писателю, которому едва наскребли на клочок земли на бедном окраинном кладбище.
Я представлял себе гигантское голое поле. В канавах гниют цветы, бешеный ветер носится, ломая кресты, а иной раз и опрокидывая гранитные камни. Все засажено мертвецами гораздо плотней, чем спальные муравейники, вглубь и ступить нельзя без особой сноровки – так что уже пожилым и всегда пьяным его друзьям такой поход не под силу. А в том, что мы будем пьяными, и уже с утра, сомневаться не приходилось. Сама могила будет запущенной, поросшей колючими, крепкими, несмотря на время года, сорняками, в которых застряли пустая бутылка из-под кефира и пустая сигаретная пачка, брошенная посетителями соседних могил или принесенная ветром с мусорки. Но мы уже будем не в состоянии все это убрать, а только водрузим поверх беспорядка пару гвоздик и пойдем обратно.
Но все оказалось иначе. Был солнечный, чересчур теплый день – столбик термометра едва не достиг пятнадцати градусов. Приятный лесной воздух, желто-оранжевые деревья еще держали листву при себе, было свежо и тихо, а на могиле Марата – чистой, очень ухоженной – лежали венки. Небольшой резервуар был засыпан белыми камушками, напоминавшими мелкие зубки. Я перебирал эти зубы, согревал в руках, а потом клал назад.
Я вспомнил, как при знакомстве с Маратом меня очень встревожил его взгляд, какой-то полустарушечий. Может быть, из-за кожи, чуть-чуть свисавшей мешочками на щеках, в первую встречу он напомнил мне желтого лилипута из крымского цирка. Тот лилипут разворотил мою детскую психику.
Мать взяла мне билет на выступление лилипутов-гастролеров, заехавших и в наш курортный город. Мне досталось место в первом ряду. Я и не подозревал тогда, что в эстрадных шоу это расстрельное место. Лилипут-импресарио насильно выволок меня – не просто нелюдима, а больного тяжелой социофобией человека – на сцену. Каких только унизительных экспериментов карлики не успели поставить на мне под равнодушный, как шум морских волн, смех зала. Запомнил один – как мне надели мешок на голову и заставили прыгать через скакалку. Я до сих пор помню черноту мешка, он грубый, как куль для картошки, но пахнет в нем приторными цветочными духами. Я провел с мешком на голове прорву времени, а скакалку, как оказалось, почти сразу убрали, и я просто прыгал с мешком, веселя туристов.
«Прыгай, прыгай», – шептал мне лилипут не женским и не мужским, нечеловеческим голосом. Когда мешок с головы сняли, я увидел маленькое лицо с треснутой, отмирающей кожей, инопланетянин, полуребенок-полустарик, полустарик-полуребенок. Что-то потустороннее в голосе и во взгляде. И Марат отдаленно напомнил крымского лилипута, но это не пугало меня, а, напротив, через детскую травму он легко вошел в мое сердце.
В последний раз мы сидели в пирожковой у метро «Владимирская», с мозаикой, напоминавшей о витражах готических храмов, была полная тишина, и клиенты жевали свои пироги беззвучно, с каким-то, как я теперь думал, скорбным почтением. Я сказал Марату, что он пожелтел, а он предъявил тогда самую неприятную из улыбок, снова напомнившую о крымской эстраде и цирке карликов.
Марат говорил очень долго, это было полноценное завещание. Он говорил торопливо, как человек, счастливо продавший дачу, и вот он трясет перед лицом покупателя огромным комом ключей, втолковывая, какой ключ что открывает. Но ключей очень много, он очень торопится, чтоб поскорее завершить сделку, к тому же он сам не помнит о назначении и половины из них, а покупатель, я, ежесекундно на что-нибудь отвлекается. Он объяснил, как спускаться в ад и как возвращаться целым обратно, но я ничего не слушал, а ковырялся в ногтях, думал о каких-то идиотических пустяках. Кажется, не мог выкинуть из головы мужчину в цилиндре из вагона метро, который, когда мы встретились взглядами, подмигнул мне и почтительно приподнял головной убор. Запомнился только один совет: я, нежный москвич, должен переехать в Санкт-Петербург. Только здесь я смогу писать. Только здесь я смогу стать счастливым – но, конечно, не простым солнечным счастьем обывателя, а изощренным счастьем городского невротика, помещенного в свою родную невротическую стихию.
Я положил возле холмика две гвоздики и почувствовал на мгновение, как защипало в глазах, и успел подумать: неужели сейчас я пущу слезу или вовсе расплачусь на глазах у друзей – и даже обрадовался немного, выходит, что я не наваждение, мне свойственны чувства реальных людей – но это ощущение продлилось не дольше секунды и безвозвратно прошло. И больше никаких особенных чувств, во всяком случае способных пересилить чувство сонливости из-за непривычно раннего пробуждения, – не возникло.
Мы начали вспоминать истории о Марате. Кирилл припомнил, как Марат оказался в следственном изоляторе. Он попал туда за кражу полного собрания сочинений Достоевского, принадлежавшего тестю. Марат не работал, писал очередную книгу, которой не суждено было выйти, тесть и не думал поддерживать начинающего писателя. Семье было нечего есть, и Марат решился на воровство. Тесть написал заявление, и спустя пару дней в квартире безработного установщика дверей Марата выбили дверь, его сбили с ног и надели наручники.
А теперь Марат лежит рядом с тестем. А еще по левую и по правую сторону от Марата лежат люди по фамилии Николаев и Сергеев. Николаевым звали героя его последней книжки. А прототипа героя звали Сергеев. Теперь они все, все лежат тут.
Постепенно меня начали убаюкивать трагикомичные истории из жизни покойного, которые, как обычно, всплывают одна за другой, если только кто-то начнет их рассказывать, но вдруг я услышал негромкий хрип, раздавшийся снизу. Его услышал не только я. Кирилл, который был в самом начале истории о том, как Марат полез с кулаками на председателя Союза петербургских писателей, внезапно остановился.
Какое-то время мы провели в тишине, избегая смотреть друг другу в глаза, но звук больше не повторился. Звук шел явно не из могилы, но я вспомнил, что мертвецам свойственно издавать самые разные звуки. Посетители кладбищ иногда слышат рычание, лай, хрюканье и даже мольбы, но все это объясняется какими-то сложными физическими процессами во время разложения.
Я снова оглядел груду камешков, напоминавшую склад детских молочных зубов, и вдруг как будто рентгеновским зрением увидел тело Марата в его нынешнем состоянии. И я увидел все с безупречной отчетливостью, которая в обычное время недоступна моим глазам, слабовидящим и астигматичным.
Я почувствовал тошноту и присел, пытаясь сдержать в себе все, желавшее освободиться. Рентгеновское зрение исчезло так же внезапно, как и появилось, и, сделав несколько глубоких вдохов, я понял, что уже прихожу в себя. Нужно было немного пройтись, и я вышел на перекресток с мусорным баком и ангелом над одной из могил. У ангела в руке была короткая шпага, призванная, по всей вероятности, карать всех желающих посмеяться над фамилией, которая была выгравирована под ним – а фамилия эта была Подмышев.
Мне не очень хотелось смеяться, даже улыбку было не выдавить, я выплюнул желчь, сделал пару глотков воды под нервное и, пожалуй, слишком навязчивое шелестение березы, когда что-то заставило меня обернуться на девяносто градусов. Я увидел высокую, очень прямую фигуру среди могил. Это был живой человек с лицом, размякшим от скуки, стоявший у чьего-то надгробия.
В юности я часто ходил по кладбищам и научился распознавать людей, которые пришли не скорбеть и не глядеть на венки именитых покойников, а с какими-то странными целями, которые лучше и не пытаться у них выведать.
Я заметил, как что-то белое шевельнулось между могил. Виляя хвостом, показалась белоснежная маленькая собака, похожая на болонку, но покрупней. Должно быть, появилась новая мода: выгул на кладбище, или то обстоятельство, что в Петербурге так мало парков и даже скверов, зато кладбищ хоть отбавляй, и тенденция, увы, такова, что они будут шириться, – вынуждает местных жителей пользоваться кладбищами для прогулок, игры в лапту и другие подвижные игры, а также для выгула домашних животных. А может, это был символический жест, и он привел пса навалить на могилу.
В любом случае, меня это не касалось, если речь не шла о могиле Марата, но все-таки в этом типе с собакой было что-то резко отталкивающее. Наверное, все дело было в глубоких противоречиях, слишком заметных на его белом лице. Очень густые усы в сочетании с гладко выбритыми щеками и подбородком. Кудрявые, почти полностью поседевшие волосы, не считая остаточной черноты ближе к черепу, в сочетании с очень уж юным, почти детским лицом. А советский голубой плащ из секонд-хенда и свободные шаровары, пузырящиеся возле колен, не оставляли никакого сомнения – передо мной был настоящий санкт-петербуржец. И этот санкт-петербуржец смотрел на меня с непонятным вызовом, пока его собака беззвучно копалась в земле.
Я понял, что если не отведу глаз, то напрошусь на реплику, а мне совсем не хотелось заводить разговор, было понятно, что пользы от этого разговора не будет.
Тем временем друзья уже продирались по колючим кустам за мной, и я пошел им навстречу. Не знаю из-за чего, но мне не хотелось, чтобы они заметили типа с собакой.
Обратно мы ехали втроем с Костей и Михаилом Енотовым. Мы, трое тридцатилетних мужчин, покинувших город Москву как поле боя, обстоятельно обсуждали наш новый быт, швабры и тряпки, и сковородки с антипригарным покрытием. Я думал о драматичном надломе, который кроется в тридцатилетии.
Отпраздновав тридцать лет, Костя решил бросить карьеру рэп-певца и отправиться в Иностранный легион, он много тренировался и учил французский язык, а Енотов готовился к выезду в ДНР, в ополчение к Стрелкову. Но в итоге оба героических плана сменились планом переменить город, уехать жить в Петербург.
Уверен, что дело тут не в нерешительности, отсутствии должной смелости у моих друзей. Просто так сложилась ситуация, такова, может быть, современная жизнь, в которой у жителя мегаполиса нет маневра для смелого шага. Стоит ему примерить доспехи Ахилла, и он обязательно поскользнется на первой попавшейся банановой кожуре. Эпос превращен в фарс еще до того, как в нем написано первое слово.
Консерватор сказал бы на это, что современный житель мегаполиса даже и не достоин мужского звания. Он слаб, бесхребетен, а всему виной тот нервно-паралитический яд, что был растворен в самом воздухе девяностых. И потому Россия обречена. Но обречен и весь мир, утративший иммунитет к легчайшему потрясению, что уж говорить о настоящей катастрофе, которая, разумеется, неизбежна. Прогрессист не мог бы оставить эту реплику без ответа и сказал бы: «И хорошо. И слава богу, что современный мужчина преодолел еще одну ступень, отделяющую его от обезьяны. Ведь в этом геройстве мужчина уподобляется шимпанзе, колошматящему себя в грудь с утробным ревом. Это не обреченность на гибель, а единственный шанс на спасение».
Консерватор и прогрессист могли бы спорить до посинения, в то время как неторопливо крутились бы счетчики голосования за ту или иную позицию (за консервативную – побыстрее), но истина, как известно, пролегает где-то посередине. Это вроде бы самоочевидная вещь, но истина – это удар молнии, не каждый способен его пропустить через себя и уж тем более удержать. А если кто и способен, то выглядит он после такого, как древняя черепаха без панциря, – таковы, например, Владимир Познер или Андрей Кончаловский.
6
После визита к Лехе Никонову я понял, что нужно притормозить и выработать стратегию, основанную на рекомендациях арабского шейха Снегирева. В противном случае я быстро присоединюсь к толпам обманутых, сломленных Петербургом романтиков, удирающих от страшного каменного великана прочь, в свою родную пещерку.
У меня появился стол, точнее конторка, которую я приставил к жирному пятну на стене. Теперь это пятно приняло форму младенца с огромным лбом. В его лбу кипели мысли о том, как погрузить мир в кровавый хаос. Если долго вглядываться в пятно, то можно было заметить, что в нем есть глубина, есть коридор с грязно-бежевыми стенами, по которому можно войти. Я отвернулся, чтобы не предпринять это путешествие.
Единственным украшением моей конторки стал порыжевший снимок, сделанный советским фотоаппаратом «Зенит». На нем мой отец сидит на корточках и делает вид, что у него зачесался висок, а на самом деле демонстрирует бицепс. Он всегда был в костюме и даже ходил в нем за грибами в лес, но тут он в майке без рукавов и трениках. Я стою возле него, готовый расплакаться от обиды. Детских снимков с другим выражением у меня нет. А отец стеснительно улыбается.
Следующим утром я выбрался погулять к набережной. На фоне серого грандиозного неба цепь облаков складывалась то в беременное кошачье брюхо, то в череп и ребра скелета, то в целую сцену из античной трагедии – эринии преследуют спасающегося от них в храме Ореста. Это небо заставляет работать на полную мощь ту самую машину образов из позавчерашнего кошмара, неудивительно, что поэты плодятся здесь, как чумные больные в Европе XIV века.
Петропавловская игла среди этой облачной массы превращалась в иголку, затерявшуюся в постельном белье и бесконечно колющую, не дающую спокойно лежать, побуждающую вскакивать поминутно, чтобы наводнять пустые листы письменами.
Мы с Костей вели себя очень тихо, но в квартире царил круглосуточный шум и стон, издаваемый самой квартирой. Иногда он зарождался сам по себе, но чаще всего его инициировал Костин кот по кличке Марсель, прибывший из Москвы с небольшой задержкой. В Москве это был самый покладистый из всех котов, но при переезде с ним что-то произошло: подобно москвичам, приезжающим погулять в выходные в Санкт-Петербург, он разрешил себе не церемониться.
Вот он тяжело стучит лапами, пробегая по длинному коридору – датчик света (в этой жуткой хибаре был датчик света, включавший и выключавший почерневшую голую лампу) реагировал на него, как на полноценного человека. Вот Марсель с глубоким сосредоточением начинает отделять кусок обоев от осыпающейся стены. Вот он заходит ко мне в комнату деловой тяжелой походкой. У него придирчиво-строгий начальственный вид, с которым он коротко обозревает меня и мой беспорядок. Я чувствую, что сейчас будет сделан выговор. Кажется, что я абитуриент на вступительном экзамене. Но вот экзаменатор запрыгивает с ногами на стол, а следом на шкаф, сует в пустой пакет голову, начинает его неаккуратно жевать. Он жует пакет, он отдирает куски обоев и с этим куском обоев в зубах не теряет разочарованно-строгого выражения.
Говорят, что коты ведут себя независимо потому, что им не хватает мозгов для услужливости. И сперва я думал, что кот Марсель типологически схож с высшими государственными чиновниками, которые добились таких успехов исключительно за умение создавать солидное впечатление. Хотя в голове у них царит жутковатая пустота, и только однообразную мысль о еде, как перекати-поле, гоняет ветер. Но Марсель возвышался над этой логикой – он с негодованием отвергал парадигму отношений хозяина и его питомца, Марсель был тайновидцем, прозревавшим своими круглыми внимательными глазами все неисчислимое множество параллельных миров. Иногда он оглашал квартиру тоскливым воем: бао, бао-о! Марсель вкладывал в этот стон очень много тоски – он еще не подозревал, что это был идиллический период его жизни.
Я был восхищен Марселем, я был нежно влюблен в это большое животное, но в глазах Кости я старался показать мое насмешливое к нему отношение.
– Костя, твой кот такой жирный, что в Азербайджане он спит на Баку. Стоп, кажется, я эту шутку не так рассказываю.
Но Костя все равно улыбался. Ведь он не слышал меня. Он стоял, болтая руками, и ждал, как оставленный реквизит, к которому все никак не вернутся.
Марсель и Костя – двое зрелых мужчин, игнорировавших реальность. Костя целыми днями слонялся по коридору, выбитый из колеи потерей лучшей комнаты. Большую часть времени он готовил и мыл посуду, что-нибудь тер, сортировал мусор, безостановочно систематизируя жизнь. Стоило мне зазеваться за столом с тарелкой, как она уже исчезала из-под меня, отмывалась и отправлялась в сушилку, стол протирался сухой тряпкой, пол под ногами – шваброй, и я не успевал покинуть кухню, а от моего присутствия уже не оставалось следа.
Наведя порядок в этих владениях Дагона, Костя укладывался на пуф с одной и той же толстенной книгой, которую читал в течение многих месяцев, бесконечно возвращаясь назад к вроде прочитанным, но не оставившим в памяти никакого следа кускам.
Пошла вторая неделя пребывания в Петербурге, но пока в моей жизни не произошло никаких перемен. Кроме панической атаки на набережной у Эрмитажа, не случилось ничего интересного. Я не написал ни одной строки.
Я думал над своим первым романом, а кроме того, как только я решил переезжать, сразу возник и формальный повод. Женя звал меня в Петербург для совместной работы над новым сценарием. Он говорил, что дело прибыльное и верное. Он хотел написать фильм-притчу о рэп-музыканте, который заключает пари с Сатаной. Сам он не был уверен, что в одиночку осилит формат притчи, и потому привлек к работе друзей, меня и Енотова. Енотов должен был отвечать за религиозную составляющую, а я – за линчевские ситуации, возникавшие с главным героем. Например, сиамские близнецы повторяют с интонацией проповедников: «Раньше этот кетчуп был острее». Кто-то говорит самую обыкновенную сериальную реплику и при этом запихивает в рот гигантский багет. Для меня это было легче легкого: городские безумцы, самые подходящие для этого типажи, всю жизнь увивались вокруг меня, как мухи вокруг бездомной дворняги. Но пока дело с места не двигалось.
Идеи романов толпились в моей голове, но ни в одной из них не было потенциала. Гроздья стоваттных светодиодных ламп били в меня, как свет театральной рампы в артиста, позабывшего все свои реплики.
Кроме того, помехи в работу вносил кот Марсель.
Как только я усаживался за конторку, он бросал свое тайновидение и переходил к проделкам. Марсель с равнодушием наблюдал за всеми другими моими занятиями, но вот сосредоточенного сидения за ноутбуком он не выносил. Всякий раз Марсель запрыгивал на колени и вцеплялся в меня своими мускулистыми лапами, как будто удерживая от письма. А вдобавок пускал нить слюны на тачпад, сразу же растекавшуюся мерзкой лужицей.
Вероятно, Марселя мучила зависть, что он не может записать свою корреспонденцию из других миров. А я хоть и мог записывать что угодно, другие миры мне не нашептывали ничего – таково лишь частное проявление тотально несправедливого устройства этого мира, мира, в котором мы с Марселем до времени заточены.
Я выпроваживал его и закрывал дверь, но на этом ничего не заканчивалось. Я знал, что он сидит под дверью и напряженно ждет. Через какое-то время он напоминал о себе тоскливым воем, продиравшим до самых кишок не хуже самых пронзительных песен в жанре блюз-рок, и приходилось пускать его вновь, чтобы все повторилось с зеркальной точностью.
Теперь уж я понимал, что воспринял совет Снегирева слишком буквально. Если мне хотелось бы написать серию благонамеренных постов в фейсбук, рассчитанных на шестьдесят – сто лайков, то в этом случае следовало повиноваться ему беспрекословно. Но чтобы освободить сердце от слоновьей кожи и жира, которым оно заплыло, чтобы запустить внутри такую воронку, которая, вырвавшись из меня, унесется, круша и сдвигая с места миры, следовало сделать по крайней мере пару шагов из зоны комфорта. Нельзя сделать революции, не потеряв пуговицы на пиджаке, как однажды обмолвился Эдуард Лимонов.
7
Уже на следующий день я решил прыгнуть в петербургскую жизнь с головой, как в купель погожим крещенским вечером. Я поставил будильник на девять утра, чтобы не упустить жизни, ведь, как однажды сказал мой дед: «Потерял утро – потерял день», или, как сказал боец смешанных единоборств Хабиб «Орел» Нурмагомедов: «Я никогда не встречал успешных людей, которые спят до обеда». Но проснулся я и того раньше. Часов в семь, когда тьма за окном была совсем непроглядной, раздался звонок в дверь.
Я никого не ждал. Открывать я и не думал. За дверью стоял представитель мрачного мира Выборгской стороны, мира недействующих заводов и заброшенных тюрем. Нам здесь никто из представителей этого мира не был нужен. Но звонки не переставали, и я упрямо лежал, глядя в масляное пятно над конторкой.
Я услышал, как в коридор выползло бледное Костино тело, на которое, в отличие от Марселя, датчик света не реагировал. Костя был уже у двери, когда до меня дошло: к нам пришли с обыском. Недавно я опубликовал в инстаграме спорную в нравственном отношении фотографию – баннер со светловолосым ребенком, рекламировавшим продукцию Великолукского мясокомбината. Кто-то пририсовал ему на лице небольшую свастику, и я подумал, что это немного забавно. Уже не помню, почему мне так показалось, хотя ничего забавного в этом нет. И чтобы окончательно убедить меня в том, что ничего смешного ни в изображении свастики, ни в ее тиражировании в социальных сетях нет, ко мне нагрянул наряд оперов рано утром.
Я попытался вспомнить, есть ли в доме что-нибудь запрещенное. Запрещенные книги на полке? Что-то сектантское наверняка мог припрятать в шкафу Моисей. Я вспомнил мрачную шутку хозяйки про хранение трупов в кладовке. Люди, воздвигшие зиккураты из втулок, могли оставить здесь все что угодно. Зайдя с обыском по одному делу, опера заведут еще пару новых.
Я метнулся к двери, но в коридоре было пусто и тихо. Костя уже осторожно влезал в постель, чтобы не потревожить раскинувшего лапы Марселя. Я спросил его, кто звонил. Костя, не успевший надеть линзы, скользнул по мне пустыми глазами.
– Я не стал узнавать. Там что-то не то.
– Что значит не то? – спросил я, холодея.
Я услышал, как дрожит от вибрации моя маленькая неустойчивая конторка. Ее привел в движение телефон.
– Не знаю, – проговорил Костя. – Но мне показалось, что если спрошу, кто там, то мне отвечу я сам, понимаешь?
С этими словами Костя накрыл голову одеялом. Марсель, которого все же слегка потревожили, теперь угрюмо глядел на меня.
– Когда-нибудь они перестанут, – сказал я Марселю и закрыл за собой дверь. Через несколько минут мне написала Рита: «Открой, пожалуйста, это курьер».
Этажом ниже меня дожидался пухлый и робкий на вид парень с романтической шевелюрой в духе поэта Байрона, даже не верилось, что это он мог так нахально трезвонить в дверь. Он вручил мне букет подсолнухов и открытку. Сегодня был мой день рождения, а я совсем позабыл. Сердце скакало в груди: Рита была еще слишком юна и не понимала, что тридцатилетние обессилевшие невротики – не лучшая аудитория для сюрпризов.
Тот день не задался сразу. День открытия себя миру, день прыжка в ледяную прорубь обернулся прыжком в гнилую черную яму без дна. Чтобы снять последствия стресса, я налег на крепкое уже с полудня. Мне попался под руку словацкий бальзам «Татра ти», который пьется очень легко, как чай, несмотря на свои пятьдесят с лишним градусов.
Так что на чтения стихов в «Ионотеке», куда меня пригласил Максим, я пришел уже пьяным страшно и необратимо. Максим вписал меня в число выступающих по доброте души, и я даже выполз на сцену, но так и не смог извлечь из себя никаких связных звуков. Пошатавшись у микрофона, я вернулся в зал. Почему-то у меня была растворена ширинка. По-видимому, это было далеко не худшее выступление в «Ионотеке», и даже в тот вечер, потому что я удостоился скромных аплодисментов.
Затем я долго и трудно проталкивался ко входу, как будто прорубал путь через толстый лед, а оказавшись на улице, сел на четвереньки и пополз в направлении Лиговского проспекта, и кто-то сел на меня верхом. Для полной гармонии оставалось испражниться в луже и изваляться в этой луже и в этих испражнениях. Хотелось по-пьяному голосить.
Вообще-то такое поведение мне не свойственно, сколько бы я ни пил, но, вероятно, близость Максима, который всегда заражал меня нездоровой энергией, и воодушевление от переезда, от выхода в люди, сыграло со мной злую шутку.
Но оскотинивание продолжалось. Меня долго пыталась то оседлать, то поднять с земли девушка (по всей вероятности, девушка, я не запомнил лица и вообще ничего не запомнил, кроме куска бледно-белой плоти, на секунду выглянувшего из-под куртки), заливавшаяся шакальим смехом. Но вместо того чтобы отпугнуть, этот смех приободрил меня. Устремившись вослед за белым куском, я оказался в подвальном студенческом общежитии, в комнате без окон, без ламп. Это была пещера, где пахло потом и плотью, что-то среднее между сауной и скотобойней, и я долго бегал по коридору голым, в чьей-то крови, кричал и стучался в двери, пока меня не вытолкал на улицу какой-то сошедший с гравюр Гойи мохнатый клок с торчащими отовсюду руками.
Я должен был, жалея свой организм, вызвать такси, чтобы через десять минут уже быть дома, но почему-то не сделал этого и пошел пешком.
Поднялся порывистый ветер, снявший со своих мест и приведший в беспорядочное движение все, что было легче среднего человека. Разъяренно выплескивалась из своих гранитных пределов вода, крутились вокруг оси бачки урн, как Колесо удачи. Такой ветер мог сорвать с черепа кожу и вырвать яблоки из глазниц, но на мое пьяное раздувшееся лицо он оказывал тонизирующий эффект, и с каждым порывом я чувствовал обновление, как от огуречной или любой другой освежающей кожу маски. За все время пути я встретил только двух человек: один был в капюшоне, под которым что-то чернело, уж точно не обыкновенная человеческая физиономия, а второй был без капюшона и шапки, с упрямым железным лицом, подернутым ржавчиной, он шел, наклоняясь вперед, и был с трудом отличим от подгоняемой ветром полой статуи. На втором мосту я встретил статую сфинкса, морда которого, под покровом дождевых капель, показалась, напротив, очень живой, ржавчина напоминала сетку прыщей, а влага – человеческую испарину.
Внезапно я вспомнил один из советов, полученных от Марата. Он сказал, что мне следует навестить фиванских сфинксов на Университетской набережной. Так и действует алкоголь: безжалостно репрессируя клетки мозга, какие-то из них он может неожиданно воскресить, причем те, что числились давно умершими.
Но для чего мне следует их навестить, вспомнить не получалось. Может быть, из-за отличного вида, который открывался на Адмиралтейский район. А может, это было одним из тех мест писательской силы, которых в Петербурге и так предостаточно, хотя иногда такие места следует называть не местами силы, а местами отъема всяческих сил. В любом случае, я вписал эту мысль в телефон, чтоб не забыть, – может, и навещу этих сфинксов при случае.
Вернувшись под утро домой, я застал Костю на кухне. Он печально жевал тыкву с булгуром в компании дамы, подцепленной, вероятно, там же, где я подцепил свою, может, и не существовавшую даму. О своей спутнице он, кажется, подзабыл. Я заметил, что букет подсолнухов, который я бросил утром на стол, стоял в графине.
– Из-за этих цветов у нас заведутся жуки, – сказал Костя. Марсель в это время играл шнурками на кедах дамы. Дама стеснялась его отогнать, да и как было отогнать такого солидного господина.
Я попытался смыть с себя грязь этого вечера аллергенной вонючей водой, стоя в насквозь проссанной ванной. После чего проскользнул в свою комнату и зачем-то заперся на замок. Перед сном меня посетила мысль о Марселе.
Это был самый серьезный, основательный кот из всех, что я знавал. Но серьезность кота не такая, как человеческая. Думаю, если б Марсель не был кастрирован еще в молодые годы и если бы коты могли заводить семью, Марсель стал благополучным, серьезным отцом, воспитавшим достойных наследников – в котовьей системе координат. Тем же тоном, что отцы наставляют детей прилежно учиться и следить за чистотой ногтей и обуви, он бы наставлял детей копаться в коробках, грызть пластиковые пакеты, драть занавески и делать все другое, что полагается основательному коту.
В квартире на Комсомола завелась моль и мелкие, круглые, как пуговицы, жуки. Как все мировое зло, они пришли в наш мир через женщину. Жуки выползли из цветов. Моль переселилась из шубки, в которой была Костина незнакомка. Возможно, что переселение не было добровольным – кто бы сам променял сытую жизнь в шубе на это нищенское жилище, где единственный переносчик шерсти – Марсель, но и это мишень трудная.
Марсель глядел на ползущие пуговицы без интереса. Жуки как низкая форма жизни мало интересовали его. Даже людям было трудно надолго удерживать на себе его внимание. Его ждал поединок с бездной. Муза дальних странствий играла на арфе для одного него.
Прошедший вечер убедил меня в том, что хотя и не нужно закрываться в себе, отдаваться стихийным порывам тоже не следует. А следует найти середину между отшельничеством и куражом. И выходить из зоны комфорта с той осторожностью, что присуща лесным странникам, пересекающим заболоченные участки, ощупывая при помощи посоха каждую пядь перед собой.
И я начал с того, что стал изучать район, район улицы Комсомола, в котором мне пришлось поселиться. Этот район был не предназначен для жизни. Во всяком случае для теплокровных существ. Для мокриц, ужей, жуков, выползших из подсолнухов и расплодившихся до масштабов большой деревни, не исключено, что это место было аналогом человеческого Биаррица.
В окрестностях не водилось продуктов, только ларек шавермы, где подавали больных голубей в лаваше, приправленных квашеною капустой. Все супермаркеты заменяла лавка с сухими кормами и пивом. Там можно было купить алкоголь и ночью, но для этого следовало пройти многоступенчатый ритуал.
Сперва продавец будет глядеть с оскорбленной добродетелью, и можно легко проследить, как через эту добродетельность медленно проступает мефистофелевская улыбка. Он будет допрашивать, устраивать лихорадочные объяснения, объясняться в любви и преданности, но с горечью разводить руками, скорбно, с витиеватыми извинениями прощаться, потом догонять под дождем и снегом, перепрыгивая через лужи с бутылкой в руках, которую ты полчаса безуспешно пытался выторговать. Вполне подходящий герой для моей соседки по поезду, искавшей драмы на ровном месте.
По правую руку был морг, по левую – судмедэкспертиза, а в соседнем подъезде магазин «Все для крещения», прямо напротив тюрьмы «Кресты». Мне хотелось узнать, каков полный набор крестильных ингредиентов, но этот магазин никогда не бывал открыт, похоже, его закрыли еще до моего рождения.
Если долго идти против пыльного ветра со стороны Невы, то в конце концов можно выбраться к магазину «Пятерочка» возле Финляндского вокзала.
Это была худшая из «Пятерочек», которые я знавал, а бывал я во многих окраинных и некоторых провинциальных «Пятерочках». Она вся, как снегом, была осыпана луковой шелухой, песок лез из каждого уголка, заледеневшая грязь намертво приросла к морозильным камерам. Работники зала слонялись по узким дорожкам, не работая, а только перегораживая путь покупателям. Из наушников очень отчетливо, как из динамиков, доносилась воинственная песнь на арабском языке, может быть, призывавшая к немедленной и максимально жестокой расправе со всеми неверными. Их начальница – злая косматая мужиковатая тетка – впустую орала на них. Я покупал редис, свеклу, лук, картошку, редьку – но все оказывалось несвежим, редис был недостаточно или вовсе не остр, редька пахла гнилым мясом, все остальное было просто залежавшимся и невкусным.
Между метро «Площадь Ленина» и Финляндским вокзалом циркулировали огромные массы людей, накатывавшие, залезавшие в давке друг другу на головы, но никто из этого потока не выбивался на улицу Комсомола, в ее ледяной обездвиженный мир. Он напоминал самые безжизненные уголки пустыни, по которым вместо перекати-поля носились опаленные клоки шерсти неизвестного происхождения.
Странным образом все детали, за которые цеплялся взгляд на улице Комсомола, сразу обретали особенную значительность, какую любая деталь обретает во сне. Изредка попадавшиеся прохожие тоже выглядели как персонажи из сновидений. Они не отвечали мне на приветствия, а просто равнодушно таращились, пока я не пройду мимо. Женщина с громадной облысевшей дворнягой, дальним родственником дога, вдруг прижимала палец к губам, когда я здоровался с ней. Другая женщина держала над головой крышку от унитаза вместо зонта, хотя дождя и в помине не было. Мужчина с перекрученной, перепутанной бородой и футляром для инструмента в руке медленно шел задом наперед, чуть выпятив зад, как будто зад заменял ему глаза, и он пытался осязать задом дорогу. И, в общем, это было не так уж глупо – в тьме улицы Комсомола глазами разглядишь не больше, чем задом. Иногда на пустой дороге я различал скрип коляски, детской или же инвалидной, но его источник никогда не удавалось определить.
Однажды у меня с дачи пропал пуховик, в котором я ходил там и зимой, и летом. Пуховик был с большой прорехой на ребрах. Теперь я каждый вечер видел, как он несется по небу, и каждый вечер в эту прореху светила одна и та же мутноватая и как будто припухшая луна – единственный осветительный прибор на улице Комсомола.
8
Прошла неделя, настали настоящие холода, я шел по Фонтанке, по непроницаемому дубовому льду желтоватого оттенка, и сверху мел мелкий ненатуральный снег, я шел в гости к писателю и массажисту Валере Айрапетяну, чтобы поздравить его с рождением ребенка.