Синий фонарь бесплатное чтение
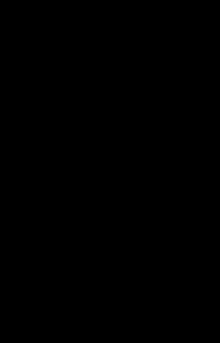
Виктор Пелевин
Синий фонарь


Издание подготовлено при участии редакционно-издательской фирмы РИФ

Я. Это личное, как знают все ученики, местоимение. И в то же время Я каждого человека — Вселенная. Созданная внешним миром. Любовью отца и матери. Познанием. Богом. Или поиском Бога. Есть люди — их мало, — которые сами рождают миры своих Вселенных, то есть творят. Виктор Пелевин — из творцов. Его миры бывают абсолютно невероятными — миры снов, живых сараев, философствующих цыплят, компьютерных игр, совслужащих-оборотней, наркотиков. Сочинения этого писателя можно назвать «психоделической фантастикой», только к ЛСД или псилоцибину она не имеет ни малейшего отношения. «Психоделия» Пелевина рождена эрудицией автора, знанием китайской философии, увлечением информатикой, мистикой, метафизикой, магией и еще многими вещами, а самое главное — страшной болью по поводу всего, что творится в нашем разнесчастном «совке». Его фантастику можно счесть безысходной, но даже в отчаянии он все-таки оставляет место надежде: «Если ты оказался в темноте и видишь хотя бы самый слабый луч света, ты должен идти к нему… (а не) рассуждать, имеет смысл это делать или нет». Антиутопия, псевдофилософские трактаты, история «шиворот-навыворот», переплетение сознаний, воспоминания «зэка» о своем детстве… Что это — новый Борхес? Нет, перед нами В. Пелевин — автор, который может со всей ответственностью и болью сознаться: моя книга, моя сатира и те миры, что я пишу, это Я.
Часть первая
Принц Госплана

Жизнь и приключения сарая Номер XII
Вначале было слово, и даже, наверное, не одно — но он ничего об этом не знал. В своей нулевой точке он находил пахнущие свежей смолой доски, которые лежали штабелем на мокрой траве и впитывали желтыми гранями солнце; находил гвозди в фанерном ящике, молотки, пилы и прочее, — представляя все это, он замечал, что скорей домысливает картину, чем видит ее. Слабое чувство себя появилось позже, когда внутри уже стояли велосипеды, а его правую сторону заняли полки в три яруса. По-настоящему он был тогда еще не Номером XII, а просто новой конфигурацией штабеля досок, но именно эти времена оставили в нем самый чистый и запомнившийся отпечаток: вокруг лежал необъяснимый мир, а он, казалось, в своем движении по нему остановился на какое-то время здесь, в этом месте.
Место, правда, было не из лучших — задворки пятиэтажки, возле огородов и помойки, — но стоило ли расстраиваться? Ведь не всю жизнь он здесь проведет. Задумайся он об этом, пришлось бы, конечно, ответить, что именно всю жизнь он здесь и проведет, как это вообще свойственно сараям, — но прелесть самого начала жизни заключается как раз в отсутствии таких размышлений: он просто стоял себе под солнцем, наслаждаясь ветром, летящим в щели, если тот дул от леса, или впадая в легкую депрессию, если ветер дул со стороны помойки; депрессия проходила, как только ветер менялся, не оставляя на его неоформившейся душе долговечных следов.
Однажды к нему приблизился голый по пояс мужчина в красных тренировочных штанах; в руках он держал кисть и здоровенную жестянку краски. Этот мужчина, которого сарай уже научился узнавать, отличался от всех остальных людей тем, что имел доступ внутрь, к велосипедам и полкам. Остановясь у стены, он обмакнул кисть в жестянку и провел по доскам ярко-багровую черту. Через час сарай багровел, как дым, в свое время восходивший, по некоторым сведениям, кругами к небу; это стало первой реальной вехой в его памяти — до нее на всем лежал налет потусторонности и счастья.
В ночь после окраски, получив черную римскую цифру — имя (на соседних сараях стояли обычные цифры), он просыхал, подставив луне покрытую толем крышу.
«Где я, — думал он, — кто я?»
Сверху было темное небо, потом он, а внутри стояли новенькие велосипеды; на них сквозь щель падал луч от лампы во дворе, и звонки на их рулях блестели загадочней звезд. Сверху на стене висел пластмассовый обруч, и Номер XII самыми тонкими из своих досок осознавал его как символ вечной загадки мироздания, представленной — это было так чудесно — и в его душе. На полках лежала всякая ерунда, придававшая разнообразие и неповторимость его внутреннему миру. На нитке, протянутой от стены к стене, сохли душица и укроп, напоминая о чем-то таком, чего с сараями просто не бывает, — тем не менее они именно напоминали, и ему иногда мерещилось, что раньше он был не сараем, а дачей или по меньшей мере гаражом.
Он ощутил себя и понял, что то, что ощущало — то есть он сам, — складывалось из множества меньших индивидуальностей: из неземных личностей машин для преодоления пространства, пахнувших резиной и сталью; из мистической интроспекции замкнутого на себе обруча; из писка душ разбросанной по полкам мелочи вроде гвоздей и гаек и из другого. В каждом из этих существований было бесконечно много оттенков, но все-таки любому соответствовало что-то главное для него — какое-то решающее чувство, и они, сливаясь, образовывали новое единство, огороженное в пространстве свежевыкрашенными досками, но не ограниченное ничем; это и был он, Номер XII, и над ним в небе сквозь туман и тучи неслась полностью равноправная луна… С тех пор по-настоящему и началась его жизнь.
Скоро Номер XII понял, что больше всего ему нравится ощущение, источником или проводником которого были велосипеды. Иногда, в жаркий летний день, когда мир вокруг затихал, он тайно отождествлял себя то со складной «Камой», то со «Спутником» и испытывал два разных вида полного счастья.
В этом состоянии ничего не стоило оказаться километров за пятьдесят от своего настоящего местонахождения и катить, например, по безлюдному мосту над каналом в бетонных берегах или по сиреневой обочине нагретого шоссе, сворачивать в тоннели, образованные разросшимися вокруг узкой грунтовой дорожки кустами, чтобы, попетляв по ним, выехать уже на другую дорогу, ведущую к лесу, через лес, через поле — прямо в оранжевое небо над горизонтом; можно было, наверное, ехать по ней до самого конца жизни, но этого не хотелось, потому что счастье приносила именно эта возможность. Можно было оказаться в городе, в каком-нибудь дворе, где из трещин асфальта росли какие-то длинные стебли, и провести там вечер — вообще, можно было почти все.
Когда он захотел поделиться некоторыми из своих переживаний с оккультно ориентированным гаражом, стоящим рядом, он услышал в ответ, что высшее счастье на самом деле только одно, и заключается в экстатическом единении с архетипом гаража, — как тут было рассказать собеседнику о двух разных видах совершенного счастья, одно из которых было складным, а другое зато имело три скорости?
— Что, и я тоже должен стараться почувствовать себя гаражом? — спросил он как-то.
— Другого пути нет, — отвечал гараж, — тебе это, конечно, вряд ли удастся до конца, но у тебя больше шансов, чем у конуры или табачного киоска.
— А если мне нравится чувствовать себя велосипедом? — высказал Номер XII свое сокровенное.
— Ну что же, чувствуй. Запретить не могу. Чувства низшего порядка для некоторых — предел, и ничего с этим не поделаешь, — сказал гараж.
— А чего это у тебя мелом на боку написано? — переменил тему Номер XII.
— Не твое дело, говно фанерное, — ответил гараж с неожиданной злобой.
Номер XII заговорил об этом, понятно, от обиды — кому не обидно, когда его чувства называют низшими? После этого случая ни о каком общении с гаражом не могло быть и речи, да Номер XII и не жалел. Однажды утром гараж снесли, и Номер XII остался в одиночестве.
Правда, с левой стороны к нему подходили два других сарая, но он старался даже не думать о них. Не из-за того, что они были несколько другой конструкции и окрашены в тусклый неопределенный цвет — с этим можно было бы смириться. Дело заключалось в другом: рядом, на первом этаже пятиэтажки, в которой жили хозяева Номера XII, находился большой овощной магазин, и эти сараи служили для него подсобными помещениями. В них хранилась морковь, картошка, свекла, огурцы — но определяющим все главное относительно Номера 13 и Номера 14 была, конечно, капуста в двух затянутых полиэтиленом огромных бочках; Номер XII часто видел их стянутые стальными обручами глубоководные тела, выкатывающиеся на ребре во двор в окружении свиты испитых рабочих. Тогда ему становилось страшно и он вспоминал одно из высказываний покойного гаража, которого он часто с грустью вспоминал: «От некоторых вещей в жизни надо попросту как можно скорее отвернуться», — вспоминал и сразу следовал ему. Темная труднопонимаемая жизнь соседей, их тухлые испарения и тупая жизнеспособность угрожали Номеру XII, потому что само существование этих приземистых построек отрицало все остальное и каждой каплей рассола в бочках заявляло, что Номер XII в этой вселенной совершенно не нужен; во всяком случае, так он расшифровывал исходившие от них волны осознания мира.
Но день кончался, свет мерк, Номер XII становился велосипедом, несущимся по пустынной автостраде, и вспоминать о дневных ужасах было просто смешно.
Была середина лета, когда звякнул замок, откинулась скоба запора и внутрь Номера XII вошли двое: хозяин и какая-то женщина. Она очень не понравилась Номеру XII, потому что непонятным образом напомнила ему все то, чего он не переносил. Не то чтобы от женщины пахло капустой и поэтому она производила такое впечатление — скорее наоборот, запах капусты содержал сведения об этой женщине; она как бы овеществляла собой идею квашения и воплощала ту угнетающую волю, которой Номера 13 и 14 были обязаны своим настоящим. Номер XII задумался, а люди между тем говорили:
— Ну что, полки снять, и хорошо, хорошо…
— Сарай — первый сорт, — отзывался хозяин, выкатывая наружу велосипеды. — Не протекает, ничего. А цвет-то какой!
Выкатив велосипеды и прислонив их к стене, он начал беспорядочно собирать с полок все, что там лежало. Тогда Номеру XII стало не по себе.
Конечно, и раньше велосипеды часто исчезали на какой-то срок, и он умел закрывать возникавшую пустоту своей памятью — потом, когда велосипеды ставили на место, он удивился несовершенству созданных памятью образов по сравнению с действительной красотой велосипедов, запросто излучаемой ими в пространство, — так вот, пропав, велосипеды всегда возвращались, и эти недолгие расставания с главным в собственной душе сообщали жизни Номера XII прелесть непредсказуемости завтрашнего дня; но сейчас все было по-другому. Велосипеды забирали навсегда.
Он понял это по полному и бесцеремонному опустошению, которое производил в нем носитель красных штанов, — такое случалось впервые. Женщина в белом халате давно уже ушла, а хозяин еще копался, сгребая инструменты в сумку, снимая со стен жестянки и старые клееные камеры. Потом почти к двери подъехал грузовик, и оба велосипеда вслед за набитыми до отказа сумками покорно нырнули в его разверстый брезентовый зад.
Номер XII был пуст, а его дверь открыта настежь.
Но, несмотря ни на что, он продолжал быть самим собой. В нем продолжали жить души всего того, чего его лишила жизнь; и хоть они стали подобны теням, они по-прежнему сливались вместе, чтобы составить его. Номера XII, вот только для сохранения индивидуальности требовалась вся сила воли, которую он мог собрать.
Утром он заметил в себе перемену — его не интересовал больше окружающий мир, а все, что его занимало, находилось в прошлом, перемещаясь кругами по памяти. Он знал, как это объяснить: хозяин, уезжая, забыл обруч, оставшийся единственной реальной частью его нынешней призрачной души, и поэтому Номер XII теперь напоминал себе замкнутую окружность. Но у него не было сил как-то к этому отнестись и подумать: хорошо ли это? Плохо ли? Все заливала и обесцвечивала тоска. Так прошел месяц.
Однажды появились рабочие, вошли в беззащитно раскрытую дверь и за несколько минут выломали полки. Не успел Номер XII прочувствовать свое новое состояние, как волна ужаса обдала его, показав, кстати, сколько в нем еще оставалось жизненной силы, нужной, чтобы испытывать страх.
По двору к нему катили бочку. Именно к нему. Даже на самом дне ностальгии, когда ему казалось, что ничего хуже случившегося с ним не может и присниться, он не думал о такой возможности.
Бочка была страшной. Она была огромной и выпуклой, она была очень старой, и ее бока, пропитанные чем-то чудовищным, издавали вонь такого спектра, что даже привычные к изнанке жизни работяги, катившие ее на ребре, отворачивались и матерились. При этом Номер XII видел нечто незаметное рабочим: в бочке холодело внимание, и она мокрым подобием глаза воспринимала мир. Как ее вкатывали внутрь и крутили на полу, ставя в самый его центр, потерявший сознание Номер XII не видел.
Страдание увечит. Прошло два дня, и к Номеру XII стали понемногу возвращаться мысли и чувства. Теперь он был другим, и все в нем было по-другому. В самом центре его души, там, где когда-то покоились омытые ветром рамы велосипедов, теперь пульсировала живая смерть, сгущавшаяся в бочку, которая медленно существовала и думала; ее мысли теперь были и мыслями Номера XII. Он ощущал брожение гнилого рассола, и это в нем поднимались пузыри, чтобы лопнуть на поверхности, образовав лунку на слое плесени, это в нем перемещались под действием газа разбухшие трупные огурцы, и это в нем напрягались пропитанные слизью доски, стянутые ржавым железом. Все это было им.
Номера 13 и 14 теперь не пугали его, наоборот, между ними быстро установилось полубессознательное товарищество. Но прошлое не исчезло полностью — оно просто было оттеснено и смято. Поэтому новая жизнь Номера XII была двойной. С одной стороны, он участвовал в ней на равных правах с Номерами 13 и 14, а с другой, где-то в нем скрывались чувства, сознание ужасной несправедливости того, что с ним произошло. Но центр тяжести его нового существа лежал, конечно, в бочке, которая издавала постоянное бульканье и потрескивание, пришедшее на смену воображаемому шелесту шин.
Номера 13 и 14 объясняли ему, что все случившееся — элементарный возрастной перелом.
— Вхождение в реальный мир с его заботами и тревогами всегда сопряжено с некоторыми трудностями, — говорил Номер 13. — Совсем новые проблемы наполняют душу.
И добавлял ободряюще:
— Ничего, привыкнешь. Тяжело только сперва.
Четырнадцатый был сараем скорее философского склада (не в смысле хранилища), часто говорил о духовном и скоро убедил нового товарища, что если прекрасное заключено в гармонии («Это раз», — говорил он), а внутри — и это объективно — находятся огурцы или капуста («Это два»), то прекрасное в жизни заключено в достижении гармонии с содержимым бочки и устранении всего, что этому препятствует. Под край его собственной бочки, чтоб не вытекало, был подложен старый философский словарь, который он часто цитировал; он же помогал ему объяснять Номеру XII, как надо жить. Все же Номер 14 до конца не доверял новичку, чувствуя в нем что-то такое, чего сам Номер XII в себе уже не замечал.
Постепенно Номер XII и вправду привык. Иногда он даже чувствовал специфическое вдохновение, новую волю к своей новой жизни. Но все-таки недоверие новых друзей было оправданным: несколько раз Номер XII ловил быстрый, как луч из замочной скважины, проблеск чего-то забытого и погружался тогда в сосредоточенное презрение к себе; чего уж говорить о других, которых он в эти минуты просто ненавидел.
Все это, конечно, подавлялось непобедимым мироощущением бочки с огурцами, и скоро Номер XII начинал недоумевать, чего это его так занесло. Постепенно он становился проще, и прошлое реже тревожило его, потому что трудно стало догонять слишком мимолетные вспышки памяти. Зато бочка все чаще казалась залогом устойчивости и покоя, как балласт на корабле, и иногда Номер XII так и представлял себя: в виде теплохода, вплывающего в завтра.
Он стал чувствовать присущую бочке своеобразную доброту — но только с тех пор, как окончательно открыл ей что-то в себе. Огурцы теперь казались ему чем-то вроде детей.
Номера 13 и 14 были неплохими товарищами, и главное, в них он находил опору своему новому. Бывало, вечером они втроем молча классифицировали предметы мира, наполняя все вокруг общим пониманием, и когда какая-нибудь из недавно построенных рядом будок содрогалась, он думал, глядя на нее: «Глупость… Ничего, перебесится — поймет…» Несколько подобных трансформаций произошло на его глазах, и это подтвердило его правоту лишний раз. Испытывал он и ненависть — когда в мире появлялось что-то ненужное; слава Богу, так случалось редко. Шли дни и годы, и казалось, уже ничего не изменится.
Как-то летним вечером, оглядывая свое нутро, Номер XII натолкнулся на непонятный предмет: пластмассовый обруч, обросший паутиной. Сначала он не мог взять в толк, что это и зачем, и вдруг вспомнил: ведь столько было когда-то связано с этой штукой! Бочка в нем дремала, и какая-то другая его часть осторожно перебирала нити памяти, но все они были давно оборваны и никуда не приводили. Однако ведь было же что-то? Или не было? Сосредоточенно пытаясь понять, о чем это он не помнит, он на секунду перестал чувствовать бочку и как-то отделился от нее.
В этот самый момент во двор въехал велосипед, и ездок без всякой причины дважды прозвонил звоночком на руле. И этого хватило — Номер XII вдруг вспомнил.
Велосипед.
Шоссе.
Закат.
Мост над рекой.
Он вспомнил, кто он на самом деле, и стал наконец собой — действительно собой. Все, связанное с бочкой, отпало как сухая корка; он почувствовал отвратительную вонь рассола и увидел своих вчерашних товарищей, Номеров 13 и 14, такими, какими они были. Но думать об этом не было времени — надо было спешить, потому что он знал, что проклятая бочка, если он не успеет сделать задуманного, опять подчинит его и сделает собой.
Бочка между тем проснулась, поняла, и Номер XII ощутил знакомую волну холодного отупения: раньше он считал его своим. Проснувшись, бочка стала заполнять его, и он ничем не мог ответить на это, кроме одного.
Под выступом крыши шли два электрических провода. Пока бочка приходила в себя и выясняла, в чем дело, он сделал единственное, что мог: изо всех сил надавил на них, использовав какую-то новую возможность, появившуюся у него от отчаяния. В следующий момент его смела непреодолимая сила, исшедшая из бочки с огурцами, и на время он просто перестал существовать. Но дело было сделано — провода, прорвав изоляцию, коснулись друг друга, и на месте их встречи вспыхнуло лилово-белое пламя. Через секунду где-то выгорела пробка, и ток в проводах пропал, но по сухой доске вверх уже подымалась узкая ленточка дыма, потом появился огонь и, не встречая на своем пути препятствий, стал расти и подползать к крыше.
Номер XII очнулся после удара и понял, что бочка решила уничтожить его. Он сжал все свое существо в одной из верхних досок крыши и почувствовал, что бочка не одна — ей помогали Номера 13 и 14, которые думали о нем снаружи.
«Очевидно, — со странной отрешенностью подумал Номер XII, — для них сейчас происходит что-то вроде обуздания помешанного, а может, прорезавшегося врага, который так ловко притворялся своим…» Додумать не удалось, потому что бочка, всей своей гнилью навалившись на границу его существования, удвоила усилия. Он выдержал, но понял, что следующий удар будет для него последним, и приготовился к смерти. Но шло время, а нового удара не было. Тогда он несколько расширил свои границы и почувствовал две вещи. Первой был страх, принадлежавший бочке, — такой же холодный и медленный, как все ее проявления. Второй вещью был огонь, полыхавший вокруг и уже подбиравшийся к одушевляемой Номером XII части потолка. Пылали стены, огненными слезами рыдал толь на крыше, а внизу горели пластмассовые бутылки с подсолнечным маслом. Некоторые из них лопались, рассол в бочке кипел, и она, несмотря на все свое могущество, погибала. Номер XII расширил себя по той части крыши, которая еще существовала, и вызвал в памяти день, когда его покрасили, а главное — ту ночь: он хотел умереть с этой мыслью. Рядом уже горел Номер 13, и это было последним, что он заметил. Но смерть не шла, а когда его последнюю щепку охватил огонь, случилось неожиданное.
Директор семнадцатого овощного, та самая женщина, шла домой в поганом настроении. Вечером, часов в шесть, неожиданно загорелась подсобка, где стояли масло и огурцы. Масло разлилось, и огонь перекинулся на соседние сараи — в общем, выгорело все, что могло гореть. От двенадцатого сарая остались только ключи, а от тринадцатого и четырнадцатого — по нескольку обгорелых досок.
Пока составляли акты и объяснялись с пожарными, стемнело, и идти было страшно, так как дорога была пустынной и деревья по бокам стояли, как бандиты. Директор остановилась и поглядела назад — не увязался ли кто следом. Вроде было пусто. Она сделала еще несколько шагов и оглянулась — кажется, вдали что-то мигало. На всякий случай она отошла в сторону, за дерево, и стала напряженно вглядываться в темноту, ожидая, пока ситуация прояснится.
В самой дальней видимой точке дороги появилось светящееся пятнышко. «Мотоцикл!» — подумала директор и крепче вжалась в дерево. Однако шума мотора слышно не было. Светлое пятно приближалось, и стало видно, что оно не движется по дороге, а летит над ней. Еще секунда, и пятно превратилось в совершенно нереальную вещь — велосипед без велосипедиста, летящий на высоте трех или четырех метров. Странной была его конструкция — он выглядел как-то грубо, будто был сколочен из досок, — но самым странным было то, что он светился и мерцал, меняя цвета, становясь то прозрачным, то зажигаясь до нестерпимой яркости. Не помня себя, директор вышла на середину дороги, и велосипед явным образом отреагировал на ее появление. Он снизился, сбавил скорость и описал над головой одуревшей женщины несколько кругов, поднялся вверх, застыл на месте и строго, как флюгер, повернул над дорогой. Провисев так мгновение или два, он тронулся наконец с места, разогнался до невероятной скорости и превратился в сверкающую точку в небе. Потом она исчезла.
Придя в себя, директор заметила, что сидит на середине дороги. Она встала, отряхнулась и, совсем позабыв… Впрочем, Бог с ней.
Затворник и Шестипалый
1
— Отвали.
— ?..
— Я же сказал, отвали. Не мешай смотреть.
— А на что это ты смотришь?
— Вот идиот, господи… Ну, на солнце. Шестипалый поднял взгляд от черной поверхности почвы, усыпанной едой, опилками и измельченным торфом, и, щурясь, уставился вверх.
— Да… Живем, живем — а зачем? Тайна веков. И разве постиг кто-нибудь тонкую нитевидную сущность светил?
Незнакомец повернул голову и посмотрел на него с брезгливым любопытством.
— Шестипалый, — немедленно представился Шестипалый.
— Я Затворник, — ответил незнакомец. — Это у вас так в социуме говорят? Про тонкую нитевидную сущность?
— Уже не у нас, — ответил Шестипалый и вдруг присвистнул. — Вот это да!
— Чего? — подозрительно спросил Затворник.
— Вон, гляди! Новое появилось!
— Ну и что?
— В центре мира так никогда не бывает. Чтобы сразу три светила.
Затворник снисходительно хмыкнул.
— А я в свое время сразу одиннадцать видел. Одно в зените и по пять на каждом эпицикле. Правда, это не здесь было.
— А где? — спросил Шестипалый.
Затворник промолчал. Отвернувшись, он отошел в сторону, ногой отколупнул от земли кусок еды и стал есть. Дул слабый теплый ветер, два солнца отражались в серо-зеленых плоскостях далекого горизонта, и в этой картине было столько покоя и печали, что задумавшийся Затворник, снова заметив перед собой Шестипалого, даже вздрогнул.
— Снова ты. Ну, чего тебе надо?
— Так. Поговорить хочется.
— Да ведь ты неумен, я полагаю, — ответил Затворник. — Шел бы лучше в социум. А то вон куда забрел. Правда, ступай…
Он махнул рукой в направлении узкой грязно-желтой полоски, которая чуть извивалась и подрагивала, — даже не верилось, что так отсюда выглядит огромная галдящая толпа.
— Я бы пошел, — сказал Шестипалый, — только они меня прогнали.
— Да? Это почему? Политика?
Шестипалый кивнул и почесал одной ногой другую. Затворник взглянул на его ноги и покачал головой.
— Настоящие?
— А то какие же. Они мне так и сказали — у нас сейчас самый, можно сказать, решительный этап приближается, а у тебя на ногах по шесть пальцев… Нашел, говорят, время…
— Какой еще «решительный этап»?
— Не знаю. Лица у всех перекошенные, особенно у Двадцати Ближайших, а больше ничего не поймешь. Бегают, орут.
— А, — сказал Затворник, — понятно. Он, наверно, с каждым часом все отчетливей и отчетливей? А контуры все зримей?
— Точно, — удивился Шестипалый. — А откуда ты знаешь?
— Да я их уже штук пять видел, этих решительных этапов. Только называются по-разному.
— Да ну, — сказал Шестипалый. — Он же впервые происходит.
— Еще бы. Даже интересно было бы посмотреть, как он будет во второй раз происходить. Но мы немного о разном.
Затворник тихо засмеялся, сделал несколько шагов по направлению к далекому социуму, повернулся к нему задом и стал с силой шаркать ногами так, что за его спиной вскоре повисло целое облако, состоящее из остатков еды, опилок и пыли. При этом он оглядывался, махал руками и что-то бормотал.
— Чего это ты? — с некоторым испугом спросил Шестипалый, когда Затворник, тяжело дыша, вернулся.
— Это жест, — ответил Затворник. — Такая форма искусства. Читаешь стихотворение и производишь соответствующее ему действие.
— А какое ты сейчас прочел стихотворение?
— Такое, — сказал Затворник.
— Какое ж это стихотворение, — сказал Шестипалый. — Я, слава Богу, все стихи знаю. Ну, то есть не наизусть, конечно, но все двадцать пять слышал. Такого нет, точно.
Затворник поглядел на него с недоумением, а потом, видно, понял.
— А ты хоть одно помнишь? — спросил он. — Прочти-ка.
— Сейчас. Близнецы… Близнецы… Ну, короче, там мы говорим одно, а подразумеваем другое. А потом опять говорим одно, а подразумеваем другое, только как бы наоборот. Получается очень красиво. В конце концов, поднимаем глаза на стену, а там…
— Хватит, — сказал Затворник. Наступило молчание.
— Слушай, а тебя тоже прогнали? — нарушил его Шестипалый.
— Нет. Это я их всех прогнал.
— Так разве бывает?
— По-всякому бывает, — сказал Затворник, поглядел на один из небесных объектов и добавил тоном перехода от болтовни к серьезному разговору: — Скоро темно станет.
— Да брось ты, — сказал Шестипалый, — никто не знает, когда темно станет.
— А я вот знаю. Хочешь спать спокойно — делай как я. — И Затворник принялся сгребать кучи разного валяющегося под ногами хлама, опилок и кусков торфа. Постепенно у него получилась огораживающая небольшое пустое пространство стена, довольно высокая, примерно в его рост. Затворник отошел от законченного сооружения, с любовью поглядел на него и сказал: — Вот. Я это называю убежищем души.
— Почему? — спросил Шестипалый.
— Так. Красиво звучит. Ты себе-то будешь строить?
Шестипалый начал ковыряться. У него ничего не выходило — стена обваливалась. По правде сказать, он и не особо старался, потому что ничуть не поверил Затворнику насчет наступления тьмы, — и когда небесные огни дрогнули и стали медленно гаснуть, а со стороны социума донесся похожий на шум ветра в соломе всенародный вздох ужаса, в его сердце возникло одновременно два сильных чувства: обычный страх перед неожиданно надвинувшейся тьмой и незнакомое прежде преклонение перед кем-то, знающим о мире больше, чем он.
— Так и быть, — сказал Затворник, — прыгай внутрь. Я еще построю.
— Я не умею прыгать, — тихо ответил Шестипалый.
— Тогда привет, — сказал Затворник и вдруг, изо всех сил оттолкнувшись от земли, взмыл вверх и исчез за стеной, после чего все сооружение обрушилось на него, покрыв его равномерным слоем опилок и торфа. Образовавшийся холмик некоторое время подрагивал, потом в его стене возникло маленькое отверстие — Шестипалый еще успел увидеть в нем блестящий глаз Затворника — и наступила окончательная тьма.
Разумеется, Шестипалый, сколько себя помнил, знал все необходимое про ночь. «Это естественный процесс», — говорили одни. «Делом надо заниматься», — считали другие, и таких было большинство. Вообще, оттенков мнений было много, но происходило со всеми одно и то же: когда без всяких видимых причин свет гас, после короткой и безнадежной борьбы с судорогами страха все впадали в оцепенение, а придя в себя (когда светила опять загорались), помнили очень мало. То же самое происходило и с Шестипалым, пока он жил в социуме, а сейчас — потому, наверное, что страх перед наступившей тьмой наложился на равный ему по силе страх перед одиночеством и, следовательно, удвоился, — он не впал в обычную спасительную кому. Вот уже стих далекий народный стон, а он все сидел, съежась, возле холмика и тихо плакал. Видно вокруг ничего не было, и, когда в темноте раздался голос Затворника, Шестипалый от испуга нагадил прямо под себя.
— Слушай, кончай долбить, — сказал Затворник, — спать мешаешь.
— Я не могу, — тихо отозвался Шестипалый. — Это сердце. Ты б со мной поговорил, а?
— О чем? — спросил Затворник.
— О чем хочешь, только подольше.
— Давай о природе страха?
— Ой, не надо! — запищал Шестипалый.
— Тихо ты! — зашипел Затворник. — Сейчас сюда все крысы сбегутся.
— Какие крысы? Что это? — холодея, спросил Шестипалый.
— Это существа ночи. Хотя на самом деле и дня тоже.
— Не повезло мне в жизни, — прошептал Шестипалый. — Было б у меня пальцев сколько положено, спал бы сейчас со всеми. Господи, страх-то какой… Крысы…
— Слушай, — заговорил Затворник, — вот ты все повторяешь — Господи, Господи… у вас там что, в Бога верят?
— Черт его знает. Что-то такое есть, это точно. А что — никому не известно. Вот, например, почему темно становится? Хотя, конечно, можно и естественными причинами объяснить. А если про Бога думать, то ничего в жизни и не сделаешь…
— А что, интересно, можно сделать в жизни? — спросил Затворник.
— Как что? Чего глупые вопросы задавать — будто сам не знаешь. Каждый, как может, лезет к кормушке. Закон жизни.
— Понятно. А зачем тогда все это?
— Что «это»?
— Ну, вселенная, небо, земля, светила — вообще, все.
— Как зачем? Так уж мир устроен.
— А как он устроен? — с интересом спросил Затворник.
— Так и устроен. Движемся в пространстве и во времени. Согласно законам жизни.
— А куда?
— Откуда я знаю. Тайна веков. От тебя, знаешь, свихнуться можно.
— Это от тебя свихнуться можно. О чем ни заговори, у тебя все или закон жизни, или тайна веков.
— Не нравится, так не говори, — обиженно сказал Шестипалый.
— Да я и не говорил бы. Это ж тебе в темноте молчать страшно.
Шестипалый как-то совершенно забыл об этом. Прислушавшись к своим ощущениям, он вдруг заметил, что не испытывает никакого страха. Это его до такой степени напугало, что он вскочил на ноги и кинулся куда-то вслепую, пока со всего разгона не треснулся головой о невидимую в темноте Стену Мира.
Издалека послышался скрипучий хохот Затворника, и Шестипалый, осторожно переставляя ноги, побрел навстречу этим единственным во всеобщей тьме и безмолвии звукам. Добравшись до холмика, под которым сидел Затворник, он молча улегся рядом и, стараясь не обращать внимания на холод, попытался уснуть. Момента, когда это получилось, он даже не заметил.
2
— Сегодня мы с тобой полезем за Стену Мира, понял? — сказал Затворник.
Шестипалый как раз подбегал к убежищу души. Сама постройка выходила у него уже почти так же, как у Затворника, а вот прыжок удавался только после длинного разбега, и сейчас он тренировался. Смысл сказанного дошел до него именно тогда, когда надо было прыгать, и в результате он врезался в хлипкое сооружение так, что торф и опилки, вместо того чтобы покрыть все его тело ровным мягким слоем, превратились в наваленную над головой кучу, а ноги потеряли опору и бессильно повисли в пустоте. Затворник помог ему выбраться и повторил:
— Сегодня мы отправимся за Стену Мира.
За последние дни Шестипалый наслушался от него такого, что в душе у него все время что-то поскрипывало и ухало, а былая жизнь в социуме казалась трогательной фантазией (а может, пошлым кошмаром — точно он еще не решил), но это уж было слишком.
Затворник между тем продолжал:
— Решительный этап наступает после каждых семидесяти затмений. А вчера было шестьдесят девятое. Миром правят числа.
И он указал на длинную цепь соломинок, торчащих из почвы возле самой Стены Мира.
— Да как же можно лезть за Стену Мира, если это — Стена Мира? Ведь в самом названии… За ней ведь нет ничего…
Шестипалый был до того ошарашен, что даже не обратил внимания на темные мистические объяснения Затворника, от которых у него иначе обязательно испортилось бы настроение.
— Ну и что, — ответил Затворник, — что нет ничего. Нас это должно только радовать.
— А что мы там будем делать?
— Жить.
— А чем нам тут плохо?
— А тем, дурак, что этого «тут» скоро не будет.
— А что будет?
— Вот останься, узнаешь тогда. Ничего не будет. Шестипалый почувствовал, что полностью потерял уверенность в происходящем.
— Почему ты меня все время пугаешь?
— Да не ной ты, — пробормотал Затворник, озабоченно вглядываясь в какую-то точку на небе. — За Стеной Мира совсем неплохо. По мне, так гораздо лучше, чем здесь.
Он подошел к остаткам выстроенного Шестипалым убежища души и стал ногами раскидывать их по сторонам.
— Зачем это ты? — спросил Шестипалый.
— Перед тем как покинуть какой-либо мир, надо обобщить опыт своего пребывания в нем, а затем уничтожить все свои следы. Это традиция.
— А кто ее придумал?
— Какая разница. Ну, я. Больше тут, видишь ли, некому. Вот так…
Затворник оглядел результат своего труда — на месте развалившейся постройки теперь было идеально ровное место, ничем не отличающееся от поверхности остальной пустыни.
— Все, — сказал он, — следы я уничтожил. Теперь надо опыт обобщить. Твоя очередь. Залазь на эту кочку и рассказывай.
Шестипалый почувствовал, что его перехитрили, оставив ему самую тяжелую и, главное, непонятную часть работы. Но после случая с затмением он решил слушаться Затворника. Пожав плечами и оглядевшись — не забрел ли сюда кто из социума, — он залез на кочку.
— Что рассказывать?
— Все, что знаешь о мире.
— Долго ж мы здесь проторчим, — свистнул Шестипалый.
— Не думаю, — сухо отозвался Затворник.
— Значит, так. Наш мир… Ну и идиотский у тебя ритуал…
— Не отвлекайся.
— Наш мир представляет собой правильный восьмиугольник, равномерно и прямолинейно движущийся в пространстве. Здесь мы готовимся к решительному этапу, венцу наших счастливых жизней. Это официальная формулировка, во всяком случае. По периметру мира проходит так называемая Стена Мира, объективно возникшая в результате действия законов жизни. В центре мира находится двухъярусная кормушка-поилка, вокруг которой издавна существует наша цивилизация. Положение члена социума относительно кормушки-поилки определяется его общественной значимостью и заслугами…
— Вот этого я раньше не слышал, — перебил Затворник. — Что это такое — заслуга? И общественная значимость?
— Ну… Как сказать… Это когда кто-то попадает к самой кормушке-поилке.
— А кто к ней попадает?
— Я же говорю, тот, у кого большие заслуги. Или общественная значимость. У меня, например, раньше были так себе заслуги, а теперь вообще никаких. Да ты что, народную модель вселенной не знаешь?
— Не знаю, — сказал Затворник.
— Да ты что?.. А как же ты к решительному этапу готовился?
— Потом расскажу. Давай дальше.
— А уже почти все. Чего там еще-то… За областью социума находится великая пустыня, а кончается все Стеной Мира. Возле нее ютятся отщепенцы вроде нас.
— Понятно. А бревно откуда взялось? В смысле, все остальные?
— Ну ты даешь… Это тебе даже Двадцать Ближайших не скажут. Тайна веков.
— Н-ну, хорошо. А что такое тайна веков?
— Закон жизни, — ответил Шестипалый, стараясь говорить мягко. Ему что-то не нравилось в интонациях Затворника.
— Ладно. А что такое закон жизни?
— Это тайна веков.
— Тайна веков? — переспросил Затворник странно тонким голосом и медленно стал подходить к Шестипалому по дуге.
— Ты чего? Кончай! — испугался Шестипалый. — Это же твой ритуал!
Но Затворник и сам уже взял себя в руки.
— Ладно, — сказал он, — все ясно. Слезай. Шестипалый слез с кочки, и Затворник с сосредоточенным и серьезным видом залез на его место. Некоторое время он молчал, словно прислушиваясь к чему-то, а потом поднял голову и заговорил.
— Я пришел сюда из другого мира, — сказал он, — в дни, когда ты был еще совсем мал. А в тот, другой мир я пришел из третьего, и так далее. Всего я был в пяти мирах. Они такие же, как этот, и практически ничем не отличаются друг от друга. А вселенная, где мы находимся, представляет собой огромное замкнутое пространство. На языке богов она называется «Бройлерный комбинат имени Луначарского», но что это означает, неизвестно.
— Ты знаешь язык богов? — изумленно спросил Шестипалый.
— Немного. Не перебивай. Всего во вселенной есть семьдесят миров. В одном из них мы сейчас находимся. Эти миры прикреплены к безмерной черной ленте, которая медленно движется по кругу. А над ней, на поверхности неба, находятся сотни одинаковых светил. Так что это не они плывут над нами, а мы проплываем под ними. Попробуй представить себе это.
Шестипалый закрыл глаза. На его лице изобразилось напряжение.
— Нет, не могу, — наконец сказал он.
— Ладно, — сказал Затворник, — слушай дальше. Все семьдесят миров, которые есть во вселенной, называются Цепью Миров. Во всяком случае, их вполне можно так назвать. В каждом из миров есть жизнь, но она не существует там постоянно, а циклически возникает и исчезает. Решительный этап происходит в центре вселенной, через который по очереди проходят все миры. На языке богов он называется Цехом номер один. Наш мир как раз находится в его преддверии. Когда завершается решительный этап и обновленный мир выходит с другой стороны Цеха номер один, все начинается с начала. Возникает жизнь, проходит цикл и через положенный срок опять ввергается в Цех номер один.
— Откуда ты все это знаешь? — тихим голосом спросил Шестипалый.
— Я много путешествовал, — сказал Затворник, — и по крупицам собирал тайные знания. В одном мире было известно одно, в другом — другое.
— Может быть, ты знаешь, откуда мы беремся?
— Знаю. А что про это говорят в вашем мире?
— Что это объективная данность. Закон жизни такой.
— Понятно. Ты спрашиваешь про одну из глубочайших тайн мироздания, и я даже не знаю, можно ли тебе ее доверить. Но поскольку, кроме тебя, все равно некому, я, пожалуй, скажу. Мы появляемся на свет из белых шаров. На самом деле они не совсем шары, а несколько вытянуты, и один конец у них уже другого, но сейчас это не важно.
— Шары. Белые шары, — повторил Шестипалый и, как стоял, повалился на землю. Груз узнанного навалился на него физической тяжестью, и на секунду ему показалось, что он умрет. Затворник подскочил к нему и изо всех сил начал трясти. Постепенно к Шестипалому вернулась ясность сознания.
— Что с тобой? — испуганно спросил Затворник.
— Ой, я вспомнил. Точно. Раньше мы были белыми шарами и лежали на длинных полках. В этом месте было очень тепло и влажно. А потом мы стали изнутри ломать эти шары и… Откуда-то снизу подкатил наш мир, а потом мы уже были в нем… Но почему этого никто не помнит?
— Есть миры, в которых это помнят, — сказал Затворник. — Подумаешь, пятая и шестая перинатальные матрицы. Не так уж глубоко, и к тому же только часть истины. Но все равно — тех, кто это помнит, прячут подальше, чтобы они не мешали готовиться к решительному этапу, или как он там называется. Везде по-разному. У нас, например, назывался завершением строительства, хотя никто ничего не строил.
Видимо, воспоминание о своем мире повергло Затворника в печаль. Он замолчал.
— Слушай, — спросил через некоторое время Шестипалый, — а откуда берутся эти белые шары?
Затворник одобрительно поглядел на него.
— Мне понадобилось куда больше времени, чтобы в моей душе созрел этот вопрос, — сказал он. — Но здесь все намного сложнее. В одной древней легенде говорится, что эти яйца появляются из нас, но это вполне может быть и метафорой…
— Из нас? Непонятно. Где ты это слышал?
— Да сам сочинил. Тут разве услышишь что-нибудь, — сказал Затворник с неожиданной тоской в голосе.
— Ты же сказал, что это древняя легенда.
— Правильно. Просто я ее сочинил как древнюю легенду.
— Как это? Зачем?
— Понимаешь, один древний мудрец, можно сказать — пророк (на этот раз Шестипалый догадался, о ком идет речь) сказал, что не так важно то, что сказано, как то, кем сказано. Часть смысла того, что я хотел выразить, заключена в том, что мои слова выступают в качестве древней легенды. Впрочем, где тебе понять…
Затворник глянул на небо и перебил себя:
— Все. Пора идти.
— Куда?
— В социум.
Шестипалый вытаращил глаза.
— Мы же собирались лезть через Стену Мира. Зачем нам социум?
— А ты хоть знаешь, что такое социум? — спросил Затворник. — Это и есть приспособление для перелезания через Стену Мира.
3
Шестипалый, несмотря на полное отсутствие в пустыне предметов, за которыми можно было бы спрятаться, шел почему-то крадучись, и чем ближе становился социум, тем более преступной становилась его походка. Постепенно огромная толпа, казавшаяся издали огромным шевелящимся существом, распадалась на отдельные тела, и даже можно было разглядеть удивленные гримасы тех, кто замечал приближающихся.
— Главное, — шепотом повторял Затворник последнюю инструкцию, — веди себя наглее. Но не слишком нагло. Мы непременно должны их разозлить — но не до такой степени, чтоб нас разорвали в клочья. Короче, все время смотри, что буду делать я.
— Шестипалый приперся! — весело закричал кто-то впереди. — Здорово, сволочь! Эй, Шестипалый, кто это с тобой?
Этот бестолковый выкрик неожиданно — и совершенно непонятно почему — вызвал в Шестипалом целую волну ностальгических воспоминаний о детстве. Затворник, шедший чуть сзади, словно почувствовал это и пихнул Шестипалого в спину.
У самой границы социума народ стоял редко — тут жили в основном калеки и созерцатели, не любившие тесноты, — их нетрудно было обходить. Но чем дальше, тем плотнее стояла толпа, и уже очень скоро Затворник с Шестипалым оказались в невыносимой тесноте. Двигаться вперед было еще можно, но только переругиваясь со стоящими по бокам. А когда над головами тех, кто был впереди, показалась мелко трясущаяся крыша кормушки-поилки, уже ни шага вперед сделать было нельзя.
— Всегда поражался, — тихо сказал Шестипалому Затворник, — как здесь все мудро устроено. Те, кто стоит близко к кормушке-поилке, счастливы в основном потому, что все время помнят о желающих попасть на их место. А те, кто всю жизнь ждет, когда между стоящими впереди появится щелочка, счастливы потому, что им есть на что надеяться в жизни. Это ведь и есть гармония и единство.
— Что ж, не нравится? — спросил сбоку чей-то голос.
— Нет, не нравится, — ответил Затворник.
— А что конкретно не нравится?
— Да все.
И Затворник широким жестом обвел толпу вокруг, величественный купол кормушки-поилки, мерцающие желтыми огнями небеса и далекую, еле видную отсюда Стену Мира.
— Понятно. И где, по-вашему, лучше?
— В том-то и трагедия, что нигде! В том-то и дело! — страдальчески выкрикнул Затворник. — Было бы где лучше, неужели я б с вами тут о жизни беседовал?
— И товарищ ваш — таких же взглядов? — спросил голос. — Чего он в землю-то смотрит?
Шестипалый поднял глаза — до этого он глядел себе под ноги, потому что это позволяло минимально участвовать в происходящем, — и увидел обладателя голоса. У того было обрюзгшее раскормленное лицо, и, когда он говорил, становились отчетливо видны анатомические подробности его гортани. Шестипалый сразу понял, что перед ним — один из Двадцати Ближайших, самая что ни на есть совесть эпохи. Видно, перед их приходом он проводил здесь разъяснения, как это иногда практиковалось.
— Это вы оттого такие невеселые, кореша, — неожиданно дружелюбно сказал тот, — что не готовитесь вместе со всеми к решительному этапу. Тогда у вас на эти мысли времени бы не было. Мне самому такое иногда в голову приходит, что… И, знаете, работа спасает.
И на той же интонации добавил:
— Взять их.
По толпе прошло движение, и Затворник с Шестипалым оказались немедленно стиснутыми со всех четырех сторон.
— Да плевали мы на вас, — так же дружелюбно сказал Затворник. — Куда вы нас возьмете? Некуда вам нас взять. Ну, прогоните еще раз. Через Стену Мира, как говорится, не перебросишь…
Тут на лице Затворника изобразилось смятение, а толстолицый высоко поднял веки — их глаза встретились.
— А ведь интересная задумка. Такого у нас еще не было. Конечно, есть такое выражение, но ведь воля народа сильнее пословицы.
Видимо, эта мысль восхитила его. Он повернулся и скомандовал:
— Внимание! Строимся! Сейчас у нас будет незапланированное мероприятие.
Прошло не так уж много времени между моментом, когда толстолицый скомандовал построение, и моментом, когда процессия, в центре которой вели Затворника и Шестипалого, приблизилась к Стене Мира.
Процессия была впечатляющей. Первым в ней шел толстолицый, за ним — двое назначенных старушками-матерями (никто, включая толстолицего, не знал, что это такое, — просто была такая традиция), которые сквозь слезы выкрикивали обидные слова Затворнику и Шестипалому, оплакивая и проклиная их одновременно, затем вели самих преступников, и замыкала шествие толпа народной массы.
— Итак, — сказал толстолицый, когда процессия остановилась, — пришел пугающий миг воздаяния. Я думаю, братки, что все мы зажмуримся, когда два эти отщепенца исчезнут в небытии, не так ли? И пусть это волнующее событие послужит красивым уроком всем нам, народу. Громче рыдайте, матери!
Старушки-матери повалились на землю и залились таким горестным плачем, что многие из присутствующих тоже начали отворачиваться и сглатывать; но, извиваясь в забрызганной слезами пыли, матери иногда вдруг вскакивали и, сверкая глазами, бросали Затворнику и Шестипалому неопровержимые ужасные обвинения, после чего обессиленно падали назад.
— Итак, — сказал через некоторое время толстолицый, — раскаялись ли вы? Устыдили ли вас слезы матерей?
— Еще бы, — ответил Затворник, озабоченно наблюдавший то за церемонией, то за какими-то небесными телами, — а как вы нас перебрасывать хотите?
Толстолицый задумался. Старушки-матери тоже замолчали, потом одна из них поднялась из пыли, отряхнулась и сказала:
— Насыпь?
— Насыпь, — сказал Затворник, — это затмений пять займет.
А нам уже давно не терпится спрятать наш разоблаченный позор в пустоте.
Толстолицый, лукаво прищурившись, глянул на Затворника и одобрительно кивнул.
— Понимают, — сказал он кому-то из своих, — только притворяются. Спроси, может, они сами что предложат?
Через несколько минут почти до самого края Стены Мира поднялась живая пирамида. Те, кто стоял наверху, жмурились и прятали лица, чтобы, не дай Бог, не заглянуть туда, где все кончается.
— Наверх, — скомандовал кто-то Затворнику и Шестипалому, и они, поддерживая друг друга, пошли по шаткой веренице плеч и спин к терявшемуся в высоте краю стены.
С высоты был виден весь притихший социум, внимательно следивший издали за происходящим, были видны некоторые незаметные до этого детали неба и толстый шланг, спускавшийся к кормушке-поилке из бесконечности, — отсюда он казался не таким уж и величественным, как с земли. Легко, будто на кочку, вспрыгнув на край Стены Мира, Затворник помог Шестипалому сесть рядом и закричал вниз:
— Порядок!
От его крика кто-то в живой пирамиде потерял равновесие, она несколько раз покачнулась и развалилась — все попадали вниз, под основание стены, но никто, слава Богу, не пострадал.
Вцепившись в холодную жесть борта, Шестипалый вглядывался в крохотные задранные лица, в серо-коричневые пространства своей родины; глядел на тот ее угол, где на Стене Мира было большое зеленое пятно и где прошло его детство. «Я больше никогда этого не увижу», — подумал он, и хоть особого желания увидеть все это когда-нибудь еще у него не было, горло все равно сводило. Он прижал к боку маленький кусочек земли с прилипшей соломинкой и размышлял о том, как быстро и необратимо меняется все в его жизни.
— Прощайте, сынки родимые! — закричали снизу старушки-матери, земно поклонились и принялись, рыдая, швырять вверх тяжелые куски торфа.
Затворник приподнялся на цыпочки и громко закричал:
Тут в него угодил большой кусок торфа, и он, растопыря руки и ноги, полетел вниз. Шестипалый последний раз оглядел все оставшееся внизу и заметил, что кто-то из далекой толпы прощально машет ему, — тогда он помахал в ответ. Потом он зажмурился и шагнул назад.
Несколько секунд он беспорядочно крутился в пустоте, а потом вдруг больно ударился обо что-то твердое и открыл глаза.
Он лежал на черной блестящей поверхности из незнакомого материала; вверх уходила Стена Мира — точно такая же, как если смотреть на нее с той стороны, а рядом с ним, вытянув руку к стене, стоял Затворник. Он договаривал свое стихотворение:
Потом он повернулся к Шестипалому и коротким жестом велел ему встать на ноги.
4
Теперь, когда они шли по гигантской черной ленте, Шестипалый видел, что Затворник сказал ему правду. Действительно, мир, который они покинули, медленно двигался вместе с этой лентой относительно других неподвижных космических объектов, природы которых Шестипалый не понимал, а светила были неподвижными — стоило сойти с черной ленты, и все стало ясно. Сейчас оставленный ими мир медленно подъезжал к зеленым стальным воротам, под которые уходила лента. Затворник сказал, что это и есть вход в Цех номер один. Странно, но Шестипалый совершенно не был поражен величием заполняющих вселенную объектов — наоборот, в нем скорее проснулось чувство легкого раздражения. «И это все?» — брезгливо думал он. Вдали были видны два мира, подобных тому, который они оставили, — они тоже двигались вместе с черной лентой и выглядели отсюда довольно убого. Сначала Шестипалый думал, что они с Затворником направляются к другому миру, но на полпути Затворник вдруг велел ему прыгать с неподвижного бордюра вдоль ленты, по которому они шли, вниз, в темную бездонную щель.
— Там мягко, — сказал он Шестипалому, но тот шагнул назад и отрицательно покачал головой. Тогда Затворник молча прыгнул вниз, и Шестипалому ничего не оставалось, как последовать за ним.
На этот раз он чуть не расшибся о холодную каменную поверхность, выложенную большими коричневыми плитами, — они тянулись до горизонта, и выглядело все это очень красиво.
— Что это? — спросил Шестипалый.
— Кафель, — ответил Затворник непонятным словом и сменил тему. — Скоро начнется ночь, — сказал он, — а нам надо дойти вон до тех мест. Часть дороги придется пройти в темноте.
Затворник выглядел всерьез озабоченным. Шестипалый поглядел в указанном направлении и увидел далекие кубические скалы нежно-желтого цвета (Затворник сказал, что они называются «ящики») — их было очень много, и между ними виднелись пустые пространства, усыпанные горами светлой стружки, — издали все это походило на пейзаж из счастливого детского сна.
— Пошли, — сказал Затворник и быстрым шагом двинулся вперед.
— Слушай, — спросил Шестипалый, скользя по кафелю рядом, — а как ты узнаешь, когда наступит ночь?
— По часам, — ответил Затворник. — Это одно из небесных тел. Сейчас оно справа и наверху — вон тот диск с черными зигзагами.
Шестипалый посмотрел на довольно знакомую, хоть и не привлекавшую никогда его особого внимания деталь небесного свода.
— Когда часть этих черных линий приходит в особое положение, о котором я расскажу тебе как-нибудь потом, свет гаснет, — сказал Затворник. — Это случится вот-вот. Считай до десяти.
— Раз, два, — начал Шестипалый, и вдруг стало темно.
— Не отставай от меня, — сказал Затворник, — потеряешься.
Он мог бы этого не говорить — Шестипалый чуть не наступал ему на пятки. Единственным источником света во вселенной остался косой желтый луч, падавший из-под зеленых ворот Цеха номер один. Место, куда направлялись Затворник с Шестипалым, находилось совсем недалеко от этих ворот, но, по уверениям Затворника, было самым безопасным.
Видно осталось только далекую желтую полосу под воротами да несколько плит вокруг. Шестипалый впал в странное состояние. Ему стало казаться, что темнота сжимает их с Затворником так же, как недавно сжимала толпа. Отовсюду исходила опасность, и Шестипалый ощущал ее всей кожей как дующий со всех сторон одновременно сквозняк. Когда становилось совсем невмоготу от страха, он поднимал взгляд с наплывающих кафельных плит на яркую полоску света впереди, и тогда вспоминался социум, который издалека выглядел почти так же. Ему представлялось, что они идут в царство каких-то огненных духов, и он уже собирался сказать об этом Затворнику, когда тот вдруг остановился и поднял руку.
— Тихо, — сказал он, — крысы. Справа от нас.
Бежать было некуда — вокруг во все стороны простиралось одинаковое кафельное пространство, а полоса впереди была еще слишком далеко. Затворник повернулся вправо и принял странную позу, велев Шестипалому спрятаться за его спиной, что тот и выполнил с удивительной скоростью и охотой.
Сначала он ничего не замечал, а потом ощутил скорее, чем увидел, движение большого быстрого тела в темноте. Оно остановилось точно на границе видимости.
— Она ждет, — тихо сказал Затворник, — как мы поступим дальше. Стоит нам сделать хоть шаг, и она кинется на нас.
— Ага, кинусь, — сказала крыса, выходя из темноты. — Как комок зла и ярости. Как истинное порождение ночи.
— Ух, — вздохнул Затворник. — Одноглазка. А я уж думал, что мы правда влипли. Знакомьтесь.
Шестипалый недоверчиво поглядел на умную коническую морду с длинными усами и двумя черными бусинками глаз.
— Одноглазка, — сказала крыса и вильнула неприлично голым хвостом.
— Шестипалый, — представился Шестипалый и спросил: — А почему ты Одноглазка, если у тебя оба глаза в порядке?
— А у меня третий глаз раскрыт, — сказала Одноглазка, — а он один. В каком-то смысле все, у кого третий глаз раскрыт, одноглазые.
— А что такое… — начал Шестипалый, но Затворник не дал ему договорить.
— Не пройтись ли нам, — галантно предложил он Одноглазке, — вон до тех ящиков? Ночная дорога скучна, если рядом нет собеседника.
Шестипалый очень обиделся.
— Пойдем, — согласилась Одноглазка и, повернувшись к Шестипалому боком (только теперь он разглядел ее огромное мускулистое тело), затрусила рядом с Затворником, которому, чтобы поспеть, приходилось идти очень быстро. Шестипалый бежал сзади, поглядывая на лапы Одноглазки и перекатывающиеся под ее шкурой мышцы, думал о том, чем могла бы закончиться эта встреча, не окажись Одноглазка знакомой Затворника, и изо всех сил старался не наступить ей на хвост. Судя по тому, как быстро их беседа стала походить на продолжение какого-то давнего разговора, они были старыми приятелями.
— Свобода? Господи, да что это такое? — спрашивала Одноглазка и смеялась. — Это когда ты в смятении и одиночестве бегаешь по всему комбинату, в десятый или в какой там уже раз увернувшись от ножа? Это и есть свобода?
— Ты опять все подменяешь, — отвечал Затворник. — Это только поиски свободы. Я никогда не соглашусь с той инфернальной картиной мира, в которую ты веришь. Наверное, это у тебя оттого, что ты чувствуешь себя чужой в этой вселенной, созданной для нас.
— А крысы верят, что она создана для нас. Я это не к тому, что я согласна с ними. Прав, конечно, ты, но только не до конца и не в самом главном. Ты говоришь, что эта вселенная создана для вас? Нет, она создана из-за вас, но не для вас. Понимаешь?
Затворник опустил голову и некоторое время шел молча.
— Ладно, — сказала Одноглазка. — Я ведь попрощаться. Правда, думала, что ты появишься чуть позже, — но все-таки встретились. Завтра я ухожу.
— Куда?
— За границы всего, о чем только можно говорить. Одна из старых пор вывела меня в пустую бетонную трубу, которая уходит так далеко, что об этом даже трудно подумать. Я встретила там несколько крыс — они говорят, что эта труба уходит все глубже и глубже, и там, далеко внизу, выводит в другую вселенную, где живут только самцы богов в одинаковой зеленой одежде. Они совершают сложные манипуляции вокруг огромных идолов, стоящих в гигантских шахтах.
Одноглазка притормозила.
— Отсюда мне направо, — сказала она. — Так вот, еда там такая — не расскажешь. А эта вселенная могла бы поместиться в одной тамошней шахте. Слушай, а хочешь со мной?
— Нет, — ответил Затворник, — вниз — это не наш путь. Кажется, в первый раз за все время разговора он вспомнил о Шестипалом.
— Ну что ж, — сказала Одноглазка, — тогда я хочу пожелать тебе успеха на твоем пути, каким бы он ни был. Ты ведь знаешь, как я тебя люблю.
— Я тоже очень тебя люблю, Одноглазка, — сказал Затворник, — и надеюсь, что мысль о тебе поддержит меня. Удачи тебе.
— Прощай, — сказала Одноглазка, кивнула Шестипалому и исчезла в темноте так же мгновенно, как раньше появилась.
Остаток пути Затворник и Шестипалый прошли молча. Добравшись до ящиков, они пересекли несколько гор стружки и наконец достигли цели. Это была слабо озаренная светом из-под ворот Цеха номер один ямка в стружках, в которой лежала куча мягких и длинных тряпок. Рядом, у стены, возвышалась огромная ребристая конструкция, про которую Затворник сказал, что когда-то она излучала так много тепла, что к ней трудно было даже приблизиться. Затворник был в заметно плохом настроении. Он копошился в тряпках, устраиваясь на ночь, и Шестипалый решил не приставать к нему с разговорами, тем более что сам хотел спать. Кое-как завернувшись в тряпки, он забылся.
Разбудило его далекое скрежетание, стук стали по дереву и крики, полные такой невыразимой безнадежности, что он сразу кинулся к Затворнику.
— Что это?
— Твой мир проходит через решительный этап, — ответил Затворник.
— ???
— Смерть пришла, — просто сказал Затворник, отвернулся, натянул на себя тряпку и уснул.
5
Проснувшись, Затворник поглядел на трясущегося в углу заплаканного Шестипалого, хмыкнул и стал рыться в тряпках. Скоро он достал оттуда штук десять одинаковых железных предметов, похожих на обрезки толстой шестигранной трубы.
— Гляди, — сказал он Шестипалому.
— Что это? — спросил тот.
— Боги называют их гайками.
Шестипалый собирался было спросить что-то еще, но вдруг махнул рукой и опять заревел.
— Да что с тобой? — спросил Затворник.
— Все умерли, — бормотал Шестипалый, — все-все…
— Ну и что, — сказал Затворник. — Ты тоже умрешь. И уж уверяю тебя, что ты и они будете мертвыми в течение одинакового срока.
— Все равно жалко.
— Кого именно? Старушку-мать, что ли? Или этого, из Двадцати Ближайших?
— Помнишь, как нас сбрасывали со стены? — спросил Шестипалый. — Всем было велено зажмуриться. А я помахал им рукой, и тогда кто-то помахал мне в ответ. И вот когда я думаю, что он тоже умер… И что вместе с ним умерло то, что заставляло его так поступить…
— Да, — улыбаясь, сказал Затворник, — это действительно очень печально.
И наступила тишина, нарушаемая только механическими звуками из-за зеленых ворот, за которые уплыла родина Шестипалого.
— Слушай, — спросил, наплакавшись, Шестипалый, — а что бывает после смерти?
— Трудно сказать, — ответил Затворник. — У меня было множество видений на этот счет, но я не знаю, насколько на них можно полагаться.
— Расскажи, а?
— После смерти нас, как правило, ввергают в ад. Я насчитал не меньше пятидесяти разновидностей того, что там происходит. Иногда мертвых рассекают на части и жарят на огромных сковородах. Иногда запекают целиком в железных комнатах со стеклянной дверью, где пылает синее пламя или излучают жар добела раскаленные металлические столбы. Иногда нас варят в гигантских разноцветных кастрюлях. А иногда, наоборот, замораживают в кусок льда. В общем, мало утешительного.
— А кто это делает, а?
— Как кто? Боги.
— Зачем им это?
— Видишь ли, мы являемся их пищей.
Шестипалый вздрогнул, а потом внимательно поглядел на свои дрожащие коленки.
— Больше всего они любят именно ноги, — заметил Затворник. — Ну и руки тоже. Именно о руках я с тобой и собираюсь поговорить. Подними их.
Шестипалый вытянул перед собой руки — тонкие, бессильные, они выглядели жалко.
— Когда-то они служили нам для полета, — сказал Затворник, — но потом все изменилось.
— А что такое полет?
— Точно этого не знает никто. Единственное, что известно, — это то, что надо иметь сильные руки. Гораздо сильнее, чем у тебя или даже у меня. Поэтому я хочу научить тебя одному упражнению. Возьми две гайки.
Шестипалый с трудом подтащил два тяжеленных предмета к ногам Затворника.
— Вот так. Теперь просунь концы рук в отверстия. Шестипалый сделал и это.
— А теперь поднимай и опускай руки вверх-вниз… Вот так. Через минуту Шестипалый устал до такой степени, что не мог сделать больше ни одного маха, как ни старался.
— Все, — сказал он, опустил руки, и гайки повалились на пол.
— Теперь посмотри, как делаю я, — сказал Затворник и надел на каждую руку по пять гаек. Несколько минут он продержал руки разведенными в стороны и, казалось, совершенно не устал.
— Ну как?
— Здорово, — выдохнул Шестипалый. — А почему ты держишь их неподвижно?
— С какого-то момента в этом упражнении появляется одна трудность. Потом ты поймешь, что я имею в виду, — ответил Затворник.
— А ты уверен, что так можно научиться летать?
— Нет. Не уверен. Наоборот, я подозреваю, что это бесполезное занятие.
— А зачем тогда оно нужно? Если ты сам знаешь, что это бесполезно?
— Как тебе сказать. Потому что кроме этого я знаю еще много других вещей, и одна из них вот какая — если ты оказался в темноте и видишь хотя бы самый слабый луч света, ты должен идти к нему вместо того, чтобы рассуждать, имеет смысл это делать или нет. Может, это действительно не имеет смысла. Но просто сидеть в темноте не имеет смысла в любом случае. Понимаешь, в чем разница?
Шестипалый промолчал.
— Мы живы до тех пор, пока у нас есть надежда, — сказал Затворник. — А если ты ее потерял, ни в коем случае не позволяй себе догадаться об этом. И тогда что-то может измениться. Но всерьез надеяться на это ни в коем случае не надо.
Шестипалый почувствовал некоторое раздражение.
— Все это замечательно, — сказал он, — но что это значит реально?
— Реально для тебя это значит, что ты каждый день будешь заниматься с этими гайками, пока не будешь делать так же, как я. А для меня это значит, что я буду следить за тобой так, будто для меня твои успехи и правда важны.
— Неужели нет какого-нибудь другого занятия? — спросил Шестипалый.
— Есть, — ответил Затворник. — Можно готовиться к решительному этапу. Но в этом случае тебе придется действовать одному.
6
— Слушай, Затворник, ты все знаешь — что такое любовь?
— Интересно, где ты услыхал это слово? — спросил Затворник.
— Да когда меня выгоняли из социума, кто-то спросил, люблю ли я что положено. Я сказал, что не знаю. И потом, Одноглазка сказала, что очень тебя любит, а ты — что любишь ее.
— Понятно. Знаешь, я тебе вряд ли объясню. Это можно только на примере. Вот представь себе, что ты упал в бочку с водой и тонешь. Представил?
— Угу.
— А теперь представь, что ты на секунду высунул голову, увидел свет, глотнул воздуха и что-то коснулось твоих рук. И ты за это схватился и держишься. Так вот, если считать, что всю жизнь тонешь — а так это и есть, — то любовь это то, что помогает тебе удерживать голову над водой.
— Это ты про любовь к тому, что положено?
— Не важно. Хотя, в общем, то, что положено, можно любить и под водой. Что угодно. Какая разница, за что хвататься, — лишь бы это выдержало. Хуже всего, если это кто-то другой, — он, видишь ли, всегда может отдернуть руку. А если сказать коротко, любовь — это то, из-за чего каждый находится там, где он находится. Исключая, пожалуй, мертвых… Хотя…
— По-моему, я никогда ничего не любил, — перебил Шестипалый.
— Нет, с тобой это тоже случалось. Помнишь, как ты проревел полдня, думая о том, кто помахал тебе в ответ, когда нас сбрасывали со стены? Вот это и была любовь. Ты ведь не знаешь, почему он это сделал. Может, он считал, что издевается над тобой куда тоньше других. Мне лично кажется, что так оно и было. Так что ты вел себя очень глупо, но совершенно правильно. Любовь придает смысл тому, что мы делаем, хотя на самом деле его нет.
— Так что, любовь нас обманывает? Это что-то вроде сна?
— Нет. Любовь — это что-то вроде любви, а сон — это сон. Все, что ты делаешь, ты делаешь только из-за любви. Иначе ты просто сидел бы на земле и выл от ужаса. Или отвращения.
— Но ведь многие делают то, что делают совсем не из-за любви.
— Брось. Они ничего не делают.
— А ты что-нибудь любишь, Затворник?
— Люблю.
— А что?
— Не знаю. Что-то такое, что иногда приходит ко мне. Иногда это какая-нибудь мысль, иногда гайки, иногда ветер. Главное, что я всегда узнаю это, как бы оно ни наряжалось, и встречаю его тем лучшим, что во мне есть.
— Чем?
— Тем, что становлюсь спокоен.
— А все остальное время ты беспокоишься?
— Нет. Я всегда спокоен. Просто это лучшее, что во мне есть, и, когда то, что я люблю, приходит ко мне, я встречаю его своим спокойствием.
— А как ты думаешь, что лучшее во мне?
— В тебе? Пожалуй, это когда ты молчишь где-нибудь в углу и тебя не видно.
— Правда?
— Не знаю. Если серьезно, ты можешь узнать, что лучшее в тебе, по тому, чем ты встречаешь то, что полюбил. Что ты чувствовал, думая о том, кто помахал тебе рукой?
— Печаль.
— Ну вот, значит, лучшее в тебе — твоя печаль, и ты всегда будешь встречать ею то, что любишь.
Затворник оглянулся и к чему-то прислушался.
— Хочешь на богов поглядеть? — неожиданно спросил он.
— Только, пожалуйста, не сейчас, — испуганно ответил Шестипалый.
— Не бойся. Они тупые. Ну гляди же, вон они.
По проходу мимо конвейера быстро шли два огромных существа — они были так велики, что их головы терялись в полумраке где-то под потолком. За ними шагало еще одно похожее существо, только пониже и потолще, — оно несло в руке сосуд в виде усеченного конуса, обращенного узкой частью к земле. Двое первых остановились недалеко от того места, где сидели Затворник с Шестипалым, и стали издавать низкие рокочущие звуки («Говорят», — догадался Шестипалый), а третье существо подошло к стене, поставило сосуд на пол, обмакнуло туда шест с щетиной на конце и провело по грязно-серой стене свежую грязно-серую линию. Запахло чем-то странным.
— Слушай, — еле слышно прошептал Шестипалый, — а ты говорил, что ты знаешь их язык. Что они говорят?
— Эти двое? Сейчас. Первый говорит: «Я выжрать хочу». А второй говорит: «Ты больше к Дуньке не подходи».
— А что такое Дунька?
— Область мира такая.
— А… А что первый хочет выжрать?
— Дуньку, естественно, — подумав, ответил Затворник.
— А как он выжрет область мира?
— На то они и боги.
— А эта, толстая, что она говорит?
— Она не говорит, а поет. О том, что после смерти хочет стать ивою. Моя любимая божественная песня, кстати. Как-нибудь я тебе ее спою. Жаль только, я не знаю, что такое ива.
— А разве боги умирают?
— Еще бы. Это их основное занятие.
Двое пошли дальше. «Какое величие!» — потрясенно подумал Шестипалый. Тяжелые шаги богов и их низкие голоса стихли; наступила тишина. Сквозняк крутил пыль над кафельными плитами пола, и Шестипалому казалось, что он смотрит с невообразимо высокой горы на раскинувшуюся внизу странную каменную пустыню, над которой миллионы лет происходит одно и то же: несется ветер, и в нем летят остатки чьих-то жизней, выглядящие издалека соломинками, бумажками, щепками или еще как-то. «Когда-нибудь, — думал Шестипалый, — кто-то другой будет смотреть отсюда вниз и подумает обо мне, не зная сам, что думает обо мне. Так же, как я сейчас думаю о ком-то, кто чувствовал то же самое, что я Бог весть когда. В каждом дне есть точка, которая скрепляет его с прошлым и будущим. До чего же печален этот мир…»
— Но в нем есть что-то такое, что оправдывает самую грустную жизнь, — сказал вдруг Затворник.
«Стать бы после сме-е-е-рти и-и-вою», — протяжно и тихо пела толстая богиня у ведра с краской; Шестипалый, положив голову на локоть, испытывал печаль, а Затворник был совершенно спокоен и глядел в пустоту, словно поверх тысяч невидимых голов.
7
За то время, пока Шестипалый занимался с гайками, целых десять миров ушло в Цех номер один. Что-то скрипело и постукивало за зелеными воротами, что-то происходило там, и Шестипалый, только подумав об этом, покрывался холодным потом и начинал трястись — но именно это и придавало ему силы. Его руки заметно удлинились и усилились — теперь они были такими же, как у Затворника. Но пока это ни к чему не привело. Единственное, что знал Затворник, — это то, что полет осуществляется с помощью рук, а что он собой представляет, было неясно. Затворник считал, что это особый способ мгновенного перемещения в пространстве, при котором нужно представить себе то место, куда хочешь попасть, а потом дать рукам мысленную команду перенести туда все тело. Целые дни он проводил в созерцании, пытаясь перенестись хоть на несколько шагов, но ничего не выходило.
— Наверно, — говорил он Шестипалому, — наши руки еще недостаточно сильны. Надо продолжать.
Однажды, когда Затворник и Шестипалый, сидя в куче тряпок между ящиками, вглядывались в сущность вещей, случилось крайне неприятное событие. Вокруг стало чуть темнее, и когда Шестипалый открыл глаза, перед ним маячило огромное небритое лицо какого-то бога.
— Ишь, куда забрались, — сказало оно, а затем огромные грязные руки схватили Затворника и Шестипалого, вытащили из-за ящиков, с невероятной скоростью перенесли через огромное пространство и бросили в один из миров, уже не очень далеких от Цеха номер один. Сначала Затворник и Шестипалый отнеслись к этому спокойно и даже с некоторой иронией — они устроились возле Стены Мира и принялись готовить себе убежища души, — но бог вдруг вернулся, вытащил Шестипалого, поглядел на него внимательно, удивленно чмокнул губами, а потом обмотал ему лапку куском липкой синей ленты и кинул его обратно. Через несколько минут подошло сразу несколько богов — они достали Шестипалого и принялись его рассматривать по очереди, издавая возгласы восторга.
— Не нравится мне это, — сказал Затворник, когда боги наконец вернули Шестипалого на место и ушли, — плохо дело.
— По-моему, тоже, — ответил перепуганный Шестипалый. — Может, лучше снять эту дрянь?
И он показал на синюю ленту, обмотанную вокруг его ноги.
— Лучше пока не снимай, — сказал Затворник. Некоторое время они мрачно молчали, а потом Шестипалый сказал:
— Это все из-за шести пальцев. Ну убежим мы отсюда — так ведь они нас теперь искать будут. Про ящики они знают. А где-нибудь еще можно спрятаться?
Затворник помрачнел еще больше, а потом вместо ответа предложил сходить в здешний социум, чтобы развеяться.
Но оказалось, что со стороны далекой кормушки-поилки к ним уже движется целая депутация. Судя по тому, что, не дойдя шагов двадцать до Затворника и Шестипалого, идущие им навстречу повалились наземь и дальше стали двигаться ползком, у них были серьезные намерения. Затворник велел Шестипалому отойти назад и пошел выяснить, в чем дело. Вернувшись, он сказал:
— Такого я действительно никогда не видел. У них тут, видимо, религиозная община. Во всяком случае, они видели, как ты общаешься с богами, и теперь считают тебя пророком, а меня — твоим учеником или чем-то вроде этого.
— Ну и что теперь будет? Чего они хотят?
— Зовут к себе. Говорят, какая-то стезя выпрямлена, что-то увито и так далее. Я ничего не понял, но, думаю, пойти стоит.
— Пошли, — безразлично пожал плечами Шестипалый. Его томили мрачные предчувствия.
По дороге было сделано несколько навязчивых попыток понести Затворника на руках, и избежать этого удалось с большим трудом. К Шестипалому никто не смел не то что приблизиться, а даже поднять на него взгляд, и он шел в центре большого круга пустоты.
По прибытии Шестипалого усадили на высокую горку соломы, а Затворник остался у ее основания и погрузился в беседу со здешними первосвященниками, которых было около двадцати, — их легко было узнать по обрюзгшим толстым лицам. Затем он благословил их и полез на горку к Шестипалому, у которого было так погано на душе, что он даже не ответил на ритуальный поклон Затворника, что, впрочем, выглядело для паствы вполне естественно.
Выяснилось, что все уже давно ждали прихода мессии, потому что приближающийся решительный этап, называвшийся здесь Великим Судом, уже давно волновал народные умы, а первосвященники настолько разъелись и обленились, что на все обращенные к ним вопросы отвечали коротким кивком в направлении неба. Так что появление Шестипалого с учеником оказалось очень кстати.
— Ждут проповеди, — сообщил Затворник.
— Ну так наплети им что-нибудь, — буркнул Шестипалый. — Я ведь дурак дураком, сам знаешь.
На слове «дурак» голос у него задрожал, и вообще было видно, что он вот-вот заплачет.
— Они меня съедят, боги эти, — сказал он. — Я чувствую.
— Ну-ну. Успокойся, — сказал Затворник, повернулся к толпе у горки и принял молитвенную позу: задрал кверху голову и воздел руки. — Эй, вы! — закричал он. — Скоро все в ад пойдете. Вас там зажарят, а самых грешных перед этим замаринуют в уксусе.
Над социумом пронесся вздох ужаса.
— Я же, по воле богов и их посланца, моего господина, хочу научить вас, как спастись. Для этого надо победить грех. А вы хоть знаете, что такое грех?
Ответом было молчание.
— Грех — это избыточный вес. Греховна ваша плоть, ибо именно из-за нее вас поражают боги. Подумайте, что приближает ре… Великий Суд? Да именно то, что вы обрастаете жиром. Ибо худые спасутся, а толстые нет. Истинно так: ни один костлявый и синий не будет ввергнут в пламя, а толстые и розовые будут там все. Но те, кто будет отныне и до Великого Суда поститься, обретут вторую жизнь. Ей, Господи! А теперь встаньте и больше не грешите.
Но никто не встал — все лежали на земле и молча глядели — кто на размахивающего руками Затворника, кто в пучину неба. Многие плакали. Пожалуй, речь Затворника не понравилась только первосвященникам.
— Зачем ты так, — шепнул Шестипалый, когда Затворник опустился на солому, — они же тебе верят.
— А я что, вру? — ответил Затворник. — Если они сильно похудеют, их отправят на второй цикл откорма. А потом, может, и на третий. Да Бог с ними, давай лучше думать о своих делах.
8
Затворник часто говорил с народом, обучая, как придавать себе наиболее неаппетитный вид, а Шестипалый большую часть времени сидел на своей соломенной горке и размышлял о природе полета. Он почти не участвовал в беседах с народом и только иногда рассеянно благословлял подползавших к нему мирян. Бывшие первосвященники, которые совершенно не собирались худеть, глядели на него с ненавистью, но ничего не могли поделать, потому что все новые и новые боги подходили к миру, вытаскивали Шестипалого, разглядывали его и показывали друг другу. Один раз среди них оказался даже сопровождаемый большой свитой обрюзгший седенький старичок, к которому остальные боги относились с крайним почтением. Старичок взял его на руки, и Шестипалый злобно нагадил ему прямо на холодную трясущуюся ладонь, после чего был довольно грубо водворен на место.
А по ночам, когда все засыпали, они с Затворником продолжали отчаянно тренировать свои руки — чем меньше они верили в то, что это к чему-нибудь приведет, тем яростней становились их усилия. Руки у них выросли до такой степени, что заниматься с железками, на которые Затворник разобрал кормушку-поилку (в социуме все постились и выглядели уже почти прозрачными), больше не было никакой возможности, — стоило чуть взмахнуть руками, как ноги отрывались от земли, и приходилось прекращать упражнение. Это было той самой сложностью, о которой Затворник в свое время предупреждал Шестипалого, но ее удалось обойти — Затворник знал, как укреплять мышцы статическими упражнениями, и научил этому Шестипалого. Зеленые ворота уже виднелись за Стеной Мира, и, по подсчетам Затворника, до Великого Суда остался всего десяток затмений. Боги не особенно пугали Шестипалого — он успел привыкнуть к их постоянному вниманию и воспринимал его с брезгливой покорностью. Его душевное состояние пришло в норму, и он, чтобы хоть как-то развлечься, начал выступать с малопонятными темными проповедями, которые буквально потрясали паству. Однажды он вспомнил рассказ Одноглазки о подземной вселенной и в порыве вдохновения описал приготовление супа для ста шестидесяти демонов в зеленых одеждах в таких мельчайших подробностях, что под конец не только сам перепугался до одури, но и сильно напугал Затворника, который в начале его речи только хмыкал. Многие из паствы заучили эту проповедь наизусть, и она получила название «Откровения Синей Ленточки» — таково было сакральное имя Шестипалого. После этого даже бывшие первосвященники бросили есть и целыми часами бегали вокруг полуразобранной кормушки-поилки, стремясь избавиться от жира.
Поскольку и Затворник и Шестипалый ели каждый за двоих, Затворнику пришлось сочинить специальный догмат о непогрешимости, который быстро пресек разные разговоры шепотом.
Но если Шестипалый после пережитого потрясения быстро вошел в норму, то с Затворником начало твориться что-то неладное. Казалось, депрессия Шестипалого перешла к нему, и с каждым часом он становился все замкнутей.
Однажды он сказал Шестипалому:
— Знаешь, если у нас ничего не выйдет, я поеду вместе со всеми в Цех номер один.
Шестипалый открыл было рот, но Затворник остановил его:
— А поскольку у нас наверняка ничего не выйдет, это можно считать решенным.
Шестипалый вдруг понял: то, что он только что собирался сказать, было совершенно лишним. Он не мог переменить чужого решения, а мог только выразить свою привязанность к Затворнику — что бы он ни сказал, смысл был бы именно таким. Раньше он наверняка не удержался бы от массы ненужной болтовни, но за последнее время что-то в нем изменилось. И в ответ он просто кивнул головой, отошел в сторону и погрузился в размышления. Вскоре он вернулся и сказал:
— Я тоже поеду вместе с тобой.
— Нет, — сказал Затворник, — ты ни в коем случае не должен этого делать. Ты теперь знаешь почти все, что знаю я. И ты обязательно должен остаться жить и найти себе ученика. Может быть, хотя бы он приблизится к умению летать.
— Ты хочешь, чтобы я остался один? — раздраженно спросил Шестипалый. — С этим быдлом?
И он показал на простершуюся на земле при начале беседы пророков паству: одинаковые дрожащие изможденные тела закрывали собой почти все видимое пространство.
— Они не быдло, — сказал Затворник, — они больше походят на детей.
— На умственно отсталых детей, — добавил Шестипалый. — К тому же с массой врожденных пороков.
Затворник с ухмылкой поглядел на его ноги.
— Интересно, а ты помнишь, каким был ты сам до нашей встречи?
Шестипалый задумался и смутился.
— Нет, — наконец сказал он, — не помню. Честное слово, не помню.
— Ладно, — сказал Затворник, — поступай как знаешь. На этом разговор прекратился.
Дни, оставшиеся до конца, летели быстро. Однажды утром, когда паства только еще продирала глаза, Затворник и Шестипалый заметили, что зеленые ворота, еще вчера казавшиеся такими далекими, нависают над самой Стеной Мира. Они переглянулись, и Затворник сказал:
— Сегодня мы сделаем нашу последнюю попытку. Последнюю потому, что завтра ее уже некому будет делать. Наши руки так разрослись, что мы не можем даже помахать ими в воздухе — нас сбивает с ног. Поэтому сейчас мы отправимся к Стене Мира, чтобы нам не мешал этот гомон, а оттуда попробуем перенестись на купол кормушки-поилки. Если нам это не удастся, тогда попрощаемся с миром.
— Как это делается? — по привычке спросил Шестипалый. Затворник с удивлением поглядел на него.
— Откуда я знаю, как это делается, — сказал он.
Пастве было сказано, что пророки идут общаться с богами. Скоро Затворник и Шестипалый были уже возле Стены Мира, где уселись, прислонясь к ней спиной.
— Помни, — сказал Затворник, — надо представить себе, что ты уже там, и тогда…
Шестипалый закрыл глаза, сосредоточил все свое внимание на руках и стал думать о резиновом шланге, подходившем к крыше кормушки-поилки. Постепенно он вошел в транс, и у него появилось четкое ощущение, что этот шланг находится совсем рядом с ним — на расстоянии вытянутой руки. Раньше, представив себе, что он уже попал туда, куда хотел перелететь, Шестипалый спешил открыть глаза, и всегда оказывалось, что он сидит там же, где сидел. Но сегодня он решил попробовать нечто новое. «Если медленно сводить руки, — подумал он, — так, чтобы шланг оказался между ними, что тогда?» Осторожно, стараясь сохранить достигнутую уверенность, что шланг совсем рядом, он стал сближать руки. И когда они, сойдясь в месте, где перед этим была пустота, коснулись шланга, он не выдержал и изо всех сил завопил:
— Есть! — и открыл глаза.
— Тише, дурак, — сказал стоящий перед ним Затворник, чью ногу он сжимал. — Смотри.
Шестипалый вскочил на ноги и обернулся. Ворота Цеха номер один были раскрыты, и их створки медленно проплывали по бокам и сверху.
— Приехали, — сказал Затворник. — Пошли назад.
На обратном пути они не сказали ни слова. Лента транспортера двигалась с той же скоростью, с какой шли Затворник и Шестипалый, только в другую сторону, и поэтому всю дорогу вход в Цех номер один был там, где они находились. А когда они дошли до своих почетных мест возле кормушки-поилки, вход накрыл их и поплыл дальше.
Затворник подозвал к себе кого-то из паствы.
— Слушай, — сказал он. — Только спокойно! Иди и скажи остальным, что наступил Великий Суд. Видишь, как потемнело небо?
— А что теперь делать? — спросил тот с надеждой.
— Всем сесть на землю и сделать вот так, — сказал Затворник и закрыл руками глаза. — И не подглядывать, иначе мы ни за что не ручаемся. И чтоб тихо.
Сперва все-таки поднялся гомон. Но он быстро стих — все уселись на землю и сделали так, как велел Затворник.
— Ну что, — сказал Шестипалый, — давай прощаться с миром?
— Давай, — ответил Затворник, — ты первый. Шестипалый встал, оглянулся по сторонам, вздохнул и сел на место.
— Все? — спросил Затворник. Шестипалый кивнул.
— Теперь я, — поднимаясь, сказал Затворник, задрал голову и закричал изо всех сил: — Мир! Прощай!
9
— Ишь, раскудахтался, — сказал громовой голос. — Который? Этот, что квохчет, что ли?
— Не, — ответил другой голос. — Рядом.
Над Стеной Мира возникло два огромных лица. Это были боги.
— Ну и дрянь, — сокрушенно заметило первое лицо. — Чего с ними делать, непонятно. Они же полудохлые все.
Над миром пронеслась огромная рука в белом, заляпанном кровью и прилипшим пухом рукаве и тронула кормушку-поилку.
— Семен, мать твою, ты куда смотришь? У них же кормушка сломана!
— Цела была, — ответил бас. — Я в начале месяца все проверял. Ну что, будем забивать?
— Нет, не будем. Давай включай конвейер, подгоняй другой контейнер, а здесь — чтоб завтра кормушку починил. Как они не передохли только…
— Ладно.
— А насчет этого, у которого шесть пальцев, — тебе обе лапки рубить?
— Давай обе.
— Я одну себе хотел.
Затворник повернулся к внимательно слушающему, но почти ничего не понимающему Шестипалому.
— Слушай, — прошептал он, — кажется, они хотят…
Но в Этот момент огромная белая рука снова метнулась по небу и сгребла Шестипалого.
Шестипалый не разобрал, что хотел сказать Затворник. Ладонь обхватила его, оторвала от земли, потом перед ним мелькнула огромная грудь с торчащей из кармана авторучкой, ворот рубахи и, наконец, пара большущих выпуклых глаз, которые уставились на него в упор.
— Ишь, крылья-то. Как у орла! — сказал небывалых размеров рот, за которым желтели бугристые зубы.
Шестипалый давно привык находиться в руках у богов. Но сейчас от ладоней, которые его держали, исходила какая-то странная, пугающая вибрация. Из разговора он понял только, что речь идет не то о его руках, не то о ногах, а потом откуда-то снизу долетел сумасшедший крик Затворника:
— Шестипалый! Беги! Клюй его прямо в морду!
Первый раз за все время их знакомства в голосе Затворника звучало отчаяние. И Шестипалый испугался, до такой степени испугался, что все его действия приобрели сомнамбулическую безошибочность, — он изо всех сил клюнул вылупленный на него глаз и сразу стал с невероятной скоростью бить по потной морде бога руками с обеих сторон.
Раздался рев такой силы, что Шестипалый воспринял его не как звук, а как давление на всю поверхность своего тела. Ладони бога разжались, а в следующий момент Шестипалый заметил, что находится под потолком и, ни на что не опираясь, висит в воздухе. Сначала он не понял, в чем дело, а потом увидел, что по инерции продолжает махать руками и именно они удерживают его в пустоте. Отсюда было видно, что представляет собой Цех номер один: это был огороженный с двух сторон участок конвейера, возле которого стоял длинный, в красных и коричневых пятнах деревянный стол, усыпанный пухом и перьями, и лежали стопки прозрачных пакетов. Мир, где остался Затворник, выглядел просто большим восьмиугольным контейнером, заполненным множеством неподвижных крохотных тел. Шестипалый не видел Затворника, но был уверен, что тот видит его.
— Эй, — закричал он, кругами летая под самым потолком, — Затворник! Давай сюда! Маши руками как можно быстрей!
Внизу, в контейнере, что-то замелькало и, быстро вырастая в размерах, стало приближаться — и вот Затворник оказался рядом. Он сделал несколько кругов вслед за Шестипалым, а потом закричал:
— Садимся вон туда!
Когда Шестипалый подлетел к квадратному пятну мутного белесого света, пересеченному узким крестом, Затворник уже сидел на подоконнике.
— Стена, — сказал он, когда Шестипалый приземлился рядом, — светящаяся стена.
Затворник был внешне спокоен, но Шестипалый отлично знал его и видел, что тот немного не в себе от происходящего. С Шестипалым происходило то же самое. И вдруг его осенило.
— Слушай, — закричал он, — да ведь это и есть полет! Мы летали!
Затворник некоторое время глядел на него, а потом кивнул головой.
— Пожалуй, — сказал он. — Хоть это и слишком примитивно.
Между тем беспорядочное мелькание фигур внизу несколько успокоилось, и стало видно, что двое в белых халатах удерживают третьего, зажимающего лицо рукой.
— Сука! Он мне глаз выбил! Сука! — орал этот третий.
— Что такое сука? — спросил Шестипалый.
— Это способ обращения к одной из стихий, — ответил Затворник. — Собственного смысла это слово не имеет. Но нам сейчас, похоже, будет худо.
— А к какой стихии он обращается? — спросил Шестипалый.
— Сейчас увидим, — сказал Затворник.
Пока Затворник произносил эти слова, бог вырвался из удерживавших его рук, кинулся к стене, сорвал красный баллон огнетушителя и метнул его в сидящих на подоконнике — он это сделал так быстро, что никто не сумел ему помешать, а Затворник с Шестипалым еле успели взлететь в разные стороны.
Раздался звон и грохот. Огнетушитель, пробив окно, исчез, и в помещение ворвалась волна свежего воздуха — только после этого выяснилось, как там воняло. Стало неправдоподобно светло.
— Летим! — заорал Затворник, потеряв вдруг всю свою невозмутимость. — Живо! Вперед!
И, отлетев подальше от окна, он разогнался, сложил крылья и исчез в луче желтого горячего света, бившего из дыры в крашеном стекле, откуда дул ветер и доносились новые, незнакомые звуки.
Шестипалый, разгоняясь, понесся по кругу. Последний раз внизу мелькнул восьмиугольный контейнер, залитый кровью стол и размахивающие руками боги — сложив крылья, он со свистом пронесся сквозь дыру.
Сначала он на секунду ослеп — так ярок был свет. Потом его глаза привыкли, и он увидел впереди и вверху круг желто-белого огня такой яркости, что смотреть на него даже краем глаза было невозможно. Еще выше виднелась темная точка — это был Затворник. Он разворачивался, чтобы Шестипалый мог его догнать, и скоро они уже летели рядом.
Шестипалый оглянулся — далеко внизу осталось огромное и уродливое серое здание, на котором было всего несколько закрашенных масляной краской окон. Одно из них было разбито. Все вокруг было таких чистых и ярких цветов, что Шестипалый, чтобы не сойти с ума, стал смотреть вверх.
Лететь было удивительно легко — сил на это уходило не больше, чем на ходьбу. Они поднимались выше и выше, и скоро все внизу стало просто разноцветными квадратиками и пятнами.
Шестипалый повернул голову к Затворнику.
— Куда? — прокричал он.
— На юг, — коротко ответил Затворник.
— А что это? — спросил Шестипалый.
— Не знаю, — ответил Затворник, — но это вон там.
И он махнул крылом в сторону огромного сверкающего круга, только по цвету напоминавшего то, что они когда-то называли светилами.
Проблема верволка в Средней полосе
На какую-то секунду Саше показалось, что уж этот-то мятый ЗИЛ остановится — такая это была старая, дребезжащая, созревшая для автомобильного кладбища машина, что по тому же закону, по которому в стариках и старухах, бывших раньше людьми грубыми и неотзывчивыми, перед смертью просыпаются внимание и услужливость — по тому же закону, только отнесенному к миру автомобилей, она должна была остановиться. Но ничего подобного — с пьяной старческой наглостью звякая подвешенным у бензобака ведром, ЗИЛ протарахтел мимо, напряженно въехал на пригорок, издал на его вершине непристойный победный звук, сопровождаемый струей сизого дыма, и уже беззвучно скрылся за асфальтовым перекатом.
Саша сошел с дороги, бросил в траву свой маленький рюкзак и уселся на него — внутри что-то перегнулось, хрустнуло, и Саша испытал мстительное удовлетворение, обычное для попавшего в беду человека, узнающего, что кто-то или что-то рядом — тоже в тяжелых обстоятельствах. Насколько тяжелы его сегодняшние обстоятельства, Саша уже начинал ощущать.
Существовали только два способа дальнейших действий: либо по-прежнему ждать попутку, либо возвращаться в деревню — три километра хода. Насчет попутки вопрос был практически ясным: есть, видимо, такие районы страны или такие отдельные дороги, где в силу принадлежности абсолютно всех водителей к некоему тайному братству негодяев не только невозможно практиковать автостоп — наоборот, нужно следить, чтобы тебя не обдали грязной водой из лужи, когда идешь по обочине. Дорога от Конькова к ближайшему оазису при железной дороге — километров пятнадцать по прямой — была как раз одним из таких заколдованных маршрутов. Из пяти проехавших мимо машин не остановилась ни одна, и если бы какая-то стареющая женщина с фиолетовыми от помады губами и трогательной прической «I still love you» не показала ему кукиш, длинно высунув руку из окна красной «Нивы», Саша мог бы решить, что стал невидим. Оставалась еще надежда на обещанного многими газетами и фильмами шофера, который всю дорогу молча будет вглядываться в дорогу через пыльное ветровое стекло грузовика, а потом коротким движением головы откажется от Сашиной пятерки (и вдруг бросится в глаза висящая над рулем фотография нескольких парней в десантной форме на фоне далеких гор) — но когда дребезжащий ЗИЛ проехал мимо, и эта надежда умерла.
Саша поглядел на часы — было двадцать минут десятого. Скоро стемнеет, подумал он, надо же, вот попал… Он посмотрел по сторонам — с обеих сторон за сотней метров пересеченной местности (микроскопические холмики, редкие кусты и слишком высокая и сочная трава, заставляющая думать, что под ней болото) начинался жидкий лес, какой-то нездоровый, как потомство алкоголика. Вообще, растительность вокруг была странной. Все, что было крупнее цветов и травы, росло как бы с натугой и надрывом и хоть достигало в конце концов нормальных размеров, но оставляло впечатление, будто выросло, испугавшись чьих-то окриков, а иначе так и стлалось бы лишайником по земле. Какие-то неприятные были места, тяжелые и безлюдные, словно подготовленные к сносу с лица земли, — хотя, подумал Саша, если у земли и есть лицо, то явно в другом месте. Недаром из трех виденных им сегодня деревень только одна выглядела более-менее правдоподобной — как раз последняя, Коньково, — а остальные были заброшены, и только в нескольких домиках кто-то еще доживал свой век; покинутые избы больше напоминали экспозицию этнографического музея, чем человеческие жилища.
Впрочем, Коньково, отмеченное гипсовым часовым у шоссе и придорожной надписью «Колхоз «Мичуринский», казалось поселением людей лишь в сравнении с глухим запустением соседних, уже безымянных, деревень. Хотя в Конькове зиял магазин, хлопала по ветру клубная афиша с выведенным зеленой гуашью названием французского авангардного фильма и верещал где-то за домами трактор, все равно было не по себе. Людей на улицах не было — только прошла бабка в черном, мелко перекрестившаяся при виде Сашиной гавайской рубахи, покрытой разноцветными фрейдистскими символами, да проехал на велосипеде очкастый мальчик с авоськой на руле. Велосипед был ему велик, он не мог сидеть в седле и ехал стоя, как будто бежал над ржавой тяжелой рамой. Остальные жители, если они были, сидели по домам.
В воображении поездка представлялась совсем иначе. Вот он ссаживается с речного плоскодонного теплоходика, доходит до деревни, где на завалинках — Саша не знал, что такое завалинка, и представлял ее себе в виде удобной деревянной скамейки вдоль бревенчатой стены — мирно сидят выжившие из ума старухи, кругом растет подсолнух, и под его желтыми блюдцами тихо играют в шахматы на дощатых серых столах бритые старики. Словом, представлялся Тверской бульвар, только заросший подсолнухом. Ну еще промычит корова…
Дальше — вот он выходит на околицу, и открывается прогретый солнцем сосновый лес, река с плывущей лодкой или разрезанное дорогой поле, и куда ни пойди, всюду будет замечательно: можно развести костер, можно даже вспомнить детство и полазить по деревьям. Вечером — на попутных машинах к электричке.
А что вышло? И ведь виной всему была цветная фотография из толстой ободранной книги, с подписью: «Старинная русская деревня Коньково, ныне — главная усадьба колхоза-миллионера». Саша нашел место, откуда был сделан понравившийся ему снимок, проклял татарское слово «колхоз» и американское слово «миллионер» и удивился, до чего разным может быть на фотографии и в жизни один и тот же вид.
Мысленно дав себе слово никогда больше не поддаваться порывам к бессмысленным путешествиям, Саша решил хотя бы посмотреть этот фильм в клубе. Купив у невидимой кассирши билет — говорить пришлось с веснушчатой пухлой рукой в окошке, которая оторвала билет и отсчитала сдачу, — он попал в полупустой зал, отскучал в нем полтора часа, иногда оборачиваясь на прямого, как шпала, деда, свистевшего в некоторых местах (его критерии были совершенно неясны, но зато в свисте было что-то залихватски-разбойничье и одновременно грустное, что-то от уходящей Руси); потом — когда фильм кончился — поглядел на удаляющуюся от клуба прямую спину свистуна, на фонарь под жестяным конусом, на одинаковые заборчики вокруг домов и пошел прочь из Конькова, косясь на простершего руку и поднявшего ногу гипсового человека в кепке, обреченного вечно брести к брату по небытию, ждущему его у шоссе.
Последнего грузовика, который своим сизым выхлопом окончательно развеял иллюзии, Саша дожидался так долго, что успел забыть о том, чего он ждет.
— Пойду назад, — вслух сказал он, обращаясь к ползущему по его кеду не то паучку, не то муравью, — а то будем тут вместе ночевать.
Паучок оказался толковым насекомым и быстро слез назад в траву. Саша встал, закинул за спину рюкзак и пошел назад, придумывая, где и как он устроится ночевать. Стучаться к какой-нибудь бабке не хотелось, да и было бесполезно, потому что пускающие переночевать бабки живут обычно в тех местах, где соловьи-разбойники и кащеи, а здесь был колхоз «Мичуринский» — понятие, если вдуматься, не менее волшебное, но волшебное по-другому, без всякой надежды на ночлег в незнакомом доме. Единственным подходящим вариантом, до которого сумел додуматься Саша, был следующий: он покупает билет на последний сеанс в клуб, а после сеанса, спрятавшись за тяжелой зеленой портьерой в зале, остается. Чтобы все вышло, надо будет встать с места, пока не включат свет, тогда его на заметит баба в самодельной черной униформе, сопровождающая зрителей к выходу. Правда, придется еще раз смотреть этот темный фильм, но тут уж ничего не поделаешь.
Думая обо всем этом, Саша вышел к развилке. Когда он проходил здесь минут двадцать назад, ему показалось, что к дороге, по которой он идет, пристроилась другая, поменьше, а сейчас он стоял на распутье, не понимая, по какой из дорог он шел — обе казались совершенно одинаковыми. Вроде бы по правой — там еще росло большое дерево. Ага, вот оно. Значит, идти надо направо. Перед деревом, кажется, стоял такой серый столб. Где он? Вот он, только почему-то слева. А рядом маленькое деревце. Ничего не понятно.
Саша поглядел на столб, когда-то поддерживавший провода, а сейчас похожий на грозящие небу огромные грабли, и повернул влево. Пройдя двадцать шагов, он остановился и поглядел назад: с поперечной перекладины столба, отчетливо видной на фоне красных полос заката, взлетела птица, которую он до этого принял за облепленный многолетней грязью изолятор. Он пошел дальше — чтобы успеть в Коньково вовремя, надо было спешить, а идти предстояло через лес.
Удивительно, думал он, какая ненаблюдательность. По дороге из Конькова он не заметил этой широкой просеки, за которой виднелась поляна. Когда человек поглощен своими мыслями, мир вокруг исчезает. Наверно, он и сейчас бы ее не заметил, если бы его не окликнули.
— Эй, — закричал пьяный голос, — ты кто?
И еще несколько голосов заржали. Среди первых деревьев леса, как раз возле просеки, мелькнули люди и бутылки — Саша не позволил себе обернуться и увидел местную молодежь лишь краем глаза. Он прибавил шаг, уверенный, что за ним не погонятся, но все-таки неприятно взволнованный.
— У, волчище! — прокричали сзади.
«Может, я не туда иду?» — подумал Саша, когда дорога сделала зигзаг, которого он не помнил. Нет, вроде туда: вот длинная трещина на асфальте, похожая на латинскую дубль-вэ; что-то похожее уже было.
Понемногу темнело, а идти было еще порядочно. Чтобы себя занять, он стал обдумывать способы проникновения в клуб после начала сеанса — начиная от озабоченного возвращения за забытой на сиденье кепкой («знаете, такая красная, с длинным козырьком» — в честь любимой книги) и кончая спуском через широкую трубу на крыше, если она, конечно, есть.
То, что он выбрал не ту дорогу, выяснилось через полчаса, когда все вокруг уже было синим и на небе прорезались первые звезды. Ясно это стало, когда на обочине возникла высокая стальная мачта, поддерживающая три толстых провода, и послышался тихий электрический треск: по дороге от Конькова таких мачт не было точно. Уже все поняв, Саша по инерции дошел до мачты и в упор уставился на жестяную табличку с любовно прорисованным черепом и угрожающей надписью. Потом оглянулся и поразился — неужели он только что прошел через этот черный и страшный лес? Идти назад к развилке — значит снова встретиться с ребятами, сидящими у дороги, и узнать, в какое состояние они пришли под действием портвейна и сумрака. Идти вперед — значило идти неизвестно куда — но все-таки должна же дорога куда-то вести?
Гудение проводов напоминало, что где-то на свете живут нормальные люди, вырабатывают днем электричество, а вечером смотрят с его помощью телевизор. Если уж ночевать в глухом лесу, думал Саша, то лучше всего под электрической мачтой, тогда будет чем-то похоже на ночлег в парадном, а это вещь испытанная и совершенно безопасная.
Вдруг донесся какой-то полный вековой тоски рев — сначала он был еле слышен, а потом вырос до невообразимых пределов, и только тогда Саша понял, что это самолет. Он облегченно поднял голову — скоро вверху появились разноцветные точки, собранные в треугольник; пока самолет был виден, стоять на темной лесной дороге было даже уютно, а когда он скрылся, Саша уже знал, что пойдет вперед. (Он вдруг вспомнил, как очень давно, может, лет десять — пятнадцать назад, он так же поднимал голову и глядел на ночные бортовые огни, а потом, став старше, иногда воображал себя парашютистом, сброшенным с только что пролетевшего сквозь летнюю ночь самолета, и эта мысль сильно помогала.) Он пошел вперед, глядя прямо перед собой на выщербленный асфальт, постепенно становящийся самой светлой частью окружающего.
На дорогу падал слабый, неопределенной природы, свет, и можно было идти, не боясь споткнуться. Отчего-то — наверно, по городской привычке — у Саши была уверенность, что дорога освещена редкими фонарями. Он попытался найти фонарь и опомнился: никаких фонарей, конечно, не было — светила луна, и Саша, задрав голову, увидел ее четкий белый серп. Поглядев немного на небо, он отметил, что звезды разноцветные, — раньше он этого не замечал или замечал, но давно забыл.
Наконец стемнело полностью и окончательно, то есть стало понятно, что темнее уже не будет. Саша вынул из рюкзака куртку, надел ее и застегнул на все «молнии»: так он чувствовал себя в большей готовности к ночным неожиданностям. Заодно он съел два мятых плавленых сырка «Дружба» — фольга с этим словом, слабо блеснувшая в лунном свете, почему-то напоминала о вымпелах, которые человечество его родины постоянно запускает в космос.
Несколько раз он слышал далекое гудение автомобильных моторов. Прошел примерно час, как он миновал мачту. Машины проезжали где-то далеко — наверное, по другим дорогам. Его дорога один раз вышла из леса, сделала метров пятьсот по полю, нырнула в другой лес, где деревья были старше и выше, — и сузилась: теперь идти было темнее, потому что полоса неба над головой тоже стала уже. Ему начинало казаться, что он погружается все глубже и глубже в какую-то пропасть и дорога не выведет его никуда, а, наоборот, заведет в глухую чащу и кончится в царстве зла, среди огромных дубов, шевелящих рукообразными ветвями, — как в детских фильмах ужасов, где в конце концов побеждает такое добро, что становится жалко поверженных Бабу Ягу и Кащея, жалко за неспособность найти место в жизни и постоянно мешающую им интеллигентность.
Впереди опять возник шум мотора — теперь он был ближе, и Саша подумал, что наконец его подбросят куда-нибудь, где над головой будет электрическая лампа, по бокам — стены, и можно будет спокойно заснуть. Некоторое время гудение приближалось, но внезапно стихло — машина остановилась. Он почти побежал вперед и опять услышал гудение мотора, оно снова донеслось издалека — как будто машина вдруг беззвучно перепрыгнула на километр назад и теперь повторяла уже пройденный путь.
Он понял, что слышит другую машину, тоже едущую в его сторону. В лесу трудно точно определить расстояние до источника звука; когда вторая машина остановилась, Саше показалось, что она не доехала до него каких-нибудь сто метров; света фар не было видно, но впереди был поворот.
Это было непонятно. Одна за другой две машины вдруг остановились посреди ночного леса, как будто ухнули в какую-то глубокую яму посреди дороги. Саша вспомнил, что и раньше, когда он слышал отдаленный гул моторов, звук некоторое время приближался, нарастал и внезапно обрывался.
Ночь подсказывала такие объяснения происходящему, что Саша на всякий случай свернул к обочине, чтобы нырнуть в лес, если потребуют обстоятельства, и крадущейся походкой двинулся вперед, внимательно вглядываясь в темноту. Сразу же исчезла большая часть страха, и он подумал, что если и не сядет сейчас в машину, то дальше пойдет именно таким образом.
Перед самым поворотом Саша увидел на листьях слабые красноватые отблески и услышал голоса и смех. Еще одна машина подъехала и затормозила где-то совсем рядом; хлопнули дверцы. Судя по тому, что впереди смеялись, не происходило ничего особо страшного. Или как раз наоборот, подумал он вдруг.
Он свернул в лес и, ощупывая темноту перед собой руками, медленно пошел вперед. Наконец он оказался на таком месте, откуда было видно происходящее за поворотом. Спрятавшись за деревом, он подождал, пока глаза привыкнут к новому уровню темноты, осторожно выглянул — и чуть не засмеялся, настолько обычность открывшейся картины не соответствовала напряжению его страха.
Впереди была большая поляна; с одной ее стороны в беспорядке стояло штук шесть машин — «Волги», «Лады» и даже одна иностранная, — а освещалось все небольшим костерком, вокруг которого стояли люди разного возраста и по-разному одетые, некоторые с бутербродами и бутылками в руках. Они переговаривались, смеялись и вели себя, как любая большая компания вокруг ночного костра — не хватало только магнитофона, натужно борющегося с тишиной.
Словно услыхав Сашину мысль, плотный мужчина в кроссовках подошел к машине, сунул внутрь руку, и заиграла довольно громкая музыка — правда, неподходящая для пикника: будто выли в отдалении хриплые мрачные трубы и гудел ветер между голых осенних стволов.
Однако компания не выразила неудовольствия — наоборот, когда человек в кроссовках вернулся к остальным, его несколько раз одобрительно хлопнули по плечу. Приглядевшись, Саша стал замечать и другие странности — причем странности, как бы подчеркнутые несуразностью музыки.
У костра было двое-трое детей, были ребята Сашиного возраста и девушки. Но вот что делал среди них милиционер? У костра особняком стоял военный — кажется, полковник; его обходили стороной, а он иногда поднимал руки к Луне. Несколько человек были в костюмах с галстуками, будто приехали не в лес, а на работу.
Саша вжался в свое дерево, потому что к ближнему краю поляны подошел человек в просторной черной куртке, с ремешком, перехватывающим волосы. Еще кто-то повернул лицо, слегка искаженное прыгающими отблесками костра, в Сашину сторону… Нет, показалось, никто его не заметил.
Ему пришло в голову, что все это легко объяснить: сидели, наверное, на каком-нибудь приеме, а потом рванули в лес… Милиционер — для охраны… Но почему такая музыка?
— Эй, — сказал сзади тихий голос.
Саша похолодел. Он медленно обернулся и увидел девочку в спортивном, кажется, зеленом, костюме с нежной адидасовской лилией на груди.
— Ты чего тут делаешь? — так же тихо спросила она. Он с усилием разлепил рот:
— Я… так просто.
— Что так просто?
— Ну, шел по дороге, пришел сюда.
— То есть как? — переспросила девочка почти с ужасом. — Ты что, не с нами приехал?
— Нет.
Она сделала такое движение, будто собиралась отпрыгнуть от него, но все-таки осталась на месте.
— Ты, значит, сам сюда пришел? Взял и пришел?
— Непонятно, что тут такого, — сказал Саша. Ему начинало приходить в голову, что над ним издеваются, но девочка вдруг перевела взгляд на его кеды и помотала головой с таким чистосердечным недоумением, что он отбросил эту мысль. Наоборот, ему самому вдруг показалось, что он выкинул нечто ни в какие ворота не лезущее. Минуту она молча соображала, потом спросила:
— А как ты теперь выкручиваться хочешь?
Саша решил, что она имеет в виду его положение одинокого ночного пешехода, и ответил:
— Как? Попрошу, чтоб довезли до какой-нибудь станции. Вы когда возвращаетесь?
Она промолчала. Он повторил вопрос, и она как-то странно, спиралью, покрутила узкой рукой.
— Или дальше пойду, — вдруг сказал Саша. Девочка посмотрела на него с сожалением.
— Как тебя звали-то? — спросила она.
«Почему «звали»?» — удивился Саша и хотел поправить ее, но вместо этого ответил, как в детстве отвечал милиционерам:
— Саша Лапин.
Она хмыкнула, слегка толкнула его пальцем в грудь.
— Есть в тебе что-то располагающее, Саша Лапин, — сообщила она, — поэтому я тебе вот что скажу: бежать не пробуй. Правда. А лучше минут так через пять иди к костру, посмелее. Тебя, значит, спросят: кто ты такой и что здесь делаешь. А ты отвечай, что зов услышал. И, главное, с полной уверенностью. Понял?
— Какой зов?
— Какой, какой. Такой. Мое дело тебе совет дать.
Девочка еще раз оглядела Сашу, обошла его и двинулась на поляну. Когда она подошла к костру, мужчина в кроссовках потрепал ее по голове и дал ей бутерброд.
«Издевается», — подумал Саша. Но всмотрелся в человека с ремешком на лбу, все еще стоявшего на краю поляны, и решил, что не издевается: очень уж странно он вглядывался в ночь, этот человек. А в центре поляны вдруг стал виден воткнутый в землю деревянный шест с насаженным на него черепом неизвестного Саше животного — узким и длинным, с мощными челюстями. Собачий? Нет, скорее волчий…
Он решился, вышел из-за дерева и двинулся к желто-красному пятну костра. Шел он покачиваясь — и не понимал почему, а глаза его были прикованы к огню.
Разговоры на поляне сразу смолкли. Все теперь глядели на него, сомнамбулически пересекающего пространство между кромкой леса и костром.
— Стой, — хрипло сказали от столба с черепом.
Он не остановился — к нему подбежали и несколько сильных мужских рук схватили его.
— Ты что здесь делаешь? — спросил голос, который скомандовал ему остановиться.
— Зов услышал, — мрачно и грубо ответил Саша, глядя в землю.
— А, зов… — раздались голоса. Его отпустили, вокруг засмеялись и кто-то сказал:
— Новенький.
Саше подали бутерброд с сыром и стаканчик «тархуна», после чего он оказался немедленно забыт — все вернулись к прерванным было разговорам. Он придвинулся к костру и вдруг вспомнил о своем рюкзаке, оставшемся за деревом. «Черт с ним», — подумал он и занялся бутербродом.
Из-за костра выскользнула девочка в спортивном костюме.
— Я — Лена, — сказала она. — Молодец. Все как надо сделал.
— Слушай, — спросил он, — что здесь происходит? Пикник? Лена подняла обломок толстой ветки, бросила его в костер.
— Погоди, узнаешь.
Она помахала мизинчиком — какой-то совершенно китайский получился жест — и отошла к людям, стоявшим у шеста с черепом.
Сашу дернули за рукав. Он обернулся и вздрогнул: перед ним стоял декан его факультета, крупный специалист в области чего-то такого, что должно было начаться только на следующем курсе, но уже и на этом вызывало чувства, похожие на спазмы надвигающейся тошноты. Саша обомлел, но сказал себе, что декан ведь только на работе начальство, а вечером и ночью — человек и может ездить куда угодно. Вот только невозможно было вспомнить, как его зовут по отчеству.
— Слышь, новенький, — декан явно не узнавал Сашу, — заполни-ка.
В Сашину руку легли разграфленный лист бумаги и ручка. Костер освещал скуластое лицо профессора и надписи на листке; это оказалась обычная анкета. Саша присел на корточки и на колене, кое-как, стал вписывать ответы — где родился, когда, зачем и так далее. Было, конечно, странно заполнять анкету посреди ночного леса, но то, что над головой стояло дневное начальство, каким-то образом уравновешивало ситуацию. Декан ждал, иногда нюхая воздух и заглядывая Саше через плечо. Когда последняя строчка была дописана, он схватил ручку и листок, оскаленно улыбнулся и странной припрыжкой побежал к своей машине, на капоте которой лежала открытая папка.
Пока Саша заполнял анкету, у костра произошли заметные перемены. Люди по-прежнему разговаривали, но голоса их стали какими-то лающими, а движения и жесты плавными и ловкими. Мужчина в вечернем костюме с профессиональной легкостью кувыркался в траве, отбрасывая движениями головы мотающийся галстук; другой замер, как журавль, на одной ноге и молитвенно глядел на Луну, а милиционер, видный сквозь языки огня, стоял на четвереньках и поводил головой. Саша сам стал чувствовать звон в ушах и сухость во рту.
Все это находилось в несомненной, хоть и неясной связи с музыкой: ее темп убыстрялся, и трубы хрипели все тревожней, будто предвещая приближение новой и необычной темы. Музыка ускорялась, воздух вокруг становился густым и горячим — Саша подумал, что еще одна такая минута, и он умрет. Вдруг трубы смолкли на резкой ноте и пронесся воющий удар гонга.
— Эликсир! — приказал полковник.
Саша увидел худую старую женщину в длинном жакете и красных бусах. Она несла баночку, накрытую бумажкой, — в таких продают майонез. Вдруг у шеста с черепом произошло легкое смятение.
— Вот это да, — восхищенно сказал кто-то, — без эликсира…
Саша поглядел туда и увидел следующее: одна из девушек — та, что говорила раньше с человеком в черной куртке, — стояла на коленях и выглядела более чем странно: ее ноги как будто уменьшились, а лицо, наоборот, вытянулось, превратившись в неправдоподобную, страшную до хохота получеловеческую-полуволчью морду.
— Великолепно, — сказал полковник и обернулся, приглашая всех полюбоваться. — Слов нет! Великолепно! А еще нашу молодежь ругают!
По телу жуткого существа прошла волна, еще одна, волны убыстрились и перешли в крупную дрожь. Через минуту на поляне между людьми стояла молодая крупная волчица.
— Это Таня из иняза, — сказал кто-то Саше в ухо, — она очень способная.
Разговоры стихли, как-то естественно все выстроились в неровную шеренгу, и женщина с полковником пошли вдоль нее, давая всем по очереди отхлебнуть из банки. Саша, совершенно одуревший от увиденного, оказался в середине шеренги. Рядом с ним опять появилась Лена. Она повернула к нему лицо и улыбнулась, сверкнув белыми зубами.
Вдруг Саша увидел, что женщина в бусах — она вела себя совершенно обыденно, по-дачному, без странностей в движениях — стоит напротив него и протягивает к его лицу руку с банкой. Саша почувствовал какой-то знакомый запах — так пахнут растения, если растереть их на ладони. Он отшатнулся, но рука настигла его и ткнула в губы край банки. Саша сделал маленький глоток и одновременно почувствовал, что его держат сзади. Женщина шагнула дальше.
Он открыл глаза. Пока он держал жидкость во рту, вкус казался даже приятным, но когда он проглотил ее, его чуть не вырвало.
Резкий растительный запах усилился и заполнил Сашину пустую голову — как будто она была воздушным шариком, в который кто-то вдувал струю газа. Шарик вырос, раздулся — его тянуло вверх все сильнее, и вдруг он порвал тонкую нить, связывавшую его с землей, и понесся вверх — далеко внизу остались лес, поляна с костром и люди на ней, а навстречу полетели редкие облака, а потом звезды. Скоро внизу уже ничего не было видно. Он стал глядеть вверх и увидел, что приближается к небу, — как выяснилось, небо представляло собой вогнутую каменную сферу с торчащими из нее блестящими металлическими остриями, которые и казались снизу звездами. Одно из сверкающих лезвий неслось прямо на Сашу, и он никак не мог предотвратить встречу, он летел ввысь все быстрей и быстрей. Наконец он напоролся на острие и лопнул с громким треском. Теперь от него осталась лишь стянувшаяся оболочка, которая, покачиваясь в воздухе, стала медленно спускаться к земле.
Падал он долго, целое тысячелетие, и наконец почувствовал под собой твердую поверхность. Это было настолько приятно, что от наслаждения и благодарности Саша широко махнул хвостом, поднял морду и тихонько провыл. Потом встал с брюха на лапы и огляделся.
Рядом с ним стояла худенькая юная волчица и глядела вверх, на небо, откуда он только что свалился. Он сразу узнал Лену — а как, было неясно. Те человеческие черты, которые он в ней отметил раньше, теперь, разумеется, исчезли. Однако появились такие же особенности, но волчьи. Он никогда не подумал бы, что выражение волчьей морды может быть одновременно насмешливым и мечтательным, если бы не увидел этого собственными глазами. Лена заметила, что он ее рассматривает, и спросила:
— Ну как тебе?
Она не говорила словами. Она тонко и тихо взвизгнула — или проскулила — это никак не было похоже на человеческий язык, но Саша уловил не только смысл вопроса, но и некоторую нарочитую развязность, которую она ухитрилась придать своему вою.
— Здорово, — хотел он ответить. Получился короткий лающий звук, но этот звук и был тем, что он собирался сказать. Лена улеглась на траву и положила морду между лапами.
— Отдохни, — провыла она, — сейчас будем долго бежать. Он не хотел отдыхать. Он чувствовал себя переполненным силой — хотелось подпрыгнуть или разорвать кого-нибудь в клочья. Он поглядел по сторонам — под шестом по траве катался милиционер, на глазах обрастая шерстью прямо поверх кителя; из штанов быстро, как травинка в учебном фильме по биологии, рос толстый плешивый хвост.
На полянке теперь стояла волчья стая — и только женщина в бусах, разносившая эликсир, оставалась человеком. Она с некоторой вроде бы опаской обошла двух матерых волков — одного из них Саша узнал, это был полковник — и залезла в машину.
Саша повернулся к Лене и провыл:
— Она не из наших?
— Она нам помогает. Сама она коброй перекидывается.
— А сейчас она будет?
— Сейчас для нее холодно. Она в Среднюю Азию ездит. Волки прохаживались по поляне, подходили друг к другу и тихо перелаивались. Саша сел на задние лапы и постарался ощутить все стороны своего нового качества.
Во-первых, он различал множество пронизывающих воздух запахов. Это было похоже на второе зрение — например, он сразу же почуял свой рюкзак, оставшийся за довольно далеким деревом, почувствовал сидящую в машине женщину, след недавно пробежавшего по краю поляны суслика, солидный мужественный запах пожилых волков и нежную волну запаха Лены — это был, наверное, самый свежий и чистый оттенок всего океана запахов волчьих шкур и волчьего дыхания.
Такая же перемена произошла со звуками: они стали гораздо осмысленней, их стало в сотни раз больше — можно было выделить скрип ветки под ветром в ста метрах от поляны, стрекотание сверчка совсем в другой стороне, и следить за колебаниями этих звуков одновременно, без малейшего раздвоения.
Но главная метаморфоза, которую ощутил Саша, была в самоосознании. На человеческом языке это было очень трудно выразить, и он стал лаять, визжать и скулить про себя, так же, как раньше думал словами. Изменение в самоосознании касалось смысла жизни: люди способны только говорить, а вот ощутить смысл жизни так же, как ветер или холод, они не могут. А у Саши такая возможность появилась, и смысл жизни чувствовался непрерывно и отчетливо, как некоторое вечное свойство мира, и в этом было главное очарование нынешнего состояния. Как только он понял это, он понял и то, что вряд ли по своей воле вернется в прошлое естество — жизнь без этого чувства казалась длинным болезненным сном, неинтересным и мутным, какие снятся при гриппе.
— Готовы? — пролаял от шеста с черепом бывший полковник.
— Готовы! — взвыл вокруг десяток глоток.
— Сейчас… Пару минут, — прохрипел кто-то сзади. — Перекинуться не могу…
Саша попытался повернуть морду и взглянуть назад — не удалось. Оказалось, что шея плохо гнется, надо было поворачиваться всем телом. Подошла Лена, ткнула его холодным носом в бок и тихонько проскулила:
— Ты не вертись, а глаза скашивай. Гляди.
Ее глаз вспыхнул красным при повороте. Саша попробовал — и действительно, скосив глаза, увидел свою спину, хвост и гаснущий костер.
— Куда побежим-то? — озабоченно спросил он.
— В Коньково, — ответила Лена, — там две коровы на поле.
— А разве они сейчас не заперты?
— Специально устроено. Иван Сергеевич устроил звонок из райкома — мол, изучаем влияние ночного выпаса на надои. Что-то в этом роде.
— А что, в райкоме тоже наши?
— А ты думал.
Иван Сергеевич — бывший мужчина в черной куртке и с ремешком на лбу, превратившимся сейчас в полоску темной шерсти, — сидел рядом, слушал Лену и значительно кивал мордой.
— Здорово, — прорычал Саша, — я жрать хочу.
Лена улыбнулась — оскалила белые клыки и чуть повела ухом.
Саша скосил на нее глаза. Она вдруг показалась ему удивительно красивой: блестящая гладкая шерсть, нежный выгиб спины, стройные и сильные задние лапы, пушистый молодой хвост и трогательно перекатывающиеся под шкурой лопатки — в ней одновременно чувствовалась и сила, и какая-то открытость, беззащитность — словом, все, что так бессилен описать волчий вой. Заметив его взгляд, Лена смутилась и отошла в сторону, опустив хвост и расстилая его над травой. Саша тоже смутился и сделал вид, что выкусывает репей из шерсти на лапе.
— Еще раз спрашиваю, все готовы? — накрыл поляну низкий лай вожака.
— Все! Все готовы! — ответил дружный вой. Саша тоже провыл:
— Все!
— Тогда вперед.
Вожак потрусил к опушке — видно было, что он специально движется медленно и расхлябанно, как спринтер, вразвалку подходящий к стартовым колодкам, чтобы подчеркнуть быстроту и собранность, которую он покажет после выстрела.
У края поляны, где начинались деревья, вожак пригнул морду к земле, принюхался и вдруг взвыл и прыгнул в темноту, и сразу же, с лаем и визгом, за ним рванулись остальные. Первые секунды этой гонки во тьме, утыканной острыми сучьями и колючками, Саша ощущал то же, что бывает при прыжке в воду, когда неизвестна глубина, — мгновенный страх разбить голову о дно. Однако оказалось, что он чувствует встречные препятствия и без труда обходит их. Поняв это, он расслабился, и бежать стало легко и радостно — казалось, его тело мчится само по себе, высвобождая скрытую в нем силу.
Стая растянулась и образовала ромб. По краям летели матерые, мощные волки, а в центре — волчицы и волчата. Волчата ухитрялись играть на бегу, ловить друг друга за хвосты и совершать невообразимые прыжки. Сашино место было в вершине ромба, сразу за вожаком — откуда-то он знал, что это почетное место, и сегодня оно отдано ему как новичку.
Лес кончился, и открылось большое пустынное поле и дорога — стая помчалась по асфальту, надбавив скорости и растянувшись в серую ленту с правой стороны шоссе. Саша узнал дорогу, это она на пути сюда казалась темной и пустой, но сейчас он всюду замечал жизнь: вдоль дороги сновали полевые мыши, при появлении волков исчезавшие в своих норах; на обочине свернулся колючим шаром еж и отлетел в поле, отброшенный легким ударом волчьей лапы, реактивными истребителями промчались два зайца, оставив густой след запаха, по которому было ясно, что они насмерть напуганы, а один вдобавок глуп как пробка.
Лена бежала рядом с Сашей.
— Осторожно, — провыла она и мотнула мордой вверх. Он поднял глаза, предоставив телу самому выбирать путь. Над дорогой летели несколько сов — точно с такой же скоростью, с какой волки мчались по асфальту. Совы угрожающе заухали, волки в ответ зарычали. Саша почувствовал странную связь между совами и стаей. Они были враждебны друг другу, но чем-то похожи.
— Кто это? — спросил он у Лены.
— Совы-оборотни. Они крутые… Был бы ты один…
Лена еще что-то прорычала и с ненавистью поглядела вверх. Совы стали отдаляться от дороги и подниматься ввысь. Они летели, не махая крыльями, а просто распластав их в воздухе. Сделав высоко в небе круг, они повернули в сторону восходящей Луны.
— На птицефабрику полетели, — прорычала Лена, — днем они там вроде как шефы.
Они подбегали к развилке — впереди возник знакомый придорожный столб и высокое дерево. Саша учуял свой собственный, еще человеческий, след и даже какое-то эхо мыслей, приходивших ему в голову на дороге несколько часов назад, — это эхо оставалось в запахе. Стая плавно вписалась в поворот и помчалась к Конькову.
Лена чуть отстала, и теперь рядом с Сашей бежал декан — был он худым рыжеватым волком с как бы опаленной мордой. Еще у него был странный аллюр — приглядевшись, Саша заметил, что волк иногда сбивается на иноходь.
— Павел Васильевич! — провыл он, вспомнив наконец отчество.
Получилось что-то вроде: «Х-ррр-уууу-ввыы…», но декан узнал свое имя и дружелюбно повернул морду.
— А я у вас на факультете учусь, Павел Васильевич, — зачем-то сообщил Саша.
— Да? Это интересно, — отозвался декан, — то-то я гляжу — морда знакомая. Как сессию сдал?
— Нормально, вот только по физике тройка.
Они высоко подпрыгнули, пролетели над длинной лужей и помчались дальше.
— Это ты напрасно, — пролаял декан, — физику надо знать. Основа основ.
Он издал серию похожих на хохот хриплых рыков и исчез впереди, высоко, как флаг на корме, подняв хвост. «Да пошел он со своей физикой», — подумал Саша.
Мимо пронесся гипсовый часовой, за ним — указатель с надписью «Колхоз «Мичуринский», и вот уже вспыхнули вдали редкие огни Конькова.
Деревня приготовилась к встрече надежно. Она напоминала состоящий из множества водонепроницаемых отсеков корабль: когда настала ночь и на улицы, которых было всего три, хлынула темнота, дома задраились изнутри и теперь поддерживали в себе желтое электрическое сияние разумной жизни независимо друг от друга. Так и встретило волков-оборотней Коньково — желтыми зашторенными окнами, тишиной, безлюдьем и автономностью каждого человеческого жилища; никакой деревни уже не было, а было несколько близкорасположенных пятен света посреди мировой тьмы.
Длинные серые тени понеслись по главной улице и закрутились перед клубом, гася инерцию бега. Двое волков отделились от стаи и исчезли между домами, а остальные уселись посреди площади — Саша тоже сел в круг и с неясным чувством поглядел на клуб, где совсем недавно собирался ночевать, про который уже успел забыть и возле которого опять оказался при таких неожиданных обстоятельствах. «Вот ведь как бывает в жизни», — сказал у него в голове чей-то мудрый голос.
— Лен, а куда они… — повернулся он к Лене.
— Сейчас будут, помолчи.
Еще когда они подбегали к Конькову, Луна ушла за длинное рваное облако, и теперь площадь освещалась только лампой под жестяным конусом, подрагивающим на ветру. Поглядев по сторонам, Саша нашел картину зловещей и прекрасной: стального цвета тела неподвижно сидели вокруг пустого, похожего на арену, пространства; оседала поднятая волками пыль, сверкали глаза и клыки, а крашеные домики людей, облепленные телеантеннами и курятниками, гаражи из ворованной жести и косой Парфенон клуба, перед которым брел в никуда небольшой вождь, — все это казалось даже не декорацией к реальности, сосредоточенной на сорока круглых метрах в середине площади, а пародией на декорацию.
В тишине и неподвижности прошло несколько минут. Потом что-то выдвинулось из проулка на главную улицу, и Саша увидел три волчьих силуэта, трусцой приближающихся к площади. Двое волков были знакомы — Иван Сергеевич и милиционер, а третий — нет. Саша почувствовал его запах, полный затхлого самодовольства и одновременно испуга, и подумал: кто бы это мог быть?
Волки приблизились. Милиционер приотстал и с разгона грудью налетел на третьего, втолкнув его в круг, после чего они с Иваном Сергеевичем уселись на оставленные для них места. Круг замкнулся, и в центре его теперь находился неизвестный.
Вожак тяжело поглядел на милиционера.
— Ты это брось, — провыл он. — Что за манеры? Здесь тебе не сто восьмое отделение.
Милиционер отвернул морду. Саша тем временем внюхался в неизвестного — тот производил впечатление, какое в человеческом эквиваленте мог бы произвести мужчина лет пятидесяти, конически расширяющийся книзу, с наглым и жирным лицом — вместе с тем странно легкий и как бы надутый воздухом.
Неизвестный покосился на пихнувшего его волка и с неуверенной веселостью сказал:
— Так. Стая полковника Лебеденко в полном составе. Ну и чего мы хотим? К чему вся эта патетика? Ночь, круг?
— Мы хотим поговорить с тобой, Николай, — ответил вожак.
— Охотно, — провыл Николай, — это я всегда… К примеру, можно поговорить о моем последнем изобретении. Это игра для тех, у кого развито эстетическое чувство. Я назвал ее игрой в мыльные пузыри. Как ты знаешь, я всегда любил игры, а в последнее время…
Саша вдруг заметил, что следит не за тем, что говорит Николай, а за тем, как — говорил он быстро, каждое следующее слово набегало на предыдущее, и казалось, он использует слова для защиты от чего-то крайне ему не нравящегося — как если бы оно карабкалось вверх по лестнице, а Николай (Саша почему-то представил себе его человеческий вариант), стоя на площадке, швырял бы в это что-то все попадающиеся под руку предметы.
— …Создать круглую и блестящую модель происходящего.
— В чем же заключается игра? — спросил вожак. — Расскажи. Мы тоже любим игры.
— Очень просто. Берется какая-нибудь мысль, и из нее выдувается мыльный пузырь. Показать?
— Покажи.
— К примеру… — Николай задумался на секунду. — К примеру, возьмем самое близкое: вы и я.
— Мы и ты, — повторил вожак.
— Да. Вы сидите вокруг, а я стою в центре. Это то, из чего я буду выдувать пузырь. Итак…
Николай улегся на брюхо и принял расслабленную позу.
— …Итак, вы стоите, а я лежу в центре. Что это значит? Это значит, что некоторые аспекты плывущей мимо меня реальности могут быть проинтерпретированы таким образом, что я, довольно грубо вытащенный из дома, якобы приведен и якобы посажен якобы в круг якобы волков. Возможно, это мне снится, возможно — я сам чей-то сон, но безусловно одно: что-то происходит. Итак, мы срезали верхний пласт, и пузырь начал надуваться. Займемся более нежными фракциями происходящего, и вы увидите, какие восхитительные краски проходят по его утончающимся стенкам. Вы, как это видно по вашим мордам, принесли с собой обычный набор унылых упреков. Мне не надо слушать вас, я знаю, что вы скажете. Мол, я не волк, а свинья — жру на помойке, живу с дворняжкой и так далее. Это, по-вашему, низко. А та полоумная суета, которой вы сами заняты, по-вашему, высока. Но вот сейчас на стенках моего пузыря отражаются совершенно одинаковые серые тела — любого из вас и мое, а еще в них отражается небо — и честное слово, при взгляде оттуда очень похожи будут и волк, и дворняжка, и все, чем они заняты. Вы бежите куда-то, а я лежу среди старых газет на своей помойке — как, в сущности, ничтожна разница! Причем если за начало отсчета принять вашу подвижность — обратите на это внимание! — выйдет, что на самом деле бегу я, а вы топчетесь на месте. Он облизнулся и продолжил:
— Вот пузырь наполовину готов. Далее, выплывает ваша главная претензия ко мне: я нарушаю ваши законы. Обратите внимание — ваши, а не мои. Если уж я и связан законами, то собственного сочинения, и считаю, что это мое право — выбирать, чему и как подчиняться. А вы не в силах разрешить себе это. Но чтобы не выглядеть в собственных глазах идиотами, вы сами себя уверяете, что существование таких, как я, может вам навредить.
— Вот здесь ты попал в самую точку, — заметил вожак.
— Что же, я не отрицаю, что — гипотетически — способен принести вам известные неудобства. Но если это и произойдет, почему бы вам не считать это своеобразным стихийным бедствием? Если бы вас стал лупить град, вы, думаю, вместо того, чтобы обращаться к нему с увещеванием, постарались бы укрыться. А разве я — с абстрактной точки зрения — не явление природы? В самом деле, выходит, что я — в своем, как вы говорите, свинстве — сильнее вас, потому что не я прихожу к вам, а вы ко мне. И это тоже данность. Видите, как растет пузырь. Теперь осталось его додуть. Мне надоели эти ночные визиты. Ладно еще, когда вы ходили по одному — сейчас вы приперлись всей стаей. Но раз уж так вышло, выясним наши отношения раз и навсегда. Чем вы можете реально мне помешать? Ничем. Убить меня вы не в состоянии — сами знаете, почему. Переубедить — тоже, для этого вы, пардон, недостаточно умны. В результате остаются только ваши слова и мои — а на стенках пузыря они равноправны. Только мои изящнее, но это в конце концов дело вкуса. На мой взгляд, моя жизнь — это волшебный танец, а ваша — бессмысленный бег в потемках. Поэтому не лучше ли нам поскорей разбежаться? Вот пузырь отделился и летит. Ну как?
Пока Николай выл, жестикулируя хвостом и левой передней лапой, вожак молча слушал его, глядя в пыль перед собой и изредка кивая. Дослушав, он медленно поднял морду — одновременно из-за облака вышла луна, и Саша увидел, как она блестит на его клыках.
— Ты, Николай, видимо, думаешь, что выступаешь перед бродячими собаками на своей помойке. Лично я не собираюсь спорить с тобой о жизни. Не знаю, кто тебя навещал, — вожак оглянулся на остальных волков, — для меня это новость. Сейчас мы здесь по делу.
— По какому же? Вожак повернулся к кругу.
— У кого письмо?
Из круга вышла молодая волчица — Саша узнал способную Таню из иняза — и уронила из пасти свернутую трубкой бумагу.
Вожак расправил ее лапой, которая на секунду стала человеческой ладонью, и прочел:
— «Уважаемая редакция!»
Николай, мотавший до этого хвостом, опустил его в пыль.
— «Вам пишет один из жителей села Коньково. Село наше недалеко от Москвы, а подробный адрес указан на конверте. Имени своего не называю по причине, которая станет ясна из дальнейшего.
В последнее время в нашей печати появился целый ряд публикаций, рассказывающих о явлениях, ранее огульно отрицавшихся наукой. В связи с этим я хочу сообщить вам об удивительном феномене, который с научной точки зрения значительно интереснее таких привлекающих всеобщее внимание явлений, как рентгеновское зрение или ассирийский массаж. Сообщенное мной может показаться вам шуткой, поэтому сразу оговорюсь, что это не так.
Вы, вероятно, не раз натыкались на слово «вервольф», обозначающее человека, который способен превращаться в волка. Так вот, за этим словом стоит реальное природное явление. Можно сказать, что это одна из древних традиций, чудом уцелевшая до нашего времени. В нашем селе живет Николай Петрович Вахромеев, скромнейший и добрейший человек, который владеет этим древним умением. В чем суть феномена, может, конечно, рассказать только он. Я и сам бы не поверил в возможность подобных вещей, не окажись я случайно свидетелем того, как Николай Петрович, обернувшись волком, спас от стаи диких собак маленькую девочку…»
— Это вранье? Или с корешами договорился? — перебив сам себя, спросил вожак.
Николай не ответил, и вожак стал читать дальше:
— «Я дал Николаю Петровичу слово, что никому не расскажу об увиденном, но нарушаю его, так как считаю, что необходимо изучать это удивительное явление природы. Именно из-за данного мною слова я и не называю своего имени — кроме того, прошу вас не рассказывать о моем письме. Сам Николай Петрович ни разу в жизни не сказал неправды, и я не знаю, как буду глядеть ему в глаза, если он узнает об этом. Признаюсь, что кроме желания содействовать развитию науки, мной движет еще один мотив. Дело в том, что Николай Петрович сейчас находится в бедственном положении — живет на ничтожную пенсию, которую к тому же щедро раздает направо и налево. Хоть сам Николай Петрович не придает никакого значения этой стороне жизни, ценность его познаний для всего, не побоюсь сказать, человечества такова, что ему необходимо обеспечить совсем другие условия существования. Николай Петрович настолько отзывчивый и добрый человек, что, я уверен, не откажется от сотрудничества с учеными и журналистами. Сообщу то немногое, что рассказал мне Николай Петрович во время наших бесед, — в частности, ряд исторических фактов…»
Вожак перевернул бумажку.
— Так, тут ничего интересного… бред… при чем тут Стенька Разин… где же… Ага, вот. «Кстати сказать, обидно, что для определения исконно русского понятия до сих пор используется иностранное слово. Я бы предложил слово «верволк» — русский корень указывает на происхождение феномена, а романоязычная приставка помещает его в общеевропейский культурный контекст».
— Уж по этой-то последней фразе, — заключил вожак, — окончательно ясно, что отзывчивый и добрый Николай Петрович и неизвестный житель Конькова — одна и та же морда.
Помолчали. Вожак отбросил бумагу и посмотрел на Николая.
— Ведь они приедут, — сказал он с грустью. — Они такие идиоты, что могут поверить. Может, они уже были бы здесь, не попади это письмо к Ивану. Но ты и в другие журналы, верно, послал?
Николай хлопнул лапой по пыли.
— Слушайте, к чему эта болтовня? Балаган этот? Я делаю то, что считаю нужным, переубеждать не стоит, а ваше общество, признаться, не очень мне нравится. И давайте на этом простимся.
Он приподнял брюхо с земли, собираясь встать.
— Подожди. Не торопись. Печально, но похоже, твой волшебный танец на помойке на этот раз прервется.
— Что это значит? — надменно подняв уши, спросил Николай.
— А то, что у мыльных пузырей есть свойство лопаться. Мы не можем тебя убить, ты прав, — но посмотри на него.
Вожак показал лапой на Сашу.
— Я его не знаю, — тявкнул Николай. Его глаза опустились на Сашину тень. Саша тоже посмотрел вниз и оторопел: тени всех остальных были человеческими, а его собственная — волчьей.
— Это новичок. Он может занять твое номинальное место в стае. Если победит тебя. Ну как?
Последний вопрос вожака явно передразнивал характерный вой Николая.
— А ты, оказывается, знаток древних законов, — ответил Николай, стараясь рычать иронично.
— Как и ты. Разве не ими ты собираешься приторговывать? Ты не умен. Кто тебе за это заплатит? Газета «Воздушный транспорт»? Большая часть наших знаний людям не нужна.
— Есть еще меньшая часть, — пробормотал Николай, ощупывая круг глазами. Выхода не было — круг сомкнулся еще тесней.
Саша наконец понял смысл происходящего. Ему предстояло драться с этим жирным старым волком.
«Я не слышал никакого зова, — думал он, — я даже не знаю, что это такое! — Он посмотрел по сторонам — все глаза были направлены на него. — Может, сказать всю правду? Вдруг отпустят…»
Он вспомнил свое превращение, потом — как они мчались по ночному лесу и дороге — ничего более прекрасного он не испытывал. «Ты самозванец. У тебя нет ни одного шанса», — сказал чей-то знакомый голос в его голове. А другой голос — вожака — пришел снаружи:
— Саша, это твой шанс.
Он собирался открыть пасть и во всем признаться, но его лапы сами собой шагнули вперед, и он услышал хриплый от волнения лай:
— Я готов.
Он понял, что сам сказал это, и сразу успокоился. Волчья часть его существа приняла на себя управление его действиями, он больше ни в чем не сомневался.
Стая одобрительно зарычала. Николай медленно поднял на Сашу тусклые желтые глаза.
— Только учти, дружок, — это очень маленький шанс, — сказал он. — Совсем маленький. Похоже, что это твоя последняя ночь.
Саша промолчал. Старый волк по-прежнему лежал на земле.
— Тебя ждут, Николай, — мягко сказал вожак.
Тот лениво зевнул — и вдруг взлетел вверх; распрямленные лапы подбросили его в воздух, как пружины, и когда они ударились о землю, ничто не напоминало большую усталую собаку — это был настоящий волк, полный ярости и спокойствия; его шея была напряжена, а глаза глядели сквозь Сашу.
По стае опять прошел одобрительный рык. Волки что-то быстро проскулили друг другу; декан подбежал к вожаку и приблизил пасть к его уху.
— Да, — сказал вожак, — это несомненно так. — Он повернулся к Саше. — Перед дракой положена перебранка. Стая ждет.
Саша нервно зевнул и поглядел на Николая. Тот двинулся вдоль границы круга, не отрывая глаз от чего-то, расположенного за Сашей, — и Саша тоже пошел вдоль живой стены, следя за противником; несколько раз они обошли круг и остановились.
— Вы, Николай Петрович, мне не нравитесь, — выдавил из себя Саша.
— О том, что тебе нравится, щенок, — с готовностью ответил Николай, — будешь рассказывать своему папаше.
Саша почувствовал, что напряжение отпустило его.
— Пожалуй, — сказал он, — я-то во всяком случае знаю, кто он.
Это была, кажется, фраза из старого французского романа — она была бы уместней, возвышайся где-нибудь слева залитый луной Нотр-Дам, но ничего лучше не пришло в голову.
«Проще надо», — подумал он и спросил:
— А что это у вас на хвосте такое мокрое?
— Да это я какому-то Саше мозги вышиб, — рыкнул Николай.
Они опять пошли — по медленно сходящейся спирали, держась друг напротив друга.
— На помойках, наверное, и не такое бывает, — сказал Саша. — Вас там не раздражают запахи?
— Меня твой запах раздражает.
— Потерпите. Осталось совсем чуть-чуть.
Он начинал входить во вкус. Николай остановился. Саша тоже остановился и прищурился — свет фонаря неприятно резал глаза.
— Твое чучело, — проревел Николай, — будет стоять в местной средней школе, и под ним будут принимать в пионеры. А рядом будет глобус.
— Ладно, давайте напоследок на «ты», — сказал Саша. — Ты любишь Есенина, Коля?
Николай ответил неприличной переделкой фамилии покойного поэта.
— Зря ты так. Я у него замечательную строку вспомнил: «Ты скулишь, как сука при луне». Не правда ли, скупыми и емкими…
Николай Петрович прыгнул.
Саша совершенно не представлял себе, что такое драка двух волков-оборотней. Однако каким-то образом все становилось ясно по мере развития событий. Пока он и его противник ходили по кругу и переругивались, он понял, что это делается, во-первых, по традиции — чтобы развлечь стаю; во-вторых, чтобы присмотреться друг к другу и выбрать момент для атаки. Он допустил оплошность — увлекся перепалкой, и противник прыгнул на него, когда его слепил свет фонаря.
Но как только это произошло — как только передние лапы и оскаленная пасть Николая высоко поднялись над землей, время изменилось: продолжение прыжка Саша видел уже замедленно, и пока задние лапы Николая отрывались от земли, он успел обдумать несколько вариантов своих действий, причем его стремительные мысли были совершенно спокойны. Он прыгнул в сторону — сначала дал телу команду, а потом просто наблюдал, как оно пришло в движение, оторвалось от земли и взлетело в плотный темный воздух, пропуская падающую сверху тяжелую серую тушу. Саша понял свое преимущество — он был легче и подвижней. Зато противник был опытней и сильней и наверняка знал какие-нибудь тайные приемы. Надо было опасаться именно этого.
Приземлясь, он увидел, что Николай стоит боком, присев, и поворачивает к нему морду. Ему показалось, что бок Николая открыт, и он прыгнул, целясь раскрытой пастью в пятно более светлой шерсти — откуда-то он уже знал, что так выглядит уязвимое место. Николай тоже прыгнул, но как-то странно — разворачиваясь в воздухе. Саша не понимал, что происходит, — вся задняя часть Николая была открыта, и он словно сам подставлял свою плоть под клыки. Когда он понял, было уже поздно: жесткий, как стальная плеть, хвост хлестнул его по глазам и носу, ослепив и лишив обоняния. Боль была невыносимой — но Саша знал, что серьезного вреда не получил. Опасность была в том, что секундного Сашиного ослепления могло хватить врагу для нового — последнего — прыжка.
Падая на вытянутые лапы и уже считая себя пропавшим, Саша вдруг понял, что враг снова должен стоять к нему боком, и вместо того, чтобы отпрыгнуть в сторону, как подсказывали боль и инстинкт, он рванулся вперед, еще ничего не видя и чувствуя такой же страх, как во время своего первого волчьего прыжка — с поляны во тьму между деревьями. Некоторое время он парил в пустоте, затем его онемевший нос врезался во что-то теплое и податливое; тогда он с силой сомкнул челюсти.
В следующую секунду они уже стояли друг напротив друга, как в начале драки. Время опять разогналось до обычной скорости. Саша помотал мордой, приходя в себя после ужасного удара хвостом. Он ждал нового прыжка своего врага, но вдруг заметил, что передние лапы у того дрожат и язык вывешивается из пасти. Так прошло несколько мгновений, а потом Николай повалился набок и возле его горла стало расплываться темное пятно. Саша сделал было шаг вперед, но поймал взгляд вожака и остановился.
Он смотрел на умирающего волка-оборотня. Тот несколько раз дернулся, затих, и его глаза закрылись. А потом по его телу пошла дрожь, но не такая, как раньше, — Саша ясно чувствовал, что дрожит уже мертвое тело, и это было непонятно и жутко. Контур лежащей фигуры стал размываться, пятно возле горла исчезло, а на истоптанной лапами земле возник толстый человек в трусах и майке — он громко храпел, лежа на животе. Вдруг его храп прервался, он повернулся на бок и сделал движение рукой, будто поправлял подушку. Рука схватила пустоту, и, видимо, от этой неожиданности он проснулся, открыл глаза, поглядел вокруг и опять закрыл. Через секунду он открыл их снова и немедленно завопил на такой пронзительной ноте, что по ней, как подумал Саша, можно было бы настраивать самую душераздирающую из всех милицейских сирен. С этим воплем он вскочил, нелепым движением перепрыгнул через ближайшего волка и помчался вдаль по темной улице, издавая все тот же неменяющийся звук. Наконец он исчез за поворотом, и его стон стих, сменившись какими-то осмысленными выкриками, — слов, однако, нельзя было разобрать.
Стая дико хохотала. Саша поглядел на свою тень и вместо вытянутого силуэта морды увидел полукруг затылка с торчащим клоком волос и два выступа ушей — своих, человеческих. Подняв глаза, он заметил, что вожак смотрит прямо на него.
— Ты понял? — спросил он.
— Мне кажется, да, — сказал Саша. — Он будет что-нибудь помнить?
— Нет. Остаток жизни он будет считать, что ему приснился кошмар, — ответил вожак и повернулся к остальным.
— Уходим.
Обратная дорога не запомнилась Саше. Возвращались другим путем, напрямик через лес — так было короче, но времени это заняло столько же, потому что бежать приходилось медленнее, чем по шоссе.
На поляне догорали последние угли костра. Женщина в бусах дремала за стеклом машины — когда появились волки, она приоткрыла глаза, помахала рукой и улыбнулась. Из машины, правда, не вылезла.
Саша почувствовал печаль. Ему было немного жаль старого волка, которого он загрыз в люди, и, вспоминая перебранку, а особенно перемену, которая произошла с Николаем за минуту до драки, он испытывал к нему почти симпатию. Поэтому он старался не думать о случившемся — и через некоторое время действительно забыл о нем. Нос еще ныл от удара. Он лег на траву.
Некоторое время он лежал с закрытыми глазами. Потом ощутил сгустившуюся тишину и поднял морду — со всех сторон на него молча глядели волки.
Казалось, они чего-то ждут. «Сказать?» — подумал Саша. И решился.
Поднявшись на лапы, он пошел по кругу, как в Конькове, только теперь перед ним не было противника. Единственное, что его сопровождало, было его тенью — человеческой тенью, как у всех в стае.
— Я хочу признаться, — тихо провыл он. — Я обманул вас. Стая молчала.
— Я не слышал никакого зова. Я даже не знаю, что это такое. Я оказался здесь совершенно случайно.
Он закрыл глаза и стал ждать ответа. Секунду стояла тишина, а затем раздался взрыв хриплого лающего хохота и воя. Он открыл глаза.
— Что такое?
Новая вспышка хохота. Наконец волки успокоились, и заговорил вожак:
— Послушай. Вспомни, как ты здесь оказался.
— Заблудился в лесу.
— Я не про это. Вспомни, почему ты приехал в Коньково.
— Просто так. Я люблю за город ездить.
— Но почему именно сюда?
— Почему? Сейчас… А, я увидел одну фотографию, которая мне понравилась, — красивый вид. А в подписи было сказано, что это подмосковная деревня Коньково. Только здесь все оказалось по-другому…
— А где ты увидел эту фотографию?
— В детской энциклопедии. На этот раз смеялись долго.
— Ну, — спросил вожак, — а зачем ты туда полез?
— Я… — Саша вспомнил, и это было как вспышка света в черепе, — я искал фотографию волка! Ну да, я проснулся, и мне почему-то захотелось увидеть фотографию волка! Я искал ее по всем книгам. Что-то я думал… А потом забыл… Так это и был?..
— Именно, — ответил вожак.
Саша посмотрел на Лену, которая спрятала морду в лапы и тряслась от смеха.
— Так почему вы мне сразу не сказали?
— А зачем? — отвечал старый волк, сохраняя спокойный вид среди общего веселья. — Услышать зов — это не главное. Это не сделает тебя оборотнем. Знаешь, когда ты стал им по-настоящему?
— Когда?
— Когда ты согласился драться с Николаем, считая, что не имеешь надежды на победу. Тогда и изменилась твоя тень.
— Да. Да. Это так, — пролаяли несколько голосов.
Саша помолчал. Его мысли беспорядочно блуждали. Потом он поднял морду и спросил:
— А что это за эликсир, который мы пили?
Вокруг захохотали так, что женщина, сидящая в машине, опустила стекло и высунулась. Вожак еле сдерживался — его морду перекосила кривая ухмылка.
— Ему понравилось, — сказал он, — дайте ему еще эликсира!
И тоже захохотал. Флакон упал к Сашиным лапам — напрягая зрение, он прочел: «Лесная радость. Эликсир для зубов. Цена 92 копейки».
— Шутка, — сказал вожак. — Но если б ты знал, какой у тебя был вид, когда ты его пил… Запомни: волк-оборотень превращается в человека и обратно по желанию, в любое время и в любом месте.
— А коровы? — вспомнил Саша, уже не обращая внимания на новую вспышку веселья. — Говорили, мы бежим в Коньково, чтобы…
Он не договорил и махнул лапой.
Смеясь, волки расходились по поляне и ложились в высокую густую траву. Старый волк по-прежнему стоял напротив Саши.
— Скажу тебе еще вот что, — проговорил он, — ты должен помнить, что только оборотни — реальные люди. Если ты посмотришь на свою тень, ты увидишь, что она человеческая. А если ты своими волчьими глазами посмотришь на тени людей, ты увидишь тени свиней, петухов, жаб…
— Еще бывают пауки, мухи и летучие мыши, — сказал Иван Сергеевич.
— Верно. А еще — обезьяны, кролики и козлы. А еще…
— Не пугай мальчика, — рыкнул Иван Сергеевич. — Ведь придумываешь на ходу. Саша, не слушай.
Оба старых волка захохотали, глядя друг на друга.
— Даже если я и придумываю на ходу, — заметил вожак, — это тем не менее правда.
Он повернулся, чтобы уйти, но остановился, заметив Сашин взгляд.
— Ты хочешь что-то спросить?
— Кто такие верволки на самом деле?
Вожак внимательно посмотрел ему в глаза и чуть оскалился.
— А почему не начать с вопроса, кто такие на самом деле люди?
Оставшись один, Саша лег в траву, чтобы подумать. Подошла Лена и устроилась рядом.
— Сейчас Луна достигнет зенита, — сказала она. Саша поднял глаза.
— Разве это зенит?
— Это особенный зенит, на Луну надо не смотреть, а слушать. Попробуй.
Он насторожил уши. Сначала был слышен только качавший листву ветер и треск ночных насекомых, а потом добавилось что-то похожее на далекое пение или музыку; так бывает, когда неясно, что звучит — инструмент или голос. Поймав этот звук, Саша отделил его от остальных, и звук стал расти, а через некоторое время его можно было слушать без напряжения. Мелодия, казалось, исходила прямо от Луны и была похожа на музыку, игравшую на поляне до превращения. Только тоща она казалась угрожающей и мрачной, а сейчас, наоборот, успокаивала. Она была чудесной, но в ней были какие-то досадные провалы, какие-то пустоты. Он вдруг понял, что может заполнить их своим голосом, и завыл — сначала тихо, а потом громче, подняв вверх пасть и забыв про все остальное, — тогда, слившись с его воем, мелодия стала совершенной.
Рядом с его голосом появились другие, они были совсем разными, но ничуть не мешали друг другу. Как будто несколько растений вились вокруг общего стержня или нити, и все были непохожи.
Скоро выла уже вся стая. Саша понимал и чувства, наполняющие каждый голос, и смысл всего вместе. Каждый голос выл о своем: Лены — о чем-то легком, похожем на удары капель дождя о звонкую жесть крыши; низкий бас вожака — о неизмеримых темных безднах, над которыми он взвился в прыжке; дисканты волчат — о радости из-за того, что они живут, что утром бывает утро, а вечером — вечер, и еще о какой-то непонятной печали, похожей на радость. Вслушиваясь, Саша первый раз в жизни ощутил, как непостижим и прекрасен мир, в центре которого он лежит на брюхе.
Музыка становилась все громче, Луна наплывала на глаза, закрывая небо, и в какой-то момент обрушилась на Сашу, или это он оторвался от земли и упал на лунную поверхность.
Придя в себя, он ощутил слабые толчки и услышал гул мотора. Он открыл глаза и обнаружил, что полулежит на заднем сиденье машины, под ногами у него рюкзак, рядом спит Лена, положив голову ему на плечо, а впереди за рулем сидит вожак стаи, полковник танковых войск Лебеденко. Саша собрался что-то сказать, но полковник, отраженный зеркальцем над рулем, прижал к губам палец; тогда Саша повернулся к окну.
Машины длинной цепью мчались по шоссе. Было раннее утро, солнце только что появилось, и асфаль�
В палате было почти светло из‑за горевшего за окном фонаря. Свет был какой-то синий и неживой, и если бы не Луна, которую можно было увидеть, сильно наклонившись с кровати вправо, было бы совсем жутко. Лунный свет разбавлял мертвенное сияние, конусом падавшее с высокого шеста, делал его таинственнее и мягче. Но когда я свешивался вправо, две ножки кровати на секунду повисали в воздухе и в следующий момент громко ударялись в пол, и звук выходил мрачный, странным образом дополняющий синюю полосу света между двумя рядами кроватей. – Кончай там, – сказал Костыль и показал мне синеватый кулак, – не слышно. Я стал слушать. – Про мертвый город знаете? – спросил Толстой. Все молчали. – Ну вот. Уехал один мужик в командировку на два месяца. Приезжает домой и вдруг видит, что все люди вокруг мертвые. – Чего, прямо лежат на улицах? – Нет, – сказал Толстой, – они на работу ходят, разговаривают, в очереди стоят. Всё как раньше. Только он видит, что они все на самом деле мертвые. – А как он понял, что они мертвые? – Откуда я знаю, – ответил Толстой, – это же не я понял, а он. Как-то понял. Короче, он решил сделать вид, что ничего не замечает, и поехал к себе домой. У него жена была. Увидел он ее и понял, что она тоже мертвая. А он ее очень сильно любил. Ну и стал он ее расспрашивать, что случилось, пока его не было. А она ему отвечает, что ничего не случилось. И даже не понимает, чего он хочет. Тогда он решил ей все рассказать и говорит: «Ты знаешь, что ты мертвая?» А жена ему отвечает: «Знаю». Он спрашивает: «А ты знаешь, что в этом городе все мертвые?» Она говорит: «Знаю. А сам-то ты знаешь, почему вокруг одни мертвецы?» Он говорит: «Нет». Она опять спрашивает: «А знаешь, почему я мертвая?» Он опять говорит: «Нет». Она тогда спрашивает: «Сказать?» Мужик испугался, но все-таки говорит: «Скажи». И она ему говорит: «Да потому что ты сам мертвец».