Ацтек бесплатное чтение
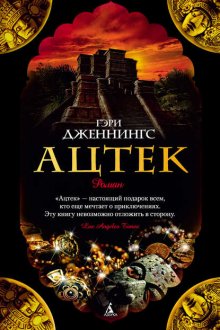
Посвящается Цьянье
Ты упорно твердишь, что не вечен я,
Как цветы, что взлелеяны мною нежно,
Что навеки сгинет слава моя
И имя забудется безнадежно.
Но мой сад цвести еще долго будет,
И песни мои будут помнить люди.
Из стихотворения, написанного Уишкоцином, принцем Тескоко, около 1484 г.
ИН КЕМ-АНАУАК ЙОЙОТЛИ
1 – Великая Пирамида
2 – Храм Тлалока
3 – Храм Уицилопочтли
4 – Бывший храм Уицилопочтли, а позднее (после завершения строительства Великой Пирамиды в 1487 г.) – святилище Сиуакоатль, храм всех второстепенных богов, а также богов, позаимствованных у других народов
5 – Камень Битв (установлен Тисоком)
6 – Цомпантли, или Полка Черепов
7 – Площадка для церемониальной игры тлачтли
8 – Камень Солнца, установленный на жертвеннике
9 – Храм Тескатлипока
10 – Змеиная Стена
11 – Дом Песнопений
12 – Зверинец
13 – Дворец Ашаякатля (впоследствии – резиденция Кортеса)
14 – Дворец Ауицотля, разрушенный наводнением 1499 г.
15 – Дворец Мотекусомы Первого
16 – Дворец Мотекусомы Второго
17 – Храм Шипе-Тотека
18 – Орлиный храм
КОРОЛЕВСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ВАЛЬЯДОЛИДЕ, КАСТИЛИЯ
Его Преосвященству, легату и капеллану, святейшему отцу дону Хуану де Сумаррага, недавно назначенному епископом Мексики, что в Новой Испании, шлем Мы Наше высочайшее повеление.
Дабы лучше ознакомиться с жизнью пребывающей в Нашем владении Новой Испании, с ее укладом, богатствами, народом, там обитающим, а также с верованиями, обрядами и церемониями, бытовавшими прежде, Мы выражаем желание получить наиболее полные сведения относительно всего касающегося индейцев, живших на той земле до прихода наших освободительных сил, до прибытия испанских послов, проповедников и поселенцев.
С этой целью Мы приказываем Вам расспрашивать индейцев-старожилов (взяв с них предварительно клятву рассказывать лишь непреложную истину) об истории их страны, правителях, традициях, обычаях et cetera[1]. Помимо записей рассказов живых свидетелей соблаговолите также распорядиться о доставке вам свитков, дощечек для письма и любых других письменных свидетельств прошлого, каковые могут подкрепить показания очевидцев. Во исполнение сего указа Вам предписывается повелеть своим подчиненным духовным лицам, елико возможно, искать таковые свидетельства и всячески расспрашивать индейцев об их вероятном местонахождении.
Поскольку делу сему придается немалое значение, как необходимому для исполнения обязанностей Нашего Королевского Величества, приказываем Вам приступить к осуществлению вышеозначенных поисков и исследований без промедления. Напротив, Вам надлежит действовать со всей возможной быстротой и усердием, дабы пред Нашими очами в кратчайшие сроки предстал правдивый и подробный доклад.
(ессе signum) CAROLUS R. I.
Rex et Imperator Hispaniae Carolus Primus Sacri Romani Imperi Carolus Quintus[2]
IHS S.C.C.M.[3]
Его Священному Императорскому Католическому Величеству императору дону Карлосу, нашему королю и повелителю
Да пребудут мир, благодать и благоволение Господа Нашего Иисуса Христа с Его Величеством доном Карлосом, по Божественной милости вечно августейшим императором, и с Его высокочтимой королевой-матерью доньей Хуаной, Божьей милостию государями нашими и повелителями правителями Кастилии, Леона, Арагона, обеих Сицилии, Иерусалима, Наварры, Гранады, Толедо, Валенсии, Галисии, Майорки, Севильи, Сардинии, Кордовы, Корсики, Мурсии, Хаэна, Карибов, Алжира, Гибралтара, Канарских островов, Индий и островов и материков Моря-океана, а также графств Фландрии, Тироля и прочая, и прочая...
Счастливейшему и высокочтимому государю: из города Теночтитлан-Мехико, столицы Его владения, именуемого Новой Испанией, на двенадцатый день после Успения Девы Марии в год после Рождества Христова одна тысяча пятьсот двадцать девятый, шлем наш нижайший поклон.
Восемнадцать месяцев тому назад мы, будучи нижайшими из верноподданнейших Ваших, во исполнение повеления Вашего Величества приняли на себя три должности, как то: первого епископа Мексики, протектора индейцев и апостолического инквизитора, каковые три сана воплотились в нашей ничтожной персоне. Прошло всего девять месяцев со времени нашего прибытия в Новый Свет, где ожидало нас много трудов, требовавших пыла и рвения.
В соответствии с указом о нашем назначении мы ревностно стремились «наставлять индейцев в их долге веровать и чтить Истинного Бога Единого, иже пребывает на Небесах, каковой дарует жизнь и дыхание всем тварям земным», равно как и «внушать индейцам почтение и верность Его Непобедимому Католическому Величеству императору дону Карлосу, коего Божественное Провидение определило господствовать и повелевать всем миром».
Должен признаться Вашему Величеству, что наставничество сие оказалось делом далеко не легким и отнюдь не скорым. Среди наших соотечественников испанцев, поселившихся здесь задолго до нашего прибытия, бытует мнение, что индейцы способны слышать только через свои ягодицы. Мы, однако, всенепременно памятуем о том, что сии несчастные, обделенные духовно индейцы (или ацтеки, как именует теперь большинство наших соотечественников обитающий в здешних краях народ), стоят ниже всего прочего человечества, а следовательно, в силу своей ничтожности заслуживают терпимого, снисходительного отношения.
Кроме наставления индейцев на путь истинный (внушения им, что есть только один Бог на Небесах и один Император на Земле, чьими подданными они все стали и кому должны теперь верно служить) и помимо рассмотрения многих других духовных и мирских дел, мы стремились по мере сил выполнить адресованную нам личную просьбу Вашего Величества о скорейшей подготовке, елико возможно, подробного отчета обо всем касающемся этой terra paenaincognita[4], равно как и об образе жизни обитателей сей несчастной, погруженной во мрак невежества земли.
В личном послании Вашего Наивысочайшего Величества особо указано, что нам при написании данной хроники долженствует руководствоваться показаниями индейцев-старожилов. Сие обусловило необходимость предпринять нечто вроде особого разыскания, затруднительного ввиду того факта, что после полного разрушения города, произведенного генерал-капитаном доном Эрнаном Кортесом, названных старожилов, способных поведать нам изустно достоверную историю, осталось прискорбно мало. Даже на восстановлении города в настоящее время работают лишь женщины, дети да вконец выжившие из ума старики, каковые были неспособны сражаться во время осады. К ним можно прибавить и неотесанных крестьян, согнанных с окрестных земель, людей крайне невежественных и несведущих.
Тем не менее нам удалось найти одного старого (лет шестидесяти трех) индейца, который смог поведать нам многое из интересующего Ваше Величество. Сей, как он сам себя именует, мешикатль[5] (этот человек не желает, чтобы его называли ацтеком или индейцем) обладает весьма развитым (для представителя своей расы) умом и умеет четко выражать свои мысли, ибо в прежние времена получил некоторое, если таковой термин применим к туземцам, образование, служил писцом и сведущ в той языческой тарабарщине, которая заменяла этим дикарям грамоту.
За свою жизнь он помимо профессии писца сменил множество занятий: был воином, придворным, странствующим купцом и даже своего рода эмиссаром, коего посылали их последние языческие правители к командирам отрядов наших первых, прибывших из Кастилии освободителей. Выполняя сии посольские обязанности, он научился вполне сносно говорить на нашем языке. Однако, хотя сей туземец и говорит на кастильском наречии вразумительно, мы, дабы избежать малейшей неточности, общались с ним при участии толмача, испанского юноши, имеющего значительные познания в науатлъ (так ацтеки называют свой гортанный, состоящий из длинных и неблагозвучных слов язык). В помещении, где осуществлялись допросы, при проведении оных присутствовали также четверо наших писцов. Эти благочестивые братья весьма преуспели в искусстве скорописи, известном как тиронское письмо и используемом в Риме для немедленной записи каждого высказывания Святого Отца, равно как и для составления подробных отчетов о ходе многолюдных собраний.
Мы велели ацтеку поведать нам без утайки историю своей жизни, и пока он говорил, все четыре брата, не отрывая перьев от бумаги, записывали его речь тиронской скорописью, не упуская ничего из того словесного водопада, коим разразился индеец. Хотя слова его, как Вы сами увидите, и бывали порой отвратительно дерзкими и язвительными.
Начать с того, что, едва открыв рот, названный ацтек проявил полнейшее неуважение к нашей персоне, сану и полномочиям, полученным нами от Вашего Высокочтимого Величества, что, по нашему разумению, является скрытым проявлением непочтительности и по отношению к нашему суверену.
Сразу за этим вступлением следуют страницы, содержащие подлинный рассказ индейца. Запечатанный как предназначающийся лишь для очей Вашего Величества пакет с рукописью покинет Вилъя-Рика-де-ла-Вера-Крус послезавтра, будучи вверен попечению капитана Санчеса Сантовенья, командира каравеллы «Глория».
Поелику мудрость, прозорливость и рассудительность Вашего Императорского Величества прославлены повсеместно, мы понимаем, что, предваряя заключенные в конверт страницы сим caveant[6], мы тем самым рискуем навлечь на себя монаршее неудовольствие, однако полагаем, что нас обязывает к тому возложенный на нас епископский и апостолический сан. Мы всецело поддерживаем пожелание Вашего Величества получить правдивое и всестороннее донесение обо всем, что есть стоящего в этой стране, однако все прочие, кроме нас самих, будут убеждать Ваше Величество в том, что индейцы есть жалкие, презренные существа, каковые едва ли могут быть причислены к роду человеческому. Чего можно ждать от народа, не обладающего настоящей письменностью, народа, не имевшего письменных законов, но жившего в соответствии с варварскими обычаями и традициями, народа, прозябавшего во тьме язычества, в дикости, невоздержанности, во власти плотских вожделений и звериной жестокости? Ведь еще недавно эти варвары подвергали мучениям и убивали своих несчастных соотечественников во славу своей беззаконной, дьявольской «религии».
Мы не можем поверить в то, что от существа, подобного вышеописанному нами обуянному гордыней ацтеку, равно как и от иных его соплеменников, как бы ни оказались оные бойки на язык, можно получить отчет, заслуживающий того, чтобы представить таковой пред очи императора всех католиков. В равной мере нам трудно поверить и в то, что Его Священное Величество император дон Карлос по прочтении записи сего непристойного, греховного, безбожного, омерзительного и дерзкого повествования вышеупомянутого самонадеянного представителя расы язычников, место коим в навозной куче, не будет повергнут в гнев и отвращение.
Как уже было указано, ниже прилагается первая часть хроники, записанной со слов названного индейца. Мы страстно уповаем на то, что за прочтением ее последует повеление Вашего Величества, в соответствии с коим сей опус окажется не только первым, но и последним.
Да хранит Господь, Наш Владыка, драгоценную жизнь, монаршию персону и католическую державу Вашего Величества бессчетные годы, и да преумножит Он и прирастит Ваши владения и земли настолько, насколько возжелает того Ваше королевское сердце.
Подписал собственноручно Вашего Священного Императорского и Католического Величества преданный слуга и смиренный клирик
fra[7] Хуан де Сумаррага,
Епископ Мексики, Апостолический инквизитор и Протектор индейцев
INCIPIT[8]
Далее следует изустный рассказ-хроника пожилого индейца из племени, обычно именуемого ацтеками (чье повествование обращено было к его преосвященству епископу Мексики Хуану де Сумаррага), записанный verbatim ab origine[9]
братом Гаспаром де Гайана,
братом Торибио Вега де Аранхес,
братом Херонимо Муньос
и братом Доминго Виллегас-и-Ибарра,
interpres[10] Алонсо де Молина.
DIXIT[11]
Мой господин!
Прошу прощения, мой господин, за то, что не ведаю, как именно следует обращаться к столь важной особе, но думаю, что подобное обращение вас не обидит. Поскольку вы человек, а ни один из встречавшихся мне в жизни людей не возражал против того, чтобы его так именовали. Итак, мой господин...
Ваше преосвященство, вот оно что?
Аййо, это еще более славный титул, подобающий тому, кого мы, жители этих земель, назвали бы ауакуафуитль, что обозначает могучее тенистое дерево. Это высокое звание, и для такого человека, как я, предстать пред столь могущественным господином и быть выслушанным им – большая честь.
Нет-нет, ваше преосвященство, не сомневайтесь в моих словах, даже если вам покажется, что я вам льщу. Весь город толкует о могуществе вашего преосвященства, каковому служат многие люди, тогда как я есть не более чем вытертый половик, потрепанный обносок того, чем был прежде. Ваше преосвященство присутствует здесь во всем великолепии своего высокого сана, ну а я – это всего-навсего я.
Однако, как мне объяснили, ваше преосвященство желает узнать, кем я был ранее. Оказывается, вашему преосвященству угодно выслушать рассказ о том, каковы были мой народ и моя земля в давно минувшие годы, за многие вязанки лет до того, как королю вашего преосвященства с проповедниками и арбалетчиками заблагорассудилось вызволить нас из ярма варварства.
Это и вправду так? О, значит, ваше преосвященство ставит предо мной непростую задачу. Способен ли я при своем скудном уме и за то малое время, которое боги... то есть, конечно, Господь Вседержитель отведет мне на завершение земной жизни хотя бы в самых общих чертах описать наш огромный мир со всем множеством народов и многообразием событий, происходивших за вязанки вязанок лет.
Пусть ваше преосвященство представит себе дерево, отбрасывающее великую тень. Пусть предстанет оно пред вашим мысленным взором – с могучим стволом и раскидистой кроной, с огромными ветвями и птицами, на них гнездящимися, с пышной листвой и играющими на ней солнечными бликами. Пусть вы почувствуете прохладу, которую дарует это дерево укрывшемуся под его сенью жилищу. Жилищу, где обитали мальчик и девочка, моя сестра и я.
Под силу ли вашему преосвященству, при всем его великом могуществе, сжать это могучее древо до размеров черенка, подобного тому, какой отец вашего преосвященства некогда вонзил между ног вашей матери?
Йа, аййя, я вызвал неудовольствие вашего преосвященства и испугал его писцов. Пусть ваше преосвященство простит меня. Мне следовало догадаться, что совокупления белых мужчин со своими белыми женщинами, должно быть, осуществляются совершенно иначе, а не так, как это происходит, когда они силой берут наших женщин, чему я не раз был свидетелем. А уж христианское совокупление, завершившееся зачатием вашего преосвященства, конечно же, было особенно благочестивым.
Да-да, ваше преосвященство, уже прекратил. Больше не буду. Но вашему преосвященству должны быть понятны мои затруднения, ибо слишком велика пропасть между нашим былым ничтожеством и вашим нынешним превосходством. Быть может, достаточно будет лишь краткого изложения, после чего вашему преосвященству уже не понадобится утруждать свой слух далее? Взгляните, ваше преосвященство, на своих писцов, каковые на нашем языке называются «знающими мир». Я и сам был писцом, так что очень хорошо помню, насколько трудно с высокой точностью и достоверностью изложить на оленьей коже, выделанных листьях или коре множество разных дат и событий. Случалось, что по прошествии всего нескольких мгновений, когда еще не успевали высохнуть краски, мне самому было нелегко прочесть вслух без запинки то, что я только что собственноручно запечатлел.
Хотя, дожидаясь прибытия вашего преосвященства, я переговорил с вашими «знающими мир» и пришел в великое изумление. Каждый из этих почтенных писцов способен сотворить настоящее чудо: записать сказанное и прочесть его, причем не просто излагая суть, но воспроизводя каждое прозвучавшее слово именно в том порядке, в каком эти слова прозвучали, со всеми интонациями, паузами и ударениями. Я было счел это проявлением особого дара – у нас обладавших такими способностями памяти и звукоподражания именовали «запоминателями». Однако один из ваших писцов пояснил, что все сказанное мною сохранилось навсегда в виде значков, нанесенных им на бумагу. Признаюсь, я всегда гордился, ваше преосвященство, что по мере своего скудного ума научился говорить на вашем языке, но ваше умение запечатлевать в знаках не только события и числа, но и все оттенки мысли выше моего убогого понимания.
Мы писали иначе – записывали не звуки, а понятия, а чтобы наши картинки говорили, требовались краски. Краски, которые поют или рыдают. Их было много: красные, охристо-золотистые, зеленые, бирюзовые, того цвета, что именуется шоколадным, гиацинтовые, серые, как глина, и черные, словно полночь. Но даже при всем своем многообразии эти краски не позволяли описать и выразить полностью смысл каждого слова, не говоря уж об оттенках и искусных поворотах фраз. А вот любой из ваших «знающих мир» способен записать каждый слог, каждый звук, причем может сделать это одним лишь пером, не прибегая к множеству камышинок и кисточек. И, что самое поразительное, писцы при этом используют лишь одну-единственную краску, тот ржаво-черный отвар, который они называют чернилами.
Уже одно это, ваше преосвященство, весьма наглядно показывает разницу между нами, индейцами, и вами, белыми людьми, разницу между нашим невежеством и вашим знанием, между нашими старыми временами и вашим новым временем. Согласится ли ваше преосвященство с тем, что простой росчерк пера есть доказательство того, что ваш народ имеет право властвовать, а наш обречен повиноваться? Ведь, разумеется, ваше преосвященство требует от нас, индейцев, безусловного подтверждения того, что ваше торжество и ваши завоевания были предопределены, причем причиной тому стали не ваше оружие или ваше хитроумие, даже не воля вашего Всемогущего Творца, но изначальное внутреннее превосходство высших существ над низшими, каковыми мы и являемся. Поэтому, полагаю, ваше преосвященство не имеет более нужды как в моих словах, так и в моем присутствии.
Моя жена стара, немощна и сейчас оставлена без ухода. Не стану притворяться, будто она глубоко скорбит по поводу моего отсутствия, но ее это крайне раздражает. А поскольку она и без того очень вспыльчива, лишнее раздражение не пойдет ей на пользу. И мне тоже. А потому я приношу вашему преосвященству свою нижайшую благодарность за столь высокую честь, оказанную вашим преосвященством несчастному старому дикарю, и смиренно прошу у вашего преосвященства дозволения удалиться. Чего я не смею сделать до тех пор, пока не получу на то благосклонного согласия вашего преосвященства.
И снова приношу свои нижайшие извинения. Я и не заметил, что за столь непродолжительное время повторил слова «ваше преосвященство» более тридцати раз, и уж конечно и в мыслях не имел произносить их каким-то особым тоном, хотя, разумеется, не дерзну оспаривать скрупулезный отчет ваших писцов. С этого момента я приложу все усилия, чтобы умерить свое подобострастное восхищение вашим, сеньор епископ, великолепием. Надеюсь, и голос мой будет звучать как должно.
Да-да, коль скоро вы приказываете, я продолжаю.
Но если подумать – кто я таков, чтобы вещать? И что мне вещать, дабы ваши уши внимали моим словам?
Моя жизнь в отличие от жизней большинства моих соплеменников была долгой. Я не умер во младенчестве, как умирают многие из наших детей. Я не погиб в бою и не был убит на жертвенном камне, каковую смерть считали у нас почетной и славной. Я не загубил себя пьянством, не подвергся нападению дикого зверя, не был призван богами во дни бедствий. Меня миновали страшные недуги, занесенные в наш край на испанских кораблях и косившие моих соплеменников тысячами. Я пережил даже наших богов, которые хотя и остались бессмертными, но перестали существовать. Я прожил более полной вязанки лет и много чего увидел, сделал, узнал и запомнил, это правда. Но правда и другое: ни одному человеку не дано постигнуть во всей полноте даже то, что происходило во дни его жизни. Страна же наша несравненно древнее меня, и история ее началась задолго до моей собственной. Задолго до того, как началась та единственная жизнь, которую я могу восстановить в памяти, дабы господа писцы затем запечатлели ее в ржавой темноте ваших чернил...
«То было празднество копий, истинное празднество копий». Помню, именно так обычно начинал рассказы о сражениях старый сказитель с моего родного острова Шалтокан. Нас, слушателей, подобный зачин завораживал мгновенно, и мы внимали сказителю, позабыв обо всем на свете, хотя многие из его рассказов, как я теперь понимаю, были посвящены не великим сражениям, а всего лишь мелким стычкам племен друг с другом. Но, видно, не столько важно само происходящее, сколько мастерство, с которым оно описывается.
Тот мудрый сказитель умел найти самое важное и увлекательное событие и, рассказав о нем, полностью завладеть вниманием слушателей, после чего начинал плести нить повествования вперед и назад во времени. В отличие от него я, не обладающий таким даром, способен лишь начать с самого начала и двигаться из прошлого к будущему, сквозь то время, в котором жил. Однако все, что я расскажу вам о своей жизни, происходило в действительности, и ни одного слова лжи мною произнесено не будет. Для подтверждения этого я готов целовать землю, или, говоря по-вашему, «торжественно клянусь».
Это было в те далекие времена, которые мы называем «ок йе нечка», когда никто, кроме богов, не передвигался по нашей земле быстрее, чем гонцы, и ничто, за исключением гласа богов, не звучало громче, чем восклицания глашатаев. В тот день, именуемый Седьмым Цветком, в месяц Божественного Вознесения года Тринадцатого Кролика, как раз и раздался глас бога дождя Тлалока: мощный, раскатистый гром. А надо вам сказать, что было это не совсем обычно, ибо сезон дождей уже подходил к концу.
Тлалокуэ, духи, сопутствующие шествию по небесам бога Тлалока, наносили свои удары огненными трезубцами молний, с грохотом раскалывая тучи и обрушивая на землю яростный ливень.
Уже ближе к вечеру, под вой ветра и громыхание бури, в маленькой хижине на острове Шалтокан, я покинул лоно матери и вступил на путь, ведущий к смерти.
Чтобы сделать свою хронику понятнее для вас – вы видите, я постарался и выучил ваш календарь, – я подсчитал, что мой день рождения приходился бы на двадцатый день месяца, который вы называете сентябрем, в год, имеющий по вашему обычаю не имя, а всего лишь номер – одна тысяча четыреста шестьдесят шестой. То было во времена правителя по имени Мотекусома[12] Илуикамина, что означает Гневный Владыка, Поражающий Стрелами Небеса. Он был нашим юй-тлатоани, или Чтимым Глашатаем; так титуловали у нас того, кого вы назвали бы королем или императором. Однако в те далекие дни имя Мотекусомы, равно как и кого-либо другого, ничего для меня не значило.
Едва появившись на свет, я, еще помнивший тепло материнского чрева, несомненно, был тут же погружен в чан с водой, такой холодной, что перехватывало дыхание. Разумеется, я этого не помню, но впоследствии сам не раз становился свидетелем подобного обряда, причем ни одна повивальная бабка не потрудилась объяснить мне, в чем его смысл. Возможно, данный обычай объясняется верой в то, что если новорожденный переживет столь ужасное потрясение, то он сможет впоследствии преодолеть и все те недуги и напасти, которые неминуемо и не один раз поразят его прежде, чем он вырастет. Надо думать, что мне это купание не понравилось, и, пока повитуха пеленала меня, мать выпутывала руки из узлов привязанной к потолку веревки, в которую вцепилась, когда встала на колени, чтобы извергнуть сына на пол, а отец осторожно наматывал пуповину на маленький, вырезанный им собственноручно деревянный военный щит, я орал на весь остров.
Согласно обычаю мой отец должен был вручить этот талисман первому встречному воину, дабы тот оставил его на первом же поле боя, куда заведет его судьба. Это означало, что мой тонали (жребий, рок, участь, судьба – как ни назови) состоит в том, чтобы стать воином. Для человека моего происхождения сей удел считался весьма завидным, а смерть в бою, по понятиям нашего народа, была самой достойной. Однако впоследствии, хотя мой тонали частенько увлекал меня на рискованную стезю и мне пришлось участвовать не в одном бою, сам я никогда не рвался в схватку и уж тем паче не стремился встретить доблестную смерть раньше отведенного мне срока.
Пожалуй, тут следует добавить, что в соответствии с обычаем, имевшим место в отношении младенцев женского пола, пуповина Девятой Тростинки, моей сестры, родившейся примерно за два года до меня, была помещена под очагом в той самой каморке, где мы оба появились на свет. Ее пуповину обмотали вокруг крохотного глиняного веретена, из чего следовало, что девочке предназначалась самая заурядная участь – стать работящей хозяйкой и хлопотать возле домашнего очага.
Забегая вперед, скажу: этого не произошло. Тонали Девятой Тростинки оказался столь же своенравным, как и мой.
После того как повитуха окунула меня в купель и запеленала, она приняла весьма серьезный вид и обратилась ко мне торжественным тоном, хотя я, разумеется, не только не понимал ее слов, но и заглушал их своим надсадным ревом. Однако этого требовал обряд. Потом, уже повзрослев, я не раз слышал, как другие повивальные бабки обращались к другим новорожденным младенцам мужского пола с теми же самыми словами. То был один из тех древних ритуалов, которые свято соблюдались нашим народом с незапамятных времен, ибо считалось, что таким образом сохраняется связь поколений, поскольку при этом новорожденным передается Мудрость давно умерших предков.
Обращаясь ко мне, повитуха называла меня Седьмым Цветком, ибо у нас день рождения становится для новорожденного именем, каковое ему и предстоит носить до тех пор, пока он не выйдет из опасной поры младенчества, вплоть до достижения семи лет. И лишь когда становится ясно, что ребенку суждено вырасти и возмужать, он получает настоящее, взрослое имя.
Вот что сказала мне в тот день повитуха:
– Седьмой Цветок, дитя возлюбленное и любовно мною из лона матери принятое, внемли слову, издревле завещанному нам богами. Ведай, что как отпрыск отца своего и матери своей ты послан в мир, чтобы быть воином и слугой богов. Но то место, где ты только что был рожден, не есть твой истинный дом.
Ты обещан полю битвы, – возвестила она, – и первейший твой долг состоит в том, чтобы поить солнце кровью врагов и питать землю трупами недругов. Если твой тонали исполнится как должно, ты недолго пробудешь с нами в этой юдоли скорби. Истинным твоим домом станет обитель бога солнца, великого Тонатиу.
И еще сказала она:
– Седьмой Цветок, если ты вырастешь и умрешь как ксочимикуи, то есть станешь одним из тех, кому посчастливилось заслужить Цветочную Смерть на войне или быть принесенным в жертву богам, ты возродишься к вечной жизни в Тонатиукане, блаженной обители солнца, где будешь вечно служить могучему Тонатиу и радоваться этому служению.
Вижу, ваше преосвященство, вы морщитесь. Точно так же морщился бы на вашем месте и я, если бы осознавал суть этого, встретившего меня по вступлении в земной мир приветствия. Равно как и слова соседей и родственников, собравшихся, чтобы взглянуть на новорожденного. Каждый из них склонялся надо мной с традиционным обращением: «Ты явился в этот мир, чтобы страдать и терпеть».
Будь дети способны понять, какими словами их приветствуют, они, наверное, все как один постарались бы вернуться в материнское чрево, а то и снова обратиться в семя.
Конечно, мы и вправду являемся в этот мир для страдания и терпения: какое человеческое существо не испытало этого на себе? Но, говоря о доблестной смерти солдата или благой участи быть принесенным в жертву богам, повитуха, подобно пересмешнику, лишь повторяла одни и те же затверженные раз и навсегда слова. Впоследствии я слышал подобные наставления от отца, учителей и наставников, от наших жрецов, да и от ваших священников тоже. Все они бездумно повторяли то, что дошло до них от далеких предков, передаваясь из поколения в поколение. Я, однако, пришел к убеждению, что давно усопшие и при жизни-то были ничуть не мудрее нас, а уж то, что они умерли, никоим образом не могло добавить им мудрости. Так что эти выставляемые как непреложная истина слова мертвых я всегда воспринимал определенным образом – как мы говорим, йка мапильксокоитль, то есть не ставил и в мизинец. По-вашему – ни в грош.
Мы вырастаем и смотрим на мир сверху вниз, а потом стареем и оглядываемся назад. Аййо, но вы только представьте, каково это – быть ребенком! Позади у тебя совсем ничего нет, а все дни и все дороги ведут только вперед, только вверх, и ни одна возможность еще не упущена, ни один день не истрачен даром, и ни о чем пока не приходится жалеть. Все в мире для тебя ново, да и сам мир нов, каким был он некогда для Ометекутли и Омекуатль, нашей Высшей Божественной Четы, первых существ всего творения, которых мы называем боги-творцы.
Стоит мне обратиться к памяти, и мои старые уши вновь наполняют звуки, сопутствовавшие рассветам моего детства на нашем острове Шалтокан. Бывало, что я просыпался от того, что папан, Птица Зари, распевала свою незамысловатую Песенку: «Па-па-куи-куи... па-па-куи-куи» – извечный призыв подняться, петь, танцевать и радоваться. В иные дни я пробуждался еще до зари, потревоженный хлопотами матери, которая растирала на жернове маисовые зерна или с хлопаньем замешивала маисовое тесто, из которого лепила и пекла большие тонкие лепешки. Те самые, которые мы называли тласкала, а вы теперь именуете тортильями.
Бывали и такие утра, когда я просыпался раньше всех, кроме жрецов Тонатиу, бога солнца. Тогда, лежа в темноте, я слышал, как они, издавая хриплые, блеющие звуки, дули на вершине украшавшей наш остров скромной храмовой пирамиды в раковины. Такими звуками, а также курением благовоний сопровождалось ритуальное умертвление перепела. (Эта птица, в силу того что она испещрена крапинками, символизировала звездную ночь). Жрецы сворачивали перепелу шею, монотонно распевая при этом обращение к божеству: «Узри смерть ночи, о парящий орел, и яви себя, дабы вершить благие дела. Явись, драгоценный, дабы согреть и осветить Сей Мир...»
Как сейчас помню жаркие дни моего раннего детства, когда Тонатиу, во всей своей сияющей мощи, стоя и притопывая на крыше вселенной, посылал вниз свои сияющие стрелы. В этот лишенный тени, окрашенный золотом и лазурью полуденный час горы вокруг озера Шалтокан казались такими близкими, словно их можно было коснуться рукой. Пожалуй, это самое раннее из моих воспоминаний (вряд ли мне могло быть более двух лет, и я тогда еще не имел представления о расстоянии) – как день и весь мир тяжело дышали вокруг меня, а я жаждал прикосновения чего-то прохладного. Мне все еще памятно то детское удивление, когда я, протянув руку, не ощутил голубизны лесистой горы, которая возвышалась передо мной в столь манящей близости.
Без усилий вспоминаю я также и вечера, когда Тонатиу раскидывал вокруг себя мантию из блестящих перьев, опускался на мягкое ложе из многоцветных цветочных лепестков и погружался в сон. Он пропадал из виду, уходя из поля зрения смертных в Темную Обитель, Миктлан. Из четырех нижних миров, каковые становятся пристанищем усопших, Миктлан есть самый нижний, местопребывание умерших окончательной смертью, полностью и безвозвратно. Это место, где никогда ничего не происходит, не происходило и не произойдет. Однако Тонатиу, в несказанной своей милости, хотя и не столь щедро, как расточает он свой свет нам, озаряет смутным свечением своего сна даже мрачную бездну, предназначенную для безвозвратно ушедших.
Между тем в Сем Мире – а точнее, на Шалтокане, в ту пору и представлявшем для меня собой весь мир, – бледные, голубоватые туманы поднимались вечерами над озером, так что черневшие вокруг горы казались плывущими на их волнах, между красными водами и пурпурным небом. Потом над закатным горизонтом, как раз там, куда исчез Тонатиу, вспыхивала на некоторое время Омексочитль, звезда Вечерней Зари. Она являлась, дабы заверить нас, что хоть свет угасает и мир погружается во тьму, нам не надо бояться того, что он уподобится Темной Обители, ибо Сей Мир жил и будет жить, пока не придет его время.
Очень хорошо помню я и ночи, в особенности одну ночь. Тогда Мецтли, бог луны, только-только завершил свою ежемесячную трапезу: насытившись звездами, он округлился и светился довольством так, что очертания кролика, спрятавшегося на луне, вырисовывались не менее отчетливо, чем любая храмовая резьба. В ту ночь – мне было тогда года три или четыре – отец посадил меня на плечи и нес, крепко держа за лодыжки. Его размашистые шаги проносили меня сквозь прохладное свечение и еще более прохладную темноту, сквозь испещренный пятнышками лунный свет и лунную тень, которые отбрасывали похожие на перья листья «старейших из старых» деревьев, кипарисов ауеуеткве.
В ту пору я уже подрос и был наслышан о всяческих страшилищах, таящихся в ночи, как раз за краешком человеческого зрения. Там находилась Чокакфуатль, Рыдающая Женщина, первая из всех матерей, умершая в родах и обреченная вечно скитаться во мраке, оплакивая свое потерянное дитя и собственную потерянную жизнь. Там скрывались не имевшие имен, безголовые и лишенные конечностей мертвецы, ухитрявшиеся при этом каким-то образом, слепо и беспомощно извиваясь на земле, издавать жуткие стоны. Там же, в воздухе, на высоте человеческого роста, парили, преследуя и пугая застигнутых темнотой в дороге странников, голые черепа с пустыми глазницами. Обычно о присутствии всей этой нежити можно было догадаться лишь по доносившимся из мрака звукам; если же кому-то хоть краем глаза доводилось увидеть одно из таких порождений ночи, то был верный знак, что этого смертного поджидала большая беда.
Правда, во тьме обитали не одни лишь злобные и пугающие чудища. Скажем, бог Йоали-Ихикатль, Ночной Ветер, частенько налетал из мрака, стремясь ухватить неосторожного припозднившегося путника, но, будучи столь же капризным, как и прочие ветры, нередко отпускал уже схваченную добычу. Если это случалось, бог исполнял самое заветное желание побывавшего в его объятиях человека и даровал тому долгую жизнь, дабы он смог насладиться обретенным счастьем. Именно поэтому, в надежде удостоиться благосклонности шаловливого бога, мои соплеменники еще давным-давно установили на перекрестках, продуваемых ветрами, каменные скамьи, дабы Ночной Ветер мог передохнуть перед очередным стремительным порывом. Как уже было сказано, к тому времени я подрос достаточно, чтобы прослышать о духах темноты и бояться их. Но той ночью, когда я сидел на отцовских плечах, став, таким образом, на время выше нормального человека, когда листья кипарисов гладили меня по волосам, а лунные блики ласкали мое лицо, я не испытывал никакого страха.
Та ночь запомнилась мне так хорошо еще и потому, что именно тогда мне впервые позволили лицезреть церемонию, включавшую человеческое жертвоприношение. Правда, обряд не отличался особой пышностью, ибо был посвящен мелкому божеству Атлауа, покровителю птицеловов. (В ту пору озеро Шалтокан изобиловало утками и гусями, которые останавливались там во время своих перелетов и становились для нас пищей.)
Итак, в ту ночь, ночь хорошо накормленной луны, в начале сезона охоты на водную дичь, лишь одному ксочимикуи предстояло умереть ритуальной смертью, к вящей славе бога Атлауа. Обычно жертвы выбирались из числа военнопленных, и те принимали Цветочную Смерть с гордостью, а то и радостью, но этот человек оказался добровольцем, пребывавшим в довольно мрачном настроении.
– Я уже мертв, – сказал он жрецам. – Я задыхаюсь как рыба, вынутая из воды. Моя грудь напрягается, пытаясь вобрать все больше воздуха, но воздух уже не насыщает меня. Мои конечности слабеют, зрение угасает, а голова постоянно кружится. Лучше мне поскорее умереть, чем и дальше корчиться в муках, медленно погибая от удушья.
Этот человек был рабом и происходил с дальнего юга, из племени чинантеков. Тамошний народ и по сию пору подвержен удивительному недугу, передающемуся в некоторых семьях по наследству. Мы, как и сами чинантеки, называли эту болезнь Пятнающей Хворью, а вы, испанцы, прозвали их народ пегим племенем, потому что кожа страдающего покрывается пятнами серовато-синего цвета. Со временем его дыхание затрудняется, он начинает задыхаться и наконец умирает от удушья, как это бывает с выброшенной из родной стихии на сушу рыбой.
Мы с отцом прибыли к берегу озера, где на небольшом расстоянии друг от друга были вбиты в землю два крепких столба. Окружающую их тьму разгонял свет курительниц, на которых сжигали благовония. В дыму танцевали жрецы Атлауа – старцы в черных одеждах, с почерневшими лицами, с длинными волосами, умащенными окситлем, – так называем мы черный вар, получаемый из сосновой смолы. Тот самый, которым наши птицеловы покрывают ноги и нижнюю часть тела, чтобы защититься от холода, когда бродят по озерному мелководью.
Двое жрецов наигрывали ритуальную мелодию на флейтах, изготовленных из человеческих берцовых костей, в то время как еще один стучал в барабан. То был особенный, предназначавшийся именно для этой церемонии барабан, представлявший собой огромную тыкву, высушенную и наполовину наполненную водой таким образом, что она, частично погрузившись в озеро, выступала над его поверхностью. Когда жрец ударял человеческими костями по водяному барабану, тот издавал рокот, раскатывавшийся над озером и отдававшийся эхом от гор, высившихся по ту сторону озера.
Ксочимикуи ввели в круг дымного света. Он был полностью обнажен, даже без маштлатля, набедренной повязки, обычно прикрывающей у мужчины пах и те места, которые вы, белые, называете срамными. Даже в этом тусклом, пляшущем свете было видно, как далеко зашел недуг: кожа несчастного не была покрыта синими пятнами, но, напротив, сама стала синей, за исключением лишь немногих островков здоровой плоти, сохранившей нормальный цвет. Тело раба растянули между вбитыми на берегу столбами, привязав его к каждому из них за лодыжку и за запястье. Жрец, размахивавший стрелой, как вождь во время песнопения машет своим жезлом, произносил нараспев заклинание:
– Жизненную влагу этого человека, смешанную с жизненной влагой нашего любимого озера Шалтокан, преподносим мы тебе, о Атлауа, дабы ты в ответ соблаговолил направить стаи драгоценной добычи в сети наших птицеловов...
Это продолжалось довольно долго, меня начал одолевать сон, и, если бы не боязнь обидеть Атлауа, я, пожалуй, мог бы заснуть. Потом внезапно, без какого-либо предупреждения, выраженного в слове или жесте, жрец вонзил стрелу в обнаженные гениталии ксочимикуи, растянутого между столбами. И тут этот человек, хотя совсем недавно призывал смерть, вдруг пронзительно завопил. Вой его на время заглушил звуки флейт и даже бой барабана, но это продолжалось недолго.
Как только первый жрец окровавленной стрелой начертал на груди жертвы крест, все остальные участники ритуала, с луками и стрелами в руках, принялись танцевать вокруг ксочимикуи, причем каждый, оказавшись перед живой мишенью, выпускал в еще вздымавшуюся грудь очередную стрелу. Когда танец завершился, а все стрелы были израсходованы, мертвый более походил не на человека, а на гигантский экземпляр животного, которое мы называем кактусовым кабанчиком. Церемония подошла к концу. Тело отвязали от столбов и привязали к вытащенному на песок акали, то есть к каноэ птицелова. Птицелов спустил его на воду и стал грести прочь от берега, увлекая мертвеца за собой. Постепенно он пропал из виду и, надо полагать, где-нибудь вдали от берега обрезал веревку. Труп утонул. Атлауа получил свою жертву.
Отец снова посадил меня на плечи и тем же размашистым шагом направился к дому. Подпрыгивая на его крепкой, надежной шее и пребывая в полной безопасности, я мысленно принес мальчишескую клятву: если я когда-либо сподоблюсь избрания для Цветочной Смерти, то ни за что, как бы больно мне ни было, не опозорю себя криком.
Наивный ребенок! Тогда я думал, что смерть – это только момент умирания, который можно пережить, поведя себя недостойно или отважно. Откуда мне, уютно и безопасно устроившемуся на крепких отцовских плечах мальчишке, которого несли домой, навстречу сладкому сну и новому пробуждению по зову Птицы Зари, было знать, что представляет собой смерть на самом деле.
В то время мы верили, что герой, павший на службе могущественному вождю или принесенный в жертву великому богу, наверняка будет удостоен вечного блаженства в лучшем из загробных миров. Нынче служители Христа учат тому, что их вера способна даровать нам такое же блаженство в сходной обители, именуемой раем. Я же думаю о том, что даже величайший из героев, гибнущий самой доблестной смертью за самое правое дело, даже вернейший и преданнейший из христианских мучеников, умирающий в уверенности, что попадет в рай, никогда больше не ощутит на своем лице ласку лунного света, пробивающегося сквозь шелестящую листву кипарисов этого мира. Пустяковое удовольствие – такое маленькое, такое простое, такое незамысловатое, – но которого человеку больше уже не испытать.
О, я вижу, ваше преосвященство выказывает раздражение. Прошу прощения, сеньор епископ, за то, что мой старый ум порой сбивается с прямого пути на кривые тропки. Понимаю, что кое-что из поведанного мною вы едва ли сочтете историческим отчетом, в полном, строгом смысле этого слова, однако прошу вас проявить снисходительность и терпение, ибо не знаю, представится ли мне еще когда-либо возможность поведать обо всем этом. Однако сколько ни говори, да только всего, что хочешь, все равно не выскажешь...
Возвращаясь мысленно в свое детство, я не могу сказать, что оно было отмечено хоть какими-то событиями, особенными для нашей земли и для нашего времени, да и сам-то я, по правде сказать, был самым что ни на есть заурядным мальчишкой. Числа, выпавшие на год и день моего рождения, не считались ни несчастливыми, ни особо удачными. Моему рождению не сопутствовало никаких знамений, тогда как родись я в ночь затмения, когда тень кусает луну, мрак мог бы укусить и меня, наградив, например, заячьей губой или затенив мое лицо темным родимым пятном. У меня не имелось ни одной физической особенности, которые у нашего народа считались бы уродствами или телесными недостатками. Я не был ни курчав, ни лопоух, не страдал из-за раздвоенного подбородка, торчащих кроличьих зубов, плоского или, напротив, чересчур длинного, похожего на клюв, вывороченного пупа, бородавок или слишком заметных родимых пятен. К счастью для меня, мои черные волосы были прямыми и гладкими, без каких-либо локонов, завитков или хохолков.
А вот Чимальи, товарищу моего детства, повезло меньше. В юности ему ради безопасности даже приходилось коротко остригать непокорные пряди и приглаживать волосы с помощью окситля. Помню, как-то раз, мы тогда были еще совсем мальчишками, моему другу довелось целый день таскать на голове тыкву. Вижу, господа писцы улыбаются. Пожалуй, мне лучше объяснить.
Птицеловы Шалтокана ловили уток и гусей в больших количествах, причем самым несложным способом: устанавливали на мелководье шесты, натягивали сети, а потом, войдя в красноватые воды озера, поднимали шум. Птицы в испуге срывались с места, и те, что при этом запутывались в сетях, становились добычей. Однако у нас, мальчишек, имелись собственные хитрости. У большой тыквы срезался верх, мякоть удаляли, а в корке прорезали отверстия, позволявшие видеть и дышать. Надев такие тыквы на головы, мы по-собачьи подгребали к тому месту, где на озере мирно отдыхали утки или гуси. Наши тела были скрыты под водой, а приближение одной или нескольких плывущих тыкв никакой тревоги у птиц не вызывало. Замысел наш состоял в том, чтобы, подобравшись вплотную, схватить добычу за ноги и утащить под воду. Что было не так-то просто: даже маленький чирок при этом отчаянно отбивался, а силенок у мальчуганов, понятное дело, не много. Однако в большинстве случаев нам удавалось удерживать птицу под водой до тех пор, пока она не захлебнется и не обмякнет. А поскольку остальные птицы не видели, как билась и вырывалась жертва, это не вызывало у них переполоха.
Как-то раз мы с Чимальи занимались подобной охотой целый день, так что к вечеру, когда мы устали и решили вернуться домой, на берегу уже высилась изрядная куча утиных тушек. Но тут выяснилось, что во время купания Чимальи намочил волосы, и теперь его хохолок торчал над задней частью макушки, словно перо, какие носили в ту пору некоторые из наших воинов. Как назло, мы зашли в самый дальний конец острова, так что по пути в родную деревню Чимальи пришлось бы пересекать в таком виде весь Шалтокан.
– Аййя, почеоа, – пробормотал он ругательство, означавшее всего-навсего «дерьмо», но считавшееся непозволительным для ребенка нашего возраста. Услышь Чимальи кто-нибудь из взрослых, ему бы не избежать порки терновником.
– Давай обогнем остров вплавь, – предложил я. – Надо только держаться подальше от берега.
– Не знаю, как ты, – возразил Чимальи, – а я так вымотался, что едва держусь на воде. Такого заплыва мне не выдержать: мигом пойду на дно. Может быть, нам лучше дождаться темноты и вернуться домой пешком?
– Ну ты и придумал! – воскликнул я. – Сейчас, при свете дня, ты рискуешь нарваться разве что на какого-нибудь жреца, который заметит твой торчащий хохолок, а в темноте запросто можно наскочить на чудище пострашнее Ночного Ветра. Впрочем, решай сам: как скажешь, так и поступим.
Мы посидели и подумали немножко, рассеянно собирая и посасывая медоносных муравьев, которых в ту пору было полно. Их брюшки просто раздувались от сладкого нектара. Это лакомство доступно каждому. Всего-то и дела: цапнуть насекомое, откусить брюшко и глотнуть сладкой жидкости. Правда, каждая капелька этого меда была такой крохотной, что о том, чтобы утолить голод с помощью муравьев, не приходилось и мечтать.
– Знаю! – заявил наконец Чимальи. – Мы пойдем пешком, не дожидаясь темноты. Просто я не стану снимать тыкву с головы до самого дома.
Так он и сделал. Конечно, прорези для глаз обеспечивали не лучший обзор, поэтому мне пришлось вести друга, как поводырю слепого. Положение осложнялось и тем, что мы оба были основательно нагружены добычей – мокрыми, тяжелыми утками. В результате Чимальи то и дело спотыкался и падал, налетал на стволы деревьев или плюхался в придорожные канавы. Хорошо еще, что он не расколошматил при этом свою драгоценную тыкву. Я всю дорогу покатывался со смеху; собаки, завидя Чимальи, заходились в неистовом лае; а поскольку сумерки наступили раньше, чем мы предполагали, мой приятель, возможно, напугал своим видом кого-нибудь из припозднившихся прохожих.
Вам тоже весело? Однако на самом деле смешного было мало. Чимальи нацепил тыкву вовсе не из озорства, но потому, что, с точки зрения наших жрецов, мальчик с такого рода хохолком идеально подходил для жертвоприношения. Когда им требовался юнец мужского пола, жрецы старались найти именно такого. Не спрашивайте меня почему. Ни один жрец так и не сумел мне вразумительно это объяснить. С другой стороны, ни от кого из жрецов и не требовалось приводить простым людям вразумительные доводы. Просто существовали нерушимые правила, по которым нас заставляли жить, не объясняя при этом, почему их нельзя нарушать. Считалось самим собой разумеющимся, что если подобное все же случалось, то мы должны были испытывать страх, стыд и раскаяние.
Я не хочу, чтобы у вас создалось впечатление, будто хоть кто-то из нас, молодой или старый, жил в вечном, нескончаемом страхе. Бывали, конечно, весьма неприятные моменты (так, например, Чимальи приходилось постоянно проявлять осторожность), но в целом и наша религия, и жрецы, истолковывавшие ее предписания, не предъявляли к нам слишком уж многочисленных или чрезмерно обременительных требований. То же самое можно сказать и о мирской власти. Разумеется, мы были обязаны повиноваться своим правителям-наместникам, служить представителям благородного сословия пипилтин и прислушиваться к советам таламантин, наших мудрецов. Однако я по рождению принадлежал к среднему сословию – касте, именовавшейся масехуалтин, «счастливцы». Нас называли так по той причине, что мы были равно свободны как от тяжких обязанностей, налагавшихся знатным положением, так и от унизительного бесправия низкорожденных.
Законов в наше время существовало очень мало, причем такое положение дел сохранялось специально, дабы каждый человек мог удержать все законы страны в голове и сердце, а будучи уличен в их нарушении, не имел возможности отговориться неведением. Я знаю, что в отличие от наших все ваши законы записаны и собраны в особые своды, так что человеку приходится сверяться с длинным списком указов и положений, чтобы выяснить, «правомочен» или «противоправен» тот или иной его шаг. Конечно, по испанским меркам наши немногочисленные законы могут показаться не слишком четко сформулированными, а наказания, определяемые за их нарушения, – слишком жестокими. Однако эти законы были направлены на достижение всеобщего блага и, поскольку все знали о неотвратимости страшных наказаний за проступки, исполнялись почти неукоснительно. Участь тех немногих, кто дерзал их нарушить, была незавидна.
Приведу пример. Согласно законам, введенным испанцами, воровство карается смертью. Так было и у нас в старые времена. Но по вашим законам голодный человек, укравший что-то съестное, признается вором. У нас дело обстояло иначе: в одном из законов говорилось, что на каждом маисовом поле, насаженном вдоль общественной дороги, четыре ближайших к этой дороге ряда стеблей предназначены для прохожих. Любой голодный странник мог сорвать столько початков, сколько требовал его пустой желудок. Однако человек, который стремился нажиться на чужом труде и грабил маисовое поле, чтобы набить свои закрома или заняться продажей награбленного, будучи уличенным в воровстве, должен был умереть. Таким образом, этот закон был хорош вдвойне: он внушал страх любителям легкой наживы, но не заставлял неимущих умирать от голода.
Как я уже говорил, законов было мало, так что в основном жизнь семей, кланов и целых племен регулировалась не законами, но освященными древностью обычаями и традициями.
Как правило, все это касалось взрослых, однако я, еще будучи ребенком, не заслужившим настоящего имени и именовавшимся, по дню рождения, Седьмым Цветком, уже твердо усвоил, что мужчина, согласно традиции, должен быть смелым, сильным, доблестным, усердным и честным, а женщина – скромной, целомудренной, кроткой, работящей и неэгоистичной.
В детстве я целыми днями возился с игрушками (главным образом с игрушечным оружием или с маленькими копиями отцовских инструментов) или играл с Чимальи, Тлатли и другими своими сверстниками. Когда отец не был занят на работе в каменоломнях, он находил время и для меня. Сам я, как и все наши дети, называл его тете, однако по-настоящему отца звали Тепетцлан, что значит Долина. Он получил свое имя в честь лежащей среди гор низины, откуда был родом, однако, данное ему в возрасте семи лет, это прозвание оказалось не самым подходящим для мужчины, вымахавшего впоследствии гораздо выше среднего роста. Никто из наших соседей, равно как и из товарищей, работавших с отцом в каменоломне, не называл его по имени. Все использовали прозвища, так или иначе связанные с его высоким ростом. Например, Ухвати Звезду или Кивун. А кивать, в смысле нагибаться, отцу и впрямь приходилось частенько, особенно чтобы обратиться с очередным наставлением к своему неразумному отпрыску, то есть ко мне. Помню, как однажды, поймав меня на том, что я нахально передразнивал старого горбуна, нашего деревенского мусорщика, копируя его неуклюжую походку, отец строго сказал:
– Постарайся никогда не смеяться над стариками, калеками или безумцами. Не оскорбляй и не презирай их, а лучше подумай о том, сколь немощен ты сам перед лицом богов. Трепещи: как бы они не наслали такую же напасть и на тебя.
В другой раз, когда я не выказывал интереса к его стараниям научить меня своему ремеслу (а мальчику моего положения надлежало или стать воином, или наследовать занятие отца), он наклонялся ко мне и доверительно говорил:
– Не избегай трудов, предназначенных тебе богами, сынок, но довольствуйся всем, что тебе даруют небеса. Я уповаю на то, что боги наделят тебя удачей, но помни, что все полученное от них должно принимать с благодарностью. Пусть речь идет даже о самой малости, возблагодари богов за нее, ибо им ничего не стоит отнять и то немногое, что они сочли нужным дать. А получив истинный дар, например некий выдающийся талант, радуйся, но не предавайся тщеславию и гордыне. Помни, что, оделив этим тонали тебя, боги, должно быть, отказали в нем кому-то другому.
Бывало и так, что крупное лицо отца выглядело несколько смущенным, когда он произносил короткую проповедь, не имевшую, по моему детскому разумению, никакого смысла. Что-то вроде:
– Живи в чистоте и стерегись распутства, иначе ты разгневаешь богов и они покарают тебя позором. Сдерживай свои порывы, сын мой, пока не встретишь ту девушку, которая самими богами предназначена тебе в жены, ибо богам лучше знать, как правильно устраивать браки и кто кому лучше подходит. Ну а главное, никогда не развлекайся с чужой женой.
Разумеется, мне все эти наставления насчет чистоты казались нелепыми, поскольку я никогда не был грязнулей. Как и все мешикатль, за исключением жрецов, я два раза в день мылся в горячей мыльной воде, регулярно сгонял пот и другие выделения тела в нашей маленькой, похожей на печь парной, утром и вечером чистил зубы смесью пчелиного меда и белого пепла, а что же до развлечений, то мне не доводилось встречать ни одного человека, имевшего жену моих лет. Ну а какие могли быть развлечения со взрослыми женщинами?
Отец, однако, и не заботился о том, чтобы быть понятым: все его поучения представляли собой ритуальные, затверженные наизусть заявления. Вспомните, с какими словами обратилась ко мне в свое время повивальная бабка. Пожалуй, лишь возглашая эти, передававшиеся из поколения в поколения наставления, мой отец говорил пространно, в обычной же жизни он отличался немногословием. Что и понятно: в каменоломне царил такой шум, что в разговорах не было никакого толку, а дома без умолку трещала мать, так что возможность вставить словечко появлялась у отца нечасто.
Впрочем, тете не возражал: он всегда предпочитал слову дело и учил меня скорее личным примером, чем попугайными разглагольствованиями. Если его и можно было обвинить в нехватке мужских доблестей – силы, отваги и всего такого, – то лишь на том основании, что он позволял моей тене всячески его задирать, шпынять и чуть ли не ездить на нем верхом.
Матери моей было далеко до образцовой женщины нашего сословия: она не отличалась ни скромностью, ни кротким нравом, а вот эгоистичной, напротив, была сверх всякой меры. Да что там: по правде говоря, мама была сварливой скандалисткой, настоящим тираном нашей маленькой семьи и проклятием всех соседей. Ну а поскольку ей при этом взбрело в голову вообразить себя образцом женского совершенства, то она, естественно, вечно была недовольна – как своим собственным положением, так и всем происходящим вокруг. Если я что и унаследовал от матери, то, боюсь, именно это ее качество.
Я помню, что отец подверг меня телесному наказанию только один раз, причем вполне заслуженно. Нам, мальчишкам, разрешалось (и даже, можно сказать, поощрялось) убивать ворон и прочих пернатых вредителей, опустошавших наши сады и нивы. Мы охотились на птиц с помощью тростниковых духовых трубок, из которых стреляли глиняными пульками. И вот однажды из какого-то необъяснимого мальчишеского упрямства я выпустил глиняную дробину в маленького ручного перепела. Таких птичек многие держали дома, чтобы они склевывали скорпионов и других паразитов. Но я мало того что убил полезную пташку, так еще и попытался свалить вину на своего приятеля Тлатли.
Разумеется, отцу не составило особого труда дознаться до истины. Возможно, за одно лишь убийство перепела меня наказали бы не слишком строго, но ложь («словесные плевки», как говорили у нас) считалась непростительным грехом, и тете был вынужден поступить со мной, как предписывалось. Морщась, словно ему самому было больно, он проткнул мою нижнюю губу колючкой и оставил ее там до времени отхода ко сну. Аййа, оуфйа: боль, унижение, слезы раскаяния.
Это наказание произвело на меня столь сильное впечатление, что я, в свою очередь, увековечил его в анналах родной страны. Если вы видели наши рисованные хроники, то наверняка обратили внимание на изображения людей и других существ с исходящими из их ртов завитками. В нашем языке, который называется науатлъ, эти символы означают речь или отдельные звуки. Иными словами, наличие такой загогулины означает, что изображенная фигура разговаривает или по крайней мере издает какой-то шум. Знак особо витиеватый, а то и дополненный изображением бабочки или цветка, означает декламацию или пение. Будучи писцом, я лично разработал изображение завитка, пронзенного колючкой, и очень скоро оно стало использоваться другими писцами. Помещенный рядом с изображением человека, подобный символ означает, что человек этот лжет.
В отличие от отца матушка на наказания не скупилась. Она действовала без колебаний, сожаления или сострадания и, подозреваю, не без удовольствия. Похоже, мама наказывала нас не столько ради исправления, сколько ради возможности причинять нам боль. И пусть ее методы не нашли отражения в письменных хрониках, но зато на нашу с сестренкой жизнь они оказывали весьма существенное воздействие. Мне запомнилось, как однажды вечером матушка так яростно отхлестала сестренку пучком крапивы по ягодицам, что те покрылись волдырями, а все за то, что девочка, по ее мнению, проявила нескромность. Тут мне следует пояснить, что у нас это понятие не всегда совпадает с тем смыслом, какой вкладывают в него белые люди. У вас, например, неприличной считается нагота.
У нас же неприкрытому телу особого значения не придавалось, и мы, детишки, до четырех или пяти лет постоянно, если позволяла погода, бегали нагишом. По достижении этого возраста дети начинали носить прямоугольник грубой ткани, закрепленный на одном плече и свисающий до середины бедер. В тринадцать лет мальчики уже одевались по-взрослому, то есть носили под этой накидкой еще и маштлатль, набедренную повязку из более тонкой материи. Примерно в том же возрасте (это зависело от того, когда приходили первые месячные) девушки получали настоящую женскую одежду: юбку, блузку и нижнее белье из материи, какую вы называете узорчатым полотном.
Прошу прощения за то, что вдаюсь в такие подробности, но это имеет значение для определения времени события. Я помню, что сестренка в ту пору звалась уже не Девятой Тростинкой, а Тцитцитлини, Звенящим Колокольчиком, а получить это имя она могла лишь по достижении семи лет. Однако отхаживала ее мать по голым ягодицам, а значит, нижнего белья девочка еще не носила и ей явно не минуло тринадцати. Исходя из этого, я могу предположить, что в ту пору сестре было лет десять-одиннадцать. А порку бедняжка заслужила, пробормотав в полудреме:
– Я слышу барабаны и музыку. Интересно, где это танцуют?
В глазах нашей матери это было возмутительной фривольностью: Тцитци думала о танцульках, а не о веретене или еще о чем-нибудь столь же нудном.
Вы знаете, что такое чили? Это овощ, стручковый перец, который используется в нашей кухне. Хотя разные виды этого перца различаются по забористости, все они настолько остры, настолько едки, настолько жгучи, что само это слово изначально означает «острый», «резкий», «остроконечный». Как и всякая хозяйка, моя мать использовала чили для приготовления блюд, однако у ней в запасе имелся и еще один способ употребления этого овоща. Такой, что если я и решаюсь о нем рассказать, то лишь потому, что орудиями пыток ваших инквизиторов не удивишь.
Однажды, когда мне было года четыре или лет пять, мы с Тлатли и Чимальи играли возле дома в патоли, или в бобы. Разумеется, наша забава отличалась от настоящей азартной игры с таким же названием, той самой, что частенько доводила взрослых мужчин до потери всего семейного имущества или становилась причиной ожесточенной кровной вражды. Нет, мы, три мальчика, просто рисовали в пыли круг, а потом каждый бросал в центр свой боб, который, подпрыгивая, выскакивал за его пределы. Выигрывал тот, чей боб оказывался снаружи первым. В тот раз боб мне попался какой-то непрыгучий, и я ругнулся на него. Кажется, буркнул почеоа или что-то в этом роде.
Неожиданно я упал, больно ударившись оземь. Как оказалось, это тене ухватила меня за лодыжки и дернула изо всех сил. Снизу я увидел лица Чимальи и Тлатли, их разинутые рты и расширившиеся от удивления глаза, но и охнуть не успел, как меня отволокли в хижину, к очагу. Продолжая удерживать меня одной рукой, матушка, освободив другую, бросила в огонь несколько ярко-красных стручков чили. Когда они затрещали и от них повалил густой желтый дым, тене снова схватила меня за лодыжки и подняла головой вниз над этими едкими парами. Дальнейшее оставляю на волю вашего воображения; могу лишь сказать, что я чуть не умер. После этого случая мои глаза слезились и туманились никак не менее половины месяца, а дыхание давалось мне с мукой, как будто вдыхаемый воздух обжигал гортань. И все же я имел все основания считать себя счастливчиком, ибо наши обычаи отнюдь не требовали, чтобы мальчик проводил много времени в обществе матери. Поскольку у меня после этого случая появились серьезные резоны, я с тех пор стал избегать тене чуть ли не так же рьяно, как мой приятель Чимальи сторонился наших жрецов. Даже когда она начинала искать меня, чтобы загрузить какой-нибудь работой по дому, я всегда имел возможность укрыться на холме, где находились печи для обжига извести. Мужчины считали, что женщин и близко нельзя подпускать к печам, ибо одно лишь их присутствие способно испортить известь, и вера эта была так сильна, что даже моя матушка не решалась соваться на запретную территорию.
Но бедная Тцитцитлини такого убежища не имела. В соответствии с обычаем и своим тонали девочка должна была учиться тому, что пригодится жене и матери – готовить пищу, прясть, ткать, шить, вышивать, – так что большую часть дня моя сестренка проводила под бдительным присмотром нашей матери, которая при этом без конца твердила традиционные материнские наставления. Тцитци пересказывала мне некоторые из них, и мы с ней сходились на том, что наши далекие предки придумали их скорее на пользу матерям, чем дочерям.
– Девочке подобает всегда быть внимательной, покоряться воле богов и служить утешением своим родителям. Если мать позовет тебя, не мешкай, не жди, чтобы позвали дважды, но откликайся и приходи немедленно. Получив задание, не пытайся отговориться и не выказывай неохоты, но исполняй его с готовностью. Более того, если твоя тене зовет кого-то другого, но этот другой медлит, поспеши на зов сама, выясни, что требуется, и сделай это с должным старанием.
Прочие проповеди представляли собой вполне предсказуемые призывы к скромности, добродетели и целомудрию, и, в общем-то, к их содержанию не могли придраться даже мы с Тцитци. Мы прекрасно знали, что с тринадцати лет и вплоть до самого замужества, то есть лет до двадцати или около того, ни один мужчина не сможет разговаривать с ней на людях.
– Встретив в публичном месте привлекательного юношу, не обращай на него внимания, вообще не подавай виду, что заметила его, дабы не разжигать в нем страсть. Остерегайся бесстыдной фамильярности и ни в коем случае не слушайся велений своего сердца, ибо тогда вожделение замутит твой характер, как тина мутит воду.
Надо думать, Тцитцитлини и сама находила этот запрет вполне разумным, но к двенадцати годам в ней наверняка пробудились если не плотские желания, то плотское любопытство. А поскольку такого рода наставления приучили сестренку к мысли о постыдности всего относящегося к зову плоти, она скрывала новые ощущения, которые получала, тайно познавая возможности собственного тела. Помню, как-то раз матушка, неожиданно вернувшись с рынка раньше времени, застала сестру лежащей на циновке, задрав одежду, и совершающей действия, смысл каковых мне в ту пору был совершенно непонятен. А именно: Тцитци играла со своим девичьим лоном, используя для этого маленькое деревянное веретено.
Вижу, ваше преосвященство, вы что-то бурчите себе под нос и сердито подбираете полы своей сутаны. Возможно, я задел вашу чувствительность, рассказав об этом случае столь откровенно? Однако должен сказать, что в своем описании я избегал грубых, прямолинейных слов. А поскольку таковыми словами изобилуют оба наших языка, мне кажется, что и действия, которые ими описываются, не столь уж необычны для обоих наших народов.
В наказание за непристойный интерес к особенностям собственного тела наша мать, схватив Тцитцитлини и набрав из короба жгучего порошка чили, яростно втерла его в то самое сокровенное девичье место. Сестренка кричала так громко, что я, перепугавшись, предложил сбегать за лекарем.
– Никаких лекарей! – гневно воскликнула мать. – Твоя сестра – сущая бесстыдница, и если другие узнают о ее непозволительном поведении, позор падет на всю нашу семью.
Как ни странно, мать поддержала и сама Тцитци.
– Не надо, братец, – промолвила она, с трудом подавив рыдания, – мне не так уж больно. Не зови лекаря и, умоляю тебя, никому ни о чем не рассказывай. Даже тете. Забудь обо всем, я тебя прошу!
Приказ тиранки матери я еще мог бы нарушить, но как не уважить просьбу любимой сестрицы? Так и не поняв, почему она отказывается от помощи, я тем не менее сделал, как мне было велено, и ушел.
Эх, что бы мне тогда не послушаться их обеих! Сдается мне, что злобная жестокость матери, имевшая целью заставить Тцитци забыть о пробуждавшихся желаниях плоти, возымела прямо противоположное действие, и с той самой поры лоно моей сестры горело, как обожженное перцем горло. Горело, испытывая жажду, для утоления которой требовалась отнюдь не вода. Думаю, что в скором времени моя дорогая Тцитцитлини вполне могла бы «сбиться с пути» (так у нас в Мешико говорят об испорченной, распущенной женщине), а уж хуже этого ничего не могло случиться с бедной девушкой. Так, во всяком случае, я думал до тех пор, пока не узнал, что сестру мою постигла еще более плачевная участь.
О том, что случилось с ней впоследствии, я расскажу в свое время, сейчас же добавлю только одно: как бы причудливы ни были повороты наших судеб, для меня сестренка всегда была и останется Тцитцитлини, Звенящим Колокольчиком.
IHS S.C.C.M.
Его Священному Императорскому Католическому Величеству императору дону Карлосу, нашему королю и повелителю
Да снизойдет на веки вечные благодатный свет Господа Нашего на Его Величество дона Карлоса, Божьей милостию императора Священной Римской империи, короля Испании, и прочая, и прочая...
Его Августейшему Величеству из города Мехико, столицы Новой Испании, в канун дня Св. Михаила и Всех Ангелов, в год после Рождества Христова одна тысяча пятьсот двадцать девятый, шлем наш нижайший поклон.
Ваше Величество повелевает нам продолжить направлять Ему следующие главы так называемой «Истории ацтеков» с той быстротой, «с какой успевают заполняться страницы». Сие, однако, порождает скорбь в сердце Вашего преданного слуги, ибо хотя мы ни за какие земные блага даже помыслить не можем оспорить повеление нашего владыки и суверена, для нас весьма огорчительно, что Вашему Величеству не было угодно принять к сведению высказанные в предуведомлении к предыдущему посланию опасения насчет того, что рассказ дикаря с каждым днем наполняется все более гнусными и отвратительными подробностями. Мы надеялись, что рекомендации и пожелания, высказанные Вами же назначенным и облеченным Вашим высочайшим доверием епископом, будут приняты во внимание, а не отброшены с явным пренебрежением.
Разумеется, мы осознаем, что интерес Вашего Величества к подробному ознакомлению с жизнью самых удаленных Ваших владений и самых ничтожных из Ваших подданных диктуется постоянной и неустанной заботой нашего монарха об их благе и процветании. Мы, со своей стороны, всячески приветствуем сие Ваше мудрое и похвальное рвение и в меру своих скромных сил стараемся поспешествовать его успеху, как было то в славном деле искоренения ведовства в Наварре. Отрадно видеть, что эта некогда мятежная и еретическая провинция, будучи полностью подвергнута очищению огнем и железом, превратилась в одно из покорнейших и славящихся благочестием владений Вашей Короны. Заверяю Вас, что Ваш покорный слуга стремится с не меньшим пылом и рвением потрудиться и на благодатной стезе выкорчевывания закоренелых пороков и насаждения добродетели в этих новообретенных землях, дабы подобным же образом привести их к полной покорности Вашему Величеству и Святому Кресту.
Безусловно, всякое повеление Вашего Величества благословлено Господом, и, служа Вам, мы исполняем волю Божию. Столь же очевидно, что Вам, как Всемогущему Владыке, желательно и должно знать о Новой Испании все, что только возможно. Страна эта воистину обширна и исполнена таких чудес, что Ваше Величество может именовать себя ее императором с не меньшей гордостью, нежели делает это по отношению к Германии, каковая, по милости Божией, теперь также является владением Вашего Величества.
Тем не менее, занимаясь по Вашему высочайшему повелению составлением хроники, вверенной нашему духовному попечению, мы не вправе умолчать о том, сколь грубо и бесцеремонно ранят наши христианские чувства разнузданные и непристойные словеса, потоком извергаемые рассказчиком. Воистину, сей ацтек подобен Эолу с неистощимым мешком ветров, причем ветров мерзостных. Мы не стали бы сокрушаться и жаловаться, ограничься он тем, о чем его, собственно, и просили, то есть повествованием в манере Св. Григория Турского и других классических авторов: перечислением имен выдающих личностей, их краткими жизнеописаниями, примечательными датами, выдающимися сражениями et cetera.
Увы, поток его речи нескончаем и нечист, а сведения важные и нужные мешаются в нем с бессмысленным описанием непристойных подробностей жизни его народа и его собственной. Правда, следует принять во внимание то, что сей индеец от рождения прозябал в мерзости язычества и воспринял Святое Крещение всего лишь несколько лет назад. Таким образом, мы должны снисходительно принять во внимание тот факт, что отвратительные деяния, наблюдавшиеся, а равно и творившиеся им в прежней жизни, были связаны с незнанием этим грешником и его несчастными соотечественниками душеспасительного учения Господа Нашего Иисуса Христа. Но верно и то, что, коль скоро в настоящее время он, во всяком случае по имени, является христианином, мы вправе ожидать от этого человека вместе с рассказом о пагубных языческих мерзостях и искреннего осуждения оных, а паче того, раскаяния в своем греховном прошлом.
Увы, живописуя, ярко и подробно, дьявольские ужасы и соблазны, сей грешник отнюдь не склонен сокрушаться сердцем. Похоже, он вовсе не считает описываемые им деяния столь уж чудовищными и даже не краснеет, навязчиво изливая в уши почтенных и богобоязненных братьев-писцов рассказы о преступных, оскорбляющих Господа и попирающих приличия беззакониях, имя коим идолопоклонство, колдовство, суеверия, кровожадность и кровопролитие, непристойные и противоестественные соития; имеются у него также и другие прегрешения, столь гнусные, что мы не дерзаем их перечислить. Когда бы не повеление Вашего Величества запечатлевать на бумаге устное его повествование слово в слово, во всех подробностях, мы ни за что бы не позволили своим писцам увековечить сии непозволительные речи в свитках.
Однако покорный слуга Вашего Величества никогда не ослушивался королевского приказа. Мы постараемся воспринимать отвращающие и вредоносные разглагольствования этого индейца лишь как доказательства того, что на протяжении всей его жизни Враг Рода Человеческого подвергал оного грешника многочисленным искушениям и испытаниям, а Господь же попускал сие, дабы закалить душу названного ацтека. Что, позволим себе напомнить, есть важное свидетельство величия Господа, ибо он зачастую избирает Своими орудиями и вершителями Своего милосердия не мудрых и сильных, но простодушных и слабых. Так не будем же забывать, что Закон Божий предписывает нам проявлять особую терпимость и снисходительность к тем, на чьих устах еще не обсохло молоко Истинной Веры, а не к тем, кто уже впитал его.
Исходя из сказанного, мы постараемся сдерживать наше отвращение, оставив индейца при себе и позволив ему и далее изливать поток своих словесных нечистот, во всяком случае до тех пор, пока до нас не дойдет отклик Вашего Величества на прилагаемые ниже страницы его хроники. К счастью, в настоящее время мы не так загружены прочими делами и можем позволить себе целиком занять время пятерых братьев, четырех писцов и толмача этой работой. Единственным же и вполне достаточным вознаграждением для самого этого существа служит то, что мы посылаем ему пропитание с нашего скромного монашеского стола и выделяем соломенный тюфяк в пустом чулане за пределами стен обители. Там он ночует, ухаживая за своей недужной женой, и от наших щедрот относит туда для нее остатки трапезы.
Однако мы верим и надеемся, что скоро будем избавлены от ацтека и испускаемых оным богомерзостных миазмов. Верим и надеемся, ибо по прочтении следующих страниц – еще более ужасных, чем предыдущие, – Вы, Государь, наверняка разделите наше возмущение и воскликнете: «Довольно этой скверны!», точно так же как вскричал Давид: «Не возглашайте сие, дабы не возрадовались неверные!» Мы с нетерпением – нет, с волнением – будем поджидать с прибытием следующего курьера повеления Вашего Высокочтимого Величества предать уничтожению все сделанные за это время списки нечестивой хроники, а достойного всяческого порицания варвара – изгнать с нашей территории.
Да хранит Господь Вседержитель Ваше Богоспасаемое Величество, и да дарует Он Вам долгие годы благородного служения Его делу.
Подписал собственноручно неустанно молящийся о благе Вашего Священного Императорского Величества верный капеллан и смиренный клирик
Хуан де Сумаррага
ALTER PARS[13]
Я вижу, господа мои писцы, его преосвященство не присутствует сегодня? Следует ли мне продолжать? А, понятно. Он прочтет ваши записи моего рассказа на досуге.
Хорошо. В таком случае позвольте мне отвлечься от слишком уж личных воспоминаний, касающихся моей семьи и меня самого, и, дабы у вас не сложилось впечатления, будто мы жили, словно какие-то отшельники, в стороне от всех, предоставить вам более широкий обзор тогдашних событий. Можно сказать, что я мысленно отступлю, отойду назад и как бы в сторонку, после чего попытаюсь обрисовать вам наше отношение к окружающему. К тому миру, который мы именовали Кем-Анауак, или Сей Мир.
Ваши исследователи уже давно обнаружили, что он расположен между двумя безбрежными океанами, омывающими его с востока и с запада. У берегов обоих океанов находятся влажные Жаркие Земли, но в глубь суши они простираются не так уж далеко. Земля, начиная от берегов, постепенно поднимается к подножиям вздымающихся горных кряжей, между которыми расположено высокое, находящееся так близко к небу, что воздух там разреженный, чистый, сверкающий и прозрачный, плато. Климат здесь почти круглый год, даже в сезон дождей, по-весеннему мягкий, и лишь с наступлением сухой зимы бог Тацитль, повелитель самых коротких дней в году, делает некоторые из этих дней прохладными, а иногда даже по-настоящему холодными.
Самой густонаселенной частью Сего Мира является огромная чаша или ложбина в этом плато, которую вы теперь называете долиной Мехико, по-нашему – Мешико. Здесь сосредоточены озера, которые и сделали этот край столь привлекательным для людей. То есть на самом деле там находится только одно, огромное озеро, но, поскольку в него в двух местах глубоко вдаются высокогорья, получается, что оно как бы разделено перемычками на три отдельные части, три водных массива, соединяющихся узкими проливами. Самое маленькое и самое южное озеро, где я провел свое детство, отличается красноватой соленой водой, ибо почва по его берегам богата солью. Центральное озеро Тескоко по размеру больше, чем два остальных, вместе взятые. Пресная и соленая воды в нем смешиваются, и на вкус его вода лишь слегка солоновата.
Несмотря на то что на самом деле в этом краю всего одно озеро, мы всегда делили его на пять отдельных частей: каждое из них имело свое название, причем, за исключением окрашенного тиной Тескоко, у остальных озер их было даже несколько. Так, южное и самое прозрачное озеро в верхней своей части называется Шочимилько, или Цветущий Сад, потому что на его берегу лучше всего всходят и плодоносят прекраснейшие растения. В своей нижней части это же озеро называется Чалько, по имени обитающего неподалеку племени чалька. Самое северное озеро также имеет два названия. Люди, которые живут на Сумпанго, или Острове-в-Форме-Черепа, называют его верхнюю половину озером Сумпанго, а народ с Шалтокана, моего родного острова Полевой Мыши, и эту часть озера именует Шалтокан.
В каком-то смысле я мог бы уподобить эти озера нашим богам – то есть, конечно, нашим бывшим богам. Я слышал, как вы, христиане, порицаете нас за «многобожие», за поклонение множеству богов и богинь, властвующих над различными силами природы и сторонами человеческой жизни: испанцы частенько жалуются, что в столь обширном и запутанном пантеоне решительно невозможно разобраться. Однако я произвел вычисления, сопоставил одно с другим и пришел к выводу, что если принять во внимание Святую Троицу, Пресвятую Деву, а также всех прочих высших существ, которых вы называете ангелами, апостолами или святыми, причем каждый из них является покровителем той или иной грани существования вашего мира, вашей жизни, вашего тональтин, то еще неизвестно, кого из нас следует обвинять в многобожии. Это ведь не в нашем, а в вашем календаре каждый день посвящен особому высшему существу. Кроме того, по моему разумению, мы зачастую почитали одно и то же божество в разных его проявлениях и под разными именами, точно так же как у нас был разнобой с названиями озер. Для землеописателя здесь, в долине, существует только одно озеро, а для лодочника, который, усердно работая веслами, перегоняет свой акали через пролив с одного широкого водного пространства на другое, их три. Людям, живущим на побережье или на островах, эти озера известны под пятью различными именами. Так же обстоит дело и с нашими богами. Ни один бог, ни одна богиня не имеет только одно лицо, одно имя, одно-единственное предназначение. Подобно тому как наше озеро состоит из трех озер, так и один наш бог способен быть единым в трех лицах.
Вы хмуритесь, почтенные братья? Ну хорошо, пусть един в трех лицах будет только ваш Бог. А наш может быть един в двух. Или в пяти. Или в двадцати. В зависимости от времени года: влажный сезон на дворе или сухой, длинные дни стоят или короткие, пришло время посадки или наступила пора сбора урожая. В зависимости от обстоятельств: военное время или мирное, изобилие или голод, добрые правители нам достались или жестокие. С учетом всего этого круг обязанностей одного и того же бога может изменяться, а это, соответственно, влияет и на его отношение к нам, и на те способы, которыми мы демонстрируем этому богу свое поклонение и почитание. Если посмотреть на это иначе, с другой стороны, то наша жизнь, наши урожаи, победы и поражения на поле боя, возможно, зависят от переменчивого настроения бога. Он может быть таким же разным, как и вода в трех озерах, может быть горьким или сладким или, если ему заблагорассудится, останется откровенно равнодушным.
Между тем как и само настроение бога, так и зависящие от него повседневные события, происходящие в нашем мире, разными почитателями одного и того же бога могут восприниматься по-разному. Разве победа одной армии не является поражением другой? Таким образом, те или иные бог или богиня могут одновременно рассматриваться как награждающие и как карающие, как дарующие и как отнимающие, как любящие и как грозные. Когда вы поймете, как причудливо переплетаются обстоятельства, вам станет ясно и разнообразие свойств, приписывавшихся нами каждому богу, и образов, которые он принимает, и даже еще большее разнообразие титулований, каковые ему подобают. Например: чтимый, восхваляемый, благословенный, могучий, грозный и так далее.
Впрочем, довольно об этом. Позвольте мне от вопросов мистических перейти к делам сугубо житейским. Я буду говорить о вещах, доступных познанию с помощью не высокой мудрости, но обычных пяти чувств, которыми обладают даже дикие звери.
Остров Шалтокан представляет собой огромный выступ скалы, отделенный от суши широкой полосой соленой воды. Не будь на нем трех источников прекрасной, чистой, с журчанием сбегающей со скал пресной воды, он, наверное, так и остался бы необитаемым, однако во времена моего детства Шалтокан кормил примерно две тысячи островитян, живших в двадцати деревнях. Скала, на которой выросли эти поселения, служила их жителям поддержкой не только в прямом смысле, она еще и давала им средства к существованию. Дело в том, что известняк, составляющий основу скалы, является материалом, с одной стороны, ценным, а с другой, в естественном своем состоянии, – мягким, в связи с чем его можно добывать в каменоломнях с помощью самых примитивных орудий, сделанных из дерева, камня, самородной меди и хрупкого обсидиана, каковые и сравнивать невозможно с вашими железными и стальными инструментами. Мой отец работал на добыче известняка и даже начальствовал над несколькими менее умелыми и опытными работниками. Помню, как-то раз он взял меня с собой в карьер, чтобы познакомить со своим ремеслом.
Тете рассказывал мне, что в толще камня здесь и там проходят естественные трещины, линии разлома между пластами. Неопытному глазу они не видны, но отец надеялся, что я постепенно научусь их обнаруживать.
У меня, правда, ничего не получалось, но он не опускал руки. На моих глазах отец разметил лицевой срез мазками черного окситля, после чего остальные работники (они были бледными от прилипшей к потному телу известковой пыли) подошли, чтобы вбить в помеченные им крохотные щели деревянные клинья. Когда это было сделано, дерево обильно полили водой и оставили размокать. Мы с отцом ушли домой.
Через несколько дней – все это время работники поддерживали деревяшки во влажном состоянии – отец снова привел меня к карьеру.
– Смотри, – сказал он, указывая вниз.
И тут, словно камень только и дожидался нашего прихода, послышался страшный треск. Казавшаяся монолитной толща известняка раскололась по линиям разлома на громоздкие глыбы и плоские пластины. Все эти обломки с грохотом попадали на дно карьера, но угодили в веревочные сети, растянутые внизу, чтобы избежать дробления камня на еще более мелкие части. Мы спустились вниз, и отец, осмотрев добытый материал, с удовлетворением заметил:
– Потребуются лишь небольшая обработка с помощью тесел да шлифовка водой с обсидиановым порошком, и из этих глыб выйдут превосходные строительные блоки, а из таких заготовок, – он указал на плоскую плиту размером с пол нашей хижины и толщиной с мою руку, – прекрасные панели для фасадов.
Из любопытства я потрогал поверхность одного из здоровенных, высотой мне по пояс, обломков. На ощупь она показалась мне словно бы навощенной и присыпанной пылью.
– Сейчас, сразу после добычи, этот камень слишком мягок, – сказал отец, проведя в доказательство своих слов ногтем по сколу и оставив там заметную бороздку. – Известняк легок в обработке, но для строительства пока не годится. Побыв на открытом воздухе, известняк затвердеет и сделается крепким, словно гранит, но пока он еще очень податлив. Для нанесения на него резьбы подойдет инструмент из любого камня потверже, а с помощью пилящей тетивы и толченого обсидиана его можно распиливать на куски нужного размера.
Большая часть известняка с нашего острова доставлялась на материк или в столицу, где его использовали в качестве строительного материала для стен, полов или потолков зданий. Однако, поскольку только что добытый камень, как уже говорилось, легко поддавался обработке, на каменоломнях работали не только каменотесы, но также резчики по камню и скульпторы. Они отбирали подходящие блоки и, пока те еще не успели затвердеть, превращали их в статуи наших богов и героев. Подходящие по толщине и размеру куски покрывались тонкими рельефами и служили для наружной отделки дворцов и храмов. Ну а из маленьких каменных обломков художники создавали изображения домашних богов, которые ценились повсюду. У нас дома имелось несколько таких статуэток – Тонатиу, Тлалока, богини маиса Чикомекоатль и богини домашнего очага Чантико. Моя сестренка Тцитци обзавелась своей собственной фигуркой Хочикецаль, богини любви и цветов, которую все молодые девушки молили даровать им хорошего, любящего мужа.
Самые мелкие осколки камня собирали и загружали в уже упоминавшиеся мною печи для получения известкового порошка, являвшегося ценным и ходовым товаром. Он служил составной частью известкового раствора, использовавшегося для скрепления каменных блоков, а также шел на приготовление штукатурки, годившейся для наружной отделки зданий попроще. Кроме того, смешанный с водой известняк использовался для очистки от шелухи зерен маиса, которые потом измельчались в муку для выпечки всевозможных лепешек. Но и это еще не все: некоторые женщины ухитрялись с помощью известняка обесцвечивать свои черные или темно-каштановые волосы до неестественного желтого оттенка, таковой мне случалось видеть у иных ваших красавиц.
Конечно, боги ничего не дают даром и, одарив Шалтокан известняком, время от времени взимают за это дань. Как-то раз мне случилось оказаться в карьере именно тогда, когда богам заблагорассудилось избрать себе жертву.
Толпа работников тащила огромный, только что отколотый блок вверх по длинной наклонной дороге, спиралью опоясывавшей карьер от его дна до самой вершины. Глыба была помещена в сеть, прикрепленную веревками к головным повязкам напрягавшихся изо всех сил людей. И вот то ли из-за неровности дороги, то ли из-за слишком резкого поворота камень завалился набок и начал переваливаться через край дороги. Работники с криками ужаса посрывали с голов повязки, ибо в противном случае сетка с глыбой увлекла бы их за собой с обрыва вниз. Но один малый, работавший внизу, в заполненном перестуком инструментов карьере, не расслышал этих криков, и блок, обрушившись на него, как гигантский каменный топор, разрубил несчастного надвое. Ровно пополам...
Обрушившись на человека под углом, известковый блок выбил в дне карьера выемку и застрял в ней, балансируя на самом краю. Поэтому отцу и его подручным, устремившимся вниз, без особого труда удалось завалить камень набок. К их величайшему изумлению, оказалось, что человек, избранный богами в жертву, еще жив и даже в сознании.
Обо мне в этой суматохе все позабыли, и я, подобравшись никем не замеченный поближе, смог разглядеть пострадавшего. Выше пояса его обнаженное потное тело оставалось совершенно целым, без видимых повреждений, а в районе талии оказалось сплющенным. Камень, который рассек кожу, плоть, внутренности и позвоночник, одновременно закрыл рану, почти не позволив пролиться крови. С виду человек походил на куклу, которую разрезали пополам, а потом зашили по месту разреза. Нижняя половина туловища, в набедренной повязке, лежала отдельно. Ноги еще продолжали подергиваться. Крови почти не натекло, но вот мочи и фекалий образовалась целая лужа.
Видимо, сила страшного удара умертвила все разорванные нервы, так что боли несчастный не чувствовал. Приподняв голову, он в изумлении воззрился на отсеченную часть своего тела, и товарищи, чтобы избавить его от этого зрелища, бережно перенесли бедолагу, точнее его верхнюю половину, в сторону и прислонили к стене карьера. Он пошевелил пальцами, согнул и разогнул руки, повертел головой и дрожащим голосом произнес:
– Я все еще могу шевелиться и говорить. Я вижу вас всех, мои товарищи. Я могу протянуть руку и дотронуться до любого из вас. Я слышу стук инструментов. Я вдыхаю горькую пыль известняка. Я все еще живу. Это чудо!
– Так оно и есть, Ксикама, – хрипло отозвался отец, – но долго это не продлится. Нет смысла даже посылать за врачом. Тебе понадобится жрец. Какого бога, выбирай!
– Очень скоро я уже не смогу делать ничего другого, кроме как приветствовать всех богов, – промолвил Ксикама после недолгого размышления. – Но пока у меня еще есть силы говорить, я хотел бы потолковать с Пожирательницей Скверны.
Пожелание умирающего криками передали наверх, и гонец со всех ног помчался за жрецом богини Тласольтеотль, или Пожирательницы Скверны. Несмотря на неблагозвучное имя, то была милосердная и сострадательная богиня. Именно перед ней умирающие, а в некоторых особых случаях даже вполне здоровые люди каялись в своих грехах и неблаговидных поступках. Она же из милосердия поедала все совершенное ими зло, и недобрые деяния исчезали бесследно, словно их никогда и не было. Грехи больше не числились за этим человеком, они исчезали даже из его памяти, так что уже не тяготили его потом в загробном мире.
Пока мы ждали жреца, Ксикама, отводя глаза от собственного, казавшегося втиснутым в расщелину карьера тела, спокойно и чуть ли не бодро разговаривал с моим отцом. Он сообщил ему все, что хотел передать родителям, вдове и осиротевшим детям, отдал необходимые распоряжения относительно своего небольшого достояния и высказал озабоченность тем, как теперь будет жить его столь нежданно лишившаяся кормильца семья.
– Не тревожься, – сказал мой отец. – Видать, твой тонали в том, чтобы боги прибрали тебя в обмен на благополучие соплеменников. Ты можешь считаться принесенным в жертву, а поэтому и община, и правитель назначат твоей вдове соответствующее возмещение.
– Значит, она получит достойное наследство, – с облегчением произнес Ксикама. – Это очень кстати для такой женщины, еще молодой и красивой. Прошу тебя, старший каменотес, позаботься о том, чтобы моя вдова снова вышла замуж.
– Я сделаю это. Есть еще пожелания?
– Нет, – ответил Ксикама и, оглядевшись по сторонам, усмехнулся. – Вот уж не думал, что когда-нибудь стану сожалеть о том, что больше не увижу эти унылые каменоломни. Должен сказать тебе, что сейчас эта каменная яма кажется мне очень даже красивым местом. Сверху белые облака, под ними голубое небо, а еще ниже белесый камень... словно такие же облака подпирают синь неба и снизу. Жаль только, что зеленые деревья за краем обрыва отсюда мне уже не увидеть...
– Еще увидишь, – поспешил заверить его отец, – но сначала тебе лучше дождаться жреца. Не стоит рисковать и сдвигать тебя с места до его прихода.
Вскоре явился жрец. В своем развевающемся черном одеянии, с запекшейся на черных волосах кровью и сажей на немытом лице, он, казалось, одним лишь своим видом омрачал и пятнал белизну и лазурь окружающего мира, который Ксикаме было так жаль покидать. Остальные рабочие отошли в сторонку, чтобы дать им возможность пообщаться наедине, а отец, приметив наконец меня, сердито велел мне убираться, поскольку подобное зрелище не для детей. Пока Ксикама исповедовался жрецу, четверо работников подобрали вонючую, все еще дергавшуюся нижнюю часть его тела и понесли ее наверх, прочь из карьера.
Одного из них по дороге вырвало.
Надо полагать, Ксикама не был отъявленным злодеем, так что на покаяние перед Пожирательницей Скверны ему потребовалось не так уж много времени. Довольно скоро жрец от имени богини отпустил ему все прегрешения, произнес все предусмотренные обрядом слова, совершил все полагающиеся ритуальные жесты и отошел в сторону. Четверо рабочих бережно подняли все еще живого Ксикаму и со всей возможной быстротой понесли его по серпантину дороги наверх. Оставалась надежда на то, что несчастный проживет еще достаточно долго, чтобы добраться до своей деревни, где сможет попрощаться с семьей и выказать дань уважения тем богам, которых особенно любил. Однако, едва Ксикаму донесли до середины откоса, обрубок его тела стал истекать кровью, извергая одновременно содержимое желудка и сами внутренности. Бедняга перестал говорить и дышать, глаза его закрылись, и увидеть в последний раз зеленые деревья ему так и не удалось.
Некоторое количество добытого на острове известняка шло на возведение наших тламанакали и теокальтин, то есть нашей пирамиды и нескольких храмов. Часть камня сразу откладывалась в сторону, поскольку предназначалась для уплаты налогов в казну или ежегодной дани Чтимому Глашатаю и его Изрекающему Совету. (Когда мне было три года, юй-тлатоани Мотекусома, которого вы почему-то называете Монтесумой, скончался, оставив престол и власть своему сыну, Ашаякатлю, Лику Воды.) Особая доля известняка выделялась на содержание нашего текутли, или наместника, и некоторых других сановников, а также на нужды острова: постройку каноэ, покупку рабов для самых грязных и тяжелых работ, выплату жалованья и тому подобное. Но даже после всего этого у островитян оставалось еще вполне достаточно известняка для продажи и обмена.
Это давало Шалтокану возможность приобретать привозимые купцами товары и пригодные для обмена ценности, которые наш текутли распределял среди своих подданных согласно их положению и заслугам. Кроме того, он разрешал всем жителям острова, кроме, разумеется, рабов и прочих представителей низших каст, строить свои дома из добываемого ими известняка. Таким образом, Шалтокан отличался от большинства наших земель, где жилища в основном сооружались из дерева, высушенных на солнце глиняных кирпичей или тростника. В некоторых общинах много семей селилось под общей крышей одного большого жилища, а кое-где в горных краях люди обитали в пещерах. Только представьте, пол нашего дома, пусть в нем имелось всего три комнаты, был вымощен гладкой белой известняковой плиткой. Лишь немногие дворцы Сего Мира могли похвастаться тем, что на их строительство пошел материал лучшего качества. Однако, хотя жилища свои мы предпочитали строить из камня, остров наш в отличие от некоторых иных населенных долин вовсе не был лишен деревьев.
В то время нами правил Тлакухолтцин, владыка Красная Цапля. Когда-то его далекие предки были в числе первых поселенцев племени мешикатль на острове, а теперь этот человек стал первым среди местной знати. Это, по обычаю, принятому в большинстве земель и племен нашей страны, обеспечивало ему пожизненное пребывание в должности нашего текутли, представителя Изрекающего Совета, возглавлявшегося Чтимым Глашатаем. Владыка Красная Цапля был полновластным правителем и распорядителем каменоломен, озера, острова и всех его обитателей, за исключением, пожалуй, жрецов, которые подчинялись одним только богам.
Далеко не каждой провинции повезло с вождем так, как нашему Шалтокану. Выходцу из знати подобало жить в соответствии со своим положением, то есть служить образцом благородства, однако на деле отнюдь не все люди высокого происхождения соответствовали этому требованию. Тем паче что пили, принадлежавший по рождению к высшей касте, уже не мог стать простолюдином, сколь бы низким и неблаговидным ни было его поведение, хотя равные ему пипилтин имели право сместить недостойного с занимаемой должности и даже, если находили его проступки непростительными, вынести ему смертный приговор. Добавлю также, что, хотя большинство сановников оказывались на высоких постах благодаря своему происхождению, путь наверх не был закрыт и для простонародья.
Я помню двоих жителей Шалтокана, которые возвысились из масехуалтин до пипилтин и получили соответствующее пожизненное содержание. Мицтль, немолодой отставной воин, удостоился имени Свирепого Кугуара за подвиги, совершенные в ходе какой-то давней войны против давно забытого врага. Это стоило ему таких шрамов, что на беднягу было страшно смотреть, но зато он обрел право добавить к своему имени столь желанное для многих «цин», после чего стал именоваться господин Мицтцин Кугуар. Другим человеком, удостоившимся причисления к знати, был Куали-Омеятль, Благой Источник, молодой зодчий с прекрасными манерами, под руководством которого были разбиты замечательные сады, украсившие дворец правителя. Правда, Омеятль был столь же красив, сколь Мицтцин безобразен, так что за время работы во дворце он завоевал сердце девушки по имени Росинка, оказавшейся дочерью правителя. Женившись на ней, зодчий тоже стал именоваться господином. Обращаю ваше внимание на то, что наш владыка Красная Цапля был человеком сердечным и великодушным, но самое главное, справедливым. Когда его дочери, уже упомянутой Росинке, наскучил ее низкорожденный муж и она вступила в связь со знатным юношей, владыка Красная Цапля повелел предать смерти обоих виновных в прелюбодеянии. Многие знатные люди упрашивали его пощадить девушку и ограничиться изгнанием ее с острова, эта просьба была поддержана даже обманутым супругом, но правитель остался непреклонен, хотя все знали, как он любил дочь и сколь нелегким стало для него такое решение.
– Нарушив ради собственного ребенка закон, исполнения которого требую от своих подданных, я лишился бы права называться справедливым правителем, – ответил он представителям знати, а господину Источнику сказал: – Люди будут думать, что ты простил ее не по доброй воле, не по велению сердца, а из желания угодить мне и из страха перед моим саном.
По приказу владыки Росинка была казнена публично, а присутствовать при этом было предписано всем женщинам и девушкам Шалтокана, прежде всего – уже вступившим в пору цветения, но еще не вышедшим замуж, ибо Красная Цапля сказал:
– Их кровь бурлит, и они, возможно, сочувствуют моей дочери или даже завидуют тому, что она нашла свою любовь. Пусть же зрелище ее смерти послужит для них уроком и покажет, к каким последствиям приводит распущенность.
Моя мать пошла посмотреть на казнь, взяв с собой Тцитцитлини, а по возвращении рассказала, что неверная жена и ее любовник были удушены веревками, замаскированными под цветочные гирлянды. Росинка держалась плохо: рыдала, вырывалась, молила о пощаде. Даже обманутый муж плакал, жалея свою беспутную супругу, а вот владыка Красная Цапля не выказал никаких чувств. Тцитци своими впечатлениями от этого зрелища делиться не стала, но зато рассказала, как встретилась у дворца с Пактли, младшим братом приговоренной и сыном Красной Цапли.
– Ты только представь себе, – с дрожью в голосе сказала сестренка, – он уставился на меня, долго смотрел, а потом ухмыльнулся. Оскалил зубы. И это в такой-то день! Не зря его назвали Весельчаком! У меня аж мурашки пошли по коже.
Думаю, из моего рассказа вы поняли, почему все жители острова так высоко ценили нашего беспристрастного, справедливого правителя. По правде говоря, мы все надеялись, что господин Красная Цапля доживет до самых преклонных лет, ибо перспектива оказаться под властью Пактли никого не вдохновляла. Имя юноши означало Весельчак. Но это был как раз тот случай, когда имя плохо подходит своему владельцу. Он был злобным, деспотичным мальчишкой уже задолго до того, как стал носить набедренную повязку. Разумеется, недостойный отпрыск столь почтенного отца не водился с незнатными ребятишками вроде меня, Тлатли или Чимальи, да и был он на год или два нас постарше. Но по мере того как моя сестра Тцитци расцветала, превращаясь в настоящую красавицу, а Пактли начал проявлять к ней повышенный интерес, мы с ней оба стали относиться к нему со все большей настороженностью. Впрочем, рассказ об этом еще впереди.
В ту пору наше сообщество процветало, наслаждаясь довольством и покоем. Боги даровали нам возможность не тратить все свои телесные и душевные силы на добычу средств к пропитанию, что позволяло простым людям мысленно тянуться к дальним горизонтам и вершинам, не предназначавшимся им по рождению. Среди нас, детей, тоже появлялись мечтатели – такими, например, были друзья моего детства Чимальи и Тлатли. Отцы у того и другого были скульпторами-камнерезами, и оба мальчика в отличие от меня собирались пойти по стопам родителей. Причем они мечтали превзойти в этом искусстве своих отцов.
– Я хочу стать самым лучшим скульптором, – сказал мне как-то Тлатли. Он скоблил осколок мягкого камня, который уже начинал напоминать сокола – птицу, в честь которой паренек и получил свое имя. – Ты же знаешь, – продолжил мой товарищ, – статуи и резные отделочные плиты увозят с острова неподписанными, так что их создатели остаются неизвестными. Наши отцы получают за свои труды не больше славы, чем какая-нибудь рабыня, которая плетет коврики из озерного тростника. А почему? Да потому, что наши статуи и узорчатые панно, как и циновки рабыни, ничем особенным не выделяются. Каждый Тлалок, например, выглядит точно так же, как и всякий бог дождя, изваянный на Шалтокане с тех пор, как отцы наших отцов занялись этим промыслом.
– Но, должно быть, – заметил я, – именно такими их хотят видеть жрецы Тлалока.
– Нинотланкукуи тламакацкуе, – пробурчал Тлатли, умевший оставаться внешне невозмутимым. – Насчет этих жрецов скажу так: разжевать и выплюнуть. Лично я делаю изваяния по-новому, не так, как изготовляли их до меня. Да что там до меня: даже две статуи одного и того же бога, сработанные мною, будут хоть чем-то, но различаться. А главное, все они будут узнаваемы как мои творения. Увидев их, люди воскликнут: «Аййо, вот изваяние работы Тлатли!» Мне не придется даже помечать их своим символом сокола.
– Ты, я вижу, хочешь создавать вещи, равные по мастерству Солнечному Камню, – предположил я.
– Еще лучше, – упрямо заявил мой товарищ. – А насчет Солнечного Камня скажу так: разжевать и выплюнуть.
Мне показалось, что это уже с его стороны дерзость, ибо пресловутый Солнечный Камень я видел собственными глазами.
Однако наш общий друг Чимальи устремлял свой взор еще дальше, чем Тлатли. Он намеревался усовершенствовать искусство живописи так, чтобы оно не ограничивалось раскраской скульптур или рельефов. Его мечтой было писать картины и фрески на стенах.
– О, я раскрашу Тлатли его статуи, если он захочет, – сказал Чимальи. – Но скульптура требует лишь плоских красок, поскольку ее форма и объемность сами по себе уже придают краскам свет и тень.
К тому же мне надоели вечно одни и те же, никогда не меняющиеся цвета, которыми пользуются старые мастера росписи. Смешивая различные красители, я пытаюсь получать новые, нужные мне оттенки, чтобы плоское изображение казалось объемным и глубоким. – При этих словах Чимальи оживленно жестикулировал, словно пытаясь создать изображения из воздуха. – Когда ты увидишь мои картины, тебе покажется, будто горы и деревья на них настоящие, хотя объема в них будет не больше, чем в самой панели.
– Но зачем это нужно? – спросил я.
– Затем же, зачем и мерцающая красота и изящная форма колибри! – заявил он. – Послушай, представь себе, что ты жрец Тлалока. Так вот, вместо того чтобы затаскивать огромную статую бога в маленький храм и тем самым сужать и без того тесное помещение, жрецы Тлалока могут просто поручить мне нарисовать на стене изображение бога – каким я его себе представляю, – причем на фоне проливного дождя. Храм будет казаться гораздо больше, чем на самом деле: в этом-то и кроется преимущество тонких плоских картин над объемными, громоздкими скульптурами.
– Да, – сказал я Чимальи, – щит, как правило, достаточно тонкий и плоский. – Это была шутка: имя Чимальи означало «щит», а сам он был долговязым и худым.
Честолюбивые планы, а порой и безудержная похвальба приятелей вызывали у меня снисходительные усмешки, не лишенные, впрочем, оттенка зависти, ибо они в отличие от меня знали, кем хотят стать и чем будут заниматься в жизни. А вот я еще не определился, и ни один бог, как назло, не пожелал послать мне на сей счет знак или знамение. Наверняка я знал только две вещи. Во-первых: я не хочу работать каменотесом в шумном, пыльном да вдобавок еще и опасном карьере. И во-вторых: какой бы путь я ни выбрал, будущее мое не будет связано с Шалтоканом, жить в провинции мне не хотелось.
С соизволения богов я намеревался попытать счастья в месте, предъявлявшем к своим жителям самые высокие требования, но зато и открывавшем самые широкие возможности. В столице, в резиденции юй-тлатоани, где соперничество честолюбивых людей было безжалостным, но где истинно достойный мог снискать достойную его награду. Я хотел отправиться в великий, прекрасный, полный чудес и внушавший благоговейный трепет город Теночтитлан.
Так что если я пока и не знал, какому делу собираюсь посвятить свою жизнь, то по крайней мере насчет того, где мне бы хотелось ее провести, сомнений не было. Теночтитлан сразу покорил мое сердце, хотя я побывал там один-единственный раз. Поездку туда отец подарил мне на седьмой день рождения, в который я получил свое взрослое имя.
Перед этим событием мои родители вместе со мной отправились к жившему на нашем острове тональпокуи, знатоку тональматль, «книги имен». Развернув слоистые страницы огромной, занимавшей большую часть пола его комнаты книги, старый ведун долго, пожевывая губу, внимательно изучал каждое содержащееся в ней упоминание о расположении светил и деяниях богов, имевших отношение к дню Седьмого Цветка месяца Божественного Вознесения года Тринадцатого Кролика, а потом кивнул, бережно закрыл книгу, принял вознаграждение (рулон тонкой хлопковой ткани), побрызгал на меня своей освященной водой и заявил, что отныне, в память о грозе, сопутствовавшей моему появлению на свет, я буду носить имя Чикоме-Ксочитль-Тлилектик-Микстли, то есть Седьмой Цветок Темная Туча. Это если полностью, а уменьшительно меня будут звать Микстли.
Новое имя звучало мужественно и мне понравилось, а вот сам ритуал его избрания впечатления не произвел. Даже в семь лет я, Темная Туча, имел по некоторым вопросам собственное суждение. Я сказал вслух, что это мог сделать любой, причем быстрее и дешевле, за что на меня строго шикнули.
Ранним утром того памятного дня меня отвели во дворец, где нас, с соблюдением церемониала, милостиво принял сам владыка Красная Цапля. Он погладил меня по голове и с отеческим добродушием сказал:
– Еще один мужчина вырос к славе Шалтокана, а?
Правитель собственноручно начертал символы моего имени (семь точек, трехлепестковый цветок и серый, как глина, гриб-дождевик, знак темного облака) в токайяматль, книге записей, куда заносились имена всех жителей острова. Моя страница должна была оставаться там до тех пор, пока я буду жить на Шалтокане, ее могли изъять лишь в случае моей смерти, изгнания за какое-либо преступление или переселения в другое место. Интересно: как давно удалена из этой книги страница Темной Тучи Седьмого Цветка?
Как правило, день получения имени праздновался шумно и многолюдно, как это было; например, у моей сестры. Тогда к нам с подарками явились все наши родственники и соседи. Мать подала на стол множество праздничных угощений. Мужчины курили трубки с пикфетлем, старики пили октли. Но я не возражал против того, чтобы пропустить все это, ибо отец сказал мне:
– Сегодня в Теночтитлан отплывает судно с украшениями для храмов, и на борту найдется местечко не только для меня, но и для тебя. К тому же прошел слух, что в столице должна состояться пышная церемония – в честь какого-то нового завоевания или чего-то в этом роде. Но этот праздник так ловко подгадал и к твоему дню получения имени, Микстли, что мы можем считать, будто его устроили в твою честь.
Вот так и вышло, что после того, как мать и сестра поздравили меня, поцеловав в щеку, я последовал за отцом к грузовому причалу.
На всех наших озерах постоянно царило оживленное движение: каноэ сновали во всех направлениях, словно стайки водомерок. Правда, по большей части то были маленькие, одно– или двухместные скорлупки птицеловов и рыбаков, выдолбленные из древесных стволов в форме бобового стручка. Но попадались и суда покрупнее, вплоть до военных каноэ, рассчитанных на шестьдесят человек, или наших грузовых акали, состоявших из восьми почти таких же больших челнов, борта которых скрепляли между собой. Наш груз, резные известняковые плиты, был аккуратно уложен на днища, причем каждый камень на всякий случай тщательно завернули в толстую циновку.
Понятно, что столь громоздкое судно, да еще с таким тяжелым грузом, двигалось очень медленно, хотя гребли на нем (сменяя на мелководье весла на шесты) двадцать человек, включая моего отца.
Плыть пришлось зигзагом: сначала по озеру Шалтокан на юг, к проливу, оттуда в озеро Тескоко и уже по нему – снова на юго-запад, к городу, так что общее расстояние, которое мы должны были преодолеть, равнялось примерно семи долгим прогонам (эта мера длины приблизительно равна вашей испанской лиге), а наша большая неуклюжая шаланда редко двигалась быстрее, чем человек, идущий пешком. Мы покинули остров задолго до полудня, но в Теночтитлане пришвартовались лишь поздней ночью.
Некоторое время я не видел вокруг ничего особенного: лишь озеро с красноватой водой, которое я так хорошо знал. Потом мы вошли в южный пролив, по обеим сторонам от нас сомкнулась земля, а когда она расступилась вновь, вода постепенно стала приобретать серовато-коричневый оттенок. Мы вошли в великое озеро Тескоко, простиравшееся на юг и восток так далеко, что берега его скрывались за горизонтом.
Мы плыли на юго-запад еще какое-то время, но когда солнце-Тонатиу стал окутывать себя светящейся пеленой ночного наряда, наши гребцы начали табанить, подавая неуклюжее судно к причалу у Великой Дамбы. Эта преграда представляла собой двойной частокол из вбитых вплотную друг к другу в дно озеро древесных стволов, пространство между параллельными рядами которых было плотно засыпано землей и гравием. Плотина служила препятствием для волн, которые при сильном восточном ветре грозили низко лежащему на берегу городу-острову затоплением. В запруде через равные промежутки были проделаны ворота, и служители держали их открытыми почти в любую погоду. Однако число лодок и суденышек, направлявшихся в столицу, было столь велико, что нам пришлось занять место в очереди и ждать.
Тем временем Тонатиу уже набросил на свое ложе темное покрывало ночи, окрашенное в пурпурный цвет. Очертания высившихся на западе, прямо перед нами, гор неожиданно приобрели особую четкость, но лишились объемности, словно это были лишь силуэты, вырезанные из черной бумаги. Над их контурами проступало робкое свечение, а потом, заверяя нас в том, что наступившая ночь отнюдь не последняя и не вечная, ярко воссияла звезда Вечерней Зари.
– Теперь, о сын мой Микстли, открой пошире глаза! – воззвал ко мне отец.
Если звезда над горизонтом явилась как бы сигнальным огнем, то спустя несколько мгновений из тьмы под зубчатой линией гор стала выступать целая россыпь огней, которые на первый взгляд тоже могли показаться звездами.
Вот так впервые в жизни я увидел Теночтитлан.
Он предстал передо мной не городом каменных башен, резного дерева и ярких красок, но городом огней. По мере того как зажигались лампы, фонари, свечи и факелы – в оконных проемах на улицах, вдоль каналов, на террасах, карнизах и крышах, – отдельные точки света складывались в светящиеся линии, вырисовывая в темноте очертания города.
Сами здания с такого расстояния виделись темными пятнами с почти неразличимыми контурами, но светочи, аййо, сколько там было светочей! Желтые, белые, красные, гиацинтовые – самые разнообразные оттенки пламени! То здесь, то там виднелись огни – зеленые или голубые: это жрецы бросали в алтарные курильницы щепотки окрашивающих пламя солей. И каждая из этих светящихся бусинок, гроздьев и полос света сияла дважды, ибо каждый огонек отражался в озере.
Даже на каменных мостах, дуги которых соединяли остров с сушей, даже над их пролетами, на одинаковом расстоянии друг от друга были расставлены столбы с зажженными фонарями. С нашего акали я видел лишь две дамбы, протянувшиеся из города на север и на юг. Вместе они выглядели как изящная, унизанная драгоценными каменьями цепочка, удерживавшая на бархатной груди ночи великолепный, сверкающий кулон города.
– Теночтитлан, Им Кем-Анауак Йойотли, – пробормотал вполголоса мой отец. – Истинное Сердце Сего Мира.
Я был настолько заворожен открывшимся мне зрелищем, что даже не заметил, как он подошел и встал рядом со мной на носу судна.
– Смотри как следует, сын мой Микстли. Возможно, тебе еще не единожды доведется увидеть и это чудо, и много других чудес. Но первый раз, он не повторяется никогда.
Не моргая и не отрывая глаз от великолепия, к которому мы все слишком медленно приближались, я лежал на циновке и таращился вперед до тех пор, пока, стыдно сказать, мои веки не смежились сами собой и меня не сморил сон. У меня не осталось никаких воспоминаний ни о той суете и суматохе, которые наверняка сопровождали нашу высадку, ни о том, как отец отнес меня на ближайший постоялый двор для лодочников, где мы и заночевали.
Я проснулся в ничем не примечательной комнате на соломенном тюфяке, брошенном на пол. Рядом на таких же тюфяках похрапывали мой отец и несколько других мужчин. Сообразив, что мы находимся на постоялом дворе, который, в свою очередь, находится в столице, я опрометью бросился к окну, выглянул... и обнаружил, что каменная мостовая так далеко внизу, что голова моя пошла кругом. Впервые в жизни мне довелось оказаться в хижине, поставленной поверх другой хижины. Так, во всяком случае, я решил в тот момент, и уже потом, когда мы вышли наружу, отец показал мне наше окошко, находившееся на верхнем этаже.
Оторвав взгляд от мостовой, я устремил его за пределы причалов, обозревая город. В лучах утреннего солнца он весь сиял, пульсировал, светился удивительной белизной. В сердце моем пробудилась гордость за свой родной остров, ибо даже те здания, которые не были сложены из белого известняка, покрывала белая штукатурка, а я хорошо знал, что большая часть этих материалов добывается у нас на Шалтокане. Конечно, здания здесь были украшены и росписями, и многоцветными мозаичными бордюрами, и панелями, однако преобладающим цветом оставался белый. А первым моим впечатлением стала сверкающая, почти серебряная белизна, от которой у меня чуть ли не заболели глаза.
Теперь все ночные огни были потушены, и лишь над алтарными курильницами к небу кое-где поднимались струйки дыма. Но взамен огней моему взору открылось новое чудо: над каждой крышей, каждым храмом, каждым дворцом, каждой высокой точкой в городе поднимался флагшток, а на каждом флагштоке реяло знамя. Они не были квадратными или треугольными, как боевые стяги, длина этих знамен во много раз превышала их ширину. На белом фоне красовались цветные символы, в том числе знаки самого города, Чтимого Глашатая и некоторых известных мне богов. Остальные были мне незнакомы: я предположил, что это знаки столичной знати и местных богов.
Флаги белых людей – это всего лишь полосы ткани, и хотя порой на них со впечатляющим искусством изображены сложные геральдические фигуры, они так и остаются лоскутами, то вяло обвисающими на своих флагштоках, то трепещущими и капризно полощущимися, как белье, развешанное женщинами на кактусах для просушки. Эти же невероятно длинные знамена Теночтитлана были сотканы из перьев, тончайших перьев, из которых удалили стержни. Флаги не раскрашивали и не пропитывали красками, ибо белый фон создавали белые перья цапли, тогда как на цветные изображения шли разноцветные перья других птиц. Красные – ара, кардиналов и длиннохвостых попугаев, голубые – соек и некоторых журавлей, желтые – туканов и танагр. Аййо, там были представлены все цвета радуги, все оттенки и переливы, доступные лишь живой природе, а не человеку, пытающемуся подражать ей, смешивая краски в горшочках.
Но чудеснее всего то, что наши знамена не обвисают, не полощутся – они парят! То утро выдалось безветренным, но одно лишь движение людей на улицах и судов на каналах создавало воздушные потоки, достаточные для поддержания этих огромных, но почти невесомых флагов. Подобно огромным птицам, не желающим улетать, довольствуясь сонным дрейфом, эти знамена, тысячи сотканных из перьев знамен, парили над землей и, словно под воздействием магической силы, мягко, беззвучно совершали волнообразные движения на всех башнях и шпилях волшебного города-острова. Рискнув высунуться из окна, я далеко на юго-востоке разглядел два вулканических конуса, называвшихся Попокатепетль и Истаксиуатль, что означает гора, Курящаяся Благовониями, и Белая Женщина. Хотя уже начался сухой сезон и дни стояли теплые, обе горы венчали белые шапки (впервые в жизни я увидел снег), а ладан, тлевший глубоко внутри Попокатепетля, воспарял вверх струйкой голубоватого дыма. Ветерок сносил эту струйку в сторону, и она тянулась над пиком, как знамена из перьев над Теночтитланом. Отпрянув от окна, я бросился будить отца. Он, надо думать, устал и хотел поспать, но прекрасно понимал, что ребенку не терпится выбраться наружу, а потому и не думал меня бранить.
Поскольку за разгрузку баржи и доставку груза по назначению отвечал тот, кому этот груз был предназначен, мы с отцом получили в свое распоряжение целый день. Правда, мать дала ему поручение, велев сделать какую-то покупку. Что именно следовало купить, я уже забыл, помню только, что первым делом мы направились на север, в Тлателолько.
Как вы знаете, почтенные братья, эта часть острова, которую вы теперь называете Сантьяго, отделена сейчас от южной части лишь широким каналом, через который перекинуто несколько мостов. Однако в прошлом Тлателолько являлся независимым городом с собственным правителем и дерзко соперничал с Теночтитланом, стараясь превзойти его великолепием. Долгие годы наши Чтимые Глашатаи относились к этому снисходительно, но когда бывший правитель города Мокуиуи имел наглость построить храмовую пирамиду выше, чем любая в четырех кварталах Теночтитлана, юй-тлатоани Ашаякатль с полным на то основанием возмутился. А возмутившись, приказал своим магам воздействовать на безмерно возгордившегося соседа.
Не знаю, правда ли это, но говорят, что вырезанное на стене тронного зала каменное лицо Мокуиуи неожиданно заговорило с живым правителем, причем высказалось относительно его мужского достоинства столь оскорбительно, что Мокуиуи схватил боевую дубинку и обрушил ее на рельеф. Но потом, ночью, когда он отправился в постель со своей Первой Госпожой, с ним завели беседу на ту же самую тему срамные губы его супруги. Эти удивительные события страшно напугали Мокуиуи, не говоря уж о том, что действительно лишили его мужской силы, так что правитель перестал уединяться даже с наложницами. Однако он по-прежнему ни в какую не желал уступить и признать свою зависимость от Чтимого Глашатая. Кончилось тем, что незадолго до того, как отец меня повез в столицу, Ашаякатль занял Тлателолько силой, применив оружие.
Он собственноручно сбросил Мокуиуи с вершины его непристойно высокой пирамиды и вышиб тому мозги. Таким образом, ко времени нашего с отцом прибытия, случившегося всего-то через несколько месяцев после этого события, Тлателолько, оставаясь по-прежнему чудесным городом храмов, дворцов и пирамид, вошел в состав Теночтитлана и стал его пятым, торговым кварталом.
Тамошний гигантский открытый рынок показался мне по размеру таким же большим, как весь наш остров Шалтокан, но только более богатым и многолюдным и несравненно более шумным. Пешеходные проходы разделяли рынок на участки, где торговцы выкладывали свои товары на лавки или подстилки. Каждый участок предназначался для торговли определенным видом товаров. Там имелись ряды для продавцов золотых и серебряных украшений, перьев и изделий из них, овощей и приправ, мяса и рыбы, тканей и кожевенных изделий, рабов и собак, посуды глиняной и металлической, медных изделий, лечебных снадобий и снадобий, дарующих красоту, веревок, канатов, пряжи, певчих птиц, обезьян и различных домашних животных. Впрочем, этот рынок был восстановлен, и вы наверняка его видели. Хотя мы с отцом заявились туда рано утром, торг уже шел вовсю. Большинство покупателей были масехуалтин, как и мы, но встречались и представители знати, властно указывавшие на интересовавшие их товары, предоставляя торговаться сопровождавшим их слугам.
К счастью, мы пришли достаточно рано, чтобы застать на месте торговца, чей товар был настолько скоропортящимся, что к середине утра его уже не оставалось. Среди всей предлагавшейся покупателям снеди это лакомство считалось самым изысканным деликатесом, ибо то был снег, снег с вершины горы Истаксиуатль. Доставленный быстроногими гонцами с расстояния в десять долгих прогонов, он сохранялся в толстостенных глиняных горшках, под кипами циновок. Одна порция снега стоила два десятка бобов какао, что составляло среднюю поденную плату работника во всем Мешико. За четыреста бобов можно было купить здорового, крепкого раба, так что если мерить по весу, снег оказывался дороже даже лучших изделий из золота и серебра. Позволить себе столь редкостное освежающее лакомство могли лишь немногие богатые люди, однако торговец заверил нас в том, что его товар всегда распродается, прежде чем снег успевает растаять.
– А вот я, – проворчал отец, – хорошо помню, как в Суровые Времена, в год Первого Кролика, снег падал с неба аж шесть дней кряду. Его можно было брать даром, сколько угодно, но люди считали это бедствием.
Однако продавец на эти его слова никак не отреагировал, да и сам отец тут же смягчился и сказал:
– Ну что ж, раз сегодня у мальчика седьмой день рождения...
Сняв наплечную суму, он отсчитал двадцать бобов какао и вручил их торговцу. Тот осмотрел их, удостоверился, что ни один из бобов не выдолблен изнутри и не наполнен для веса землей, а потом открыл свой кувшин, зачерпнул оттуда столовую ложку драгоценного лакомства, вложил его в сделанный из свернутого листа кулек, полил сверху сладким сиропом и вручил мне.
Я нетерпеливо впился в угощение зубами и от неожиданности чуть не выронил его. Лакомство оказалось таким холодным, что у меня заломило нижние зубы и лоб, но за всю свою жизнь мне не доводилось пробовать ничего более вкусного. Я протянул кусок отцу, предлагая попробовать. Он лизнул его разок языком, явно посмаковал и насладился не меньше меня, но сделал вид, что больше не хочет.
– Не кусай его, Микстли, – сказал он. – Лучше лижи: и зубы не заболят, и на дольше хватит.
Затем он купил то, что велела мать, и отослал носильщика с покупкой к нашей лодке, после чего мы с ним снова пошли на юг, к центру города. Многие из самых обычных домов Теночтитлана имели по два, а то и по три этажа, но некоторые были еще выше, ибо почти все здания там, дабы уберечься от сырости, были построены на сваях. Дело в том, что остров нигде не поднимался над уровнем озера Тескоко выше чем на два человеческих роста. В те времена Теночтитлан во всех направлениях пересекали каналы, которых было почти столько же, сколько и улиц, так что сплошь и рядом люди, идущие по мостовой, запросто могли разговаривать с плывущими по воде. На одних перекрестках мы видели сновавшие туда-сюда толпы пешеходов, на других – проплывавшие мимо каноэ. На некоторых из них шустрые лодчонки перевозили людей по городу быстрее, чем те могли передвигаться пешком.
Попадались и личные акалтин знатных людей: вместительные, ярко разрисованные и великолепно украшенные, с балдахинами, защищавшими от солнца. Улицы имели гладкое, прочное глиняное покрытие, берега каналов были выложены кирпичом. Во многих местах, где вода в канале стояла почти вровень с мостовой, переброшенные через протоку мостки можно было откинуть в сторону, чтобы дать пройти лодке.
Точно так же, как сеть каналов, по существу, делала озеро Тескоко частью города, так и три главных проспекта делали сам город частью материка. Покидая пределы острова, эти широкие дороги тянулись по Великой Дамбе к берегам озера, так что можно было свободно добраться пешком до любого из пяти соседних городов, лежавших на севере, западе и юге. Еще одна дамба не предназначалась для пешеходов, ибо представляла собой акведук. По ней проходил желоб шириной и глубиной в два размаха человеческих рук. По этому желобу, выложенному плиткой, на остров поступала (да и по сию пору поступает) свежая вода из расположенного к юго-западу от столицы источника Чапультепек.
Поскольку все сухопутные и водные пути сходились в Теночтитлане, мы с отцом имели возможность полюбоваться подлинным парадом товаров и изделий, произведенных во всех уголках Мешико и за его пределами. Улицы заполняли носильщики, перетаскивавшие на спинах грузы, крепившиеся с помощью наброшенных на лоб лямок, а по каналам нескончаемым потоком двигались каноэ, доверху нагруженные товарами, предназначенными для продажи на большом рынке Тлателолько или уже купленными там. На других лодках, направлявшихся к дворцам, сокровищницам и государственным складам, доставлялись подати из провинций и дань, уплачивавшаяся покоренными племенами. Одного лишь многообразия корзин с фруктами было достаточно для того, чтобы составить представление о размахе торговли. Гуавы и медовые яблоки из земель отоми, что на севере, соседствовали с выращенными тотонаками у восточного моря ананасами, а желтые папайи, привезенные из западного Мичоакана, с красными – из Чиапана, что на дальнем юге. Из южной страны сапотеков, как говорят, получившей название как раз по этому фрукту, везли сапатин, мармеладные сливы.
Оттуда же, из страны сапотеков, доставляли мешочки с маленькими сушеными насекомыми, вываривая которых получали яркие красители нескольких оттенков красного цвета. Из ближнего Шочимилько поступали цветы и растения, столь разнообразные и в таком количестве, что в это трудно было поверить, а из дальних южных джунглей – клетки с разноцветными птицами и целые тюки их перьев. Жаркие Земли, лежащие на западе и востоке, снабжали Теночтитлан какао, из которого изготовляют шоколад, и черными стручками – сырьем для получения ванили. Обитавшие на юго-восточном побережье ольмеки слали на продажу товар, давший имя самому этому народу, – оли, упругие полоски затвердевшего сока, идущие на изготовление мячей для нашей игры тлачтли. Даже Тлашкала, страна, извечно враждовавшая с Мешико, присылала сюда свой драгоценный копали, ароматную смолу, служившую основой для многих мазей, масел и благовоний.
Носильщики тащили на спинах коробы и клети с маисом, бобами и хлопком, целые связки оглушительно кричавших живых хуаксоломе (крупных, черных с красными бородками птиц, которых вы называете галльскими павлинами) и корзины с их яйцами, клетки с не умеющими лаять, лишенными шерсти съедобными собаками течичи, кроличьи тушки, оленьи и кабаньи окорока, кувшины со сладким водянистым соком магуйиш или более густым и клейким продуктом брожения того же сока, хмельным напитком под названием октли.
Отец как раз указывал мне на все эти товары и объяснял, что есть что, когда чей-то голос прервал его:
– Всего за два какао-боба, мой господин, я расскажу о дорогах и днях, ждущих впереди твоего сына Микстли, отпраздновавшего седьмой день рождения.
Мой отец обернулся. У его локтя стоял согбенный низкорослый старикашка, который и сам по виду смахивал на боб какао. Не исключено, что когда-то он был гораздо выше ростом, но с возрастом, который, однако, трудно было определить по его виду, усох и съежился. Если подумать, старик, пожалуй, во многом походил на нынешнего меня. Он ладонью вверх протянул вперед обезьянью руку и снова повторил:
– Всего два боба, мой господин.
Но отец покачал головой и учтиво сказал:
– Для того чтобы узнать будущее, принято обращаться к прорицателю.
– А скажи-ка, – молвил согбенный коротышка, – а случалось ли, чтобы при посещении этих хваленых прорицателей кто-то из них с первого взгляда узнал в тебе мастера из каменоломен Шалтокана?
– Так ты, значит, настоящий провидец! – удивленно выпалил отец. – Ты способен прозревать будущее. Но тогда почему...
– Почему я расхаживаю в лохмотьях с протянутой рукой? Потому что я говорю правду, а люди мало ее ценят. Так называемые прорицатели едят священные грибы, приносящие им видения, а потом невнятно толкуют эти свои сны, потому что за невнятицу больше платят. А я просто вижу, что в твои костяшки въелась известковая пыль, однако ладони не покрыты мозолями, какие оставляет кувалда каменотеса или резец скульптора. Понял? Тайна моей прозорливости стоит так дешево, что я раскрываю ее даром.
Я рассмеялся. Рассмеялся и мой отец, который заявил:
– Ты забавный старый мошенник. Но у нас много дел в других местах...
– Постой, – настойчиво сказал старик. Он наклонился (при его-то росточке это было не так уж трудно) и всмотрелся в мои глаза. Я в ответ уставился прямо на него.
Можно было предположить, что этот старый попрошайка, находясь где-то поблизости, когда отец покупал мне лакомый снег, подслушал упоминание о том, что я праздную седьмой день рождения, и принял нас за деревенских простаков, каких городские пройдохи легко обводят вокруг пальца. Но впоследствии, по прошествии немалого времени, события повернулись так, что я изо всех сил старался вспомнить все сказанное им тогда слово в слово...
Старик внимательно всмотрелся в глубину моих глаз и вполголоса пробормотал:
– Любой прорицатель может устремить взгляд вдоль дорог и дней. Даже если он и вправду увидит то, чему суждено произойти, его и будущее надежно разделяют время и расстояние, а значит, самому провидцу от такого знания нет ни вреда, ни пользы. Но тонали этого мальчика состоит в том, чтобы пристально смотреть на сущее и происходящее в этом мире, видеть вещи и дела близкими и простыми и постигать их значение. – Он выпрямился. – Поначалу, мальчик, эта способность покажется тебе никчемной, однако сей тип прозорливости – видение того, что вблизи, – позволит тебе различать истины, которые смотрящие вдаль способны проглядеть. Если ты сумеешь извлечь пользу из своего таланта, это поможет тебе стать богатым и великим.
Мой отец терпеливо вздохнул и полез в свой мешок.
– Нет, нет, – возразил старик. – Я не пророчествую твоему сыну богатство или славу. Я не обещаю ему руку прекрасной дочери вождя или честь стать основателем выдающегося рода. Мальчик Микстли узрит истину, это так. Но он не только ее узрит, он еще и поведает о ней, а это чаще приносит бедствия, чем награды. За такое двусмысленное предсказание, господин, я не прошу мзды.
– Все равно возьми, старик, – сказал мой отец и сунул ему один боб. – Бери, только ничего больше нам не предсказывай.
В центре города торговля шла не так оживленно, как в рыночном квартале, но народу было не меньше, ибо все горожане, не занятые важными делами, стягивались к площади, чтобы присутствовать на церемонии. Осведомившись у какого-то прохожего, какой сегодня ожидается ритуал, отец выяснил, что собираются освящать Камень Солнца в связи с присоединением Тлателолько. Большинство собравшихся принадлежали, как и мы, к простонародью, но и пипилтин было столько, что хватило бы, дабы населить одной только знатью внушительных размеров город. Так или иначе, мы с отцом не зря поднялись спозаранку.
Хотя людей на площади уже собралось больше, чем шерстинок на голове у кролика, они не до конца заполнили эту огромную территорию. Мы могли свободно передвигаться и обозревать различные достопримечательности.
В те времена центральная площадь Теночтитлана – Кем-Анауак Йойотли, Сердце Сего Мира – еще не обладала тем поражающим воображение великолепием, какое она обрела впоследствии. Ее еще не обнесли Змеиной стеной, а Чтимый Глашатай Ашаякатль по-прежнему жил во дворце своего покойного отца Мотекусомы, в то время как новый дворец уже строился для него наискосок через площадь. Новая Великая Пирамида, заложенная еще тем, первым Мотекусомой, не была закончена. Ее пологие каменные стены и лестницы с перилами в виде змей заканчивались высоко над нашими головами, тогда как старая, не столь грандиозная пирамида оставалась внутри. Однако даже в таком виде площадь вполне могла вызвать у деревенского мальчишки вроде меня благоговейный трепет. Отец рассказал, что как-то раз он измерил шагами одну сторону площади: получилось шестьсот ступней. Все это огромное пространство – шестьсот человеческих ступней с севера на юг и столько же с востока на запад – было вымощено мрамором, камнем, превосходящим белизной даже известняк Шалтокана. Мрамором, отполированным до блеска и сиявшим как тецкаль, так называется зеркало. Многим людям, явившимся в тот день на площадь в обуви с гладкими кожаными подошвами, пришлось, чтобы не скользить, разуться и ходить босыми.
Оттуда, с площади, начинались три самые широкие городские улицы, по каждой из которых в ряд могли пройти до десятка человек. На берегу озера улицы переходили в дороги, ведущие по дамбам к материку. Храмов, изваяний и алтарей в ту пору на площади было меньше, чем стало в последующие годы, однако скромные теокальтин со статуями главных богов города уже возвели, а на украшенном искусной резьбой выступе красовались черепа наиболее примечательных ксочимикуи, принесенных тому или иному из этих богов в жертву. Имелись здесь также площадка для игры в мяч, где пред очами Чтимого Глашатая разыгрывались ритуальные партии в тлачтли, и Дом Песнопений с удобными помещениями для известных певцов, танцоров и музыкантов, выступавших на площади во время религиозных праздников. В отличие от многих иных зданий Дом Песнопений не был впоследствии полностью уничтожен. Его восстановили, и сейчас, до завершения строительства вашего кафедрального собора Святого Франциска, он служит временной резиденцией его преосвященства сеньора епископа. Собственно говоря, о писцы моего господина, в одном из помещений этого Дома Песнопений мы с вами сейчас и находимся.
Верно рассудив, что семилетний мальчик едва ли особо заинтересуется религиозными или архитектурными достопримечательностями, отец повел меня прямиком к стоявшему на юго-восточной оконечности площади зданию, вмещавшему значительно разросшуюся в последующие годы коллекцию редких животных и птиц, принадлежавшую самому юй-тлатоани. Начало ей положил покойный правитель Мотекусома, задумавший выставить для всеобщего обозрения зверей и птиц, обитающих в разных частях его державы. Здание было разделено на множество отсеков – от крохотных каморок до просторных залов, – а отведенный от ближайшего канала желоб с проточной водой обеспечивал возможность постоянного смывания нечистот.
Каждое помещение выходило в коридор, по которому двигались посетители, но отделялось от него сеткой или, в некоторых случаях, прочной деревянной решеткой. Различные виды живых существ содержались порознь, вместе их помещали лишь в тех случаях, если они не враждовали и не мешали друг другу.
– А они всегда так орут? – крикнул я отцу, стараясь перекрыть рев, вой и пронзительные вопли.
– Точно не знаю, – ответил он, – но сейчас некоторые звери, из числа хищных, голодны. Некоторое время их специально не кормили, ибо в ходе церемонии будут принесены жертвы. Тела убитых скормят ягуарам, кугуарам, койотам и цопилотин, плотоядным птицам.
Я рассматривал самое крупное из водившихся в наших краях животное – безобразного, громоздкого и медлительного тапира, покачивавшего выступающим вперед рылом, когда вновь послышался знакомый голос:
– Эй, мастер каменоломен, почему ты не покажешь сыночку зал текуани?
Бросив раздраженный взгляд на говорившего, того самого сморщенного смуглого старикашку, который цеплялся к нам с пророчеством, отец поинтересовался:
– Ты что, следишь за нами, старый надоеда?
Старик пожал плечами.
– Я просто притащил свои древние кости сюда, посмотреть на ритуал освящения Камня Солнца.
Потом он жестом указал на закрытую дверь в дальнем конце коридора и сказал мне:
– Вот там, сынок, уж точно есть на что посмотреть. Люди-звери гораздо интереснее, чем простые животные. Знаешь ли ты, например, что такое тлакацтали? Это человек с виду самый обычный, но мертвенно-белый. Там есть такая женщина. А еще там есть карлик, у которого имеется только половина головы. Его кормят...
– Замолчи! – тихо, но строго велел отец. – У мальчика сегодня праздник. Я хочу доставить ему удовольствие, а не пугать ребенка видом жалких, несчастных уродцев.
– Ладно, ладно, – проворчал старик. – Попадаются ведь и такие, кто как раз наибольшее удовольствие получает, глядя на убогих да увечных. – Он посмотрел на меня, и глаза его сверкнули. – Ну что ж, юный Микстли, несчастные все еще будут там, когда ты войдешь в подходящий возраст, чтобы над ними насмехаться. Рискну предположить, что к тому времени диковин, еще более забавных и поучительных, в зале текуани только прибавится.
– Замолчишь ты наконец или нет? – взревел отец.
– Прошу прощения, мой господин, – отозвался согбенный старик, сгорбившись еще больше. – Позволь мне загладить свою дерзость. Уже почти полдень, и церемония скоро начнется. Если мы пойдем прямо сейчас и займем хорошие места, может быть, я сумею растолковать мальчику, да и тебе тоже, некоторые вещи, в которых вы иначе можете и не разобраться.
Теперь площадь была набита битком, люди стояли впритык, плечом к плечу. Нам ни за что не удалось бы подобраться сколь бы то ни было близко к Камню Солнца, когда бы не странный старик. Дело в том, что самые знатные люди стали подтягиваться к площади в последний момент. Их несли на задрапированных, ярко разукрашенных креслах-носилках, и толпа, состоявшая из простых людей, сколь бы тесной она ни была, торопливо расступалась, давая знати дорогу. А вот наш горбун, ничуть не робея, протискивался следом за носилками. Мы шли позади него и, таким образом, оказались почти в самых первых рядах, среди важных разодетых особ. Меня чуть не затолкали, но отец поднял меня и посадил на плечо, чтобы лучше было видно.
– Я могу поднять и тебя, – промолвил он, взглянув вниз, на старика.
– Спасибо на добром слове, мой господин, – отозвался тот, – но я тяжелее, чем кажусь с виду.
Все взгляды устремились на Камень Солнца, установленный по этому случаю на уступе, между двумя широкими лестницами незаконченной Великой Пирамиды. Правда, сам камень пока был укрыт покрывалом из сияющего белого хлопка, поэтому я принялся во все глаза рассматривать носилки и одеяния знатных особ. Там было на что посмотреть. И мужчины и женщины красовались в мантиях, сотканных исключительно из перьев, иногда – многоцветных, иногда – переливчатых, а порой – сияющих разными оттенками одного цвета.
Волосы знатных женщин, как и приличествовало на столь важной церемонии, были окрашены пурпуром, к тому же они высоко поднимали руки, показывая браслеты и унизывавшие их пальцы перстни. Однако знатные мужи носили еще больше великолепных украшений, чем их жены и дочери. Головы вельмож покрывали золотые диадемы с пышными венцами из перьев, шеи украшали золотые цепи с медальонами, а уши, ноздри или губы – золотые серьги и кольца (иногда украшения имелись во всех трех местах).
– А вот и Верховный Хранитель святилища богини Сиуакоатль, – промолвил наш проводник. – Змей-Женщина, второе по значимости лицо после самого Чтимого Глашатая.
Я вытаращил глаза, рассчитывая и вправду увидеть женщину-змею, то есть кого-то из тех загадочных «людей-зверей», на которых мне так и не позволили взглянуть, но Верховным Хранителем оказался обычный пили, причем мужчина, выделявшийся среди прочих лишь еще большей роскошью одеяния. Его нижнюю губу, делая его похожим на рыбину с разинутым ртом, оттягивало удивительно тонкой работы золотое украшение в виде миниатюрной змеи, которая, в то время как сановник покачивался на носилках, извивалась и высовывала крохотный раздвоенный язычок в такт шагам носильщиков.
Покосившись на меня и, видимо, заметив на моем лице разочарование, старик рассмеялся.
– Змей-Женщина, сынок, это всего лишь титул, а не описание человека, – пояснил он. – Его получает каждый Верховный Хранитель святилища богини Сиуакоатль. Так повелось издавна, хотя вряд ли кто-нибудь может толком объяснить почему. Мне лично кажется, все дело в том, что и змеи, и женщины плотными кольцами сворачиваются вокруг любого сокровища, которое могут удержать.
Но тут гомон заполнявшей площадь толпы стих: появился сам юй-тлатоани. То ли он прибыл незамеченным, то ли прятался где-то рядом, но, так или иначе, совершенно неожиданно верховный правитель вдруг возник рядом с укутанным покрывалом Камнем Солнца. Лицо его было трудно разглядеть, ибо нос и уши скрывали золотые пластины, такая же пластина красовалась на губе, а чело затенял пышный венец из алых, вздымавшихся вверх и ниспадавших дугой на плечи перьев ары. Тело правителя тоже почти полностью скрывали одежды и украшения. На груди сиял огромный, искусной работы медальон, бедра опоясывала повязка из тонко выделанной красной кожи, а оплетавшие ноги до колен золоченые ремешки поддерживали сандалии, сделанные, похоже, из чистого золота.
По обычаю все мы, собравшиеся на площади, должны были при его появлении совершить обряд тлалкуалицтли – преклонить колени и коснуться пальцем земли, а потом губ. Чтимый Глашатай Ашаякатль ответил на общее приветствие кивком, всколыхнувшим алые перья венца, и поднятием вырезанного из красного дерева и отделанного золотом скипетра, одного из символов верховной власти.
Разительный контраст с блистающим великолепием Ашаякатля являла окружавшая его толпа жрецов – в грязных, вонючих одеждах, с черными от запекшейся грязи лицами и длинными, спутавшимися и слипшимися от крови волосами.
Чтимый Глашатай вознес хвалу Камню Солнца, тогда как жрецы всякий раз, когда он умолкал, чтобы перевести дух, заполняли паузы пением заклинаний. Нынче я уже не могу припомнить слова Ашаякатля, да и в ту пору, надо полагать, едва ли мог полностью понимать их значение. Но суть сводилась к следующему: поскольку Камень Солнца есть изображение и символ бога солнца Тонатиу, честь, воздаваемая ему, воздается одновременно и главному богу Теночтитлана Уицилопочтли, Южному Колибри.
Я уже рассказывал о том, что мы почитали одних и тех же богов в разных обличьях и под разными именами. Так вот, Тонатиу был солнцем, а без солнца, как известно, существовать невозможно, ибо все живое на Земле погибло бы, лишившись его тепла. Жители Шалтокана, как и многие другие народы, поклонялись ему именно в этом качестве. Однако казалось очевидным, что солнце, дабы продолжить свои неустанные труды и каждодневное горение, требует насыщения, – а в чем из того, что могли предложить ему люди, было больше живительной силы и энергии, чем в том, что даровал нам сам этот бог? Я имею в виду человеческую жизнь. И если бог солнца был добр, то другим его воплощением являлся свирепый бог войны Уицилопочтли, под чьим водительством наше воинство добывало пленных, необходимых для свершения жертвенных обрядов. И именно в этом суровом его обличье Уицилопочтли более всего почитали здесь, в Теночтитлане, потому что именно в этом городе планировались и объявлялись все войны и здесь же собирались воины. А под еще одним именем – Тескатлипока, Дымящееся Зеркало, – солнце было главным богом наших соседей – аколхуа. И сдается мне, что все бесчисленные народы, о которых я и не слышал, даже живущие за морем, по которому приплыли вы, испанцы, наверняка почитают того же самого бога, только называют его каким-то другим именем, а то и разными именами, в зависимости от того, каким – улыбающимся или хмурым – они его видят.
Пока юй-тлатоани произносил речь, жрецы распевали священные песнопения, а музыканты подыгрывали им на флейтах из человеческих костей и на барабанах из человеческой же кожи, сморщенный старик потихоньку поведал нам с отцом историю Камня Солнца.
– К юго-востоку отсюда находится страна чайка. Когда двадцать два года назад покойный правитель Мотекусома покорил тамошний народ, им, естественно, пришлось преподнести Мешико подношение. Двое молодых чайка, родные братья, вызвались изготовить каждый по монументальному изваянию для установки здесь, в Сердце Сего Мира. Братья выбрали сходные камни, но обрабатывали их по-разному, работали по отдельности и никому ничего не показывали.
– Ну уж их жены-то наверняка подсмотрели, – заметил отец, ибо его собственная жена точно не упустила бы такой возможности.
– Целых двадцать два года, пока они обрабатывали и окрашивали камни, никто ничего не видел, – упрямо повторил старик. – За это время оба скульптора достигли среднего возраста, а Мотекусома отправился в загробный мир. Потом братья запеленали свои произведения в циновки, и правитель земель чайка отрядил примерно тысячу сильных, крепких мужчин, чтобы перетащить эти камни сюда, в столицу. – Старик махнул рукой в сторону все еще скрытого покрывалом предмета, стоящего на уступе. – Как вы видите, Камень Солнца огромен. Высотой он в два человеческих роста, а весит столько же, сколько триста двадцать взрослых мужчин. Второй камень был примерно таким же. Их доставляли по лесным тропам, а то и вовсе по бездорожью: то катили, подкладывая круглые бревенчатые катки, то волокли на деревянных слегах, а через реки переправляли на мощных плотах. Только представьте себе, каких это стоило трудов, сколько пролилось пота и было сломано костей и сколько людей пало замертво, не выдержав напряжения и безжалостных плетей надсмотрщиков!
– А где второй камень? – спросил я, но мой вопрос остался без ответа.
– Наконец они пересекли на плотах озера Чалько и Шочимилько, после чего вышли к главной дороге, что вела на север, в Теночтитлан. Оттуда до этой площади оставалось не более двух долгих прогонов, причем по широкой, ровной дороге. Ваятели вздохнули с облегчением. Наконец-то плоды их многолетнего усердного труда, ценой чудовищных усилий многих людей, оказались совсем недалеко от цели...
Толпа вокруг нас зашумела. Примерно двадцать человек, чья кровь должна была в тот день освятить Камень Солнца, выстроились в очередь, и первый из них уже начал подниматься по ступенькам пирамиды. Оказалось, что это просто пленный вражеский воин, плотный мужчина примерно тех же лет, что и мой отец, всю одежду которого составляла лишь чистая белая набедренная повязка. Выглядел он изможденным и несчастным, но к жертвеннику поднимался по своей воле, не связанный и не понукаемый стражей. Остановившись на уступе, пленник бесстрастно оглядел толпу, в то время как жрецы размахивали своими дымящимися курильницами и производили руками и посохами ритуальные жесты. Потом один жрец взял ксочимикуи за плечи, мягко развернул его и помог лечь спиной на камень – прямо перед задрапированным покрывалом монументом. Каменный жертвенник был высотой по колено и имел форму маленькой пирамиды, так что когда человек ложился на него, его тело выгибалось дугой и грудь выпирала вверх, словно подаваясь навстречу клинку.
Ксочимикуи лежал распростершись, четверо помощников жреца удерживали его за руки и за ноги, а позади него стоял главный жрец – палач, державший широкий, почти как мастерок строителя, черный обсидиановый нож. Но прежде чем жрец успел совершить ритуальное движение, распятый человек поднял свисавшую голову и что-то произнес. Среди стоявших на уступе произошел разговор, после чего жрец вручил свой ритуальный нож Ашаякатлю. В толпе послышался удивленный гомон. По непонятной причине этому ксочимикуи была оказана высокая честь – принять смерть от руки самого юй-тлатоани.
Ашаякатль не мешкал и не колебался. С искусством, сделавшим бы честь любому жрецу, он вонзил острие ножа в грудь жертвы. Удар пришелся с левой стороны, пониже соска, между двух ребер. Произведя разрез, правитель повернул широкий клинок в ране, чтобы ее расширить, запустил свободную руку во влажное окровавленное отверстие и, схватив в горсть все еще бившееся сердце, вырвал его из сплетения сосудов. И только тогда, только в этот миг, приносимый в жертву издал рыдающий стон, первый за все время свершения ритуала звук боли и последний звук в своей жизни.
Когда Чтимый Глашатай высоко поднял поблескивавший, сочившийся кровью пурпурно-красный комок, скрывавшийся где-то жрец дернул за веревку. Белое покрывало спало, и толпа восхищенно ахнула: взорам людей предстал Камень Солнца. Ашаякатль повернулся, протянул руку, поместил сердце жертвы в самый центр круглого камня, в рот высеченного на нем рельефного лика бога Тонатиу, и стал втирать его в камень. Это продолжалось до тех пор, пока комок не растерся в кровавую кашицу и рука правителя не опустела. Впоследствии жрецы рассказывали мне, что отдавший сердце умирает не сразу и успевает увидеть, что происходит с его сердцем. Но этот малый едва ли что-то разобрал, ибо высеченный на камне лик солнца уже был окрашен в пурпур и кровь на губах бога была практически неразличима.
– Чистая работа, – промолвил скрюченный старик. – Я часто видел, как вынутое сердце продолжало биться столь энергично, что выпрыгивало из пальцев жреца. Но это сердце, скорее всего, было разбито задолго до сегодняшнего обряда.
Теперь ксочимикуи лежал совершенно неподвижно, разве что кожа его то здесь, то там слегка подергивалась, как у собаки, которую донимают мухи. Жрецы сняли его тело с жертвенника и бесцеремонно сбросили с уступа вниз. Второй из предназначенных в жертву уже поднимался вверх по ступеням, но ни ему, ни последовавшим за ним Ашаякатль такой чести не оказал, предоставив совершать ритуал жрецам. По мере того как церемония продолжалась – извлеченное сердце каждого следующего человека растиралось на Камне Солнца, – я внимательно рассматривал этот массивный предмет, чтобы потом во всех подробностях описать его своему другу Тлатли. В ту пору он уже начал осваивать ремесло ваятеля, хотя пока еще лишь вырезал из дерева кукол.
Ййо, аййо, преподобные братья, если бы вы только могли увидеть этот Камень Солнца! По вашим лицам видно, что описание церемонии вызывает у вас неодобрение, но случись вам хотя бы единожды узреть этот камень, вы бы поняли, что он стоил всех долгих трудов и всех тех человеческих жизней.
Одна только резьба поражала воображение, ибо была выполнена по порфириту, камню, не уступавшему по твердости граниту. В центре красовалось лицо Тонатиу с открытыми глазами и разинутым ртом, а по обеим сторонам – его когти, хватавшие человеческие сердца, каковые служили этому божеству пищей. Изображение окружали символы четырех эпох, предшествовавших нынешней; круг, включавший в себя двадцать наименований дней нашего цикла; и круг дополнительных символов, выложенный из жадеита и бирюзы, поделочных материалов, ценившихся в наших краях очень высоко. Этот круг был, в свою очередь, замкнут в круг солнечных лучей, а наружное кольцо составляли два опоясывавших камень изображения Огненного Змея Времени. Хвосты их смыкались на вершине камня, гибкие тела охватывали его, а головы сходились в нижней части. Всего на одном лишь камне художнику удалось символически запечатлеть все наше мироздание, все наше время.
Камень Солнца был окрашен в яркие цвета, но краски при этом не смешивались, а расчетливо и умело были наложены лишь там, где это требовалось. Порфир – камень, который состоит из кусочков слюды, полевого шпата и кварца, – как и все кристаллические вкрапления, художник закрашивать не стал. Таким образом, когда на камень падали полуденные лучи самого солнца, которому этот шедевр был посвящен, все крохотные кристаллики сияли среди светящихся красок подлинным светом самого Тонатиу.
И весь этот величайший шедевр казался не столько окрашенным, сколько светящимся изнутри. Однако, я думаю, в это трудно поверить на слово, его следовало бы увидеть своими глазами во всей его изначальной славе. Хотя, может быть, то был просто восторг пребывавшего во мраке невежества маленького язычника.
Тем временем старец продолжил рассказ, и я, отвлекшись от разглядывания камня, вернул свое внимание ему.
– Никогда прежде по проходившей по дамбе дороге к городу не перевозили столь тяжелых грузов. Два огромных камня, изделия двух братьев, передвигали на катках, и насыпь, не выдержав, просела. Камень, который катили первым, сорвался и рухнул в озеро Тескоко, но следующий успели остановить в самый последний момент. Тащить его дальше не решились: камень перекатили на плот и доставили на остров по воде. Его-то вы сейчас и видите, это Камень Солнца.
– А что стало с другим? – поинтересовался мой отец. – Неужели после стольких трудов и усилий нельзя было пойти на дополнительные расходы?
– Утонувший камень пытались достать, мой господин, – ответил старик. – Самые опытные ныряльщики раз за разом исследовали место, где утонул первый камень, но, увы, дно озера Тескоко покрыто очень толстым слоем мягкого, липкого ила. Его прощупывали длинными шестами, но так ничего и не обнаружили. Так что этот камень, каким бы он ни был, пропал навеки.
– Каким бы он ни был? – переспросил отец.
– Никто, кроме самого художника, никогда его не видел. И никто никогда его не увидит. Возможно, он был даже более великолепен, чем этот, – старик указал на Камень Солнца, – но узнать, так ли это, нам не суждено.
– А разве сам художник не рассказывал о своем творении? – спросил я.
– Нет. Он не рассказывал ничего.
Я не отставал:
– Ну а разве он не мог повторить то, что создал однажды?
Тогда я еще не представлял себе, что такое двадцать два года.
– Может быть, и мог бы, но он не стал этого делать, ибо воспринял случившееся несчастье как проявление своего тонали, как знак того, что его подношение отвергнуто богами. Чтимый Глашатай удостоил художника чести принять Цветочную Смерть от его руки. Отвергнутый ваятель сам решил стать первой жертвой, посвященной Камню Солнца.
– Работе своего брата, – пробормотал отец. – Ну а что стало с его братом?
– Он получил богатые дары, добавку «цин» к имени и место среди знати. Но весь мир, включая его самого, будет вечно задаваться вопросом: а не было ли творение, покоящееся под толстым слоем ила на дне озера Тескоко, еще более совершенным и великолепным, чем этот Камень Солнца?
Надо сказать, что со временем утонувший камень и вправду оброс легендами и стал цениться выше уцелевшего. Его прозвали Уиуитотетль, Достойный Камень, а Камень Солнца стали рассматривать лишь как его посредственный заменитель. Да и оставшийся в живых брат, кстати, так и не сотворил больше ничего выдающегося. Хуже того, он спился: воистину плачевная участь для человека, изваявшего шедевр и удостоившегося высоких отличий. Однако в нем сохранилось чувство собственного достоинства, и ваятель, дабы окончательно не покрыть позором обретенный им благородный сан, также вызвался участвовать в жертвенной церемонии. И когда второй брат умер Цветочной Смертью, его сердце тоже не выпрыгнуло из руки палача.
Ну а потом и сам Камень Солнца оказался утраченным, погребенным под руинами зданий Сердца Сего Мира, разрушенных вашими военными кораблями, пушечными ядрами и огненными стрелами. Но кто ведает: может быть, когда-нибудь и сам город Мехико, отстроенный вами на месте уничтоженного Теночтитлана, тоже будет разрушен до основания, а из-под его руин извлекут, во всем блеске его великолепия, Камень Солнца. А может быть, не только его, но и Достойный Камень, который прежде никому не доводилось видеть.
В тот же вечер мы с отцом отбыли домой на нашем составном акали, нагруженном купленными в городе товарами. Итак, я поведал вам о главных, самых памятных событиях того дня, ставшего мне подарком на седьмой день рождения. Думаю, то был самый радостный день рождения в моей жизни, а ведь жизнь мне выпала очень долгая.
Я рад, что смог увидеть Теночтитлан в тот день, ибо впоследствии мне уже никогда не доводилось видеть его таким. И дело не только в том, что город рос и менялся, или в том, что я возвращался в него пресыщенным впечатлениями. Я просто хочу сказать, что никогда уже больше не видел что-либо собственными глазами со столь отчетливой ясностью.
И если раньше я способен был различить очертания кролика на луне, звезду Вечерней Зари на сумеречном небе и символические детали на сотканных из перьев знаменах Теночтитлана или Камне Солнца, то, увы, по прошествии пяти лет с того памятного дня рождения я уже смог бы увидеть звезду Вечерней Зари, разве что какой-нибудь бог поднес бы ее к моим глазам. Мецтли, луна, даже самая полная и яркая, казалась мне невзрачным желто-белым шариком, не резко очерченным кругом, а размытым пятном.
Короче говоря, уже приблизительно с семилетнего возраста я начал терять зрение. Это поставило меня в исключительное положение, только вот, увы, ничего завидного в моем положении не было. Не считая слепых от рождения и ослепших вследствие раны или болезни, все мои соотечественники обладают острым зрением орлов и коршунов. Плохое зрение у нас в диковинку, и я, хотя глаза мои неуклонно слабели, стесняясь своего недуга, долгое время никому о нем не рассказывал. Когда кто-нибудь говорил, показав пальцем: «Эй, ты только посмотри!», я восклицал: «А, да!», хотя понятия не имел, о чем речь, следует ли мне таращиться в указанном направлении или, напротив, отвести глаза.
Мир виделся мне все более мутным, и, хотя беда эта не обрушилась на меня сразу, краски его неотвратимо тускнели. К девяти или десяти годам я различал предметы так же отчетливо, как и все, лишь примерно на расстоянии длины двух рук. Дальше очертания предметов начинали размываться, как будто я видел их сквозь прозрачную, но мутную водяную пленку. На более значительном расстоянии, скажем, если приходилось смотреть с вершины холма на долину, все передо мной расплывалось и смешивалось, превращаясь в некое подобие одеяла с узором из размытых цветовых пятен. Однако поскольку вблизи я видел нормально, то мне по крайней мере не приходилось натыкаться на предметы и падать; когда меня просили принести что-то из соседней комнаты, я мог найти нужную вещь, не нашаривая ее на ощупь.
Но, увы, вдаль я видел все хуже и хуже. К тринадцати годам я хорошо различал предметы лишь на расстоянии одной руки и больше уже не мог скрывать свой недостаток от окружающих. А ведь до этого близкие и друзья считали меня просто небрежным или неуклюжим, а сам я, по мальчишеской глупости, предпочитал, чтобы во мне видели растяпу и неумеху, лишь бы только не прознали о моем недуге. Однако в конце концов правда вышла наружу: всем стало ясно, что с одним из пяти необходимых человеку чувств мне не повезло.
Родные и друзья отнеслись к этому неожиданному открытию по-разному. Мать заявила, что всему виной дурная наследственность с отцовской стороны: будто бы некий его дядюшка едва не умер из-за того, что, напившись пьяным, перепутал кувшин с октли с другим, похожим, в котором оказался едкий состав ксокоитль, использовавшийся для отбеливания сильно загрязненного известняка. Дядюшка выжил и даже бросил пить, однако ослеп и остался слепым до конца своих дней. По разумению матери, это плачевное наследие передалось и мне.
Отец в отличие от нее никого не винил и догадок не строил, а по большей части пытался меня утешить:
– Невелика беда, сынок, работе в карьере такой недостаток не помеха. Высматривать трещины и расколы в камне приходится не издали.
А мои сверстники (дети, как скорпионы, инстинктивно жалят очень больно), бывало, кричали мне:
– Эй, глянь-ка туда!
Я прищуривался и говорил:
– Ах, да.
– Есть на что посмотреть, верно?
Я щурился еще сильнее, отчаянно всматривался и говорил:
– Верно.
Ребята заливались смехом и кричали насмешливо:
– А там и нет ничего, Тоцани!
Мои близкие друзья, такие как Чимальи и Тлатли, тоже, случалось, выкрикивали:
– Посмотри туда! – Но тут же быстро добавляли: – Гонец-скороход бежит к дворцу владыки Красной Цапли. На нем зеленая мантия благого вестника. Должно быть, наши войска одержали новую победу.
Моя сестра Тцитцитлини говорила мало, но всячески старалась сопровождать меня повсюду, куда бы мне ни приходилось идти, особенно в незнакомые места. Как правило, она брала меня за руку (со стороны любящей старшей сестры это было вполне естественно) и незаметно для других помогала обходить невидимые для меня препятствия, встречавшиеся на пути.
Однако детей, дразнивших меня, было больше, и прозвище Тоцани, которым сверстники меня наградили, вскоре заменило мое настоящее имя также и в устах их родителей. Взрослые, разумеется, называли меня так без злого умысла, особо не задумываясь, но в конечном счете все, кроме родителей и сестренки, перешли с имени на кличку. Постепенно я приспособился к своему физическому недостатку и научился держаться так, что моя близорукость особо не была заметна, но к тому времени прозвище уже прилипло ко мне намертво. По моему разумению, как раз настоящее имя Микстли, которое означает облако или тучу, теперь обрело иронический смысл и стало подходить мне больше, однако для окружающих я превратился в Тоцани.
Настоящий тоцани, маленький зверек, которого вы называете кротом, обитает под землей, в темноте, а когда изредка вылезает на поверхность, то обычный дневной свет слепит его, заставляя жмуриться. Он ничего не видит и не хочет видеть.
Я же, напротив, видеть очень хотел и в юности долгое время отчаянно сокрушался из-за своего недостатка. Прежде всего потому, что мне не суждено было стать игроком в мяч тлачтли и не приходилось надеяться на высокую честь – принять когда-либо участие в ритуальной игре при дворе Чтимого Глашатая.
Вздумай я стать воином, мне не только нипочем не удалось бы завоевать видное положение, но вообще следовало бы благодарить всех богов подряд, если бы удалось пережить хотя бы одно сражение. Пора было призадуматься: чем же я буду зарабатывать на жизнь? В каменоломни меня определенно не тянуло, но чем же в таком случае можно было заняться?
В мечтах я порой видел себя странствующим поденщиком. Такой род занятий мог в конечном счете завести меня далеко на юг, в страну майя. Поговаривали, будто тамошним лекарям известны чудодейственные снадобья, от которых едва ли не прозревают слепые. Вдруг они смогут вернуть мне былую зоркость, а с ней и возможность стяжать славу непобедимого игрока в тлачтли и героя сражений, а может, я даже смогу вступить в одно из трех сообществ благородных воителей?
Тем временем слепота замедлила свое угрожающее наступление: зрение перестало ухудшаться, я все так же мог хорошо видеть на расстоянии протянутой руки. Точнее сказать, ухудшаться-то зрение не перестало, но по сравнению с предыдущими годами этот процесс замедлился так сильно, что уже не казался столь пугающим. В настоящее время я могу различить невооруженным глазом черты лица моей жены не дальше чем в пяди от моего собственного. Теперь, когда я стар, это не имеет особого значения, но в молодости дело обстояло иначе.
Однако каковы бы ни были мои мечты и желания, мне пришлось приспосабливаться к жизни с ослабленным зрением. Тот странный старик из Теночтитлана, предсказание которого мы с отцом не слишком хорошо поняли, оказался прав: мой тонали и впрямь заставил меня «видеть вещи вблизи», причем не в каком-то там мистическом, а в буквальном смысле. А коль скоро мне приходилось присматриваться ко всему пристально, я и смотрел на предметы не так, как раньше, не бегло и торопливо, а неспешно и внимательно. Другие спешили, я ждал; другие неслись сломя голову, я проявлял осмотрительность. Я научился различать движение как таковое и движение, направленное на достижение определенной цели. Там, где другие, нетерпеливые, видели деревню, я видел ее жителей. Там, где другие видели жителей, я видел отдельных людей. В тех случаях, когда другие, скользнув по незнакомцу взглядом, кивали и торопились дальше, я рассматривал его вблизи и запоминал увиденное так подробно, что потом мог нарисовать этого человека. Причем сходство оказывалось таким, что даже столь способный художник, как Чимальи, восклицал:
– Надо же, Крот, ты уловил самую суть этого человека! Самое главное в его облике!
Я начал замечать то, что ускользает от внимания большинства людей, каким бы острым зрением они ни обладали. Вот вы, писцы моего господина, замечали, что маис растет быстрее ночью, чем днем? Замечали ли вы, что каждый початок маиса имеет четное количество рядов зерен? Ну не каждый, но почти каждый. Початок с нечетным количеством рядов встречается даже реже, чем листок клевера с четырьмя лепестками. А замечали ли вы, что нет двух пальцев – это относится не к одним только пальцам почтенных писцов, но, насколько я могу судить, к пальцам всех людей на свете, – которые имели бы на подушечках одинаковый узор тончайших линий и завитков? Не верите? А вы посмотрите на свои и сравните их. Попробуйте. Я подожду.
О да, я, конечно, понимал: в способности примечать такого рода детали не было какой-либо выгоды или пользы. Это получалось у меня само собой, служило своего рода упражнением, не преследовавшим какой-либо практической цели. Однако так было лишь поначалу. В конечном счете развившаяся вследствие недуга наблюдательность в сочетании со способностью точно изображать увиденное пробудили во мне интерес к нашему письму, которое основывается на рисунках.
На Шалтокане, к сожалению, не было школы, в которой изучался бы столь сложный предмет, однако я рыскал по всему острову в поисках любых письменных текстов, и когда мне попадался хотя бы обрывок письма, тщательно изучал его, изо всех сил стараясь постигнуть смысл и значение изображенного.
Думаю, в нашей системе изображения цифр разобраться нетрудно: раковина обозначает ноль, точки или пальцы – единицы, флаги – двадцатки, а маленькие деревья – сотни. Но я до сих пор помню, какое радостное волнение охватило меня, когда мне впервые удалось разгадать зашифрованное в картинке слово.
Мой отец, вызванный по делу к правителю, взял меня с собой, и пока они вели беседу в какой-то уединенной комнате, я сидел в приемной. Мне позволили посмотреть поименный список жителей нашей провинции. Найдя в нем первым делом себя (семь точек, цветок, серое облако), я принялся с интересом листать список дальше. Некоторые имена, как и мое собственное, угадывались легко просто потому, что я их знал. Так, найдя недалеко от своей страничку Чимальи, я, конечно, мигом узнал его три пальца, голову с утиным клювом, символизирующую ветер, и два переплетенных усика, представляющих дым, поднимающийся от оперенного по краям диска, – Йей-Эекатль Покуфа-Чимальи, или Третий Ветер, Дымящийся Щит.
Часто повторяющиеся рисунки было легко скопировать, ведь, в конце концов, детское имя у нас человек получал по дню рождения, а их в месяце было всего двадцать. Так что поразило меня вовсе не вполне очевидное прочтение составляющих элементов имени Чимальи и моего собственного, а нечто иное. На одной из страниц, ближе к концу списка, а следовательно, заполненной недавно, я обнаружил шесть точек, изображение, напоминавшее стоявшего на голове головастика, утиный клюв и цветок с тремя лепестками. Обнаружил и внезапно для себя понял, что я смог прочесть эту надпись! Шестая Дождинка, Цветок-на-Ветру. То было имя сестренки Тлатли, отпраздновавшей седьмой день рождения всего лишь на прошлой неделе.
Охватившее меня рвение несколько поумерилось после того, как я, листая слежавшиеся страницы и разыскивая другие повторяющиеся символы и знаки, убедился, что разобраться в них очень непросто. Как раз к тому времени, когда мне удалось (или я решил, будто мне удалось) прочесть еще одно имя, в приемную вышли правитель и мой отец.
Со смесью смущения и гордости я спросил:
– Прошу прощения, владыка Красная Цапля. Не будешь ли ты добр сказать, прав ли я, считая, что на этой странице написано имя человека, которого зовут Второй Тростник, Желтый Глазной Зуб?
– Нет, это не так, – ответил правитель и, должно быть, заметив, как вытянулось мое лицо, терпеливо пояснил: – Там значится: Вторая Тростинка, Желтый Свет. Это имя прачки, работающей здесь, во дворце. С цифрой и тростником ты все понял правильно, но это и нетрудно. Понятие «желтый», кочтик, тоже легко обозначить, просто использовав этот цвет, о чем ты и догадался. Но тланикстелотль, «свет» – или, точнее, «стихия глаза» – есть нечто не вполне вещественное. Как можно изобразить столь отвлеченное понятие? Я использовал для этого изображение зуба, тланти, но лишь для того, чтобы передать «тлан», первую половину слова, а даже поместил образ ока, икстелотль, разъясняющий смысл. Получилось тланикстелотль, «свет». Понял?
Я кивнул, несколько раздосадованный собственной глупостью: мог бы и сам понять, что символы, используемые для письма, это не просто картинки, так что научиться читать сложнее, чем узнать зуб по рисунку. Правитель, однако, на тот случай, если до меня не дошло, дружелюбно похлопал меня по плечу и сказал:
– Письмо и чтение – это искусство, овладение которым требует усердия и долгой практики. Досуг для того, чтобы освоить его из любопытства, есть только у знати, но я восхищен твоей сообразительностью и тягой к познанию. Попомни мои слова, юноша: какую бы дорогу ты ни избрал, тебя на ней непременно ждет успех.
Рискну предположить, что сыну каменотеса следовало бы согласиться с прозрачным намеком правителя и заняться наследственным ремеслом. Раз уж слабое зрение не позволяло мне подвизаться на поприще, более отвечающем честолюбивым желаниям, я вполне мог бы удовлетвориться скучной, но надежной (как раз для «крота») работой в карьере, которая уж всяко не оставила бы меня без пропитания. Разумеется, это сулило вовсе не ту жизнь, к которой я стремился в молодости, но можно сказать с уверенностью, что, избрав такой путь, я прожил бы отведенный мне срок спокойнее и безопаснее, чем последовав зову сердца. Вот сейчас, мои господа, я вполне мог бы работать на строительстве, помогая вам возводить на месте старой столицы город Мехико. И если владыка Красная Цапля не ошибался в оценке моих способностей, не исключено, что построенный с моим участием город стал бы даже краше того, который создадут ваши зодчие и строители. Ну да ладно, оставим это, как и я сам в свое время оставил без внимания недвусмысленный намек правителя. Причем я сделал это, невзирая на неподдельную гордость отца своим ремеслом и его неустанные попытки привить любовь к своему делу и мне, невзирая на изводящие сетования матери, что я, дескать, стремлюсь добиться в жизни большего, нежели положено мне по рождению.
Все дело в том, что владыка Красная Цапля дал мне еще один намек, настолько важный, что проигнорировать его я не мог. Он дал мне понять, что письменный знак – это не просто картинка, что он может обозначать не только то, что изображает, но и отдельную часть слова, даже звук. Казалось бы, сущая ерунда, но для меня это стало настоящим озарением, великим открытием. После этого мой интерес к письму сделался еще сильнее, стал чуть ли не болезненным. Неустанно, везде, где только мог – начиная со стен храмов и кончая обрывками бумаг, случайно оставленных заезжими торговцами, – я искал письменные знаки, а найдя, ревностно пытался самостоятельно, без чьей-либо помощи и наставлений, проникнуть в их смысл.
Я даже пошел к дряхлому тональпокуи, четыре года назад так удачно давшему мне имя, и попросил разрешения изучать, в то время когда он сам ее не использует, его почтенную книгу имен. Старик вознегодовал даже более бурно, чем если бы я попросил у него дозволения пользоваться одной из его внучек, когда она не занята другими делами, в качестве наложницы. Мудрец возмущенно заявил, что благородное искусство тональматль предназначено для его потомков, а не для самоуверенных мальчишек-самоучек. Возможно, этот человек и вправду так думал, однако я готов поручиться, что старик либо не забыл мое заявление насчет того, что я и сам мог бы дать себе имя не хуже, либо, и это более вероятно, просто боялся разоблачения. Ибо на самом деле умел читать тональматль ничуть не лучше, чем к тому времени выучился это делать я.
Однажды вечером у меня случилась примечательная встреча. Весь день мы с Чимальи, Тлатли и другими мальчишками, не взяв на сей раз с собой Тцитцитлини, играли, забравшись в брошенный на берегу дырявый корпус акали и воображая себя путешествующими по озеру лодочниками. Игра увлекла нас настолько, что мы спохватились, лишь когда Тонатиу окрасил горизонт пурпуром, предупреждая о том, что готовится отойти ко сну. Путь домой был неблизким, и мальчишки, чтобы Тонатиу не успел улечься в постель прежде, чем они доберутся до дому, ускорили шаг. Днем я, надо думать, не отстал бы от них, но сумерки и слабое зрение вынуждали меня идти медленнее, с осторожностью. Остальные, видимо, не хватились меня и ушли далеко вперед.
В одиночестве я добрел до перекрестка, на котором стояла каменная скамья. Мне давненько уже не доводилось ходить этим путем, но тут я вспомнил, что на скамье вроде бы высечены какие-то знаки... и все остальное напрочь вылетело у меня из головы. Я позабыл даже о том, что уже слишком темно и мне не удастся даже разглядеть резные символы, не то что расшифровать их. Я забыл, для чего на перекрестке поставлена скамья, забыл об опасных тварях, таящихся в ночи и готовых напасть на припозднившегося путника. Где-то неподалеку заухала сова, но даже это предостережение не заставило меня вспомнить об угрозе. Если поблизости находилось то, что можно было попытаться прочесть, я просто не мог пройти мимо.
Скамья оказалась достаточно длинной, так что взрослый человек мог улечься на ней, если бы, конечно, кому-нибудь пришло в голову растянуться на неровной поверхности из резного камня. Я склонился над отметинами и, уставившись на них, стал водить по ним пальцем, переходя от одной к другой... в результате чего чуть не оказался на коленях сидевшего там человека. Отскочив как ошпаренный, я запинаясь пробормотал извинение:
– М-микспанцинко. Прошу снисхождения.
– Ксимопанолти, – отозвался, как и подобало, незнакомец. – Ничего страшного.
Слова его были учтивы, но голос звучал устало.
Потом мы воззрились друг на друга. Он, как я полагаю, увидел перед собой лишь слегка чумазого парнишку лет двенадцати, смотревшего на него искоса. Я же не мог разглядеть незнакомца как следует отчасти потому, что уже стемнело, отчасти же потому, что от неожиданности отскочил от него довольно далеко. Но это не помешало мне понять, что этот человек на нашем острове чужак или, во всяком случае, я уж точно не встречал его раньше. Плащ его был сшит из хорошей ткани, но изрядно потрепан непогодой, стоптанные сандалии говорили о проделанном им долгом пути, а на загорелой коже налипла дорожная пыль.
– Как тебя зовут, мальчик? – спросил незнакомец, прервав затянувшееся молчание.
– Вообще-то меня прозвали Кротом, – начал я.
– Могу в это поверить, – прервал он меня, – но ведь это не настоящее твое имя.
Прежде чем я успел спросить, откуда это ему известно, он задал следующий вопрос:
– А что ты сейчас делал?
– Я читал, йанкуикатцин, – ответил я. Было в этом человеке что-то такое, я и сам не знаю, что именно, заставившее меня обратиться к нему, как к знатному человеку: «Господин незнакомец». – Я читал письмена на скамье.
– Вот как, – произнес он усталым тоном, в котором сквозило недоверие. – Я бы никогда не принял тебя за образованного знатного юношу. И что же, по-твоему, гласит эта надпись?
– Она гласит: «От народа Шалтокана владыке Ночному Ветру. Место для отдыха».
– Кто-то рассказал тебе об этом.
– Нет, господин незнакомец. Прости меня за дерзость, но... – Я подошел поближе, чтобы указать. – Этот знак, утиный клюв, означает ветер...
– Никакой это не утиный клюв, – перебил меня незнакомец. – Это труба, сквозь которую бог выдувает ветер.
– Правда? Спасибо за то, что просветил меня, мой господин. Но, так или иначе, вот этот символ означает «сказал» – ихикатль. А этот значок означает йоали – опущенные веки.
– Ты действительно умеешь читать?
– Совсем чуть-чуть, мой господин. Очень плохо.
– Кто же научил тебя?
– Никто, господин незнакомец. У нас на Шалтокане нет никого, кто учил бы этому искусству. А жаль, мне бы очень хотелось освоить его как следует.
– Тогда тебе нужно отправиться в другое место.
– Я тоже так считаю, мой господин.
– Предлагаю тебе сделать это прямо сейчас. Я устал, так что не стоит больше читать мне надписи на скамейке. Ты понял меня, мальчик, прозванный Кротом?
– Да, господин незнакомец, конечно. Микспанцинко.
– Ксимопанолти.
Я обернулся, чтобы бросить на него последний взгляд, но ничего не увидел. То ли из-за еще более сгустившейся тьмы, то ли в силу близорукости, то ли потому, что незнакомец просто встал и ушел.
Дома меня встретил обеспокоенный хор родных, в голосах которых испуг и облегчение смешались с гневом по поводу того, что я так задержался и провел столько времени один в опасной темноте. Но когда я поведал о том, что меня задержал незнакомец, и рассказал, какие он задавал вопросы, притихла даже сварливая матушка. И она, и моя сестра воззрились на отца огромными, как плошки, глазами. Да и он сам смотрел на меня с не меньшим удивлением.
– Ты встретил его, – хрипло произнес отец. – Ты встретил бога, и он дал тебе уйти. Это был сам Ночной Ветер.
Эту ночь я провел без сна и все пытался, правда без особого успеха, представить себе запыленного, усталого, хмурого путника в качестве бога. Но если он и вправду был Ночным Ветром, тогда, по поверью, меня ждало исполнение заветного желания.
Оставалось только одно затруднение. Если не говорить о желании выучиться читать и писать (не знаю уж, могло ли оно сойти за заветное), я тогда не очень-то представлял себе, чего именно больше всего хочу. Во всяком случае до тех пор, пока впоследствии не получил это. Но и то еще неизвестно, действительно ли я получил именно то, чего желал больше всего на свете.
В тот день, когда это произошло, я выполнял свое первое задание, полученное в карьере в качестве отцовского подмастерья. Задание это никак нельзя было назвать обременительным: мне поручили покараулить в каменоломне инструменты, пока остальные работники пошли домой пообедать. Не то чтобы у нас на острове было много воров, но орудия, оставленные без присмотра, могли попортить грызуны, например изгрызть черенки и рукоятки. Животных привлекала соль, оставленная на инструментах руками работников, а один-единственный дикобраз вполне способен за время отсутствия людей привести в полную негодность твердый рычаг из черного дерева. К счастью, зверюшек отпугивало одно лишь мое присутствие, ибо слабое зрение едва ли позволило бы мне заметить не только отдельного грызуна, но и целую стаю.
Мне же самому обед в тот день принесла из дому Тцитцитлини. Она сбросила сандалии, уселась рядом со мной на залитом солнцем краю карьера и, пока я ел запеченного в тортилье озерного сига, весело болтала. Обед приготовили недавно, и завернутые в салфетку кусочки рыбы еще сохранили жар костра. Я приметил, что, хотя денек выдался прохладный, сестренка моя тоже казалась разгоряченной. Лицо ее раскраснелось, и она все время оттягивала от груди квадратный вырез своей блузки.
Рыбешки с тестом имели необычно терпкий вкус, и я подумал, уж не сама ли Тцитци состряпала их сегодня вместо матушки и не потому ли она трещит без умолку, что боится, как бы я не стал дразнить ее как неумеху. Правда, непривычный вкус был не так уж плох, а я проголодался, так что умял бы и куда худшую снедь. Тцитци предложила мне прилечь и насыщаться с удобством, в то время как она постережет инструменты и будет отругивать дикобразов.
Я растянулся на спине и поднял глаза к облакам, которые, будучи четко очерченными на фоне неба, мне виделись расплывчатыми белыми пятнами на смутном голубом фоне. К этому я уже успел привыкнуть, но на сей раз с моим зрением произошло нечто неожиданное и странное. Белые и голубые разводы сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее начали вращаться, словно некий бог принялся ворошить небо венчиком для размешивания шоколада. Удивившись, я начал приподниматься, чтобы присесть, но внезапно голова моя закружилась, да так сильно, что я снова пал навзничь на траву.
Я не только чувствовал себя очень странно, но и, должно быть, производил какие-то странные звуки, ибо Тцитци склонилась надо мной, приблизив свое лицо к моему. И хотя в голове моей царил сумбур, у меня создалась впечатление, будто сестра чего-то ждала. Ротик ее был приоткрыт, кончик языка высовывался между блестящими белыми зубками, прищуренные глаза, казалось, искали какого-то знака. Потом ее губы изогнулись в лукавой улыбке, язык облизал их, а глаза, расширившись, наполнились торжествующим светом. А когда Тцитци заговорила, голос ее звучал необычно, словно доносившееся издалека эхо. Улыбаться, однако, она не прекратила, и я не ощущал никакого повода для беспокойства.
– У тебя такие большие глаза, брат. И темные: не карие, а почти совсем черные. Что ты ими видишь?
– Я вижу тебя, сестра, – промолвил я и почувствовал, что голос мой почему-то звучит хрипло. – Но ты, вот странно, выглядишь не так, как всегда... По-другому. Ты выглядишь...
– Да? – сказала она, поощряя меня продолжать.
– Ты выглядишь очень красивой, – закончил я.
Я просто не мог не сказать этого, хотя должен бы, как все мальчишки моего возраста, не замечать девчонок, а уж если и замечать, то только с презрением. Ну а к собственной сестре – тут уж не может быть никаких сомнений – надлежало относиться с еще большим пренебрежением, чем ко всем прочим девчонкам. Но то, что Тцитци красива, я знал бы, даже если бы не слышал, как об этом без конца говорят все взрослые. У всех мужчин, увидевших мою сестру впервые, захватывало дух. Ни один скульптор не смог бы передать гибкую грацию ее юного тела, ибо камень или глина не способны двигаться, а Тцитци, казалось, постоянно пребывала в плавном движении, даже когда она на самом деле не шевелилась. Ни один художник, как бы ни смешивал он свои краски, не смог бы точно воспроизвести золотисто-коричневый цвет ее кожи или цвет ее глаз, карих, с золотистыми крапинками.
Но в тот день ко всему этому добавилось еще нечто магическое, и именно это волшебство заставило меня признать ее красоту не только про себя, но и вслух. Сестренка просто лучилась магией, ибо ее окружала светящаяся аура наподобие того свечения взвешенных в воздухе мельчайших капелек воды, какое бывает, когда сразу после дождя нежданно проглянет солнце.
– Все светится, – продолжил я своим странно охрипшим голосом. – Твое лицо в тумане, но оно светится. Красным... с пурпурным ободом... и... и...
– Правда ведь, тебе приятно на меня смотреть? – спросила Тцитци. – Для тебя это наслаждение?
– Да. Да. Правда. Наслаждение.
– Тогда тише, брат мой. Сейчас ты испытаешь настоящее наслаждение.
Я растерялся, ибо ее рука оказалась под моей накидкой, а ведь мне, если помните, оставалось еще больше года до того возраста, когда надевают набедренную повязку. Наверное, мне следовало бы счесть столь смелый жест сестры чем-то очень скверным, но мне почему-то так не казалось. Не говоря уж о том, что я пребывал в полном оцепенении и отстранить ее руку просто не мог. Самым же удивительным ощущением оказалось то, что некая часть моего тела, чего никогда не бывало прежде, начала расти. Впрочем, прямо на глазах изменялось и тело Тцитци. Обычно ее юные груди всего лишь слегка приподнимали блузку, но сейчас, когда она стояла возле меня на коленях, ее набухшие соски выпирали из-под тонкой ткани, словно кончики пальцев. Я ухитрился поднять свою отяжелевшую голову и смутно уставиться вниз, на собственный тепули, зажатый в ее руке. Я и не знал, что он может быть таким большим, таким твердым, что кожа на нем так подвижна и что ее можно отвести так далеко вниз. В первый раз в жизни я увидел, увидел полностью, головку своего члена. Разбухшую, красную головку, выглядевшую так, словно рука Тцитци сжимала гриб на толстой ножке.
– Ойя, йойолкатика, – пробормотала сестра, и лицо ее стало чуть ли не таким же красным, как шляпка этого «гриба». – Он растет, он оживает. Видишь?
– Тотон... тлапецфиа, – отозвался я, не дыша. – Он становится жарким.
Свободной рукой Тцитци приподняла юбку и стала развязывать нижнюю повязку. Поскольку один ее конец был пропущен между ног, сестре пришлось широко их расставить, и когда повязка упала, я увидел ее тепили настолько близко, что различить мне все как следует не помешало даже плохое зрение. Не то чтобы я никогда не видел сестру нагой, но раньше у нее между ног я замечал разве что бугорок и плотную щель, да и то скрытую легким пушком тонких волос. Теперь же эта расщелина была открыта, как...
Аййя, я вижу, брат Доминго опрокинул и разбил свою чернильницу. И теперь он покидает нас. Вне всякого сомнения, огорченный этой историей.
Раз уж мне случилось отвлечься, замечу, что некоторые из наших мужчин и женщин имеют на своем теле след имакстли, то есть волосяной покров в интимных местах. Однако у большинства наших соплеменников ни там, ни где бы то ни было еще на теле, не считая, разумеется, пышной растительности на голове, волос не растет вовсе. Даже на лицах наших мужчин растительность скудна, а избыток таковой и вовсе считается уродством. Матери ежедневно моют лица маленьких мальчиков горячей известковой водой, и в большинстве случаев (как, например, в моем) это действует. На протяжении всей жизни борода у индейского мужчины практически не растет.
Брат Доминго не возвращается. Мне подождать, братья, или продолжать?
Хорошо. Тогда вернусь к вершине того далекого холма, где когда-то давным-давно я лежал, изумленный и недоумевающий, в то время как моя сестра самозабвенно занималась тем, что казалось мне столь странным.
Как я уже говорил, расщелина ее тепили раскрылась сама собой, словно распустившийся цветок. Розовые лепестки, появившиеся на фоне безупречной желтовато-коричневой кожи, даже поблескивали, словно бы спрыснутые росой. Мне показалось, будто только что расцветший цветок издавал слабый, едва ощутимый мускусный аромат, походивший на благоухание бархатцев. И все это вдобавок сопровождалось ощущением, что как открывшиеся мне только что интимные части, так и все тело и лицо сестры продолжали излучать пульсирующее, переливающееся свечение.
Задрав, чтобы не мешала, мою накидку, Тцитци подняла длинную, стройную ногу и села поверх меня. Все ее движения были медленными, но сестру била нервическая, нетерпеливая дрожь. Одной дрожащей маленькой рукой она нацелила мой тепули на свою промежность, тогда как другой пыталась раздвинуть еще шире лепестки своего «цветка». Как я говорил ранее, Тцитци в прошлом уже использовала с той же целью деревянное веретено, но ее лоно все еще оставалось суженным, так что читоли, перегородка, повреждена не была. Что касается меня, мой тепули пока не достигал мужской зрелости (хотя стараниями Тцитци он очень скоро обрел нужную величину, причем, как говорили мне впоследствии женщины, я даже превзошел в этом отношении большинство соплеменников.) Так или иначе, Тцитци оставалась девственной, а мой член был уж, во всяком случае, подлиннее и потолще какого-то там веретена.
Наступил мучительный, тревожный момент. Глаза моей сестры были плотно зажмурены, дышала она так, словно куда-то бежала, и, совершенно очевидно, чего-то отчаянно хотела. Я бы с радостью помог Тцитци, если бы знал, чего именно, и если бы все мое тело, кроме единственного органа, не пребывало в таком оцепенении. Потом неожиданно порог поддался: и у меня, и у Тцитци одновременно вырвался крик. Я вскрикнул от удивления, а она – то ли от боли, то ли от наслаждения. К величайшему своему изумлению, сам не понимая, каким образом, я оказался внутри своей сестры – окруженный, согретый и увлажненный ею, а потом еще и мягко массируемый, когда Тцитци начала двигать свое тело вверх и вниз в медленном ритме.
Небывалое ощущение начало распространяться от моего зажатого и ласкаемого ее промежностью тепули по всему телу. Мерцающая аура, окружавшая мою сестру, сделалась еще ярче, и ее пульсация, казалось, пронизывала все мое существо. Я чувствовал себя так, будто сестра ввела внутрь себя не только один, затвердевший и удлинившийся отросток моего тела, но и каким-то волшебным образом вобрала всю мою суть. Я был полностью поглощен Тцитцитлини, растворился в звоне маленького колокольчика. Восторг усиливался, пока мне не показалось, что я не смогу больше вынести его, но в следующий момент на меня обрушилось и вовсе неслыханное, небывалое наслаждение. Своего рода мягкий взрыв, как будто от стручка молочая, когда он трескается и разбрызгивает свое белое содержимое. В тот же самый миг Тцитци издала протяжный мягкий стон, в котором, даже пребывая в полном неведении и находясь в блаженном забытьи, я услышал тот же восторг, какой испытал сам.
Обмякнув, она упала на меня всем телом, и ее длинные мягкие волосы рассыпались по моему лицу. Некоторое время мы лежали молча и тишину нарушало лишь наше тяжелое дыхание. Потом я начал медленно осознавать, что странные краски бледнеют и удаляются, что небо над головой перестало вращаться. Между тем сестра, не поднимая головы и не глядя на меня, но, напротив, прижимаясь лицом к моей груди, спросила чуть слышно и несмело:
– Ты не жалеешь об этом, брат?
– Я жалею только о том, что все кончилось! – воскликнул я так рьяно, что вспугнул перепела, который взлетел из травы рядом с нами.
– Значит, мы сможем проделать это снова? – пробормотала Тцитци, по-прежнему не глядя на меня.
– А разве это возможно? – спросил я, и вопрос сей был вовсе не так глуп и нелеп, как могло бы показаться. Я задал его по неведению, тем паче что мой член выскользнул из нее и снова стал маленьким и холодным, каким был всегда. И вряд ли стоит смеяться над тем, что мальчишке, впервые познавшему женщину, показалось, что подобное наслаждение можно испытать лишь единожды в жизни.
– Ну, не сейчас, – ответила Тцитци. – Взрослые вот-вот вернутся. В какой-нибудь другой день, да?
– Аййо, каждый день, если это возможно!
Тцитци приподнялась на руках и с озорной улыбкой взглянула сверху вниз на мое лицо.
– Надеюсь, в другой раз мне не придется тебя дурманить?
– Дурманить?
– Ну, я имею в виду твое головокружение, оцепенение и все эти странные краски, которые ты видел. Признаюсь, брат, я совершила греховный поступок: стащила из храма при пирамиде один из их дурманящих грибов, растолкла и подмешала тебе в лепешки.
Поступок, совершенный ею, был не только греховным, но и безрассудным по своей дерзости. Маленькие черные грибы именовались теонанакатль, или «плоть богов», что само по себе уже указывало, насколько они были редки и как высоко ценились. Доставляли их с большим трудом и за высокую плату с какой-то священной горы в глубине земель миштеков, а вкушать «плоть богов» дозволялось лишь жрецам и прорицателям, причем лишь в тех случаях, когда возникала необходимость в предсказании будущего. Окажись Тцитци пойманной на краже этой святыни, ее убили бы на месте.
– Никогда больше так не делай, – сказали. – Зачем вообще тебе это понадобилось?
– Да затем, что я хотела сделать... то, что мы только что сделали, но боялась, как бы ты, узнав, на что я тебя подбиваю, не воспротивился.
Интересно, а мог ли я и вправду воспротивиться? Во всяком случае, ни в тот раз, ни, разумеется, во все последующие ничего подобного не случилось, и я всегда испытывал точно такое же блаженство, но уже без помощи дурмана...
Да, мы с сестрой совокуплялись бесчисленное количество раз на протяжении всех тех последующих лет, пока я еще жил дома, причем делали это, не упуская ни малейшей возможности. И в карьере, во время обеденного перерыва, и в кустах на пустынном берегу озера, и, два или три раза, в нашем собственном доме, когда отец и мать отлучались на достаточно долгое время. Набираясь опыта, мы взаимно избавлялись от неловкости, хотя, конечно, оставались крайне наивными: так, например, нам обоим и в голову не приходило попробовать заняться этим восхитительным делом еще и с кем-нибудь другим. Мы мало чему могли научить друг друга (и далеко не сразу обнаружили, что то же самое можно проделывать, когда я наверху), однако со временем сами придумали множество разнообразных позиций.
Так вот, в тот день сестра соскользнула с меня и растянулась в блаженной неге. И тут выяснилось, что наши животы увлажнены и запачканы кровью, брызнувшей после разрыва ее читоли, и другой жидкостью. Моим собственным омисетль, белым, как октли, но более клейким. Тцитци окунула пучок сухой травы в маленький кувшинчик с водой и хорошенько нас вымыла, не оставив ни на коже, ни на одежде никаких предательских следов. Потом сестра снова надела нижнюю набедренную повязку, расправила смявшуюся верхнюю одежду, поцеловала меня в губы, сказала (хотя первым это следовало бы сделать мне) спасибо и вприпрыжку убежала по травянистому склону.
Вот так, о писцы моего господина, и закончилось в тот день мое детство.
IHS S.С.C.M.
Его Священному Императорскому Католическому Величеству императору дону Карлосу, нашему королю и повелителю
Его Наиславнейшему Величеству из города Мехико, столицы Новой Испании, в день Поминовения Усопших, в год от Рождества Христова одна тысяча пятьсот двадцать девятый, шлем мы наш нижайший поклон.
Посылая по повелению Вашего Величества, со всей подобающей почтительной покорностью, хотя и с неохотой, очередное дополнение к так называемой «Истории ацтеков», Ваш верный слуга просит разрешения процитировать сочинение Вариуса Геминуса, ту его часть, где речь идет об обращении к государю с неким vexata quaestio[14]: «Тот, кто осмеливается говорить перед тобой, о Кесарь, не знает твоего величия, тот, кто не осмеливается говорить перед тобой, не ведает твоей доброты...»
Хотя мы рискуем показаться нашему монарху дерзкими и заслужить упрек, мы умоляем Вас, государь, дозволить нам прекратить сие пагубное занятие. Признаюсь, что, поелику в предыдущей порции откровений нечестивого дикаря, доставленной в Ваши королевские руки, оный нечестивец с легкостью, словно в мелком проступке, признается в совершении отвратительного греха кровосмешения – преступления, запрещенного во всем известном мире, как в цивилизованном, так и в диком; злодеяния, каковое признают отвратительным даже такие выродившиеся народы, как баски, греки и англичане; проступка, порицаемого даже несовершенным lex non scripta[15] варваров, включая и соплеменников этого индейца, и, следовательно, акта столь греховного, что мы не можем смотреть на оный сквозь пальцы лишь потому, что на момент его свершения грешник не имел представления о христианской морали, – мы были уверены, что Ваше Набожное Величество, ужаснувшись и преисполнившись отвращения, прикажет немедленно положить конец гнусным излияниям сего безнравственного ацтека, если не самой его жизни.
Однако верный клирик Вашего Величества еще ни разу не ослушался приказа, исходящего от нашего сеньора, а потому ниже прилагает дальнейшие страницы, записанные за время, прошедшее после отправки предыдущих. Мы будем принуждать писцов и переводчика продолжать их тяжкий, отвратительный труд и вести сию мерзкую хронику до тех пор, пока наш Наипочтеннейший император не сочтет возможным положить этому конец. Осмелимся лишь молить Вас, государь, по прочтении прилагаемого фрагмента биографии вышеупомянутого ацтека, содержащего истории, каковых устыдились бы и в Содоме, отринуть скверну и повелеть прекратить дальнейшее ведение сей непристойной летописи.
И да пребудут неизбывным наставлением в путях и делах Вашего Величества чистота и непорочность Господа Нашего Иисуса Христа. Сие есть искреннее желание преданного Вашему Священному Императорскому Католическому Величеству слуги, легата и посланца Хуана де Сумарраги, в чем он и подписывается собственноручно.
TERTIA PARS[16]
В то время, когда меня прозвали Кротом, я еще учился в школе. Каждый вечер после окончания рабочего дня я, как и другие дети старше семи лет со всего Шалтокана, отправлялся либо в Дом Созидания Силы, предназначавшийся только для мальчиков, либо в Дом Обучения Обычаям, который мальчики и девочки посещали совместно. В Доме Силы нас, мальчишек, заставляли выполнять тяжелые физические упражнения, закаляя мускулы и волю. Мы учились игре в мяч, тлачтли и получали первые навыки владения боевым оружием. В Доме Обычаев детей нашего возраста кратко знакомили с историей Мешико и других земель, несколько более подробно рассказывали о наших богах и о посвященных им многочисленных праздниках, обучали искусству обрядового пения, танцев и игры на музыкальных инструментах, которыми сопровождались все эти религиозные церемонии.
Только в этих телпочкалтин, или низших школах, мы, простолюдины, смешивались как равные с отпрысками знати и даже с несколькими детьми рабов, которые явно выделялись своими способностями. Считалось, что этого начального образования, в котором упор делался на воспитании вежливости, почтительности к родителям и достижении изящества и физической ловкости, для детей рядовых членов общины более чем достаточно, а уж для горстки детей рабов, которых сочли достойными обучения, такая возможность и вовсе была редким отличием и высокой честью.
Лишь немногие мальчики из простонародья могли рассчитывать на дальнейшее обучение в Домах Обычаев и Силы, совершенно недоступное для мальчиков-рабов и для всех девочек, будь они даже самого знатного рода. Чтобы продолжить учение в калмекактин, сыновья знатных родителей обычно покидали остров, поскольку на Шалтокане такой школы не было. Преподавали в подобных заведениях принадлежавшие к особому ордену жрецы, а учившиеся там по завершении обучения сами становились жрецами, правительственными чиновниками, писцами, историками, художниками, целителями и занимались другими, столь же почитаемыми занятиями. Поступление в калмекактин не было запрещено любому рожденному свободным юноше, но посещение его и проживание там обходились так дорого, что большинству простых людей такие траты было не осилить. Исключение составляли юноши, за время учебы в низшей школе проявившие исключительные способности, – таких обучали бесплатно.
Должен признаться, что я ни в Доме Созидания Силы, ни в Доме Обучения Обычаям ничем особенно себя не проявил. Помнится, когда я впервые появился в музыкальном классе, наставник мальчиков попросил меня спеть что-нибудь, чтобы он мог оценить мой голос. А когда я спел, он сказал:
– Звуки забавные, но пением бы я их не назвал. Может, попробовать научить тебя играть на каком-нибудь инструменте?
Увы, вскоре выяснилось, что я столь же неспособен извлечь мелодию из флейты с четырьмя дырочками или подобрать ритм хоть на одном из множества звучавших в разной тональности барабанов. В конце концов потерявший терпение наставник отправил меня в группу, осваивавшую простейший танец для начинающих, танец Громовой Змеи. Каждый танцор, притопнув, делал маленький прыжок вперед, совершал полный оборот кругом, припадал на одно колено и, вернувшись в исходную позицию, повторял все с начала. Когда мальчики и девочки, выстроившиеся в длинную колонну, последовательно, один за другим, проделывают эти движения, слышится непрерывный грохот, а их строй со стороны и впрямь производит впечатление извивающейся змеи. Или, во всяком случае, должен производить.
– Это первая в моей жизни Громовая Змея, которую мне приходится выстраивать с таким чудиком! – воскликнула наставница девочек.
– А ну выйди из этого ряда, Малинкуи! – вскричал следом за ней наставник мальчиков.
И с этого времени я стал для него Малинкуи, то есть Чудиком. С тех пор всякий раз, когда на острове, на площади перед пирамидой проводили церемонии и ученики нашей школы публично исполняли ритуальный танец, мое участие в празднестве сводилось к битью в барабан из черепашьего панциря парой маленьких оленьих рогов или к выбиванию ритма зажатыми в каждой руке клешнями краба. К счастью, честь нашей семьи на таких мероприятиях всегда поддерживала сестра: она выступала с сольным танцем, который пользовался неизменным успехом. Тцитци могла танцевать вообще без музыкального сопровождения, причем у зрителей создавалось впечатление, будто она слышит какую-то особую, звучащую лишь для нее одной музыку.
А вот мне начинало казаться, будто у меня нет собственного лица либо, напротив, их так много, что я не в силах разобраться, какое же из них настоящее. Дома я был Микстли, Туча, соседи чаще называли меня Тоцани, Кротом, в Доме Обычаев кликали Малинкуи, Чудиком. Ну а в Доме Созидания Силы я вскоре заслужил еще одно прозвище: Пойяутла, Связанный Туманом.
К счастью, с мускулами мне повезло больше, чем с музыкальными способностями, ибо я унаследовал рост, стать и силу моего отца. К четырнадцати годам я перерос многих учеников, бывших старше меня на два года, ну а прыгать, бегать и поднимать тяжести может, по моему разумению, даже слепец. Во всяком случае, наставник не находил изъянов в выполнении мною физических упражнений, пока дело не доходило до командной игры. Если бы в игре тлачтли допускалось использование рук и стоп, я играл бы лучше, ибо человек действует ими почти инстинктивно, однако удары по твердому мячу оли разрешалось наносить только локтями, коленями и ягодицами, да и сам этот мяч, когда мне вообще удалось его заметить, виделся лишь как смутная клякса. Соответственно, хотя на время игры мы надевали шлемы, набедренники, наколенники и налокотники из толстой кожи, а торс мой защищала толстая хлопковая безрукавка, я постоянно получал синяки и ссадины от ударов мяча.
Хуже того, я редко мог отличить своих товарищей по команде от игроков противника. А если уж мне, пусть и нечасто, удавалось попасть по мячу коленом или бедром, я вполне мог отправить его не в те ворота – приземистые каменные арки по колено высотой, которые, согласно сложным правилам этой игры, в ходе ее переносятся с места на место по краям игровой площадки. Что же до того, чтобы закинуть мяч в одно из вертикальных каменных колец, укрепленных высоко вдоль линии схождения двух окружавших площадку стен (это приносило победу вне зависимости от очков, набранных до этого каждой командой), то такой бросок и опытным-то игрокам с отменным зрением удавался лишь изредка, можно сказать, по счастливой случайности. Ну а для меня, видевшего все сквозь пелену тумана, это было бы настоящим чудом.
Вскоре наставник перестал привлекать меня к игре, и мое участие с тех пор сводилось к тому, чтобы следить за кувшином с водой и черпаком, а также колючками для уколов и сосательными тростинками, с помощью которых школьный целитель возвращал подвижность онемевшим мышцам игроков, отворяя в местах кровоподтеков густую черную кровь.
Кроме того, нас обучали действиям в боевом строю и владению оружием. Наставником по боевым искусствам был немолодой, покрытый шрамами куачик, «старый орел», каковой титул давался человеку, на деле доказавшему свою воинскую доблесть. Звали его Икстли-Куани, или Пожиратель Крови, и ему, надо полагать, было хорошо за сорок. Носить перья на голове и прочие знаки отличия настоящих воинов нам, мальчишкам, не разрешалось, однако у нас были деревянные или плетеные и обтянутые кожей щиты и сделанные по нашему росту боевые доспехи. Последние представляли собой стеганые одеяния из вымоченного в рассоле и затвердевшего хлопка, защищавшие все тело, от шеи до запястий и лодыжек. Эти доспехи предоставляли некоторую свободу движений и служили защитой от стрел, во всяком случае выпущенных с дальнего расстояния, но – аййя! – как же в них было жарко! Они царапали тело, и, пробыв в них совсем недолго, человек исходил потом.
– Первым делом, – заявил Пожиратель Крови, – вы должны научиться издавать боевые кличи. Конечно, в настоящий бой вы пойдете под трубные звуки раковин, гром барабанов и треск трещоток. Но не помешает добавить к этому шуму и ваши собственные голоса, призывающие убивать, а также удары ваших кулаков или оружия по щитам. Уж я-то знаю по собственному опыту: оглушительный шум сам по себе может служить оружием. Он может поколебать сознание человека, разбавить водой его кровь, ослабить его мускулы, может даже опустошить его мочевой пузырь и кишки. Но если этот шум производите вы сами, то на вас он подействует совсем по-другому: укрепит вашу решимость и поднимет боевой дух.
Таким образом, несколько недель подряд, не получив даже учебного оружия, мы учились во весь голос подражать резкому клекоту орла, рычанию ягуара, протяжному уханью совы и пронзительным крикам попугая. Мы учились скакать и неистовствовать в притворном боевом рвении, делать угрожающие жесты и корчить угрожающие гримасы, учились с такой силой стучать по щитам, что они окрашивались кровью наших разбитых кулаков.
Не знаю, как у других народов, но у нас в Мешико воинские подразделения оснащались оружием, предназначенным для достижения конкретных целей, причем каждый человек имел возможность также дополнительно выбрать то, что ему лучше подходило. К некоторым необычным видам вооружения относились, например, кожаная праща для метания камней, тупой каменный топор, которым били, как молотом, тяжелая палица с утолщением, утыканным обсидиановыми остриями, трезубец с наконечниками из зазубренных костей и меч, представлявший собой насаженное на рукоять рыло рыбы-пилы. Но в основном воины Мешико сражались четырьмя видами оружия.
Всякое сражение начиналось с обстрела противника из луков – оружия, поражавшего на расстоянии. Мы, ученики, долгое время практиковались со стрелами, имевшими вместо наконечников из острого обсидиана мягкие шарики оли. Как-то раз наставник выстроил примерно двадцать человек в шеренгу и сказал:
– Предположим, что близ вон тех кактусов нопали, – он указал на то, что моему взору представилось лишь размытым зеленоватым пятном, – находится враг. – Натяните луки изо всех сил и вставьте стрелы так, чтобы они смотрели точно посередине между положением солнца и линией горизонта. Готовы? Встаньте поудобнее. Теперь прицельтесь в кактусы. Спустить тетивы!
Стрелы взвились в воздух, и почти сразу же последовал дружный разочарованный стон. Описав дугу, стрелы кучно вонзились в землю, причем ни одна из них даже не задела кактуса. Правда, выстрел на сто шагов удался всем, но лишь потому, что наставник уточнил, как следует натягивать лук и под каким углом стрелять. Всем было стыдно за промах, и мы воззрились на наставника, ожидая, что он объяснит, в чем заключается оплошность.
Он указал на квадратные и прямоугольные боевые стяги, древки которых были воткнуты в землю повсюду вокруг нас.
– Для чего нужны эти полотнища? – спросил Пожиратель Крови.
Мы переглянулись. Потом Пактли, сын владыки Красной Цапли, ответил:
– Остроконечные флажки носят на поле боя командиры подразделений. Если мы в ходе сражения рассеемся, эти флажки укажут, куда надо собираться для перегруппировки.
– Верно, Пактцин, – похвалил его наставник. – Ну а вот тот, длинный стяг из перьев, он для чего нужен?
Последовал очередной обмен взглядами, и Чимальи робко произнес:
– Мне кажется, мы носим его в знак гордости тем, что являемся воинами Мешико.
– Ответ хоть и неверный, но достойный, – заявил Пожиратель Крови, – так что наказания не последует. Но пусть все обратят внимание на то, как стелется по ветру этот вымпел.
Мы воззрились на флаг. Ветер был не слишком силен, и полотнище не реяло, как бывает, под прямым углом к древку, однако и не обвисло, а полоскалось под углом к земле.
– Ветер! Он дует справа налево! – взволнованно воскликнул один мальчик. – Мы целились правильно, куда надо, но ветер отнес наши стрелы в сторону от цели!
– Если вы промахнулись, значит, прицел был неверным, – сухо указал наставник. – Нечего сваливать вину на бога ветра. Чтобы ваши стрелы попадали куда надо, вы должны принимать во внимание то, с какой силой и в каком направлении дует Эекатль в свою ветровую трубу. Именно с этой целью на поле боя выносится стяг из перьев: по тому, в какую сторону он смотрит и под каким углом висит, можно определить, куда и с какой силой дует ветер, а значит, и рассчитать, далеко ли снесет он ваши стрелы. А сейчас марш туда! Соберите свои стрелы, повернитесь и выпустите их в меня! Слышите? Тот, кому удастся попасть в меня, получит освобождение от порки, даже самой заслуженной.
Мы припустили со всех ног, живо собрали стрелы и выпустили их в куачика. Увы, все они снова пролетели мимо.
Если лук и стрелы используют, чтобы поразить врага на дальнем расстоянии, то для более близкой цели подходит дротик, имеющий укрепленный на легком древке тонкий, острый обсидиановый наконечник. Он не оперен, а дальность его полета и поражающая сила зависят от силы и сноровки метателя.
– Имейте в виду, – говорил Пожиратель Крови, – как бы ни был могуч воин, одной лишь рукой он никогда не сможет метнуть дротик так далеко, как при помощи копьеметалки атль-атль. На первый взгляд эта палка с зацепом кажется неуклюжей, но когда вы после долгой практики овладеете ею как следует, то поймете, зачем она нужна: она удлинит вашу руку и удвоит вашу силу. На расстоянии тридцати длинных шагов вы сможете вогнать дротик в дерево толщиной в мачту. А теперь, мальчики, представьте, что будет, если он, пущенный с такой силой, попадет в человека?
Если после перестрелки и метания дротиков отряды сближались, в ход шли длинные копья с более широкими и тяжелыми обсидиановыми наконечниками. Нанося ими колющие удары, наши воины старались не подпускать противника вплотную. Ну а главным оружием неизбежно решающей судьбу битвы рукопашной схватки служил меч, именовавшийся макуауитль, что в переводе означает «охотящееся слово». Звучит не так уж и грозно, но меч этот был самым страшным, смертоносным оружием, применявшимся нашими войсками.
Макуауитль представлял собой планку из очень твердого дерева, длиной с руку и шириной в ладонь, по краям которой были вставлены острые обсидиановые пластины. Рукоять меча имела длину, позволявшую воину действовать как одной, так и обеими руками, причем она тщательно вырезалась и подгонялась под меченосца, для удобства его хватки. Обсидиановые пластины не просто вставлялись в дерево: мечу придавалось такое значение, что при его изготовлении в ход шла даже магия. Острые сколы обсидиана крепились в прорезях с помощью волшебного клея, в состав которого входили жидкий оли, драгоценная душистая смола копали и свежая кровь, которую поставляли жрецы бога войны Уицилопочтли.
Из обсидиана получаются зловещего вида наконечники стрел и копий или лезвия мечей, блестящие, словно кристаллы кварца, но черные, как Миктлан, загробный мир. Правильно обработанный, этот камень имеет грани столь острые, что с его помощью можно делать разрезы, тонкие, как травинка, и наносить глубокие, рассекающие раны. Единственным его недостатком является то, что обсидиан хрупок и может разбиться от удара о щит или меч противника. Но даже при этом в руках сильного, опытного бойца макуауитль с обсидиановыми лезвиями представляет грозное оружие, рассекающее человеческую плоть и кости с такой легкостью, словно это пучок травы. Ибо – о чем постоянно напоминал нам Пожиратель Крови – на войне враги являются не людьми, а всего лишь сорняками, каковые необходимо скосить.
Точно так же как наши стрелы, дротики и копья имели наконечники из резины, так и учебные мечи делали такими, чтобы мы не могли случайно изувечить друг друга. Основная планка изготовлялась из легкого дерева с мягкой древесиной, так что при нанесении слишком сильного удара такой меч просто ломался. Ну а по краям его вместо острых обсидиановых пластин вставлялись перья. Перед тем как двое учеников вступали в учебный поединок, наставник смачивал эти перья красной краской, с тем чтобы каждый нанесенный удар оставлял четкую отметину, похожую на настоящую рану. Краска была стойкой, и эти отметины сохранялись долго. За весьма короткое время мое лицо и тело оказались испещрены красными метками, так что мне стало неловко появляться на людях. Именно тогда наш куачик поговорил со мною наедине. Он был суровым многоопытным бойцом, твердым, как обсидиан, и, вероятно, не получившим, кроме воинских навыков, никакого образования, но при всем том далеко не глупцом.
Представ перед Пожирателем Крови, я, как подобало, выразил свое почтение ритуальным жестом, целуя руку и землю, после чего, не вставая с колен, сказал:
– Наставник, тебе уже ведомо, что глаза мои слабы. Боюсь, ты напрасно тратишь время и терпение, пытаясь обучить меня воинскому искусству. Окажись все эти метки на моем теле настоящими ранами, я давно уже был бы мертв.
– И что с того? – прохладно произнес он, после чего присел, чтобы я лучше мог его слышать. – Внемли мне, Связанный Туманом, я поведаю тебе о человеке, повстречавшемся мне некогда в Куаутемалане, стране Спутанного Леса. Может быть, ты знаешь, что тамошние жители, все до единого, очень боятся смерти. Вот и этот человек, проявляя крайнюю осторожность, избегал малейшей угрозы, а ведь вся наша жизнь полна риска. Он окружил себя целителями, жрецами и кудесниками, вкушал только самую питательную пищу и хватался за всякое снадобье, о котором говорили, будто оно укрепляет здоровье. Ни один человек в мире никогда не заботился о своей жизни лучше. Он жил только ради того, чтобы продолжать жить.
Пожиратель Крови умолк. Я подождал, но поскольку продолжения не последовало, спросил:
– И что же, наставник, стало с этим человеком?
– Он умер.
– И это все?
– А что еще в конечном счете происходит с любым человеком? Я и не помню, как его звали. Никто ничего не помнит о нем, кроме того, что он жил, а потом умер.
После очередной паузы я сказал:
– Наставник, я знаю, что если буду убит на войне, то моя смерть послужит насыщению богов, они щедро наградят меня в загробном мире, и, возможно, мое имя не будет забыто. Но не могу ли я, прежде чем настанет мой черед умереть, сделать в этом мире что-то по-настоящему важное и полезное?
– Мой мальчик, если, оказавшись в бою, ты нанесешь хотя бы один верный удар, можешь считать, что ты уже совершил нечто важное и полезное. Даже если в следующий момент тебе суждено быть убитым, ты уже достигнешь большего, чем все те люди, которые влачат свое жалкое существование до тех пор, пока боги не устают смотреть на пустую суетность их жизней и не смахивают их в пропасть забвения.
Пожиратель Крови поднялся.
– Связанный Туманом, вот мой собственный макуауитль, долго служивший мне верой и правдой. Возьми его. Только постарайся почувствовать рукоять.
Должен признаться, что, когда мне впервые в жизни довелось взять в руки боевое оружие, а не игрушечную щепку, окаймленную перьями, меня охватило радостное возбуждение. Меч был тяжел, просто зверски тяжел, но сам его вес как бы возглашал: «Во мне сила!»
– Вижу, ты размахиваешь им, держа в одной руке, что под силу лишь очень немногим мальчикам твоего возраста, – промолвил наставник. – А теперь, Связанный Туманом, иди сюда. Видишь этот крепкий нопали? А ну нанеси по нему смертельный удар.
Кактус был старый, величиной почти с дерево. Его колючие зеленые листья походили на весла, а покрытый коричневатой корой ствол не уступал по толщине моей талии. Я сделал мечом пробный взмах и, действуя одной лишь правой рукой, полоснул обсидиановым клинком по растению. Лезвие с голодным причмокиванием погрузилось в кору.
Я высвободил его, перехватил рукоять обеими руками, замахнулся и, вложив в него всю свою силу, нанес новый удар, рассчитывая, что на сей раз лезвие вонзится гораздо глубже. Эффект, однако, превзошел все мои ожидания: меч начисто разрубил ствол кактуса, разбрызгав его сок, словно бесцветную кровь. Верхняя часть нопали с треском повалилась вниз, и нам с наставником пришлось отскочить в сторону, чтобы не угодить под усеянную острыми колючками падающую массу.
– Аййа, Связанный Туманом! – восхищенно воскликнул Пожиратель Крови. – Пусть ты и лишен некоторых других качеств, но зато обладаешь силой прирожденного воина.
Я покраснел от удовольствия, однако вынужден был сказать:
– Да, наставник. Силы мне не занимать, и я могу нанести мощный удар. Но как насчет моего плохого зрения? Что, если этот удар придется вовсе не по цели, а то я и вовсе задену кого-нибудь из своих?
– Ни один куачик, отвечающий за новобранцев, никогда не отведет тебе в боевом порядке такое место, где существует риск подобного несчастья. В Цветочной Войне командир поместит тебя среди «пеленающих», тех, кто носит при себе веревки, с тем чтобы связывать пленных и конвоировать их домой для принесения в жертву. Ну а на настоящей войне твое место будет в тыловом отряде, среди «поглощающих», чьи ножи даруют избавление от страданий тем воинам, и своим, и вражеским, которые, будучи раненными, остались лежать на земле, в то время как сражение пронеслось дальше.
– «Пеленающие» и «поглощающие», – пробормотал я. – Едва ли в рядах и тех и других можно стяжать славу героя или заслужить награду в загробном мире.
– Прежде ты говорил об этом мире, – строго напомнил мне наставник, – причем говорил о службе, а не героизме. Даже самые смиренные могут служить с пользой. Припоминаю, что было, когда мы вступили в дерзкий город Тлателолько, дабы присоединить его к нашему Теночтитлану. Воины этого города, разумеется, сражались с нами на улицах, но женщины, дети и дряхлые старики стояли на крышах домов и бросали оттуда на нас большие камни, гнезда, полные сердитых ос, и даже пригоршни собственных испражнений!
Здесь, о писцы моего господина, мне следует остановиться и кое-что пояснить, ибо среди множества войн, которые мы вели, сражение за Тлателолько стояло особняком. Наш Чтимый Глашатай Ашаякатль просто счел необходимым покорить этот надменный город, лишить его независимости и силой заставить его жителей признать власть нашей великой столицы Теночтитлана. Но, как правило, остальные наши воины против других народов не имели своей целью завоевания, во всяком случае в том смысле, в каком ваши войска завоевали всю эту страну, назвав ее Новой Испанией и превратив в покорную колонию великой Испании, вашей родины. Мы тоже побеждали другие народы и приводили их к покорности, но их страны при этом не прекращали существовать. Мы сражались для того, чтобы показать свою мощь и востребовать с менее сильных дань. Когда другой народ покорялся и признавал зависимость от Мешико, он оставался жить на своей земле, возглавляемый собственными вождями, и продолжал пользоваться всем, что даровали ему боги – золотом, пряностями, оли, да чем угодно, – за исключением определенной доли, которая отныне изымалась и должна была ежегодно доставляться ко двору нашего Чтимого Глашатая.
Кроме того, если возникала нужда, воины покоренных народов должны были принимать участие в наших походах. Однако все эти племена сохраняли свои названия, свой привычный уклад жизни и свою религию. Мы не навязывали им свои законы, обычаи или своих богов. Например, бог войны Уицилопочтли был нашим богом. Именно его милостью мешикатль были возвышены над прочими народами, и мы вовсе не собирались делить щедроты этого бога с кем-либо еще. Напротив, побеждая те или иные племена, мы нередко обнаруживали новых богов (или новые воплощения известных богов) и, сделав копии их статуй, устанавливали в наших храмах.
Должен признать, что по соседству с нами существовали и такие народы, добиться от которых признания покорности и уплаты дани нам так и не удалось. Примером тому прилегающий к нам с востока Куаутлашкалан, земля Орлиных Утесов, называемая нами обычно просто Тлашкала, Утесы или Скалы. Вы, испанцы, по какой-то причине предпочли назвать ее Тласкала, что вызывает смех, поскольку это слово означает на нашем языке попросту «тортилья».
Тлашкала была подобна острову, ибо со всех сторон ее окружали подвластные нам страны. Однако ее правители упорно отказывались подчиниться нам хоть в чем-то, и поэтому их земля находилась в изоляции и испытывала большие трудности со ввозом многих необходимых товаров. Если бы жители Тлашкалы не торговали с нами, хоть и скрепя сердце, священной смолой копали, которой богаты их леса, у них не было бы даже соли, чтобы приправить пищу.
Поскольку наш юй-тлатоани не поощрял торговлю с тлашкалтеками, надеясь, что рано или поздно они смирят свою гордыню и покорятся, упрямцам приходилось испытывать тяжкие, унизительные лишения. Например, они вынуждены были обходиться лишь собственным хлопком, которого там растет очень мало, отчего даже их знати приходилось носить мантии из хлопка, смешанного с грубыми волокнами конопли, или магуй. В Теночтитлане в такой одежде ходили только рабы или дети. Понятно, что жители Тлашкалы ненавидели нас от всей души, и вам хорошо известно, какие суровые последствия возымела эта ненависть и для нас, и для самих тлашкалтеков, и для всех, населявших те земли, которые ныне именуются Новой Испанией.
– И кстати, – сказал мне Пожиратель Крови в ходе того памятного разговора, – как раз сейчас наши войска постыдно увязли на западе, в борьбе с упорствующим в неподчинении нашей воле народом. Предпринятая Чтимым Глашатаем попытка вторжения в Мичоакан, страну Рыбаков, была с позором для нас отбита. Ашаякатль рассчитывал на легкую победу, ибо ни во что не ставил медные клинки этих пуремпече, однако они нанесли нам поражение.
– Но как, наставник? – удивился я. – Как мог миролюбивый народ, вооруженный не твердым обсидианом, а мягкой медью, дать отпор непобедимому Мешико?
Старый воин пожал плечами.
– Может быть, пуремпече и не выглядят воинственными, однако, защищая свою родину, озерный край Мичоакан, они сражаются с великой яростью и отвагой. К тому же, по слухам, они обнаружили какой-то магический металл, который замешивают в свою медь, пока она еще расплавлена. Выкованные из этого сплава клинки обретают такую прочность, что наши обсидиановые лезвия кажутся в сравнении с ними сделанными из коры.
– Чтобы рыбаки и земледельцы побили могучих воинов Ашаякатля... – пробормотал я себе под нос.
– Можешь быть уверен, мы снова вторгнемся в их край, – промолвил Пожиратель Крови. – До сих пор Ашаякатль хотел всего лишь получить доступ к их богатым рыбой заводям и плодоносным долинам, но теперь к этому добавилось стремление раздобыть секрет магического металла. Он выступит против пуремпече снова, и когда это случится, ему потребуется каждый, кто способен шагать в строю. Даже... – Наставник умолк, но потом продолжил: – Даже ветеран с негнущимися суставами вроде меня или тот, кто сможет служить разве что «вяжущим» или «поглощающим». Нам всем, мой мальчик, должно быть закаленными, обученными и готовыми к бою.
Вышло, однако, так, что Ашаякатль умер прежде, чем успел снова вторгнуться в Мичоакан, находящийся в том краю, который вы теперь называете Новой Галисией. При следующем Чтимом Глашатае мы, мешикатль и пуремпече, ухитрялись жить в своего рода взаимном уважении. И мне вряд ли стоит напоминать вам, почтенные братья, что ваш собственный военачальник, этот мясник Белтран де Гусман, и по сей день все еще пытается сокрушить упорно сопротивляющиеся отряды своенравного племени. Пуремпече держат оборону вокруг озера Чапалан и в других отдаленных уголках Новой Галисии, отказываясь покориться вашему королю Карлосу и вашему Господу Богу.
Я рассказал о войнах, которые велись ради завоевания соседних народов. Уверен, что природа таких войн понятна даже вашему кровожадному Гусману, хотя, конечно, ему в жизни не уразуметь, как можно сохранять побежденным не только жизнь, но и право на самоуправление. Но сейчас позвольте мне рассказать о наших Цветочных Войнах, ибо все, что связано с ними, остается непонятным для белых людей. «Как, – спрашивали меня многие, – могло быть, чтобы дружественные народы вели между собой столько совершенно ненужных, ничем не спровоцированных войн? И чтобы при этом ни одна из сторон даже не пыталась победить?»
Я по мере сил постараюсь вам это объяснить.
Любая война по самой своей природе угодна нашим богам, ибо воин, умирая, проливает кровь, влагу жизни, самый драгоценный дар, который может преподнести им человек. В войне завоевательной или карательной целью является окончательная победа, и воины обеих сторон сражаются, чтобы убить или быть убитыми. Недаром мой наставник называл врагов сорняками, которые необходимо выкосить. В ходе таких войн лишь немногие попадали в плен, чтобы умереть впоследствии в ходе церемониального жертвоприношения. Но умирал ли воин на поле боя или на алтаре храма, его смерть считалась Цветочной Смертью, почетной для него самого и угодной богам. Во всем этом, если взглянуть на происходившее с точки зрения богов, был только один минус: войны происходили недостаточно часто. Они случались лишь время от времени, а насыщающая кровь, равно как и павшие воины, которые становились их слугами в загробном мире, требовались богам постоянно. Бывало, между двумя войнами проходили долгие годы, и все это время богам приходилось поститься и ждать. Что, разумеется, раздражало их, и в год Первого Кролика они дали нам об этом знать.
Это случилось лет за двенадцать до моего рождения, но отец отчетливо помнил те события и частенько рассказывал о них, печально покачивая головой. В тот год боги наслали на все плато самую суровую зиму на людской памяти. Мало того что стужа и пронизывающие, обжигающие холодом ветра безвременно унесли жизни многих младенцев, болезненных старцев, домашних животных и даже диких зверей, так шестидневный снегопад еще и погубил прямо на корню все наши зимние посевы. В ночном небе наблюдались таинственные огни, полоски окрашенного холодом свечения, которые отец описывал как «богов, зловеще шагавших по небесам». По его словам, лица их «оставались неразличимы: народ лицезрел лишь мантии из белых, зеленых и голубых перьев цапель».
И это было только начало. Весна не просто положила конец холоду, но принесла палящую, изнуряющую жару, а в сезон дождей дождей не последовало. Ту часть наших посевов и животных, которая смогла пережить стужу и снегопад, теперь губила засуха. И этому бедствию не было видно конца и края. Следующие годы оказались такими же: стужа сменялась жарой и засухой. Во время холодов наши озера замерзали, а в жару съеживались: вода в них нагревалась и становилась такой соленой, что рыба гибла, всплывала брюхом кверху и гнила, наполняя воздух зловонием.
Этот период, который старые люди и по сию пору зовут Суровыми Временами, продлился пять или шесть лет. Ййа, аййа, должно быть, эти времена были не просто суровы, а ужасны, если нашим гордым, самолюбивым масехуалтин приходилось продавать себя в рабство. Видите ли, другие народы, жившие за пределами этого плато, в южных нагорьях и в прибрежных Жарких Землях, не подверглись подобным напастям. Они предлагали нам на обмен плоды своих по-прежнему щедрых урожаев, но с их стороны это вовсе не было великодушием, ибо они знали, что нам почти нечего предложить в ответ, только самих себя. Наши соседи, особенно те, кому прежде приходилось признавать наше превосходство, были рады возможности покупать «чванливых мешикатль» в качестве рабов и унижать нас еще сильнее, предлагая ничтожную плату.
В ту пору за крепкого работящего мужчину давали в среднем пятьсот початков маиса, а за женщину в детородном возрасте – всего четыреста. Если семья имела только одного пригодного для продажи ребенка, то этим мальчиком или девочкой приходилось пожертвовать, чтобы остальные домочадцы не умерли с голоду. Если в семье были только младенцы, ее глава продавал себя. Но долго ли могла продержаться семья на четырех или пяти сотнях маисовых початков? И что было делать, кого продавать после того, как эти початки оказывались съедены? Даже вернись нежданно Золотой Век, разве могла семья выжить без работающего отца? Да и Золотой Век что-то не наступал...
Все это происходило в правление Мотекусомы Первого, который, пытаясь облегчить страдания народа, опустошил и государственную, и свою личную казну. Наконец, когда все хранилища и амбары опустели, а никаких признаков конца Суровых Времен не наблюдалось, Мотекусома и его Змей-Женщина созвали Совет Старейшин, на который пригласили провидцев и прорицателей. За точность не поручусь, но рассказывают, будто на том достопамятном совещании происходило следующее.
Один седовласый кудесник, потративший месяцы, бросая гадательные кости и сверяя результаты со священными книгами, провозгласил:
– О Чтимый Глашатай, боги наслали на нас голод, дабы показать, что они сами испытывают такие же страдания. Боги голодают, ибо со времени нашего последнего вторжения в Тлашкалу, а оно имело место в год Девятого Дома, мы не вели войн и лишь изредка преподносили богам дары, освященные кровью. Запас пленников у нас иссяк, а одними преступниками и добровольцами богов не насытить. Им требуется много крови.
– Выходит, нужна новая война? – задумчиво промолвил Мотекусома. – Но Суровые Времена ослабили наш народ, и даже у лучших воинов едва ли хватит сил на то, чтобы совершить поход к вражеской границе, не говоря уж о том, чтобы вступить в бой.
– Это так, о Чтимый Глашатай. Но есть возможность совершить массовое жертвоприношение, не затевая войны.
– Ты предлагаешь перерезать наших людей прежде, чем они умрут с голоду? – саркастически спросил правитель. – Но они так исхудали и иссохли, что, пожалуй, нам со всего города не нацедить столько крови, чтобы ее хватило для утоления божественной жажды.
– Верно, Чтимый Глашатай. И в любом случае, это было бы столь жалкое подаяние, что боги, скорее всего, отвергли бы его с презрением. Нет, господин, без войны не обойтись, но это должна быть необычная война...
Так или примерно так рассказывали мне о том, откуда пошли Цветочные Войны и как была начата первая из них.
Самые сильные державы, расположенные в центре плато, составляли Союз Трех. В него входили: Мешико (со столицей в Теночтитлане); страна, населенная народом аколхуа, что лежит на восточном берегу озера (со столицей в Тескоко); а также земля, расположенная на западном побережье, жители ее называются текпанеками (со столицей в Тлакопане). На юго-востоке проживали три народа помельче: тлашкалтеки, о которых я уже говорил (напомню, их столица Тлашкала); уэшоцинеки, со столицей в Уэшоцинко; и некогда могущественные тья-нья, или, как звали их мы, миштеки, чьи владения к тому времени уменьшились до размеров города Чолула с ближайшими окрестностями. Первые, о чем уже говорилось, были нашими врагами, но вторые и третьи еще издавна платили нам дань и считались, хоть и не по своей воле, нашими, пусть и не совсем полноправными, союзниками. Суровые Времена принесли трем названным народам такие же бедствия, как и народам, входившим в Союз Трех.
После совета со старейшинами Мотекусома устроил другой, с правителями Тескоко и Тлакопана, и эти вожди начертали и направили правителям городов Тлашкала, Чолула и Уэшоцинко послание. Звучало оно приблизительно так:
«Давайте устроим войну, целью которой будет не уничтожение, но выживание всех наших народов. Мы все разные, но Суровые Времена принесли нам одинаковые лишения, и мудрые люди говорят, что единственная наша надежда на спасение – это умилостивить богов человеческими жертвоприношениями. Поэтому мы предлагаем устроить сражение войск нашего Союза с войсками ваших трех городов и сделать это на равнине Акачинанко, которая не принадлежит никому и лежит в достаточном отдалении от всех владений. Эта война будет иметь своей целью не установление власти, присоединение территории, наложение дани или грабеж, но лишь захват пленных, каковым будет дарована Цветочная Смерть. Как только все стороны захватят столько пленников, сколько необходимо для ублажения их богов, это будет доведено до сведения командующих, после чего сражение немедленно прекратится».
Это, по понятиям испанцев, совершенно невероятное предложение было принято всеми заинтересованными сторонами, включая и воинов, которых вы называете безумными самоубийцами, ибо они сражались не ради победы или добычи, но выходили на бой, не суливший им ничего, кроме весьма вероятной безвременной кончины. Но скажите, разве среди состоящих на службе у вашего короля солдат не нашлось бы людей, готовых выйти на бой под любым предлогом, лишь бы избавиться от удручающей скуки, царящей в гарнизонах в мирное время? А у наших воинов, по крайней мере, имелся стимул: они знали, что если погибнут в бою или на алтаре врагов, то этим заслужат благодарность всего народа за то, что угодили богам, которые, в свою очередь, одарят их блаженством в загробном мире. К тому же в те Суровые Времена, когда так много народу бесславно умирало от голода, у мужчин были все основания предпочесть гибель от меча или жертвенного ножа.
Так была задумана первая Цветочная Битва, которую провели там, где и было предложено жрецами, хотя путь к равнине Акачинанко для всех шести армий оказался столь долгим и утомительным, что воинам, прежде чем они вступили в сражение, потребовался отдых. Так или иначе, но народу в той битве полегло немало, ибо некоторые воины, войдя в раж, дрались как на настоящей войне. Ведь солдату, обученному убивать, трудно воздержаться от убийства. Однако чаще по взаимному соглашению удары наносились не обсидиановым лезвием, но плоской частью меча. Оглушенные такими ударами люди не добивались «поглощающими», но попадали в руки «вяжущих». Спустя всего два дня состоявшие при каждом войске жрецы сочли число захваченных пленников достаточным для ублажения своих богов, и командующие один за другим стали разворачивать над полем знамена, призывая окончить сражение. Схватки, все еще продолжавшиеся кое-где на равнине, прекратились, и шесть усталых армий разошлись по домам, уводя с собой еще более усталых пленников.
Эта первая, пробная, Цветочная Война состоялась в середине лета, то есть в самый разгар сезона, коему следовало быть сезоном дождей, но который в Суровые Времена был сезоном зноя и засухи. Вожди всех шести народов договорились также и о том, чтобы все пленные, во всех шести городах, были принесены в жертву одновременно. Сейчас уже никто не возьмется сказать точно, сколько людей встретило в тот день свою смерть в Теночтитлане, Тескоко, Тлакопане, Тлашкале, Чолуле и Уэшоцинко, но в любом случае счет шел на тысячи. Вы, почтенные братья, можете считать это простым совпадением, ибо Господь Бог, разумеется, не был к тому причастен, однако в тот самый день, когда на пирамидах пролилась человеческая кровь, кто-то сорвал печать с облачных кувшинов и на все обширное плато, от края до края, пролился животворный ливень. Суровые Времена подошли к концу.
К тому же в тот самый день многие жители всех шести городов в первый раз за несколько лет наелись досыта, ибо вкусили останки жертвенных ксочимикуи. Боги довольствовались вырванными из груди и растертыми на их алтарях человеческими сердцами, тела жертв им нужны не были, но зато они очень даже пригодились собравшимся людям. Тела ксочимикуи, еще теплые, скатывались вниз по ступеням пирамиды, а поджидавшие внизу рубщики мяса рассекали их на части и делили среди толпившихся на площади людей. Черепа раскалывали и извлекали оттуда мозги, руки и ноги разрубали на куски, гениталии и ягодицы отчленяли, а печень и почки вырезали. Эти порции не просто кидали в толпу, их распределяли с восхитительным здравым смыслом, а народ, со столь же восхитительным терпением, ждал. По понятным причинам мозг доставался жрецам, гениталии – молодым семейным парам. Не столь значимые ягодицы и внутренности отдавали беременным женщинам, кормящим матерям и многодетным семьям. Остатки голов, рук, ступней и торсов, в которых больше костей, чем мяса, откладывали в сторону, чтобы удобрить землю для будущего урожая.
О том, являлось ли изначально это пиршество еще одним преимуществом замысла тех, кто придумал Цветочные Войны, я судить не берусь. Может быть, да, а может быть – и нет. Все народы, населявшие наши края, издавна употребляли в пищу все живое, что выращивали или добывали себе на потребу: дичь, домашнюю птицу, собак. Ели также ящериц, насекомых и кактусы, но на тела соплеменников, умерших в Суровые Времена, никто никогда не покушался. Это можно было бы счесть неразумным, но, как бы ни голодали населявшие наши края народы, умерших соотечественников они, в соответствии со своими обычаями, предавали земле или огню. Однако теперь благодаря Цветочной Войне люди получили множество трупов врагов (пусть они стали врагами лишь по договоренности), так что угрызений совести в этом случае никто не испытывал.
В последующие годы никогда не повторялись ни столь массовая резня, ни столь массовое пиршество, ибо необходимости в насыщении голодной толпы уже не возникало. Поэтому жрецы разработали и установили порядок поедания жертвенных трупов, превратив это действо в ритуал. Впоследствии воинам, захватившим пленных, отдавали лишь символические кусочки мышц убиенных, которые они съедали в строгом соответствии с установленным обрядом. Остальное же мясо распределялось среди действительно бедных людей, в основном рабов, а в таких городах, где, как в Теночтитлане, имелись общественные зверинцы, трупы скармливались животным.
Человеческая плоть, как почти всякое другое мясо, будучи надлежащим образом разделана, приправлена и приготовлена, представляет собой вкусное блюдо и за отсутствием другой мясной пищи вполне годится для пропитания. Другое дело, что, подобно тому как браки между родственниками (а таковые были распространены среди нашей знати) хотя и приносили порой превосходные плоды, но чаще вели к вырождению потомства, так и люди, постоянно питающиеся человеческим мясом, надо думать, обрекают себя на упадок. Точно так же как род, дабы процветать и здравствовать, нуждается в притоке свежей крови со стороны, так и кровь человека улучшается благодаря употреблению мяса других животных. Таким образом, как только Суровые Времена миновали, поедание убитых ксочимикуи стало для всех, кроме совсем уж бедных, не более чем религиозным ритуалом.
Однако первая Цветочная Война, уж не знаю, было это совпадением или нет, привела к такому успеху, что те же самые шесть народов впоследствии постоянно продолжали затевать подобные войны, дабы оградить себя от возможного гнева богов и не допустить повторения Суровых Времен. Правда, осмелюсь предположить, что в дальнейшем у Мешико не было особой нужды в такой уловке, ибо Мотекусома и Чтимые Глашатаи, которые стали его преемниками, больше не допускали того, чтобы промежутки между настоящими войнами затягивались на годы. Редко бывало, чтобы наши войска не находились в походе, увеличивая число племен, платящих нам дань. Однако аколхуа или текпанеки, не столь могущественные и воинственные, вынуждены были затевать Цветочные Войны, ибо им больше негде было черпать жертвы для своих богов, а Теночтитлан, ставший прародителем подобных сражений, охотно продолжал в них участвовать. В таких случаях Союз Трех по-прежнему выступал против тлашталтеков, миштеков и уэшоцинеков.
Воинам было все равно, где сражаться. Вероятность не вернуться с завоевательной или с Цветочной войны была одинаковой, равно как и возможность стяжать славу героя и заслужить награду имелась как и у того, кто устилал поле боя телами убитых врагов, так и у того, кто приводил с равнины множество живых пленников.
– И запомни, Связанный Туманом, – сказал мне Пожиратель Крови в тот памятный день, – ни один воин – ни в настоящей войне, ни в Цветочной – не должен заранее настраиваться на смерть или пленение. Ему следует надеяться выжить, победить и вернуться с войны героем. Не стану лицемерить, мой мальчик, воин вполне может погибнуть вопреки всем своим надеждам и чаяниям, однако если он пойдет в бой, не рассчитывая завоевать победу для своего войска и славу для себя, вот тогда он погибнет наверняка.
В ответ я, не желая выглядеть малодушным, высказался в том смысле, что не боюсь смерти в бою или на жертвеннике, хотя, по правде сказать, и то и другое вовсе меня не привлекало. Я прекрасно понимал, что в любом случае, хоть на настоящей войне, хоть на Цветочной, я все равно окажусь разве что среди «пеленающих» или «поглощающих», обязанности которых с равным успехом можно было возложить и на женщин. Поэтому я спросил наставника, не кажется ли ему, что я мог бы принести народу Мешико большую пользу, будь у меня возможность проявить другие свои таланты?
– Какие такие другие таланты? – пробурчал Пожиратель Крови.
На миг этот вопрос поставил меня в тупик, но потом мне подумалось, что, добившись успеха в искусстве рисуночного письма, я вполне мог бы сопровождать армию в качестве отрядного летописца. Мог бы сидеть в сторонке, где-нибудь на вершине холма, и описывать действия командиров и особенности хода сражений в назидание будущим военачальникам.
Однако когда я изложил все это наставнику, старый вояка посмотрел на меня с раздражением.
– Сначала ты говоришь, будто видишь слишком плохо для того, чтобы сражаться с противником лицом к лицу, а потом заявляешь, якобы способен издали, со стороны узреть всю сложность битвы. Связанный Туманом, если ты добиваешься того, чтобы тебя освободили от военной подготовки, то выброси эту дурь из головы. Даже если бы я и захотел, то все равно не смог бы освободить тебя от занятий, ибо не могу нарушить предписание.
– Предписание? – озадаченно пробормотал я. – Что еще за предписание, наставник? Чье?
Он раздраженно нахмурился, как будто я поймал его на невольной обмолвке, и проворчал:
– Я сам устанавливаю себе предписания, ясно? Я сам налагаю на себя обязательства в отношении учеников, а мое глубокое убеждение состоит в том, что каждый мужчина за свою жизнь просто обязан побывать хоть на одной войне, на худой конец, поучаствовать хоть в одном бою. Если он уцелеет, это научит его по-настоящему ценить жизнь. Все, мой мальчик. Жду тебя, как обычно, завтра вечером.
С тех пор я регулярно ходил на военные занятия, да и что еще мне оставалось? Будущее по-прежнему представлялось мне неясным, но в одном я был уверен: чтобы избежать ненужных и неподходящих тебе обязанностей, существуют два пути. Следует доказать или полную свою неспособность к тому, что тебе хотят навязать, или же, наоборот, убедить начальствующих, что ты слишком хорош для такого дела и годишься на большее. Если бы мне удалось стать искусным писцом, никому и в голову бы не пришло, что я должен проливать свою кровь на поле боя. Поэтому я усердно посещал как Дом Созидания Силы, так и Дом Обучения Обычаям, а в свободное время тайком, неустанно и не жалея сил старался разобраться в секретах искусства изображения слов.
Будь этот жест еще в обычае, ваше преосвященство, я поцеловал бы землю. Но раз он ушел в прошлое, я просто распрямлю свои старые кости и встану, чтобы поприветствовать ваше появление так же, как это сделали почтенные братья.
Для меня большая честь, что вы, ваше преосвященство, вновь соблаговолили почтить нашу маленькую группу своим присутствием и уж тем более – услышать, как далеко вы продвинулись в изучении записей моего рассказа. Однако должен признаться, что некоторые вопросы, которые пытливо задает ваше преосвященство касательно уже изложенных мной ранее событий заставляют меня в смущении, даже в некотором стыде, опустить веки.
Да, ваше преосвященство, на протяжении всех тех лет взросления, о которых шла речь, я и моя сестра продолжали получать плотское удовольствие друг от друга. Да, ваше преосвященство, мы, конечно, понимали, что предаемся греху.
Скорее всего, Тцитцитлини знала об этом с самого начала, но я был моложе и лишь со временем стал сознавать, что мы с ней занимаемся чем-то непозволительным. Потом, уже повзрослев, я понял, что наши женщины всегда узнавали о тайнах плоти раньше мужчин, и подозреваю, что то же самое справедливо по отношению к женщинам всех рас, включая и вашу, белую. Ибо похоже, что девицы повсюду склонны с малолетства шушукаться, пересказывая одна другой на ушко секреты, выведанные ими насчет своих и мужских тел, а равно и общаться со вдовами и старухами, которые – может быть, потому, что их собственные соки давно засохли, – радостно или злокозненно норовят наставлять молодых девушек в женских хитростях, уловках и обманах.
Я сожалею о том, что недостаточно пока сведущ в новой христианской религии, чтобы знать обо всех ее правилах и предписаниях на эту тему, хотя предполагаю, что она косо смотрит на любые соития, кроме производящихся венчанными супругами-христианами ради появления на свет христианских младенцев. Ведь даже у нас, язычников, существовало множество законов и огромное количество обычаев, ограничивавших эту сторону жизни.
Незамужней девушке предписывалось хранить целомудрие, а ранние замужества не поощрялись жрецами, ибо в таком случае женщине пришлось бы в своей жизни слишком много и часто рожать. А где было жить и чем питаться слишком многочисленному потомству? Правда, девушка могла не выходить замуж, а стать ауаниме, оказывающей плотские услуги воинам. Это занятие, хотя и не пользовалось особым уважением, считалось вполне законной профессией. Девица, непригодная для брака в силу уродства или какого-либо физического недостатка, могла стать платной маатиме. Находились также девушки, сознательно сохранявшие невинность, чтобы снискать честь быть принесенными в жертву на какой-нибудь церемонии, где требовалась девственница, а некоторые поступали так, чтобы, подобно вашим монахиням, до конца своих дней быть прислужницами при храмах. Правда, состояли они не столько при храмах, сколько при жрецах, а потому люди много чего болтали насчет того, в чем именно заключалась их служба и как долго сохранялась их девственность.
В отношении мужчин соблюдение целомудрия до вступления в брак не считалось таким уж обязательным, ибо им для плотских утех всегда были доступны маатиме или рабыни, да и вообще, очень трудно доказать или опровергнуть, что юноша уже имел дело с женщинами. Впрочем, могу сообщить вам по секрету, сам я узнал об этом от сестры, что если только у женщины есть время подготовиться к первой брачной ночи, она легко может убедить мужа в своей девственности. Некоторые старухи специально откармливают голубок темно-красными семенами какого-то им одним известного цветка, а потом продают яйца этих птиц предполагаемым девственницам. Голубиное яйцо настолько мало, что его можно без труда ввести в женское лоно, а скорлупа у него такая хрупкая, что возбужденный жених ничего не заподозрит, тем более что желток этого яйца имеет цвет крови. Кроме того, старухи продают женщинам вяжущую мазь, изготовленную из ягоды, которую вы называете крушиной, и эта мазь стягивает влагалище, вновь делая его тесным, как в юности...
Если такова воля вашего преосвященства, я, конечно же, постараюсь в дальнейшем воздержаться от излишних подробностей.
Изнасилование считалось у нас преступлением, но случалось это довольно редко, по трем причинам. Во-первых, почти невозможно было совершить изнасилование, не оказавшись при этом пойманным: общины наши не отличались многочисленностью, все друг друга знали, а чужаки всегда были на виду. Во-вторых, чтобы удовлетворить похоть, нашему мужчине не требовалось прибегать к насилию, ибо к услугам вожделеющего всегда имелись маатиме и рабыни. Ну и наконец, изнасилование каралось смертной казнью. Такая же кара полагалась за прелюбодеяние, за куилонйотль, то есть мужеложство, и за патлачуиа, соитие между женщинами. Правда, эти преступления, вероятно не столь уж редкие, выходили наружу нечасто, если только виновных не застигали с поличным. В противном случае доказать приверженность таким порокам так же трудно, как и потерю невинности.
Напомню, что сейчас я говорю только о том, что запрещено или, по крайней мере, осуждается (за исключением праздников плодородия, когда торжествует показная распущенность) у нас в Мешико. Вообще мы, мешикатль, по сравнению со многими другими народами отличаемся довольно строгими нравами. Помню, что, впервые оказавшись далеко к югу отсюда, в стране майя, я был поражен тем, что во многих их храмах водосточные трубы были изготовлены в виде мужских тепули. На протяжении всего сезона дождей тепули эти беспрестанно мочились с крыш.
Хуаштеки, живущие к северо-востоку от нас, на побережье Восточного моря, вообще крайне грубы и неразборчивы в плотских связях. Я видел их храмовые рельефы с изображением мужчин и женщин, совокупляющихся во множестве поз. Кроме того, любой мужчина из этого племени, имеющий тепули больше среднего размера, горделиво выставляет его напоказ и как ни в чем не бывало разгуливает в общественным местах без набедренной повязки. Этот хвастливый обычай снискал хуаштекам репутацию обладателей особой мужской силы. Насколько это справедливо, мне неведомо. Могу лишь сказать, что когда мужчин этого племени выставляли на продажу у нас на невольничьем рынке, то наши знатные женщины, являвшиеся на торжище, скрыв лица под вуалями, и державшиеся поодаль, нередко знаками приказывали своим слугам вступить в торг.
Пуремпече, живущие в Мичоакане, что к западу отсюда, в такого рода вопросах более чем снисходительны. Например, сношение мужчины с мужчиной у них не только не наказывается смертью, но и вовсе не осуждается. Это нашло отражение даже в их письменности. Может быть, вы знаете, что символом женской тепили служит изображение маленькой раковины? Так вот, чтобы отобразить сношение между двумя мужчинами, пуремпече рисовали обнаженного мужчину с раковиной улитки, прикрывающей его настоящий член.
Что же касается соитий между сестрой и мною... Вы называете это инцест? Понятно, ваше преосвященство. Так вот, я полагаю, что подобное было запрещено у всех мне известных народов. Да, конечно, мы рисковали жизнью, ибо за кровосмешение, связь между братьями и сестрами, родителями и детьми и так далее, устанавливались особо жестокие виды казней. Правда, касалось это только нас, масехуалтин, составлявших большую часть населения. Я уже упоминал, что среди знати, стремившейся сохранить то, что они называли чистотой крови, браки между близкими родственниками были обычным делом, хотя никаких свидетельств того, чтобы это действительно улучшало породу, и не имелось. Ну и конечно, ни закон, ни общественное мнение не проявляли интереса к изнасилованиям, кровосмешениям или прелюбодеяниям, если речь шла о рабах.
Вы, разумеется, можете спросить: как вышло, что мы с сестрой так долго предавались своей греховной страсти, не будучи уличенными? Отвечу: матушка, строго наказывая нас за куда менее серьезные проступки, приучила и меня, и сестру к крайней осторожности. Даже когда я стал отлучаться с Шалтокана и мои отлучки длились месяцами, мы с Тцитци при встрече ограничивались прохладным поцелуем в щеку, хотя оба за это время извелись от тоски и страсти. На людях мы сидели порознь, словно нам нет друг до друга дела, и я, скрывая внутреннее смятение, долго рассказывал жадным до новостей родичам обо всем, что увидел за пределами нашего острова. Бывало, что проходило несколько дней, прежде чем нам с Тцитци удавалось наконец уединиться в надежном, безопасном месте. Тогда мы нетерпеливо срывали одежду, набрасывались друг на друга, а утолив первую страсть, затихали рядом, словно на склоне нашего собственного, тайного вулкана. Скоро он пробуждался снова, только теперь ласки были менее бурными, но зато более прочувствованными и изощренными.
Однако мои отлучки с острова начались позлее, а в ту пору нас с сестренкой ни разу не застали с поличным. Разумеется, если бы у нас, как у христиан, чуть ли не каждое соитие оборачивалось зачатием, дело обернулось бы для обоих большой бедой. Я в ту пору даже не думал о подобной опасности, ибо просто не мог себе представить, как это мальчик вдруг может оказаться отцом. Но сестра, как всякая женщина, была взрослее и мудрее, знала на сей счет больше и принимала необходимые меры предосторожности. Те же самые старухи, о которых я уже рассказывал, тайно продавали незамужним девушкам (тогда как в лавках семейным парам, не желавшим рисковать зачать ребенка всякий раз, когда они ложились в постель, такие снадобья продавались открыто) измельченный порошок корнеплода под названием тлатлаоуиуитль. Клубень его похож на сладкий картофель, только в сто раз больше. Вы, испанцы, называете его барабоско, но, наверное, не знаете, что женщина, принимающая ежедневно дозу толченого барабоско, не рискует зачать нежеланного младенца!
Простите меня, ваше преосвященство, я и понятия не имел о том, что в моих словах есть нечто неподобающее и оскорбляющее ваши чувства. Пожалуйте, садитесь снова.
Должен сообщить, что долгое время я лично все-таки подвергался риску, но не во время близости с Тцитци, а наоборот, когда находился с нею в разлуке. В ходе наших вечерних занятий в Доме Созидания Силы отряды из шести-восьми мальчиков регулярно высылались на окрестные поля и рощи «нести дозор на случай нападения на школу». Обязанность эта была нудной, и мы скрашивали время, играя скачущими бобами в патоли. Но потом кто-то из мальчиков, я уж и забыл кто, обнаружил возможность получать удовлетворение в одиночку. Не будучи стеснительным или эгоистичным, он немедленно поделился с остальными своим открытием, и с тех пор мальчики, отправляясь в дозор, уже не брали с собой бобы, поскольку все нужное для игры имели при себе постоянно. Да, все это сводилось всего-навсего к игре. Мы устраивали соревнования и делали ставки на то, кто сможет дойти до семяизвержения больше раз, затрачивая меньше времени на восстановление сил. Это было сродни играм, затевавшимся нами в более раннем возрасте: кому удастся дальше плюнуть или помочиться. Однако новый вид соревнований был чреват для меня определенным риском.
Дело в том, что я частенько приходил на эти игры, едва покинув объятия Тцитци, так что, как вы понимаете, мой резервуар был уже опустошен, не говоря уже о способности к возбуждению. Соответственно, семяизвержения я достигал редко, да и было оно весьма скудным. Частенько я выдавливал из себя лишь капли, а порой и вовсе не мог заставить свой тепу ли встать. Сначала товарищи поднимали меня на смех, но потом насмешки сменились сочувствием. Некоторые особо сострадательные мальчики предлагали мне различные средства – есть сырое мясо, подольше париться в парилке и тому подобное. А два моих лучших друга – Чимальи и Тлатли – обнаружили, что достигают гораздо более волнующих ощущений, когда каждый манипулирует не собственным тепули, а тепули товарища. Поэтому они предложили...
Гнусность? Непристойность? Это терзает ваш слух? Прошу прощения, если огорчаю ваше преосвященство и вас, писцы моего господина, но я рассказываю об этих вещах не из праздной похотливости.
Несколько наших товарищей, включая и Пактли, сына правителя, пошли на разведку в ближайшую к школе деревню, где отыскали и наняли для услуг рабыню лет двадцати или постарше, а может быть, даже и тридцати. Забавно, что завали ее Тетео-Темакалиц, что означает Дар Богов. Во всяком случае, для наших патрулей, которых эта особа стала посещать почти ежедневно, она стала настоящим подарком.
Пактли имел возможность принудить рабыню к участию в наших плотских забавах, однако, по-моему, не только никакого принуждения, но даже уговоров ей не потребовалось. Во всех этих игрищах она участвовала с немалым удовольствием. Аййа, полагаю, у бедной потаскушки были на то свои причины. Коренастая, с рыхлым, как тесто, телом и потешной шишкой на носу, она едва ли могла надеяться выйти замуж даже за мужчину из низшего сословия тлакотли, к какому принадлежала и сама, а потому затея Пактли стала для девушки прекрасной возможностью удовлетворить свое вожделение. Этому занятию она предалась увлеченно и самозабвенно.
Как я уже говорил, каждый вечер на сторожевых постах в поле находились от шести до восьми мальчиков. К тому времени, когда Дар Богов заканчивала обслуживать последнего из этой компании, первый уже должен был восстановить свои силы, чтобы начать все с начала. Не сомневаюсь, что при ее сладострастии Дар Богов вполне могла бы предаваться этому занятию и всю ночь напролет, однако постепенно она превращалась в настоящую омикетль, скользкую, слизистую, испускающую запах подгнившей рыбы. Когда это происходило, мальчишки по общему согласию прекращали игрище и отсылали рабыню домой, с тем чтобы на следующий вечер она, тяжело дыша от похотливого вожделения, вновь явилась к нам снова. Я не принимал участия в этих забавах и лишь наблюдал за ними со стороны, но как-то раз Пактли, использовав Дар Богов, шепнул ей на ухо пару слов, и девушка направилась ко мне.
– Вот что, Крот, – сказала она, поглядывая на меня искоса, – Пактли говорит, что у тебя имеются трудности. – Тут рабыня покачала бедрами, причем ее обнаженная, увлажненная тепили находилась прямо перед моим разгоряченным лицом. – Может быть, ты для разнообразия перестанешь зажимать свое копье в кулаке и вонзишь его в меня?
Чертовски смущенный ухмылками таращившихся на нас товарищей, я промямлил, что сейчас ее услуги мне не ко времени.
– Аййо! – воскликнула Дар Богов, задрав мою накидку и развязав набедренную повязку. – Да у тебя, юный Крот, есть на что посмотреть! – Она подбросила мой тепули на ладони. – Он у тебя, даже невозбужденный, больше, чем у многих мальчиков постарше, даже больше, чем у благородного Пактцина.
Окружавшие нас мальчишки покатились со смеху, пихая друг друга в бока локтями. На сына владыки Красной Цапли я не смотрел, но и без того знал, что из-за неуместного замечания рабыни приобрел недоброжелателя.
– Конечно, – сказала она, – милостивый масехуалтин не откажет в удовольствии смиренной тлакотли. Позволь мне вооружить моего воина оружием.
С этими словами Дар Богов поместила мой член между своими большими отвислыми грудями и, сжав их вместе одной рукой, принялась ими меня массировать. Но ничего не произошло. Тогда она сделала нечто большее, чем не одаряла даже Пактли. Он надулся, скривился и отошел в сторону. И опять все оказалось тщетно, хотя она даже...
Да-да, я сейчас закончу об этом рассказывать, осталось совсем немного.
Наконец Дар Богов с досадой отказалась от своих попыток, выпустила мой тепули и раздраженно сказала:
– Надо полагать, горделивый юный воин бережет свое целомудрие для женщины, которая ему ровня.
Сплюнув, рабыня отскочила от меня и набросилась на другого мальчишку. Они повалились на землю и задергались так, словно их кусали осы...
Но, мои господа, разве его преосвященство не просил меня рассказать о плотских утехах моего народа? Но, похоже, он не в силах выслушивать мой рассказ достаточно долго, без того чтобы не покраснеть, как его мантия, и не удалиться в Другое место. Между тем мне хотелось бы, чтобы он понял, к чему я клоню... Ах да, я постоянно об этом забываю... Разумеется, его преосвященство может прочесть все это потом, в более спокойной обстановке. Так я продолжаю свой рассказ, господа писцы?
Так вот, после этого ко мне подошел Чимальи и, присев рядышком, сказал:
– Кстати, я над тобой вовсе не смеялся. Дар Богов и меня не возбуждает.
– Дело ведь не только в том, что она безобразна и неряшлива, – отозвался я и пересказал Чимальи все то, насчет чего меня недавно просветил отец. О болезни нанауа, возникающей из-за нечистых соитий, болезни, которая поражает столь многих ваших испанских солдат, что они в насмешку прозвали ее «плодом земным».
– Женщин, для которых их плоть служит законным источником заработка, опасаться нечего, – сказал я Чимальи. – Например, маатиме, обслуживающие наших воинов, не только сами поддерживают себя в чистоте, но еще и постоянно осматриваются войсковыми лекарями. Однако женщин, которые готовы раздвинуть ноги перед кем попало, лучше избегать, чтобы не заразиться. Кто знает, каких грязных рабов Дар Богов обслуживает перед тем, как прийти к нам? Если ты заразишься нанауа, излечиться будет невозможно. Это страшная болезнь! Мало того что твой тепули может сгнить и отвалиться. Но гниение способно затронуть еще и мозг, ты же не хочешь превратиться в косноязычного, с трудом ковыляющего идиота?
– А ты не загибаешь, Крот? – Чимальи побледнел, бросил взгляд на извивавшихся на земле, покрытых потом юношу и женщину и пробормотал: – А ведь я тоже собирался ее поиметь, только чтобы меня не изводили насмешками. Но нет, лучше уж потерпеть, чем стать идиотом.
Он побежал к Тлатли, пересказал мои слова ему, а потом они оба донесли их до остальных. С того вечера очередь к Дару Богов сократилась, и я приметил, что в парной мои товарищи стали осматривать себя на предмет гниения. Ну а имя женщины переиначили, назвав ее Тетео-Тлайо, то есть Требуха Богов.
Некоторые мальчишки, правда, все-таки продолжали беспечно использовать ее, в том числе и Пактли. Видно, у меня на лбу было написано, как я его за это презираю, ибо однажды Пактли подошел ко мне и угрожающе сказал:
– Значит, Крот слишком печется о своем здоровье и не хочет пачкаться о маатиме? А вот, по-моему, это лишь оговорка: ты и хотел бы, да не можешь! Но дело даже не в этом: советую тебе не слишком осуждать мое поведение, поскольку не стоит порочить репутацию будущего родственника.
Я воззрился на Пактли с недоумением.
– Да-да, – рассмеялся он, – прежде чем сгнить от болезни, которой ты тут всех стращаешь, я успею жениться на твоей сестрице. Даже будь я и вправду убогим, волочащим ноги идиотом, она не посмела бы отказать такому знатному жениху. Правда, мне не хотелось бы ее принуждать, так что предупреждаю тебя, предполагаемый братец: Тцитцитлини не должна ничего знать о моих забавах с Даром Богов. Иначе я тебя убью.
И он зашагал прочь, не дожидаясь моего ответа, который я, впрочем, все равно не мог бы ему дать, поскольку онемел от ужаса. Не то чтобы я боялся кулаков Пактли: он уступал мне и ростом, и силой. Но будь этот юноша даже слабаком и карликом, он все равно оставался сыном нашего правителя, а теперь еще и затаил на меня злобу. А ведь я жил в постоянном страхе с самого того времени, когда мальчишки затеяли соревнования по рукоблудию, сменившиеся соитиями с Даром Богов. Разумеется, насмешки сверстников задевали меня, но страх был сильнее уязвленного самолюбия. Пусть уж лучше все будут уверены в моем мужском бессилии. Пактли был самодовольным наглецом, но не дураком, и появись у него хоть малейшее подозрение насчет того, что я вовсе не слабосилен, а просто растрачиваю свою мужскую силу в другом месте, он непременно заинтересовался бы, где именно. И уж он бы мигом догадался, что на нашем маленьком острове я не могу тайно встречаться ни с одной женщиной, кроме...
Тцитцитлин впервые обратила на себя внимание Пактли, когда была еще совсем девочкой, когда посетила дворец: они с матушкой ходили посмотреть на казнь его старшей сестры, уличенной в измене мужу. А совсем недавно, на весеннем празднике Великого Пробуждения, Тцитци возглавляла танцовщиц на площади пирамиды, и ее танец поверг сына правителя в смятение. С тех пор Пактли всячески искал с ней встреч и прилюдно заговаривал, что считалось неприличным даже для самого благородного юноши. В последнее время он к тому же пару раз заявился в наш дом под тем предлогом, что ему якобы необходимо «поговорить с Тепетцланом о делах карьера», и нам приходилось принимать гостя. Любого другого юношу нескрываемая неприязнь Тцитци мигом отвадила бы навсегда, но только не Пактли.
И вот теперь этот мерзавец заявил, что собирается жениться на моей дорогой сестренке! В тот вечер, вернувшись домой, я дождался, когда мы расселись вокруг скатерти и отец вознес хвалу богам за ниспосланную пищу, и без обиняков заявил:
– Пактли сказал мне сегодня, что собирается взять в жены Тцитцитлин. Причем вряд ли он будет просить ее саму и родных о согласии. Пактли предупредил, что получит то, что хочет, независимо от ее или нашего желания.
Сестра вздрогнула и поднесла руку к лицу, как делают наши женщины, когда испугаются. Отец нахмурился, матушка же как ни в чем не бывало продолжала есть и лишь через некоторое время сказала:
– Если он даже и хочет этого, Микстли, так что с того? Правда, начальную школу Пактцин скоро заканчивает, но ведь, прежде чем он сможет жениться, ему придется провести несколько лет в калмекактин.
– Он вообще не может жениться на Тцитци! – возмутился я. – Пактли глупый, жадный, грязный...
Мать наклонилась через скатерть и сильно ударила меня по лицу.
– Вот тебе за то, что непочтительно говоришь о нашем будущем правителе. Да кто ты сам таков, чтобы порочить знатного юношу?
С уст моих рвались злые и грубые слова, но я проглотил их и сказал:
– Я всего лишь один из жителей нашего острова, но мне известно, что Пактли – человек развращенный и достойный презрения...
Мать ударила меня снова.
– Тепетцлан, – заявила она нашему отцу, – если он скажет еще хоть слово, тебе придется заняться исправлением этого болтливого мальчишки.
Потом матушка обратилась ко мне:
– Чем болтать попусту, лучше подумал бы о том, что, когда такой знатный юноша, сын владыки Красной Цапли, женится на Тцитци, мы все тоже станем пипилцин. Или, может быть, ты, не имея ни ремесла, ни знаний, со своими дурацкими планами стать писцом сможешь возвысить семью до такого положения?
Отец прокашлялся и сказал:
– Лично меня не так уж привлекает возможность добавить «цин» к нашим именам, однако я меньше всего хочу для семьи позора и бесчестья. Отказ такому знатному человеку, как Пактли, особенно если он окажет нам честь, попросив в жены нашу дочь, станет оскорблением для него и позором для всех нас. Такого позора нам не пережить, ведь в лучшем случае всей семье придется покинуть Шалтокан.
– Вовсе незачем всем бежать с острова, – с неожиданной твердостью промолвила Тцитци. – Хватит того, что отсюда уберусь я. Если этот поганый выродок... Эй, матушка, не вздумай замахиваться! Я уже взрослая и на удар отвечу ударом.
– Ты моя дочь, и это мой дом! – возмутилась мать.
– Дети, да что это на вас нашло? – воскликнул отец.
– Я скажу только одно, – продолжила Тцитци, – если Пактли потребует отдать ему меня в жены и вы дадите ему согласие, то ни вы, ни он никогда большее меня не увидите. Я навсегда покину остров. Вплавь, если не могу одолжить или украсть акали. А если мне не удастся добраться до материка, то пусть я лучше утону, но ко мне никогда не прикоснется ни Пактли, ни какой-либо другой мужчина, кроме того, которому я отдамся сама!
– На всем Шалтокане, – выкрикнула, брызжа слюной, мать, – нет другой такой дерзкой, неблагодарной, наглой...
На сей раз ей пришлось умолкнуть, поскольку отец веско заявил:
– Тцитцитлини, если бы эти твои неподобающие дочери слова услышали за пределами нашего дома, то даже я не смог бы простить тебя или отвести от тебя наказание. Тебя бы раздели, выпороли и обрили голову наголо. И откажись я наказать дочь сам, это сделали бы соседи в назидание своим собственным детям.
– Мне очень жаль, отец, – спокойно ответила сестра, – но тебе придется выбрать: непокорная дочь или вообще никакой.
– Я благодарю богов, что мне не нужно делать этот выбор сегодня. Как заметила твоя мать, пройдет еще несколько лет, прежде чем молодой господин сможет жениться. Так что не будем говорить об этом сейчас, в гневе или спешке. За то время, что Пактли проведет в школе, очень многое может случиться.
И я согласился с отцом, хотя и не знал, серьезно ли говорила Тцитци. Ни в тот вечер, ни в следующий мне так и не представилась возможность поговорить с ней наедине. Мы осмеливались лишь изредка обмениваться обеспокоенными и тоскующими взглядами. Однако при любом раскладе, осуществит сестра свою угрозу или нет, будущее виделось мне в самом мрачном свете. В обоих случаях – и если она сбежит от Пактли, и если уступит его домогательствам и выйдет за него замуж – я все равно ее потеряю. Конечно, если Тцитци придется лечь с ним в постель, то сестре, при ее искушенности и сообразительности, будет нетрудно убедить жениха в том, что она девственница. Но если, прежде чем это произойдет, мое поведение заставит Пактли заподозрить, что другой мужчина (а тем паче – я) уже знал девушку, ярость его будет безмерной и он отомстит, причем немедленно и жестоко. Но страшнее всего даже не смерть, а то, что мы с Тцитци так и так будем друг для друга потеряны.
Аййа, с тех пор действительно много чего случилось, в том числе и со мной. Так, например, на следующий день, снова оказавшись назначенным в один караул с Пактли, я, явившись на место, застал Дар Богов уже обнаженной, распростертой на земле и на все готовой. И тут, ко всеобщему изумлению, я сорвал набедренную повязку и набросился на эту толстую шлюху, изо всех сил стараясь изобразить неопытность. Мне нужно было убедить остальных мальчиков в том, что я проделываю это впервые в жизни, и, похоже, потаскухе наше соитие доставило так же мало удовольствия, как и мне самому. Когда я, решив, что все продолжалось достаточно долго, уже приготовился было закончить это занятие, то не сумел подавить отвращения, и меня стошнило прямо на ее лицо и обнаженное тело. Мальчишки покатились со смеху. Тут уж проняло даже жалкую Требуху Богов: она подхватила свое тряпье, убежала прочь, прижав его к нагому телу, и больше у нас не появлялась.
Вскоре после этого случая одно за другим, почти подряд, произошли еще четыре примечательных события. Мне они, во всяком случае, запомнились.
Во-первых, наш юй-тлатоани Ашаякатль, будучи еще совсем молодым, скончался от ран, полученных в сражении с пуремпече, и трон Теночтитлана занял его брат по имени Тисок, Иной Лик.
Во-вторых, я и мои товарищи Чимальи и Тлатли завершили обучение в телпочкалтин. Теперь я считался «образованным», других школ для юноши моего круга на Шалтокане не было.
В-третьих, однажды вечером правитель нашего острова прислал к нам гонца, приказав мне немедленно явиться к нему во дворец.
И наконец, в-четвертых (что стало результатом третьего события), я оказался разлучен с Тцитцитлини, своей сестрой и возлюбленной.
Однако лучше рассказать обо всех этих событиях более подробно и в том порядке, в котором они происходили.
Смена Чтимого Глашатая не особенно повлияла на жизнь в провинции, да и в самом Теночтитлане правление Тисока мало чем запомнилось. Как и два его предшественника, он продолжал работы по возведению в Сердце Сего Мира Великой Пирамиды, а от себя добавил к облику центральной площади нашей столицы Камень Битв. Этот массивный плоский цилиндр высекли по приказу Тисока из вулканической породы, громоздившейся, словно груда огромных тортилий, между незаконченной пирамидой и пьедесталом Камня Солнца.
В высоту Камень Битв достигал человеческого роста, в поперечнике имел около четырех шагов. Вдоль его обода красовались рельефы, изображавшие воинов Мешико, сражавшихся с неприятелем и захватывавших в плен врагов. На общем фоне выделялся сам Тисок. Плоская верхушка камня служила платформой для своего рода публичных поединков, в которых много лет спустя мне изредка доводилось участвовать.
Для меня лично куда более важным событием, чем смена верховного властителя, стало завершение обучения. Разумеется, о продолжении учебы за деньги в калмекактин не приходилось и мечтать, а то, что из одной школы я вынес прозвище Малинкуи, Чудик, а из другой – Пойяутла, Связанный Туманом, едва ли могло способствовать решению какой-либо из высших школ на материке пригласить меня учиться бесплатно.
Самое обидное, что я изо всех сил стремился к дальнейшему образованию, но не имел такой возможности, тогда как мои друзья Чимальи и Тлатли, не особенно ломавшие над этим вопросом голову, оба получили по приглашению от калмекактин, причем не откуда-нибудь, а из самого Теночтитлана, города моих мечтаний. За время обучения в Доме Созидания Силы они зарекомендовали себя и как отменные игроки в тлачтли, и как способные юные воины. Разумеется, у по-настоящему благородного человека манеры и познания, вынесенные моими товарищами из Дома Обучения Обычаям, вызвали бы лишь улыбку, но Чимальи с Тлатли сумели отличиться и там, придумав оригинальные костюмы и декорации для церемоний, совершаемых в дни празднеств.
– Жаль, что ты не можешь поехать с нами, Крот, – сказал Тлатли вполне искренне, хотя это нисколько не омрачило его радость. – Ты бы ходил вместо нас на все эти скучные школьные занятия, а мы бы тем временем работали в мастерской.
В школах, которые их пригласили, оба юноши должны были помимо традиционного обучения у жрецов учиться еще и у теночтитланских художников: Тлатли у скульптора, а Чимальи у живописца. Я был уверен, что ни один из них не станет уделять серьезное внимание урокам истории, чтения, письма, счета и тому подобного, а ведь всему этому мне хотелось научиться больше всего на свете. Накануне отъезда Чимальи сказал:
– Крот, вот мой прощальный подарок: оставляю тебе все свои краски, камышинки и кисти. У меня в городе все это будет, только получше, а тебе, глядишь, и пригодится – попрактикуешься в письме.
Да, я по-прежнему не оставлял попыток самостоятельно освоить искусство чтения и письма, хотя возможность стать «знающим мир» казалась мне теперь далекой, как никогда, а мой переезд в Теночтитлан и вовсе представлялся несбыточной мечтой. Отец мой к тому времени потерял надежду сделать из меня толкового каменотеса, а для того, чтобы сидеть возле карьера, отпугивая грызунов, я стал уже слишком взрослым. Мне пора было зарабатывать на пропитание и вносить свой вклад в семейный котел, так что я на некоторое время сделался обычным сельским поденщиком.
Конечно, на Шалтокане не было настоящих сельских угодий, ибо верхний слой почвы там недостаточно толст для глубоких корней маиса, а в нашей стране в основном возделывается эта культура. На Шалтокане, как и на большинстве других островов, выращивали овощи, причем не на основном грунте, а на постоянно расширявшихся чинампа, которые вы назвали плавучими огородами. Каждый чинампа представлял собой плот из сплетенных ветвей и сучьев. Его погружали в воду у берега, а потом засыпали лучшей землей, доставлявшейся с материка. В эту почву высаживали растения. Сезон за сезоном овощи скрепляли почву корнями, новые корни переплетались со старыми и в конечном счете намертво прикрепляли этот плот и к берегу, и к дну озера. Тогда вдоль его кромки устанавливали и засыпали новые чинампа, площадь которых постоянно увеличивалась. Все обитаемые острова на всех наших озерах, включая, разумеется, и Теночтитлан, были окружены кольцом таких насыпных огородов, причем на некоторых из более плодородных островов трудно было различить, где земля, сотворенная Богом, уступает место творению рук человеческих.
Для того чтобы ухаживать за такими посадками, вполне достаточно не только кротового зрения, но и кротовой сообразительности, так что я смог присматривать за теми из них, которые принадлежали нашей семье и соседям. Работа не требовала особых умений и оставляла уйму свободного времени, которое я, используя доставшиеся мне от Чимальи кисти и краски, всецело посвящал письму, стараясь сделать сложные символы проще, тоньше и изящнее. Хотя видимых оснований для этого не было, я все еще лелеял тайную надежду на то, что такого рода самообразование сможет каким-то образом изменить мою жизнь к лучшему. Теперь воспоминания о том, как я, молодой, сижу на земляном плоту среди пустивших побеги маиса, бобов и чили (вдыхая при этом вонь – мы использовали в качестве удобрений потроха животных и рыбьи головы), торопливо вывожу знак за знаком на всем, что подвернется под руку, и лелею свои честолюбивые мечты, вызывают у меня лишь улыбку. Например, я воображал себя почтека, странствующим торговцем, совершающим путешествие в земли майя, где какой-нибудь лекарь волшебным образом восстановит мое зрение, а сам я разбогатею, причем благодаря исключительной проницательности в ведении торговых дел. Голова моя была в ту пору полна замечательных планов, позволяющих, располагая изначально лишь самым скромным запасом товаров, нажить целое состояние. Планы были чудесные, и до них (я в этом не сомневался) прежде не додумывался ни один купец. Единственным препятствием на пути к успеху, как тактично заметила Тцитци, когда я поделился с ней некоторыми из моих идей, являлось то, что даже самых пустяковых средств, необходимых, чтобы начать дело, у меня не было и в помине.
И вот как-то вечером у двери нашего дома появился один из гонцов владыки Красной Цапли. На нем была мантия нейтрального цвета, означающая, что принесенные им вести не относятся ни к хорошим, ни к дурным.
– Микспанцинко, – вежливо сказал он моему отцу.
– Ксимопанолти, – учтиво отозвался тот, жестом приглашая гонца в дом.
Молодой человек, он был примерно моих лет, шагнул внутрь и сказал отцу, что владыка Красная Цапля приказывает его сыну немедленно явиться во дворец.
Отец и сестра выглядели удивленными и озадаченными. Я, наверное, тоже. Одна только мать, ничуть не удивившись, заголосила:
– Ййа, аййа, я всегда знала, что этот сорванец непременно оскорбит кого-нибудь из знати, из богов или... – Она прервала причитания, чтобы спросить у гонца: – Да что же он натворил, наш Микстли? Если негодника следует выпороть или наказать каким-либо другим способом, то стоит ли утруждать владыку такими мелочами? Мы сами с радостью поучим юнца уму-разуму!
– Мне неизвестно, чтобы он что-то натворил, – осторожно ответил посланец. – Я лишь выполняю данный мне приказ: привести вашего сына во дворец без задержки.
Делать было нечего, и я незамедлительно отправился во дворец, навстречу неизвестности. В отличие от матушки я испытывал скорее любопытство, чем страх, ибо никакой вины за собой не знал. Конечно, случись такой вызов раньше, мне первым делом пришло бы в голову, что Пактли оговорил меня перед своим отцом, но нынче этого бояться не приходилось. Молодой господин уже два, если не три года учился в столице, в особой школе, куда принимали только отпрысков правящих семей, которым самим предстояло стать правителями. Теперь Пактли приезжал на Шалтокан лишь на короткие школьные каникулы. В каждое свое посещение он обязательно наведывался к нам, однако я во время этих его визитов всегда бывал на работе. Таким образом, мы с ним не виделись со времени совместных дежурств и забав с Требухой Богов.
Посланец, следуя за мной на расстоянии нескольких шагов, проводил меня в тронный зал, где я склонился и исполнил обряд целования земли пред владыкой. Рядом с Красной Цаплей сидел человек, которого я никогда прежде на нашем острове не видел. И хотя его сиденье, как подобало, располагалось ниже престола нашего правителя, незнакомец показался мне знатной особой, не менее важной, чем наш наместник. А то и более важной: даже я при своем слабом зрении разглядел и его мантию из великолепных перьев и такие роскошные украшения, какими не мог бы похвалиться ни один знатный человек Шалтокана.
– Нами было получено предписание вырастить из него мужчину, – сказал владыка Красная Цапля, обращаясь к незнакомцу. – Ну что ж, наставники наших Домов Созидания Силы и Обучения Обычаям сделали все, что от них зависело. Сейчас посмотрим, что у них вышло.
– Микспанцинко, – успел сказать я обоим знатным господам, прежде чем гость правителя развернул свиток, а про себя подумал, что если мне предстоит лишь такое испытание, то это несложно: там была лишь одна строка рисованных знаков, которые я видел раньше.
– Ты можешь прочесть это? – спросил незнакомец.
– Я забыл упомянуть, что Микстли может прочесть некоторые простые вещи, выказывая при этом изрядное понимание, – вставил Красная Цапля так, как будто он сам учил меня искусству письма.
– Да, мои господа, – ответил я. – Я могу это прочесть, тут написано, что...
– Неважно, что тут написано, – прервал незнакомец, – ты лучше скажи мне, что означает этот утиный клюв?
– Он означает, мой господин, ветер.
– Дальше?
– Ну, в сочетании с другим изображением, с опущенными веками, знак этот означает Ночной Ветер. Но...
– Да, юноша? Говори!
– Но если мой господин извинит меня за дерзость, никакого утиного клюва среди этих знаков нет. Это труба ветра, через которую бог...
– Достаточно.
Незнакомец повернулся к Красной Цапле.
– Он нам подходит, господин правитель. Стало быть, твое разрешение получено?
– Ну конечно, конечно, – сказал Красная Цапля услужливым тоном, после чего обратился ко мне: – Ты видишь перед собой господина Крепкую Кость, Змея-Женщину самого Несауальпилли, юй-тлатоани Тескоко. Господин Крепкая Кость привез для тебя личное приглашение Чтимого Глашатая жить, учиться и служить при дворе Тескоко.
– Тескоко! – изумленно воскликнул я.
Мне в жизни не доводилось бывать ни там, ни в других поселениях страны аколхуа. Я никого там не знал, и вряд ли хоть один ее житель слышал о моем существовании. А уж паче того сам Чтимый Глашатай Несауальпилли, правитель, властью и могуществом уступавший лишь одному Тисоку, юй-тлатоани Теночтитлана. Мое удивление было столь велико, что я, позабыв об учтивости, выпалил:
– Но почему?
– Это не приказ, – отрывисто произнес Змей-Женщина Тескоко. – Тебя приглашают, так что ты волен согласиться или отказаться. Но тебе не следует расспрашивать о причинах.
Я промямлил неуклюжее извинение, но тут на помощь мне пришел сам владыка Красная Цапля.
– Прости этого юношу, мой господин. Не сомневаюсь, что он озадачен так же, как был озадачен я сам, узнав, что столь высокая особа удостоила своего внимания одного из моих масехуалтин.
Змей-Женщина только хмыкнул, тогда как владыка Красная Цапля продолжил:
– Мне и раньше никто не объяснял, в чем заключается интерес твоего правителя к этому молодому простолюдину. Разумеется, я помню вашего предыдущего властителя Несауалькойотля, тенистое древо мудрости, великодушного Постящегося Койота. Я также наслышан о том, как он, изменив внешность, странствовал в одиночку по Сему Миру, выискивая людей, достойных его милости. Но следует ли его блистательный сын Несауальпилли этому благородному примеру? И если да, то что выдающегося мог он увидеть в нашем юном подданном Тлилектик-Микстли?
– Я не могу этого сказать, господин наместник. – Надменный вельможа говорил с Красной Цаплей почти столь же резко, как незадолго до того со мной. – Никто не дерзает расспрашивать Чтимого Глашатая о причинах его намерений и желаний. Даже я, его Змей-Женщина. И у меня есть дела поважнее, чем ждать, пока этот колеблющийся юнец решит, примет ли он оказанную ему исключительную честь. Молодой человек, завтра с восходом Тескатлипоки я возвращаюсь в Тескоко. Ты отправляешься со мной или нет?
– Конечно да, мой господин, – ответил я. – Мне нужно только собрать одежду, бумаги, краски. Если, конечно, мне не потребуется взять с собой что-то еще, – смело добавил я в надежде разжиться хотя бы намеком на то, почему и надолго ли меня пригласили в незнакомый город.
– Всем необходимым тебя обеспечат на месте, – заявил вельможа.
– Тогда приходи на дворцовую пристань, Микстли, завтра на восходе Тонатиу, – сказал Красная Цапля.
Господин Крепкая Кость прохладно глянул на нашего наместника, потом на меня и заявил:
– Усвой хорошенько, молодой человек, что отныне солнце надо называть Тескатлипока.
«Отныне и навсегда? – мысленно повторял я, в одиночестве возвращаясь домой. – Значит ли это, что мне теперь всю оставшуюся жизнь придется жить среди аколхуа и чтить их богов?»
Когда я рассказал обо всем домашним, отец взволнованно воскликнул:
– Ночной Ветер! Все вышло так, как я тебе и говорил, сын мой Микстли! Видно, и впрямь самого бога Ночного Ветра ты повстречал тогда на дороге! И именно благодаря ему исполнится твое заветное желание.
– А что, если им там, в Тескоко, просто не хватает подходящего юноши ксочимикуи для какого-нибудь жертвоприношения? – встревоженно предположила Тцитци.
– Какие там жертвоприношения? – усмехнулась мать. – Можно подумать, будто наш оболтус вырос писаным красавцем или исполнен выдающихся достоинств, чтобы быть избранным богами. Что-то я не припомню, чтобы такие, как он, позарез требовались для какой-либо церемонии. – Однако она и сама ничего не могла понять, и это ее страшно сердило. – Вообще-то как-то все это подозрительно. Читая всякую писанину, которая ему попадалась, да бездельничая на чинампа, наш Микстли никак не мог совершить ничего такого, что бы привлекло к нему внимание даже паршивого работорговца, не говоря уж о могучем правителе.
– Мне кажется, – заметил я, – по тому, что было сказано во дворце, и по тем символам, которые мне показали, можно кое о чем догадаться. Похоже, в ту ночь на перекрестке я повстречался не с богом, а путешественником из страны аколхуа, придворным самого Несауальпилли, который и сыграл роль Ночного Ветра. С тех пор, все эти годы, не знаю уж почему, в Тескоко не упускали меня из виду, и, судя по всему, путь мой теперь лежит в тамошний калмекактин, изучать письмена. Я стану писцом, как мне всегда хотелось. По крайней мере, – закончил я, пожав плечами, – это единственное, что приходит мне в голову.
– С той же вероятностью, сын мой Микстли, – ответил отец, – можно предположить, что ты действительно повстречал Ночного Ветра и принял его за простого смертного. Боги, как и люди, могут путешествовать неузнаваемыми. А тебе эта встреча явно принесла удачу, так что было бы весьма разумно воздать богу Ночному Ветру хвалу.
– Ты прав, отец. Я так и сделаю. Был ли Ночной Ветер причастен к этому напрямую или нет, но так или иначе мое заветное желание, похоже, скоро исполнится.
– Но это только одно из моих заветных желаний, – сказал я Тцитци, когда нам удалюсь улучить момент и остаться наедине. – Как могу я оставить маленький звонкий колокольчик?
– Если у тебя есть здравый смысл, ты оставишь его здесь, танцуя от радости, – заявила она с женской практичностью, хотя особого веселья в ее голосе не ощущалось. – Не собираешься же ты, Микстли, провести всю жизнь здесь, строя пустые планы вроде твоей затеи стать торговцем? Хвала богам, теперь у тебя есть будущее, причем такое, о каком большинству масехуалтин Шалтокана и мечтать не приходится.
– Но если Ночной Ветер, или Несауальпилли, или кто бы там ни было предоставили мне одну возможность, то могут выпасть и другие, даже лучше. Я всегда мечтал отправиться в Теночтитлан, а не в Тескоко. Как сказал господин Крепкая Кость, я могу отклонить это предложение. Почему бы мне не подождать другого случая?
– Потому что у тебя все-таки есть здравый смысл, Микстли. Когда я еще ходила в Дом Обучения Обычаям, наставница девочек рассказывала нам, что если Теночтитлан является могучей рукой Союза Троих, то Тескоко – это его мозг. Двор Несауальпилли – это не просто пышность и власть: там собирают сокровища поэзии, искусства и мудрости. Еще она говорила, что из всех наших земель, где в ходу язык науатлъ, чище и правильнее всего говорят на нем именно в Тескоко. Разве не в такое место следует стремиться человеку, жаждущему знаний? Ты должен отправиться туда, и непременно отправишься! Будешь учиться, освоишь все науки и добьешься успехов. И если тебя и впрямь удостоил своего покровительства сам Чтимый Глашатай, то кто осмелится сказать, каковы могут быть планы такой особы в отношении твоего будущего? Когда ты говоришь об отказе от приглашения, ты несешь вздор... – Голос ее упал. – Несешь вздор причем только из-за меня!
– Из-за нас.
Сестра вздохнула.
– Мы все равно должны были когда-нибудь повзрослеть.
– Я всегда думал, что мы повзрослеем вместе.
– Давай надеяться на лучшее. Ты будешь приезжать домой на праздники, так что мы сможем бывать вместе. И кто знает, вдруг после обучения ты станешь богатым могущественным человеком? Будешь именоваться Миксцин, а знатный человек может жениться на ком угодно.
– Я надеюсь стать выдающимся знатоком письменности, Тцитци, но дальше этого мое честолюбие не простирается. А из писцов лишь немногие удостаиваются прибавки «цин».
– Ну... может быть, тебя пошлют на работу в какую-нибудь далекую провинцию их страны, где никто не знает, что у тебя есть сестра. И я переберусь к тебе под видом невесты, которую ты выбрал на родном острове.
– Если такое и возможно, то очень не скоро, – возразил я. – А ты уже приближаешься к брачному возрасту. Пока я буду учиться в Тескоко, проклятый Пактли станет наведываться на Шалтокан на каникулы, а потом вернется сюда совсем, и это произойдет задолго до того, как закончится мое обучение. Ты знаешь, чего он хочет и чего потребует, причем отказать ему будет нельзя.
– Если нельзя отказать, то можно отсрочить, – сказала Тцитци. – Я приложу все старания, чтобы отбить у господина Весельчака охоту на мне жениться, и кто знает, – она отважно улыбнулась, подняв глаза, – теперь, когда у меня появится родственник и защитник при более могущественном дворе Тескоко, не будет ли он менее настойчив в своих требованиях. Твое место там. – И сестра улыбнулась дрожащими губами. – Богам угодно разлучить нас на некоторое время, чтобы потом мы уже не расставались никогда.
Губы Тцитци задрожали сильнее, улыбка рассыпалась и разбилась вдребезги.
Сестра зарыдала.
Акали господина Крепкая Кость, из красного дерева, с отделанным бахромой навесом, была украшена богатой резьбой и жадеитовыми значками и флагами из перьев, в соответствии с высоким саном ее владельца. Лодка обогнула прибрежный город Тескоко, которому вы, испанцы, дали новое имя в честь святого Антония Падуанского, и проследовала дальше, к выступавшему прямо из вод озера, примерно в одном долгом прогоне к югу, средней величины холму.
– Тескококинацин, – промолвил Змей-Женщина, и то было первое слово, обращенное им ко мне с тех пор, как мы утром отплыли из Шалтокана. Я прищурился и присмотрелся к холму, ибо по другую его сторону находился загородный дворец Несауальпилли.
Большое каноэ, скользя, приблизилось к прочной пристани, гребцы сложили весла, и рулевой спрыгнул на берег закрепить лодку. Я подождал, пока лодочники помогли господину Крепкая Кость сойти на причал, а потом выбрался и сам, неуклюже волоча за собой плетеную корзину с пожитками.
– Тебе туда, юноша, – коротко бросил Змей-Женщина, указывая на каменную лестницу, поднимавшуюся от пристани к вершине холма, и это было второй раз за день, когда он счел нужным обратиться ко мне.
Я помедлил, прикидывая, не следует ли из учтивости подождать, пока его люди разгрузят с лодки подарки, которые владыка Красная Цапля прислал юй-тлатоани Несауальпилли, но сановник больше не смотрел в мою сторону, поэтому я взвалил на плечи свою корзину и в одиночестве побрел вверх по лестнице.
Некоторые ступени этой лестницы представляли собой доставленные на склон и уложенные там каменные плиты, другие же были вырублены прямо в скальной основе холма. Поднявшись на тринадцать ступеней, я оказался на широкой каменной площадке, где стояли скамья для отдыха и маленькая статуя какого-то незнакомого мне бога. Следующий пролет, отходивший в сторону и состоявший из такого же количества ступеней, привел меня точно к такой же площадке. Таким образом я зигзагами поднимался вверх по склону до тех пор, пока, на пятьдесят второй ступени, не оказался на вырубленном в скале огромном плоском уступе, на котором цвел дивный, роскошный сад. Между цветочными клумбами, под сенью великолепных деревьев, рядом с журчащими извилистыми ручьями, проходила мощеная дорожка, по которой я добрался до подножия очередного пролета. Еще тринадцать ступеней, и моему взору вновь предстали скамья и статуя...
Небо уже довольно давно затягивали тучи, а пока я поднимался, разразилась обычная в это время года в наших краях гроза. Сущее светопреставление: зигзаги ослепительных молний, барабанный рокот грома, шквалистый ветер и ливень, больше похожий на потоп, который, казалось, не кончится никогда. Впрочем, на самом деле все такие ливни продолжаются не дольше, чем может длиться полуденный сон Тонатиу, или Тескатлипоки, чей сияющий лик вскоре вновь возникает над поблескивающим, омытым влагой миром, чтобы обратить воду в пар и высушить землю перед своим закатом. Как только набухшие тучи пролились дождем, я укрылся на одной из лестничных площадок, найдя убежище на каменной скамье под тростниковым навесом. Пережидая бурю, я размышлял о нумерологическом значении зигзагообразной лестницы и улыбался, дивясь мастерству ее создателя.
Как и вы, белые люди, мы в этих землях жили по годичному календарю, основанному на пересечении солнцем неба. Таким образом, наш солнечный год, как и ваш, состоял из трехсот шестидесяти пяти дней, и мы пользовались этим календарем для своих повседневных нужд: чтобы знать, когда какие семена сажать, когда ждать сезона дождей и так далее. Этот солнечный год мы делили на восемнадцать месяцев по двадцать дней в каждом, к которым прибавлялись немонтемин, так называемые «скрытые дни», то есть те пять дней, которых недоставало до трехсот шестидесяти пяти. Эти дни считались очень несчастливыми.
Впрочем, в наших землях пользовались и другим календарем, основанным не на дневных шествиях солнца, а на ночном появлении яркой звезды, которую мы называли в честь нашего древнего бога Кецалькоатля, или Пернатого Змея. Он, Кецалькоатль, иногда являл себя в качестве звезды Вечерней Зари, но обычно перемещался к другой стороне небосвода и оставался последней звездой, видимой после того, как солнце, восходя, затмевало все прочие светила. Любой из наших звездочетов мог бы растолковать это во всех подробностях с помощью звездных карт и схем, но я никогда не был силен в астрономии. Правда, я знаю, что движения звезд не хаотичны и не произвольны, и другой наш календарь, который именовался пророческим, как раз и основывался на движении звезды, названной в честь Кецалькоатля. Несмотря на название, этим календарем пользовались также и в быту, в частности с его помощью давали имена младенцам. Наши историки и писцы сверялись с ним для датировки примечательных событий и установления длительности правления вождей, но, самое главное, прорицатели на его основе предрекали нам будущее, предостерегая народ против грядущих напастей и указывая дни, благоприятные для принятия решений и для важных начинаний.
Согласно пророческому календарю, год состоял из двухсот шестидесяти дней, каждый из которых имел порядковый номер от одного до тринадцати. Номера эти присваивались одному из традиционных астрономических знаков: кролик, тростник, нож... ну и так далее. Каждый солнечный год сам по себе также имел название – он получал его по ритуальному номеру и знаку первого дня. Как вы понимаете, наши солнечный и пророческий календари все время перекрывали друг друга: то один отставал, то другой вырывался вперед. Но если вы не поленитесь произвести подсчет, то выяснится, что оба календаря уравновешиваются в циклах из пятидесяти двух полных солнечных лет. Год моего появления на свет был назван, например, Тринадцатым Кроликом, и никакой последующий год не носил такого же названия вплоть до наступления моего пятьдесят второго дня рождения.
Таким образом, для нас число пятьдесят два было знаменательным, «вязанкой лет», как мы говорили, ибо, с одной стороны, такой цикл был присущ обоим календарям, а с другой – именно столько у нас в среднем жили люди. Бывало, конечно, что жизнь моих соплеменников обрывалась преждевременно – из-за несчастных случаев, болезней или войн. Тринадцать ступеней между площадками каменной лестницы, зигзагами взбиравшейся по склону холма к дворцу правителя Тескоко, обозначали тринадцать ритуальных чисел, а пятьдесят две ступени между уступами символизировали вязанку лет.
Добравшись наконец до вершины, я сложил все ступени, и у меня получилось число пятьсот двадцать: именно столько дней было в двух годах, если считать по пророческому календарю, а также в десяти полных вязанках лет. Да, весьма изобретательно.
Когда дождь прекратился, я продолжил свое восхождение. Был я тогда молодым и резвым, так что, наверное, без труда мог бы взбежать наверх на одном дыхании, но специально задерживался на каждой площадке – посмотреть, узнаю ли я бога или богиню, статуи которых там стояли. Узнать удалось примерно половину. Например, Тескатлипоку – бога солнца, главного бога аколхуа Кецалькоатля, о котором я уже говорил, Ометекутли и Омекуатль, нашу Высшую Божественную Чету...
В садах я задержался подольше. В отличие от Шалтокана земли здесь хватало с избытком, да и недостатка в плодородной почве тоже не было. Правитель Несауальпилли, видимо, очень любил цветы и желал видеть их повсюду. На самих уступах растения были высажены аккуратно, но эти цветущие террасы не имели ограждений, так что усыпанные яркими цветами вьющиеся стебли свисали с их краев, словно зеленые, с разноцветными вкраплениями вуали, почти достигая нижних уступов. Моему взору предстали решительно все цветы, какие мне доводилось видеть прежде, а также множество таких, каких я отродясь не встречал. Должно быть, большую их часть доставили из дальних краев, что обошлось очень дорого. Постепенно я сообразил, что все эти пруды с лилиями, мерцающие заводи, бассейны с рыбами, журчащие ручейки и водопады связаны между собой воедино и питаются из одного какого-то источника на вершине холма.
Если господин Крепкая Кость и поднимался вслед за мной, то я его так и не заметил, зато в очередном саду, на более высоком уступе, наткнулся на другого человека. Он сидел развалившись на каменной скамье, и я, подойдя поближе и хорошенько присмотревшись, вспомнил и эту морщинистую кожу цвета бобов какао, и рваную набедренную повязку, составлявшую единственное одеяние этого человека. Я уже встречал его.
Завидев меня, он выпрямился, по крайней мере насколько это было возможно для согбенного, съежившегося старца. Со времени нашей встречи я вырос и теперь смотрел на него сверху вниз.
Торопливо пробормотав традиционное приветствие (боюсь, это получилось у меня менее учтиво, чем хотелось бы), я сказал:
– Вот уж не ожидал тебя здесь встретить, я думал, что ты просто попрошайка из Тлателолько. Что ты здесь делаешь, старик?
– Домом бездомного человека является весь мир, – промолвил он так, словно гордился званием бродяги. – Что я здесь делаю? Да поджидаю тебя, чтобы поприветствовать по прибытии в страну аколхуа.
– Ты?! – удивился я, ибо этот странный сморщенный старикашка выглядел в столь пышном, цветущем саду еще более странно и неуместно, чем среди пестрой рыночной толпы.
– А ты ожидал, что тебя будет лично приветствовать сам Чтимый Глашатай? – осведомился он, обнажив в насмешливой улыбке редкие зубы. – Добро пожаловать в Кинацин, дворец правителя Тескоко, юный Микстли. Или юный Тоцани, юный Малинкуи, юный Пойяутла – как тебе больше нравится?
– Когда мы встретились много лет назад, ты знал мое имя. А теперь ты знаешь все мои прозвища.
– Человек, обладающий даром слушать и слышать, может услышать даже то, что не произносится вслух. В будущем у тебя появятся и другие имена.
– А ты и правда провидец? – спросил я, невольно скопировав ту же интонацию, с какой несколько лет назад говорил мой отец. – Откуда ты узнал, что я здесь появлюсь?
– Ну, положим, это было совсем не трудно, – произнес старик точно таким же тоном, словно передразнивая меня. – Я горжусь тем, что твое появление здесь не обошлось и без моего скромного участия.
– Стало быть, ты знаешь гораздо больше меня. И я был бы весьма признателен, если бы ты мне кое-что объяснил.
– В таком случае, знай: я тогда впервые увидел вас с отцом в Тлателолько и просто подслушал, что у тебя седьмой день рождения. Из чистого любопытства я пригляделся к тебе и по глазам понял, что зрение твое вскоре неизбежно ослабнет. Дело в том, что это заболевание имеет отчетливые признаки и легко определяется по форме глазного яблока. Так что я с полной уверенностью мог сказать, что ты не будешь прозревать дали, но видеть то, что вблизи, зато видеть это в истинном свете.
– Помнится, ты еще сказал, что и рассказывать об увиденном я тоже буду правдиво.
Старик пожал плечами.
– Ты показался мне достаточно смышленым для такого мальчонки, из чего нетрудно было заключить, что ты вырастешь человеком неглупым. Ну а если тот, кто из-за слабого зрения вынужден рассматривать все его окружающее вблизи, еще и обладает здравым смыслом, он, как правило, склонен описывать этот мир таким, каким он является на самом деле.
– Ты хитрый старый пройдоха, – сказал я с улыбкой. – Но какое это имеет отношение к тому, что меня призвали в Тескоко?
– Каждого правителя, вождя или наместника окружают подхалимы и проходимцы, которые говорят ему или то, что он хочет услышать, или то, что выгодно им самим. Правдивый человек среди придворных – большая редкость. Я предположил, что ты сможешь стать таким. Надеюсь, тебе понятно, что твои способности лучше оценят при дворе более изысканном и благородном, чем двор Шалтокана. Поэтому я ронял словечко здесь, словечко там...
– Ты хочешь сказать, – промолвил я недоверчиво, – что у тебя есть возможность ронять слова в уши самого Несауальпилли?
Старик бросил на меня такой взгляд, что я, несмотря на значительное превосходство в росте, вдруг почувствовал себя по сравнению с ним совсем маленьким.
– Тогда, во время нашей давней встречи, я, кажется, уже признавался в том, что тоже склонен говорить правду, хотя, наверное, мне было бы выгоднее выдавать себя за всеведущего посланца богов. Несауальпилли не так циничен, как ты, юный Крот. Он готов выслушать нижайшего из людей, если этот человек говорит правду.
– Прости, старик, – сказал я, помолчав. – Мне следовало сказать тебе спасибо, а не высказывать сомнения. И я действительно очень благодарен...
Он отмахнулся.
– Не стоит благодарности, я ведь не только о тебе заботился. И заботы мои, кстати, обычно окупаются. Я просто рассчитываю, что ты хорошо послужишь юй-тлатоани, и мы оба получим заслуженную награду. А теперь ступай.
– Но куда? Никто не сказал мне, куда идти и к кому обратиться. Я что, должен просто перебраться через этот холм, в надежде, что меня узнают?
– Да. Дворец находится по другую сторону, и тебя там ждут. Правда, встретишься ли ты и на этот раз с самим Чтимым Глашатаем, я сказать не берусь.
– И на этот раз? – удивился я. – Но мы никогда не встречались!
– Вот как? Что ж, я советую тебе снискать расположение госпожи Толланы-Текиуапиль, самой любимой из семи жен Несауальпилли. Правда, имей в виду, что у него имеется еще сорок наложниц, так что во дворце обитает около шестидесяти сыновей и полусотни дочерей Чтимого Глашатая. Сомневаюсь, чтобы отец сам знал точное число, поэтому он вполне может принять тебя за внебрачного сынишку, прижитого за границей, а теперь отправленного в отцовский дом. Но не робей, молодой Крот, тебя в любом случае ожидает радушный прием.
Я повернулся и совсем было собрался идти, но в последний момент спросил:
– Могу ли я быть чем-то полезен тебе, достойный господин? Может быть, помочь тебе подняться на вершину холма?
– Спасибо на добром слове, – отозвался он, – но я еще некоторое время побуду здесь. А вот тебе лучше подняться на холм и перевалить через него одному, ибо по ту его сторону тебя ожидает вся твоя будущая жизнь.
Ничего не скажешь, звучало это красиво и торжественно, однако я заметил неувязку и с улыбкой возразил:
– Сдается мне, что эта самая будущая жизнь ожидает меня повсюду, куда бы я ни направился, причем неважно, один я туда пойду или нет.
Старик с шоколадной кожей тоже улыбнулся, но иронически.
– Да, в твоем возрасте тебя и впрямь повсюду поджидает множество жизней. Иди любым путем, который выберешь. Если хочешь – один, а если хочешь – в компании. Спутники могут пройти рядом с тобой большую или меньшую часть пути. Но неважно, шел ты один или в толпе, в конце жизни тебе все равно предстоит узнать то, что должны узнать все. Но вот только тогда окажется уже слишком поздно что-либо менять, будет слишком поздно для всего, кроме сожаления. Поэтому учись сейчас. Как ни много в этом мире самых разнообразных путей, но никому еще не удавалось прожить больше одной жизни, и, так или иначе, какую бы жизнь человек ни выбрал, большую ее часть он проживает в одиночку.
Старик помолчал, глядя мне прямо в глаза, а потом спросил:
– Ну, Микстли, каким путем ты пойдешь и в какой компании?
Я молча отвел взгляд, повернулся и продолжил путь вверх по склону холма. Я отправился навстречу своей будущей жизни в одиночестве.
IHS S.C.C.M.
Его Священному Императорскому Католическому Величеству императору дону Карлосу, нашему королю и повелителю
Добродетельнейшему и прозорливейшему монарху из города Мехико, столицы Новой Испании, в день праздника Обрезания Господня, в год от Рождества Христова одна тысяча пятьсот двадцать девятый, шлем мы наш нижайший поклон.
С тяжелым сердцем, но смиренной рукой верный Ваш капеллан вновь, во исполнение высочайшего повеления, направляет Вашему Императорскому Величеству еще одну подборку историй, продиктованных к настоящему времени по-прежнему пребывающим у нас ацтеком, или злым духом Асмодеем, как все более склонен именовать сего нечестивца слуга Вашего Величества.
Ибо мы можем понять изысканность замечания Вашего Величества касательно того, что из рассказа вышеупомянутого индейца «можно почерпнуть значительно более полезного, нежели из беспрестанных фанфаронад новоявленного маркиза, сеньора Кортеса, ныне украшающего своим пребыванием королевский двор в Кастилии». Несмотря на переполняющие наше сердце печаль и уныние, Ваш верный клирик в состоянии оценить также и иронию Вашего Величества, когда Вы пишете: «Сообщения этого индейца есть первые полученные Нами из Новой Испании послания, не содержащие ни похвальбы, ни льстивых просьб, имеющих целью пожалование титула, выделение из завоеванных земель обширных владений или выманивание денег на новые экспедиции».
Однако что повергает нас в полнейшее изумление, так это заявление, будто бы Ваше Величество и Ваши придворные «увлечены чтением этих страниц вслух и пребывают от него в полном восторге». Несмотря на то что мы во всем верны и покорны присяге, данной нашему высокочтимому монарху, другие священные обеты, принесенные Вашим епископом как лицом духовным, предписывают нам верноподданнейше предостеречь государя нашего ex officio et de fides[17] от дальнейшего чтения и распространения среди христиан сих богомерзостных писаний.
От недремлющего ока Вашего Величества, конечно же, не могло ускользнуть, что в предыдущих частях оной хроники походя, без малейших признаков раскаяния и угрызений совести живописались такие грехи, как убийство, самоубийство, людоедство, кровосмешение, блуд, пытки и пренебрежение заповедью «Чти отца своего и мать свою». Если справедливо утверждение, что грех человеческий есть рана на душе грешника, то душа этого индейца кровоточит каждой своею порою.
Однако на тот случай, если некие не столь откровенные, но не менее еретические его инсинуации каким-то образом укрылись от внимания Вашего Величества, позвольте нам указать на то, что сей дерзкий ацтек осмелился высказать оскорбительную мысль о происхождении рода человеческого от некой «Высшей Божественной Четы», индейский миф о которой есть языческая пародия на учение о наших Прародителях Адаме и Еве. Мало того, он также дерзает намекать, будто бы мы, христиане, и сами являемся идолопоклонниками, ибо поклоняемся целому пантеону богов, вполне сопоставимому, по его разумению, с тем кишащим мерзостью скопищем демонов, коим молился его народ. Не меньшее богохульство представляет собой и намек сего язычника на то, что Святые Таинства, такие как Крещение и Отпущение Грехов через Исповедь, равно как и обычай благословлять трапезу, были известны и распространены в здешних краях ранее, еще до того, как их жители получили знания о Господе Нашем и о дарованных Им католикам Святых Таинствах. Но пожалуй, самым гнусным из всех его кощунственных измышлений является утверждение, с которым Вашему Величеству еще предстоит ознакомиться, а именно: будто бы один из их нечестивых языческих правителей был рожден Непорочной Девой!
В своем последнем письме Ваше Величество дает также дополнительные указания, в связи с чем мы, хотя по мере возможностей и стараемся присутствовать при расспросах и задавать сему ацтеку наводящие вопросы, дабы полнее удовлетворить любознательность нашего монарха, должны почтительно напомнить Вашему Величеству, что у епископа Мексики есть и другие важные, а порой и неотложные обязанности, которые не позволяют нам лично подтвердить или опровергнуть каждое из сообщений вышеупомянутого язычника.
Мы также осмеливаемся высказать надежду на то, что одно из ваших высочайших указаний, об уточнении полученных от сего ацтека непристойных утверждений, является не более чем добродушной шуткой нашего милостивого монарха. Однако, поелику долг так или иначе предписывает нам ответить, сообщаем, что сами не располагаем достоверными сведениями о чудодейственных свойствах, каковые ацтек приписывает корнеплоду под названием «барбаско». Нам неведомо, может ли он и вправду цениться в Испании на вес золота и быть нарасхват у придворных дам, однако мы пребываем в уверенности, что сама мысль о сотворении Господом Нашим некоего овоща, способного облегчать блуд и прелюбодеяния, невозможна и потому оскорбительна.
Прошу прощения за кляксу, Ваше Величество: рука наша дрожит от волнения. Но satis superque[18]...
По повелению Вашего Величества благочестивые братья, равно как и молодой толмач, будут продолжать заполнять сии страницы, до тех пор, пока – надеемся, это случится по прошествии не столь долгого времени – Ваше Величество не прикажет освободить их от этой прискорбной обязанности. Либо же до тех пор, пока они сами не почувствуют, что не в силах более ее выполнять. Мы полагаем, что не нарушим тайны исповеди, если попутно заметим, что за эти последние месяцы собственные покаянные признания братьев преисполнились столь странных и пугающих фантазий, что отпущение им грехов становится возможным лишь по наложении епитимьи.
Да останется Спаситель и Владыка наш. Иисус Христос вечным утешителем и защитником Вашего Величества от всех козней Врага Рода Человеческого, о чем в неустанных молениях пребывает Вашего Священного Императорского Католического Величества смиренный капеллан
Хуан де Сумаррага
(подписано собственноручно).
QUARTA PARS[19]
Другая сторона холма оказалась еще прекраснее той, что выходила на озеро Тескоко. Склон был пологим, ухоженные сады и пестрящие цветами лужайки с купами деревьев сбегали вниз, мягкими волнами, а на поросших сочной травой прогалинах паслись ручные олени. То здесь, то там, в стороне от тенистых рощиц, виднелись деревья и кусты, искусно подстриженные в форме животных и птиц. А у подножия холма красовалось множество строений, больших и малых, но обладавших одинаково гармоничными пропорциями и расположенных на удобном расстоянии друг от друга. Мне даже показалось, что я различил на дорожках между зданиями прогуливавшихся людей в богатых одеждах, хотя, конечно, сверху были видны только яркие переливающиеся точки. Шалтоканский дворец господина Красной Цапли был удобным и достаточно внушительным зданием, но резиденция юй-тлатоани Несауальпилли представляла собой целый город, загадочный, но содержащий в себе все необходимое.
Вершина холма, где я стоял, поросла «старейшими из старых» кипарисовыми деревьями, иные из которых имели стволы настолько толстые, что, пожалуй, их не могли бы обхватить и двенадцать человек, и настолько высокие, что серо-зеленая перистая листва деревьев сливалась с лазурным небосводом. Оглядевшись по сторонам, я приметил искусно замаскированные кустами толстые глиняные трубы, по которым подавалась вода для орошения садов и снабжения раскинувшегося внизу города. Насколько мне удалось разглядеть, трубы эти тянулись издалека, с вершины еще более высокой горы, где, надо думать, и находился чистый источник.
Я был настолько очарован, что не раз и не два останавливался, чтобы полюбоваться разнообразными садами и парками, через которые пролегал мой путь, так что добраться до подножия холма мне удалось лишь ближе к закату. Там по дорожкам, усыпанным белым гравием, прогуливались богато одетые знатные мужчины и женщины, благородные воины в головных уборах из перьев и благообразные старцы. Каждый из них приветствовал меня кивком или любезным словом как своего, но мне было неловко беспокоить этих важных особ расспросами насчет того, куда именно в этом удивительном месте мне надлежит явиться. Потом я приметил юношу примерно моих лет, который, по-видимому, не был занят каким-либо неотложным делом. Стоя рядом с молодым оленем, который только что начал отращивать рога, он праздно почесывал бугорки между его ушами. Уж не знаю, чешутся ли только что проклюнувшиеся рожки, но оленю, похоже, подобное внимание доставляло удовольствие.
– Микспанцинко, брат, – приветствовал меня молодой человек, и я предположил, что это один из многочисленных отпрысков Несауальпилли, принявший меня за очередного внебрачного сына правителя. Но потом он заметил мою вместительную корзину и сказал: – Ты, наверное, новичок по имени Микстли?
Я подтвердил это, поприветствовав его в свою очередь.
– Меня зовут Уишкоцин, – представился мой новый знакомый. (Имя это означает Ива.) – Знаешь, у нас тут уже не меньше трех Микстли, так что для тебя, видимо, надо будет придумать другое прозвание.
Не ощущая особой нужды в еще одном имени, я сменил тему:
– Слушай, я в жизни не видел, чтобы олени разгуливали свободно, без всяких вольеров, и не боялись людей.
– Они попадают к нам еще детенышами: обычно охотники подбирают их, если самка убита, и доставляют сюда. Ну а здесь для них всегда находят кормилицу, которая выкармливает их своим молоком. Оленята растут среди людей и, видимо, себя тоже считают людьми. А ты, Микстли, наверное, только что приплыл? Проголодался? Устал?
На все три вопроса я ответил утвердительно:
– Да, да и да. Только я ничего не знаю: ни чем мне здесь предстоит заниматься, ни даже, куда нужно идти.
– Кто все знает, так это первая супруга моего отца, – промолвил юноша. – Пойдем, я отведу тебя к ней.
– Спасибо тебе, господин Ива, – поблагодарил я его. Выходит, я не ошибся, этот юноша действительно был одним из сыновей правителя.
Пока мы с ним шли по территории, прилегающей к дворцу (олень тоже увязался за нами), молодой принц рассказывал мне о самых примечательных сооружениях, мимо которых пролегал наш путь. Показав на огромное, с трех сторон обступавшее цветущий внутренний двор двухэтажное строение, Ива пояснил, что в левом крыле расположены его собственные покои и комнаты всех остальных детей правителя, в правом размещаются сорок наложниц юй-тлатоани, а помещения центрального флигеля отведены советникам Чтимого Глашатая – мудрецам, неотлучно его сопровождающим, находится ли он в городе или в загородном дворце. Там живут также поэты, художники и ученые, которым владыка покровительствует. Вокруг здания красовалось множество окруженных садами уютных беседок с мраморными колоннами. Там мудрецы могли без помех предаваться размышлениям и творчеству, прозревать будущее или медитировать.
Сам дворец властелина Тескоко ни размером, ни пышностью убранства не уступал дворцам Теночтитлана. Длина фасада этого двухэтажного здания составляла самое меньшее тысячу шагов. Здесь находились тронный зал, палаты Совета, залы для придворных увеселений, караульные помещения и так называемый зал правосудия, где юй-тлатоани регулярно принимал своих подданных, дабы выслушать их жалобы или прошения. Тут же размещались личные покои Несауальпилли и покои его жен.
– Там целых три сотни комнат, – сказал принц, а потом с ухмылкой добавил: – Соединенных между собой множеством тайных ходов и лестниц. Таким образом, мой отец может посещать любую жену, не вызывая при этом зависти остальных.
Когда, оставив оленя, мы вошли в центральные ворота, стоявшие по обе их стороны часовые (а это, разумеется, были не простые воины) вытянулись в струнку, держа свои копья остриями вверх. Ива провел меня через просторный зал, увешанный гобеленами из перьев, после чего по широкой, устланной тростниковыми циновками лестнице мы поднялись к изысканным покоям его мачехи. Вот так и получилось, что вторым человеком, с которым я познакомился на новом месте, оказалась госпожа Толлана-Текиуапиль, та самая первая и любимейшая супруга правителя и благороднейшая из знатных женщин аколхуа, о которой старик упоминал на холме. Когда мы появились на пороге, эта высокая красавица разговаривала с каким-то угрюмого вида молодым человеком, но одарила нас улыбкой и жестом пригласила войти.
Принц Ива представил ей меня, и я наклонился, чтобы совершить обряд целования земли. Госпожа Толлана, однако, собственноручно подняла меня с колен и в свою очередь представила молодому человеку с нависавшими бровями:
– Мой старший сын, Иштлильшочитль.
Я снова преклонил колени, ибо в данный момент передо мною находился сам принц Черный Цветок, официально провозглашенный наследником титула и трона Несауальпилли, правителя Тескоко. У меня начала слегка кружиться голова, и не только оттого, что мне без конца приходилось то преклонять колени, то подниматься. Ведь как-никак нечасто бывает, чтобы сын простого каменотеса за один день познакомился сразу с тремя столь знатными особами. Черный Цветок кивнул мне, слегка приподняв черные брови, после чего он и его сводный брат покинули комнату.
Первая супруга осмотрела меня с ног до головы, а я тем временем украдкой и сам разглядывал ее. Возраст госпожи мне определить не удалось, хотя, надо думать, она уже достигла средних лет. Судя по облику принца Черного Цветка, ей было никак не меньше сорока, но на прелестном добром лице госпожи я не углядел ни морщинки.
– Микстли, верно? – промолвила она. – Право же, у нас тут многовато юношей, которых так зовут. А полные имена я плохо запоминаю.
– Некоторые зовут меня Тоцани, госпожа.
– Ну нет, ты гораздо больше крота. Ты и сейчас уже высокий юноша, а ведь тебе еще расти и расти. Я буду звать тебя Кивун.
– Как будет угодно моей госпоже, – отозвался я, в душе облегченно вздохнув. – Такое же прозвище и у моего отца.
– Раз так, нам обоим будет нетрудно его запомнить, верно? Ну что ж, пойдем, я покажу тебе твои покои.
Должно быть, госпожа Толлана дернула за веревочку колокольчика или чего-то в этом роде, поскольку, когда мы вышли из комнаты, ее уже ждали два рослых сильных раба с креслом-носилками. Они поставили паланкин на пол, а когда она уселась, подняли и бережно, не допуская ни малейшего наклона, спустили его вниз по лестнице и понесли за ворота дворца, в сгущавшиеся сумерки. Третий раб бежал перед паланкином со смолистым сосновым факелом, а четвертый нес позади особое знамя, свидетельствовавшее о высоком ранге госпожи. Я рысил рядом с носилками, остановившимися у того самого здания с тремя флигелями, которое уже показывал мне Ива. Госпожа Толлана завела меня внутрь: мы поднялись по лестнице и после нескольких поворотов оказались в дальней части левого крыла.
– Заходи, – пригласила она, открывая дверь, сделанную из кожи, натянутой на деревянную раму и покрытой для прочности лаком. Раб внес факел внутрь, чтобы осветить мне путь, но я замешкался и лишь засунул внутрь голову, неуверенно пробормотав:
– Здесь, кажется, пусто, моя госпожа.
– Разумеется. Эту комнату специально освободили для тебя.
– Я думал, что в калмекактин всех учеников селят в общих спальнях.
– Наверное, так оно и есть, но тебе предстоит жить в этой пристройке. Мой супруг и господин не особенно любит эти школы и жрецов, которые в них преподают. Ты приехал сюда не затем, чтобы посещать калмекактин.
– Как не за этим, моя госпожа? А я-то думал, что мне предстоит учиться!..
– Это действительно так, причем тебе придется постараться: ты будешь учиться вместе с отпрысками самого Несауальпилли и его придворных. Наших детей учат не немытые фанатичные жрецы, а избранные самим господином моим супругом мудрецы, каждый из которых преуспел в той области знаний, которую он преподает. Здесь, Кивун, тебе не придется без конца зубрить молитвы и заклинания, у тебя появится возможность получить настоящие, полезные знания.
Если до сего момента я, по крайней мере, не таращился на нее разинув рот, то теперь, когда рабы, обходя помещения, залегли вставленные в настенные канделябры свечи из пчелиного воска, меня охватило настоящее изумление. Мало того что мне предназначалось отдельное помещение, но в дальней стене еще и находилась арка, а за ней – следующая комната! Неужели мне одному – целых две комнаты?!
– Моя госпожа, как же так? Здесь столько же места, сколько было во всем нашем доме?!
– Ты привыкнешь к удобствам, – с улыбкой промолвила она, чуть ли не силой затолкнув меня внутрь. – В первой комнате ты будешь заниматься, та, дальняя, твоя спальня, а за ней находится еще и умывальня. Наверняка с дороги ты захочешь умыться и привести себя в порядок. Если понадобится помощь, дерни за веревочку, и сюда явится твой слуга. Как следует поешь и хорошенько выспись, Кивун. Скоро мы увидимся с тобой снова.
Раб проследовал за ней из комнаты и закрыл дверь. Мне было жаль видеть, как уходит столь добрая госпожа, но, с другой стороны, меня радовала возможность обойти свои новые покои и, подобно настоящему кроту, осмотреть их, близоруко вглядываясь в предметы обстановки. В комнате для занятий находились низенький стол, икпали, приземистое сиденье с подушками, плетеный сундучок, в котором я мог хранить свою одежду и книги, каменный очаг, куда уже положили поленья, подсвечники со свечами, в количестве, достаточном для того, чтобы я мог продолжать занятия после наступления темноты, и зеркало из полированного тецкаля, редкого кристаллического минерала, позволяющего видеть не смутные очертания лица, а настоящее, четкое отражение. Окно занавешивалось шторой из расщепленного тростника, которую можно было, свернув в рулон, поднять или опустить с помощью шнуров.
Вместо обычного, сплетенного из тростника тюфяка в спальне на плоскую приподнятую над полом лежанку было брошено штук десять, а то и целая дюжина стеганых и, видимо, набитых пухом одеял. Мягчайшие на ощупь, они все вместе были похожи на пуховое облако. Устраиваясь отдохнуть, я мог забраться на это ложе между одеялами на любом уровне, в зависимости от того, насколько мягким хотелось мне чувствовать его под собой и сколько тепла мне хотелось получить сверху. А вот оценить все возможности и достоинства умывального помещения мне удалось далеко не с такой легкостью. Зайдя туда, я обнаружил в полу выложенное плитками углубление, куда, видимо, следовало сесть, чтобы помыться, но ни кувшинов, ни каких-либо иных емкостей с водой в помещении не было. Зато имелся горшок, явно предназначавшийся для отправления естественных надобностей, только вот он почему-то был намертво приделан к полу, и я решительно не понимал, как же его опорожняют после использования. Правда, и в ванной, и в верхней части горшка имелись любопытной формы выступы с отверстиями, но если то и были трубы, то вода из них не текла, так что какой от них толк, оставалось для меня тайной. До этого дня я и представить себе не мог, что буду нуждаться в наставлениях по поводу того, как мне умыться и опорожнить желудок, однако, уразумев, что самому мне в этих мудреных приспособлениях не разобраться, сдался. Я вернулся в первую комнату, подергал за шнурок колокольчика и не без смущения стал ждать, когда появится приставленный ко мне тлакотли.
– Меня зовут Коцатль, мой господин, – объявил с порога явившийся на мой зов бодрый румяный мальчуган. – Мне девять лет, и на меня возложена обязанность служить тем шести молодым господам, покои которых находятся в конце этого коридора.
Коцатль означает Драгоценное Ожерелье – имя, пожалуй, слишком высокопарное для прислужника, но смеяться над ним я не стал. В конце концов, ни один дающий имена тональпокуи не стал бы сверяться со своими пророческими книгами, дабы наречь младенца, рожденного в рабстве, даже имейся у его родителей средства, чтобы оплатить услуги. Взрослые имена таких детей не записывались ни в какие книги. Рабы называли своих отпрысков как угодно, порой давая им (как это было в случае с Даром Богов) совершенно неподходящие прозвания. Однако для мальчика-раба Коцатль выглядел упитанным, не имел следов побоев, держался без подобострастия и помимо обычной для рабов мужского пола набедренной повязки носил короткую, безупречной белизны накидку. Все это заставило меня предположить, что в стране аколхуа или, всяком случае, во дворце правителя с низшими обращаются хорошо.
Обеими руками мальчик нес огромный глиняный сосуд с горячей водой, от которой поднимался пар, поэтому я поскорей посторонился, дав рабу возможность пройти в умывальню и вылить воду в выложенную плиткой лохань. Даже если Коцатль принял меня за настоящего выходца из знати, он с полным на то основанием мог предположить, что сын провинциального вождя едва ли знаком с подобной роскошью. Во всяком случае, мальчик, не дожидаясь с моей стороны вопроса, пояснил:
– Мой господин, ты можешь охладить воду в купальной лохани до нужного тебе состояния. Вот так.
Он указал на выступавшую из стенки глиняную трубу, в которую, ближе к концу, был сверху вставлен обрезок другой трубы, покороче. Прислужник всего-то и сделал, что повернул эту торчавшую вертикально трубку, и из отверстия полилась струя чистой холодной воды.
– Длинная труба подводит воду из главного потока, снабжающего весь дом. Короткая трубка имеет с одной стороны отверстие, и, поворачивая ее так, чтобы отверстие было обращено внутрь, к длинной трубе, ты позволяешь воде выливаться наружу, в лохань. Повернешь в обратную сторону, поток перекроется. А когда ты закончишь мыться, мой господин, вытащи из донышка ванны вот эту оли, затычку. Грязная вода убежит вниз, в сливную трубу.
Потом он указал на прикрепленный к полу сосуд для отправления нужды и добавил:
– Ашикатль используют примерно так же. Когда ты облегчишься в него, подкрути вон ту трубку, и струя воды смоет все через дырку в днище.
Я, до сих пор даже не замечавший это отверстие, в невежественном испуге спросил:
– Как, неужели испражнения упадут в нижнюю комнату?
– Нет-нет, мой господин. Как и вода из ванной, они попадут в трубу, которая вынесет их прочь из дома. Все отходы отводятся в специальный пруд, выгребную яму, откуда их доставляют на поля как удобрение. А сейчас я велю приготовить для моего господина ужин, так что, когда он кончит мыться, его уже будет ждать еда.
«Да уж, для того чтобы отвыкнуть от провинциальных, простонародных замашек и усвоить манеры знати, мне потребуется время», – размышлял я чуть позже, когда, сидя за собственным столом, уминал жаренного на решетке кролика, бобы, тортильи, зажаренную в тесте тыкву и запивал все это шоколадом. Запивал! В моих родных краях шоколад считался редким и дорогим лакомством. Его подавали по большим праздникам, раз или два в год, причем почти без приправ. Здесь же я угощался пенистым красноватым напитком, состоявшим кроме драгоценного какао также из меда, ванили и перемолотых алых семян акхфиотля. Все это смешивали между собой и сбивали в густую пену. И этот бесценный напиток можно было получать даром, в любом количестве. Словно простую воду!
Я невольно задумался о том, сколько времени потребуется мне, чтобы освоиться, избавиться от шалтоканского акцента и усвоить тот классический науатлъ, на котором говорят в Тескоко, и вообще, как выразилась первая госпожа, «привыкнуть к удобствам».
Со временем я понял, что ни одному знатному человеку, действительно ли благородному или оказавшемуся, как я, в этой роли временно, никогда не приходится самому себя обслуживать. Например, знатный человек никогда не снимал великолепную накидку из перьев, а лишь расстегивал поддерживавшую одеяние пряжку на плече и делал шаг вперед. Однако одеяние при этом никогда не падало на пол, ибо его всегда кто-нибудь подхватывал. Представитель знати был настолько уверен, что какой-либо слуга непременно окажется рядом, что даже никогда не оглядывался. Точно так же, желая сесть, благородный человек никогда не смотрел назад. Он совершенно не боялся упасть, ибо кто-нибудь непременно подставлял ему икпали, переносное сиденье. Так было всегда и иначе быть просто не могло.
«Интересно, – гадал я, – является ли столь непоколебимая уверенность прирожденной или же она приобретается с опытом?» Был только один способ выяснить это, и я им воспользовался. При первом же удобном случае я, войдя в помещение, полное знатных особ обоего пола, и поприветствовав их подобающим образом, сел, не оглянувшись назад. Сиденье оказалось на месте, и мне стоило труда заставить себя сдержаться и не вертеть во все стороны головой, выясняя, откуда же оно взялось. Я понял, что не только икпали, но все, что я жду от нижестоящих, всегда окажется там, где нужно. Этот маленький опыт позволил мне раз и навсегда усвоить важную истину: чтобы к тебе относились с подобающим благородному человеку почтением, нужно лишь решиться самому ощутить себя благородным!
На следующее утро после моего прибытия раб Коцатль вместе с завтраком принес мне целую охапку – больше, чем у меня было за всю жизнь! – новых одеяний. И каких одеяний! Набедренные повязки и накидки из дорогого хлопка, с красивой вышивкой. Сандалии из мягкой легкой кожи, причем одна пара, со шнуровкой до колен, предназначенная для церемоний, оказалась золоченой! Госпожа Толлана даже прислала мне маленькую гелиотроповую застежку для накидки, которую я с тех пор носил на плече. Когда я облачился в один из этих щегольских нарядов, Коцатль снова повел меня по дворцовой территории, указывая здания, где находились учебные помещения.
Классов там было больше, чем в любой школе, и меня, конечно, в первую очередь интересовали те, где изучали искусство письма, историю, землеописание и тому подобные науки. Однако ничто не мешало мне при желании посещать также занятия по стихосложению, работе с золотом, серебром и перьями, огранке драгоценных камней и другим искусствам.
– Занятия, для которых не требуется столов, скамей или инструментов, проводятся в помещении только в плохую погоду, – сообщил мой маленький проводник. – В ясные дни, как сегодня, господа наставники и их ученики предпочитают заниматься на воздухе.
И впрямь, то здесь то там, на лужайках или вокруг мраморных беседок виднелись группы обучающихся. Учителями, каковые выделялись среди прочих желтыми накидками, были в основном люди пожилые, среди учеников же можно было увидеть не только мальчиков и отроков, но также и молодых мужчин. Более того, я приметил даже нескольких девушек и рабов, сидевших, правда, чуть в сторонке.
– А что, учеников подбирают не по возрасту? – поинтересовался я.
– Нет, мой господин, по способностям. Кому-то быстрее даются одни науки, кому-то – другие. Каждый из твоих наставников первым делом поговорит с тобой и выяснит, насколько ты сведущ и куда годишься: в начинающие, познающие, познавшие основы... ну и так далее. В какую группу ты попадешь, будет зависеть от твоих изначальных знаний по каждой науке и от того, какие ты при этом проявишь способности.
– Я вижу, у вас также учатся женщины и рабы?
– Любой дочери благородного человека разрешено посещать занятия по всем наукам, вплоть до самого высшего уровня, если у нее есть способности и желание. Рабам дозволяется учиться тому, что соответствует их обязанностями.
– Ты сам, как я вижу, очень сведущ для такого юного тлакотли.
– Спасибо, мой господин. Я стараюсь правильно говорить на науатлъ, а также изучаю хорошие манеры и основы ведения домашнего хозяйства. Когда стану постарше, у меня будет возможность обратиться с прошением о дальнейшем обучении, я мечтаю стать со временем хранителем ключей в каком-нибудь благородном доме.
– Если у меня когда-нибудь заведется такой дом, обещаю тебе, Коцатль, эту должность, – заявил я с великолепной самоуверенностью.
При этом, признаюсь, говоря «если», я имел в виду «когда», ибо уже не просто мечтал о величии, но считал такое будущее очевидным. Да, мои господа, тот оборванный старик, что находится сейчас перед вами, с улыбкой вспоминает рослого, прекрасно одетого, сопровождаемого слугой юношу, который, стоя посреди дивного парка, с наивной самоуверенностью воображал, будто непременно станет выдающимся человеком.
Господин учитель истории Нелтитик, выглядевший таким старым, что казалось, он вполне мог лично видеть все события, о которых рассказывал, объявил классу:
– Сегодня у нас на занятиях присутствует новый пильтонтли, благородный ученик. Это мешикатль по прозванию Кивун.
Я был настолько польщен тем, что меня представили как «благородного ученика», что прозвище принял как должное, даже не поморщившись.
– Может быть, Кивун, – продолжил учитель, – ты расскажешь нам об истории Мешико и твоего народа?
– Да, господин наставник, – ответил я и, когда все взоры обратились ко мне, прокашлялся и принялся излагать то, что усвоил в Доме Обучения Обычаям: – Ведайте же, что первоначально мое племя обитало далеко к северу от здешних земель. Тот край именовался Ацтлан, страна Белоснежных Цапель, отчего живший там народ называл себя ацтлан-теками или, для краткости, ацтеками – народом Белой Цапли. Однако Ацтлан был суровой страной, и верховный бог моего народа, Уицилопочтли, поведал своим почитателям, что далеко к югу лежит куда более благоприятный для жизни край. Путь туда будет долгим и нелегким, о том же, что они добрались до цели, люди узнают, когда узрят знамение: золотого орла, сидящего на кактусе нопали. Так и вышло, что ацтеки покинули свои прекрасные дома, дворцы, пирамиды, храмы и сады и всем племенем выступили на юг.
Кто-то в классе потихоньку хихикнул.
– Путь этот занял долгие годы, и им пришлось пройти через земли многих других народов. Некоторые были настроены враждебно и пытались с оружием в руках заставить ацтеков повернуть назад. Иные же проявляли гостеприимство, и на их территориях странствующий народ останавливался на отдых, задерживаясь иногда ненадолго, порой же – на многие годы. Этим народам сторицей воздалось за гостеприимство, ибо они обучились благородному языку, а также высоким искусствам и наукам, ведомым только ацтекам.
В классе зашушукались, и на этот раз хихиканье стало громче.
– Когда ацтеки наконец пришли в эту долину, их радушно принял живший на западном побережье озера народ текпанеков, уступивший странникам для временного поселения Чапультепек, гору Кузнечиков. А тем временем жрецы ацтеков продолжали обследовать местность в поисках заветного орла, сидящего на нопали. А поскольку на диалекте текпанеков кактус нопали называется теночтли, это племя прозвало ацтеков теночтеками. Со временем те и сами приняли это имя и стали называть себя народом Кактуса. Потом, как и обещал Уицилопочтли, жрецы обнаружили вещее знамение – золотого орла, сидевшего на кактусе, причем случилось это на никем не заселенном острове. Естественно, что все ацтеки, или теночтеки, с радостью переселились с Чапультепека на этот остров.
Кто-то в классе открыто засмеялся.
– На острове они построили два больших города, один назвали Теночтитлан, Становище Народа Кактуса, а другой – Тлателолько, Поселение Посреди Скал. Пока мои предки строили свои города, они заметили, что каждую ночь видят со своего острова отражающуюся в водах озера луну. Поэтому они прозвали новое место обитания Мецтли-Шитли, Лунная Середина. Со временем название сократилось до Мешитли, а потом видоизменилось в Мешико, а сам наш народ стал именоваться мешиками, или мешикатль. В качестве же своего герба это племя избрало сидящего на кактусе орла, который держит в клюве нечто вроде ленты, символа войны.
Многие из моих новых однокашников уже смеялись в голос, но я упорно продолжал:
– Потом мешикатль приобрели влияние и начали расширять свои владения. И многие народы выгадали, объединившись с этим новым племенем, став его союзниками или начав торговать с мешикатль. Соседи стали почитать наших богов и познакомили нас со своими. Они выучились от нас счету, переняли у нас календарь, начали из страха пред нашими непобедимыми воинами платить нам дань и, признавая наше превосходство, выучили наш язык. Мешикатль создали самую могущественную державу в истории, а город Мешико-Теночтитлан по праву именуется Ин Кем-Анауак Йойотли – Истинное Сердце Сего Мира.
Я поцеловал землю в знак почтения к пожилому господину наставнику Нелтитику и сел. Одноклассники чуть ли не все одновременно замахали руками, прося разрешения высказаться. При этом они покатывались со смеху. Однако по властному жесту учителя класс мгновенно умолк.
– Спасибо, Кивун, – добродушно промолвил он. – Мне было интересно услышать, чему наставники учат молодых мешикатль в наши дни. Вижу, юноша, что об истории ты знаешь чрезвычайно мало, да и то немногое, что ты усвоил, неверно почти в каждой детали.
Я встал снова, мое лицо горело, словно мне отвесили пощечину.
– Господин наставник, ты просил изложить лишь краткую историю. Я могу рассказать более подробно.
– Будь добр, избавь меня от этого, – сказал он. – А взамен я окажу тебе любезность, исправив всего лишь одну из твоих ошибок. Слова «Мешико» и «мешикатль» происходят вовсе не от названия луны.
Он знаком велел мне сесть и обратился ко всему классу:
– Благородные юные ученики и ученицы, вот вам пример того, о чем я уже не раз говорил. Не будьте легковерными, подвергайте сомнению различные предлагаемые вам версии истории, ибо они зачастую продиктованы тщеславием и содержат самые нелепые выдумки. Более того, я никогда не встречал историка, да и вообще занимающегося любой отраслью знаний ученого, который мог бы признать свои ошибки и посмеяться над ними. Ни разу не довелось мне также встретить и того, кто не считал бы свою узкую область знания самой важной и весомой из всех существующих и не полагал бы, что истинная наука не совместима с весельем. Сразу скажу, что я понимаю всю важность научных трудов, но неужели все связанное с познаниями обязательно должно быть при этом скучным, тошнотворно серьезным и исполненным нелепых претензий? Историки могут быть серьезными людьми, да и сама история порой оказывается настолько мрачной, что не располагает к веселью. Но ведь историю делают живые люди, и каких только казусов при этом не случается. Это подтверждает и истинная история Мешико.
Он снова обратился ко мне:
– Кивун, твои предки ацтеки не принесли в эту долину никакой древней мудрости, никаких искусств, наук или культуры. Вообще ничего, кроме самих себя – вороватых, невежественных бродяг в рваных, грязных, кишевших паразитами звериных шкурах, поклонявшихся отвратительному демону, кровожадному богу войны. Стоит ли удивляться, что все развитые, образованные народы презирали и отталкивали этот дикий сброд. Сам посуди, с чего бы цивилизованным людям приветствовать нашествие неотесанных нищих? Ацтеки поселились на том острове, у болотистого побережья озера, не потому, что их бог ниспослал им какое-то там знамение, и отправились они туда вовсе не с радостью. Нет, они перебрались туда потому, что больше им было некуда сунуться, а на эту землю, на этот торчащий из трясины прыщ, больше никто не претендовал.
Одноклассники косились на меня с насмешливым видом, а я, внимая словам Нелтитики, старался не выдать своей растерянности.
– Первое время ацтекам было не до строительства великих городов, пирамид и всего такого, – продолжил учитель, – ибо все их время и все силы уходили на поиски съестного. Им не разрешалось ловить рыбу, поскольку права на ловлю принадлежали исконным жителям побережья, и долгое время твои предки существовали – да, не жили, а лишь влачили жалкое существование! – питаясь противными мелкими существами вроде червяков и водяных насекомых, склизкими яйцами всяких болотных тварей и единственным съедобным растением, которое росло в том жалком болоте. Называлось оно мешикин и представляло собой горьковатую на вкус траву, которую прочие народы считали никчемным сорняком. Но если твои предки, Кивун, не обладали ни богатством, ни знаниями, ни чем-либо в этом роде, то им никак нельзя было отказать в чувстве юмора и способности к сарказму. Посмеиваясь над собой и своим бедственным положением, они стали называть себя новыми именем – мешикатль.
Рассказ учителя породил очередную волну смешков, но Нелтитика продолжил:
– В конце концов твои предки придумали чинампа, плавучие огороды, и стали получать сносные урожаи, но даже после этого только-только обеспечивали себя основными пищевыми культурами вроде маиса и бобов. Их чинампа подходили скорее для выращивания более редких овощей и трав – томатов, шалфея, кориандра, сладкого картофеля, – культивированием которых не хотели утруждать себя их высокоразвитые соседи. Когда мешикатль стали выращивать эти продукты в избытке, они завели торг с соседями, выменивая свой урожай на необходимые им предметы: инструменты, строительные материалы, ткани и оружие. То есть на все то, чего у них не было и чего просто так им бы никто не дал. Нельзя не признать: этот народ сумел быстро перенять достижения соседей, а в чем-то, например в военном деле, и опередить их. И хотя теперь твои сородичи уже не употребляли в пищу скромный сорняк мешикин, позволивший им пережить трудные времена, они сохранили взятое в его честь имя. Ныне слово «мешико» известно повсюду, но при всем внушаемом им почтении или страхе означает оно всего-то навсего...
Учитель намеренно выдержал паузу, улыбнулся, и мое лицо вспыхнуло снова, когда весь класс дружно выкрикнул:
– Народ Сорняка!
– Я так понимаю, юный господин, что ты пытался научиться читать и писать собственными силами? – Наставник по словесному знанию сказал это с таким видом, словно сильно сомневался в том, что с помощью самообразования возможно добиться на этом поприще какого-либо успеха. – И полагаю, у тебя имеются образцы твоей работы?
Я почтительно вручил ему длинную, сложенную гармошкой ленту из скрепленных между собой полосок грубой бумаги. Книгу, которой весьма гордился.
Символы были начертаны мною с величайшим старанием и раскрашены яркими, переливающимися красками, подаренными мне Чимальи. Господин наставник взял мою самодельную рукописную книжицу и стал медленно ее разворачивать.
В своей работе я запечатлел эпизод из нашей истории, относящийся к тому времени, когда мешикатль только что пришли в эту долину. Самым могущественным из всех населявших ее племен было тогда племя калхуа. Когда вождь калхуа Кошкок объявил войну народу шочимилько, он предложил новоприбывшим мешикатль участвовать в ней в качестве его союзников. Те согласились, поход увенчался победой, и калхуа стали похваляться захваченными пленниками, тогда как у мешикатль взятых в плен не оказалось вовсе. Кошкок обвинил новых союзников в трусости, но тут наши воины развязали свои мешки и высыпали перед вождем целую груду ушей, причем только левых, отрубленных у поверженных ими шочимилько. Кошкок был повергнут в изумление, а мешикатль с тех пор стяжали славу бойцов, с которыми нельзя не считаться. Думая, что мне очень хорошо удалось изобразить этот эпизод (особенно я старался передать несчетное количество левых ушей и выражение изумления на лице Кошкока), я самонадеянно ждал от учителя если не восторга, то, во всяком случае, похвалы.
Но он лишь хмурился, вновь и вновь просматривая страницы и переводя взгляд с одной стороны на другую, а потом наконец спросил:
– А в каком направлении все это следует читать?
– У нас на Шалтокане принято листать страницы слева направо, – озадаченно ответил я. – То есть каждую полоску можно читать слева направо.
– Я не про то! – отрезал он. – Мы все обычно читаем слева направо. Но ведь в твоей книге отсутствуют какие-либо указания на то, что читателю следует поступать именно так.
– Какие еще указания? – растерялся я.
– Предположим, тебя попросили выполнить надпись, которая должна читаться в каком-либо ином направлении. Скажем, на фризе храма или на колонне, где архитектура требует, чтобы надпись читалась справа налево или даже сверху вниз.
Подобное просто не приходило мне в голову, в чем я честно признался.
– Когда писец изображает двоих людей или богов, занятых разговором, они, естественно, должны быть обращены лицами друг к другу, – нетерпеливо продолжал учитель. – Однако всегда следует помнить общее правило: лицам большинства изображаемых фигур следует быть обращенными в том направлении, в каком читается надпись.
Я сглотнул и, кажется, довольно громко.
– А ты, выходит, так и не уразумел этого элементарного, основополагающего правила? – язвительно осведомился наставник. – И у тебя хватило дерзости продемонстрировать мне свою писанину? – Он швырнул мне книгу, даже не удосужившись ее сложить. – Завтра приступишь к занятиям по письму. Учиться будешь вон в той группе.
И наставник показал на кучку учеников, собравшихся вокруг одной из беседок. Тут лицо мое моментально вытянулось, а гордость испарилась. Даже издалека было видно, что все ребята в группе вдвое меня моложе и намного меньше ростом.
Разумеется, мне казалось обидным и унизительным заниматься вместе с мелюзгой и начинать изучение таких вроде бы любимых мною предметов, как письмо и история, с самого начала. Можно подумать, что раньше меня никогда ничему не учили и сам я не прилагал стараний узнать как можно больше. Единственным отрадным известием оказалось лишь то, что, по крайней мере при изучении поэзии, не было подразделения на начинающих, познающих, познавших основы и прочих. На занятия по стихосложению приходили те, кого к этому влекло, так что в одной группе занимались и совсем дети, и люди, достигшие зрелости. Среди учеников оказались также и юный принц Ива, и его старший сводный брат – наследный принц Черный Цветок, и множество других знатных людей, включая, совсем немолодых. Девушек, женщин, а также рабов я увидел там больше, чем на любых других занятиях.
Похоже, что здесь не имело значения ни кто сочиняет стихотворение, ни какова его тема, представляет ли оно собой восхваление какого-либо бога или героя, длинное историческое повествование, любовную песню, горестный плач или добродушную шутку. Не принимались также в расчет и пол, возраст, богатство, знатность, заслуги, образование или опыт сочинителя. В поэзии важно другое: стихотворение или есть, или его нет. После того как оно слагается, стихотворение или запечатлевается в памяти, или забывается так быстро, словно никогда и не появлялось на свет. На тех занятиях я скромно сидел в сторонке и слушал других, а о том, чтобы сочинять собственные стихи, не смел даже и помышлять. И лишь многие, многие годы спустя мне случилось сочинить стихотворение, которое, как я потом слышал, декламировали странники. Однако стихотворение это совсем крохотное, так что из того, что оно живет в памяти людей, еще не следует, будто я вправе называть себя поэтом.
Больше всего мне запомнилось самое первое занятие в поэтическом классе. Господин наставник пригласил какого-то знаменитого стихотворца прочесть нам свои произведения. Я прибыл и уселся на траву позади всех слушателей, когда он готовился к выступлению. С такого расстояния, да еще при моем зрении, рассмотреть поэта как следует было мудрено, но я разобрал, что он среднего роста, хорошо сложен и примерно тех же лет, что и госпожа Толлана. Поэт был облачен в богато расшитую хлопковую накидку, поддерживаемую золотой застежкой, однако не имел более никаких иных украшений, указывавших на его происхождение или сан.
Поэтому я принял его за профессионального стихотворца, получившего за свой дар содержание от правителя и место при дворе.
Поэт пошуршал листочками с записями, передал один из них мальчику – рабу, сидевшему на земле у его ног с маленьким барабаном на коленях, и, ничуть не напрягая хорошо поставленный голос, отчетливо произнес:
– Достойные учащиеся, с разрешения вашего господина наставника я прочту вам сегодня не свои стихи, а сочинения куда более великого и мудрого поэта. Моего отца.
– Аййо, с моего разрешения и к превеликому моему удовольствию! – отозвался господин учитель, удовлетворенно кивая.
– Аййо! – повторил за ним весь класс, как будто присутствующие как один прекрасно знали творения того выдающегося поэта, о котором шла речь.
Из того, что я вам уже рассказал о нашей системе письма, почтенные братья наверняка поняли, что оно не годилось для того, чтобы полноценно записывать поэтические произведения. Наша поэзия существовала лишь благодаря передаче из уст в уста, и стихотворение жило только в человеческой памяти. Если оно кому-то нравилось, человек заучивал его наизусть и пересказывал другому, а тот, в свою очередь, пересказывал дальше. Так стихотворение и жило, передаваясь из уст в уста. Чтобы произведение легче запоминалось, оно, как правило, содержало ритмические повторения и созвучия на концах строк.
Ни то ни другое было невозможно передать средствами нашего письма, так что записи, которые гость просмотрел перед выступлением, были лишь подспорьем для памяти. Они служили для того, чтобы чтец не пропустил какую-нибудь строку или выделил голосом то или иное место. Ну а на страничке, переданной им барабанщику, и вовсе не было никаких рисунков. Она содержала лишь россыпь разноцветных точек, нанесенных кистью, клякс разнообразной формы и плотности, подсказывавших музыканту ритм, который ему следовало выбивать ладонью на барабане. Барабан сопровождал декламацию, то звуча тихо и размеренно, то рассыпаясь резкой дробью, – подчеркивая волнение, заполняя паузы между строками звуками, подобными биению сердца. Стихотворения, которые наш гость продекламировал, прочел нараспев или пропел в тот день, были все как одно красивы и выразительны, однако роднило их не только это, но и оттенок грусти. Все они были слегка окрашены меланхолией, подобно дням в самом конце лета, все еще ярким, но уже слегка тронутым дыханием ранней осени. Даже сейчас, по прошествии стольких лет, не имея под рукой странички-подсказки и задающего ритм и отмечающего паузы барабана, я, пожалуй, прочту одно из них:
- Я песнь сложил, дабы жизнь воспеть,
- Мир, яркий, как птицы кецаль оперение,
- Лазурь небес, солнца яркую медь,
- Чистых вод жадеит и садов цветение...
- Но плавится медь, жадеит крошится,
- Вянут цветы, лепестки теряя,
- Ночи сдаваясь, солнце садится,
- И деревья не вечны, листву роняя.
- Зри же, как увядает наша краса!
- Точно так и наша любовь остывает –
- Боги храмы древние покидают,
- И руины скрывают их чудеса.
- Неужели в жизни все тлен и ложь?
- Почему моя песнь пронзает как нож?
Когда декламация была закончена, почтительно внимавшие ей слушатели встали и разошлись. Некоторые, и я в том числе, поспешили уединиться, чтобы, прогуливаясь и повторяя на ходу строки, затвердить наизусть полюбившиеся стихотворения. Другие окружили чтеца, всячески выражая свой восторг и осыпая его благодарностями и похвалами. Я ходил кругами по траве, склонив голову, и твердил вновь и вновь то самое стихотворение, которое только что прочел вам, когда ко мне подошел молодой принц Ива.
– Знаешь, Кивун, – сказал он, – мне тоже это стихотворение понравилось больше всего. И оно навеяло мне другое, которое сложилось в моей собственной голове. Хочешь послушать?
– Я польщен возможностью стать первым слушателем этого сочинения, – ответил я.
И принц прочел мне следующие строки:
- Ты упорно твердишь, что не вечен я,
- Как цветы, что взлелеяны мною нежно,
- Что навеки сгинет слава моя
- И имя забудется безнадежно.
- Но мой сад цвести еще долго будет,
- И песни мои будут помнить люди.
– По-моему, Уишкоцин, это хорошее стихотворение, – сказал я. – Красивое и правдивое. Господин наставник наверняка удостоил бы тебя одобрительного кивка. – Я говорил это не для того, чтобы подольститься к принцу, но вполне искренне, недаром ведь стихотворение запомнилось мне на всю жизнь. – Вообще-то, – продолжил я, – его вполне можно принять за творение того великого поэта, чьи сочинения мы сегодня слышали.
– Да брось ты, Кивун, – укорил меня Ива. – Ни один из поэтов нашего времени не может сравниться с бесподобным Несауалькойотлем.
– Кем?
– А ты разве не знал? Ты не понял, что мой отец цитировал сочинения своего отца, моего деда, Чтимого Глашатая Постящегося Койота?
– Что? Выходит, перед нами читал стихи сам Несауальпилли! Но постой, а где же знаки его высокого сана? Я не видел ни венца, ни мантии из перьев, ни скипетра, ни знамени...
– О, он совсем не такой, как все. В отличие от прочих юй-тлатоани отец использует одежды и регалии, подобающие его сану, лишь во время государственных церемоний. Он считает, что человеку пристало гордиться лишь собственными достижениями и носить лишь знаки, свидетельствующие о личных заслугах. По его мнению, боевые шрамы стократ дороже драгоценных безделушек, унаследованных от предков, купленных или полученных в приданое. Но постой, неужели ты хочешь сказать, что еще ни разу его не встречал? Идем!
Однако, похоже, Несауальпилли не очень-то любил массовые проявления преданности и почтения. К тому времени, когда нам с принцем удалось протолкаться сквозь толпу учеников, он уже ускользнул.
Госпожа Толлана не ввела меня в заблуждение, сказав, что учиться мне придется усердно, однако я не стану утомлять почтенных братьев-писцов рассказами о том, как проходили у нас уроки, и о том, как я занимался самостоятельно. Скажу лишь, что я освоил арифметику, научился вести счетные книги, а также вычислять относительную стоимость различных ценностей, выступавших у нас в разных краях в той роли, которую у вас, испанцев, исполняют золотые и серебряные монеты. Впоследствии эти познания мне весьма пригодились. Кроме того, я узнал много нового о наших землях, хотя (в этом мне потом довелось убедиться на личном опыте) о землях, лежавших за пределами нашей долины, даже самым сведущим людям было известно очень мало.
Наибольшее удовольствие мне доставляли уроки письма и чтения, в которых я неустанно и успешно совершенствовался; самыми же полезными, пожалуй, являлись уроки истории, хотя услышанное на них не только входило в противоречие со многим из усвоенного мною дома, но и уязвляло самолюбие уроженца Мешико. Господин наставник Нелтитика щедро делился с учениками своими познаниями и нередко тратил на общение с наиболее любознательными из нас свое личное время. Помню, как-то раз, беседуя со мной и с другим мальчиком, по имени Пойек, сыном одного из знатных мужей Тескоко, он сказал:
– В истории Мешико, как ни печально, есть пробел, подобный широкому провалу, который может образоваться в земле после землетрясения.
Рассуждая, он одновременно готовил себе покуитль – тонкую трубку, искусно вырезанную то ли из кости, то ли из жадеита, с мундштуком на одном конце. В другой, открытый конец вставлялись сухая камышинка или скатанный лист, набитый измельченными сухими листьями растения пикфетль, иногда, дабы придать большее благоухание, смешивавшегося с пряностями и ароматическими травами. Владелец такой трубки, держа ее между пальцами, подносит вставленную с дальнего конца камышинку к огню, после чего измельченный лист начинает тлеть, обращаясь в пепел и выделяя благоуханный дым, который человек втягивает в себя через мундштук, а потом выдыхает – через рот или через ноздри.
Наконец Нелтитика разжег свою трубку угольком из жаровни и продолжил:
– Всего лишь вязанку лет тому назад тогдашний Чтимый Глашатай Мешико Ицкоатль, Обсидиановый Змей, создал Союз Трех, объединившись с Тескоко и Тлакопаном. Главенствующая роль в этом союзе, разумеется, принадлежит Теночтитлану. Обеспечив таким образом себе и своему народу высокое положение, Обсидиановый Змей повелел сжечь все подлинные хроники былых дней и написать новые, всячески возвеличивавшие его соплеменников. Вот так Мешико и получил выдуманную историю, ложную славу и фальшивую древность.
– Книги... сожгли... – ошеломленно пробормотал я, глядя на поднимавшийся над покуитль голубоватый дымок. Трудно было поверить в то, чтобы даже юй-тлатоани решился уничтожить нечто столь драгоценное, незаменимое и невозместимое, как книги.
– Обсидиановый Змей совершил это, желая внушить своим подданным, что именно они были и остаются истинными носителями науки и культуры, а стало быть, не только имеют право, но и обязаны распространять «свои» достижения среди отсталых народов, – продолжил наставник. – Но даже могущественный повелитель Мешико не мог заставить людей забыть, что древние, высокоразвитые цивилизации существовали в здешнем краю задолго до прихода мешикатль. Поэтому пришлось придумывать всяческие легенды.
Мы с Пойеком задумались об услышанном, и мой товарищ высказал предположение:
– Ты имеешь в виду что-то вроде Теотиуакана, места Сбора Богов?
– Хороший пример, юный Пойекцин. Ныне этот город заброшен, разрушен и представляет собой лишь груду заросших сорняками развалин, но даже по этим руинам видно, что некогда он и размерами, и великолепием намного превосходил Теночтитлан, тот, какой он есть сейчас, и тот, каким может когда-либо стать.
– Но, господин учитель, – подал голос я, – нам объясняли, что этот великий город был воздвигнут богами. Там они держали совет относительно сотворения земли, человека и всего живого...
– Конечно, учили, как же иначе. Вам внушали, что все великое, что есть в мире, является либо делом рук мешикатль, либо самих богов, но никак не иных смертных.
Он фыркнул и выпустил из ноздрей струйку дыма.
– Но хотя Обсидиановый Змей и переписал историю края заново, он не мог сжечь библиотеки Тескоко и других городов. Мы по-прежнему храним подлинные хроники, повествующие о том, какова была эта долина до прихода ацтеков. Переиначить на свой лад всю историю Сего Мира не под силу даже такому вождю, как Обсидиановый Змей.
– А как далеко в прошлое углубляются эти подлинные, неискаженные хроники? – поинтересовался я.
– Не в такую уж глубокую древность. Мы вовсе не пытаемся возводить наши предания к самой Высшей Божественной Чете. Вы ведь знаете эту легенду насчет первых обитателей земли, после которых явились остальные боги, а за ними – племя гигантов...
Нелтитика сделал еще несколько затяжек, курение помогало ему думать.
– Должен сказать, однако, что в рассказах о гигантах, возможно, и содержится некое зерно истины. Обросшее, разумеется, сказками, но тем не менее... Я сам видел старую, отмеченную разрушительными следами времени кость, откопанную крестьянами и до сих пор хранящуюся в Тескоко. Наши лекари, знатоки человеческого тела, утверждают, что это бедренная кость. Только вот в длину она с меня ростом.
– Не хотел бы я повстречаться с обладателем такого бедра, – промолвил маленький Пойек с натянутым смешком.
– Так или иначе, – сказал наставник, – богами и гигантами у нас занимаются жрецы. Меня же интересует история простых людей вроде нас с вами и в первую очередь история людей, населявших в прошлом нашу долину и воздвигнувших древние города наподобие Теотиуакана или Толлана. Ведь все, что мы знаем и умеем, унаследовано нами от них.
Он затянулся в последний раз и освободил свой покуитль от обгоревшего окурка.
– Возможно, мы уже никогда не узнаем, как, когда и почему они исчезли, хотя обгоревшие балки разрушенных строений и наводят на мысль, что их изгнали захватчики. Вероятно, дикие чичимеки, так называемый народ Пса. Из немногих сохранившихся настенных надписей, рельефных или живописных, мы можем прочесть лишь малую долю и даже не в состоянии выяснить подлинное имя ушедшего народа. Но все, что от него осталось, отмечено таким умением и искусством, что мы с почтением называем их тольтеками, народом Мастеров, учимся у них и уже не одну вязанку лет пытаемся достичь их мастерства.
– Но, господин, – промолвил Пойек, – если эти тольтеки давно исчезли, то как мы можем чему-то у них учиться?
– Дело в том, что, когда что-то или кто-то погубил их города, некоторые, очень немногие из тольтеков, сумели укрыться высоко в горах или в лесных чащах. Они совершили настоящий подвиг, стараясь сохранить часть своих бесценных знаний и передать их соседям, с которыми роднились. Увы, в ту пору рядом с ними обитали лишь примитивные народы: вялые, нелюбознательные отоми, безнравственные пуремпече и, конечно, вездесущий народ Пса.
– Аййа, – сказал юный Пойек. – Отоми так и не научились даже искусству письма. А чичимеки и по сей день едят собственные экскременты.
– Но даже среди варваров попадаются выдающиеся люди, – заметил Нелтитика. – Мы должны признать, что тольтеки не роднились с кем попало. Их дети и внуки поступали так же, благодаря чему сохранилось несколько блистательных древних родов. Должно быть, существовал незыблемый, священный семейный уговор: передавать от отца к сыну то, что он помнил о древнем знании тольтеков. Тем временем с севера в эту долину стали приходить новые народы, тоже примитивные, но способные воспринять, оценить и использовать эти знания. Желающие раздуть тлеющий огонек и вновь разжечь яркое пламя.
Господин наставник умолк, чтобы вставить в свою трубку новый скрученный лист. Многие люди курили покуитль потому, что, по их мнению, вдыхание дыма способствовало сосредоточенности и ясности мысли. Я и сам, когда стал постарше, пристрастился к этому и находил трубку большим подспорьем в минуты размышления. Но Нелтитика курил гораздо больше, чем кто-либо из тех, кого я встречал, и эта привычка, возможно, и объясняла его исключительную мудрость и долгую жизнь.
– Первыми с севера явились калхуа, – продолжил он. – За ними пришли аколхуа, да и твои, юный Пойекцин, предки. Прочие поселенцы – текпанеки, шочимильки и так далее – появились у озера позднее. Тогда, как и сейчас, они называли себя разными именами, и только боги знают, где находилась их родина, но все эти скитальцы прибыли сюда, говоря на том или ином диалекте языка науатлъ. И здесь, в бассейне этого озера, встретившись с потомками исчезнувших тольтеков, они начали перенимать остатки их древних искусств и ремесел.
– Все это не могло совершиться не только за один день, но даже за вязанку лет, – заметил я.
– Да, – согласился Нелтитика. – Никто не ведает счета вязанкам лет, которые на это потребовались. Однако хотя учиться приходилось лишь по обрывочным сведениям, хотя люди совершали множество ошибок, пытаясь создать нечто близкое к чудом сохранившимся древним образцам, но чем больше народу приобщалось к учению, тем успешнее шло дело. К счастью, все эти племена, калхуа, аколхуа, текпанеки и прочие, говорили на одном языке, что позволяло им обмениваться достижениями. Одновременно они, осваиваясь, вытесняли отсюда старожилов, оказавшихся малочисленнее и слабее. Пуремпече двинулись на запад, отоми и чичимеки отступили на север, а долина осталась за народами, говорящими на науатлъ. Они быстро умножались в числе и совершенствовались в знаниях, однако по мере приобщения к цивилизации сотрудничество между ними стало сменяться соперничеством, борьбой за первенство. И как раз в разгар этой борьбы сюда и явились дикие ацтеки.
Господин наставник перевел на меня взгляд.
– И вот эти ацтеки, или же мешикатль, встретились здесь с народами куда более развитыми, чем они сами, однако раздоры между жителями долины позволили пришельцам осесть и обжиться. Через некоторое время вождь калхуа Кошкок соблаговолил принять невежд под свою защиту и назначить одного из своих вельмож, Акамапичтли, их Чтимым Глашатаем. Акамапичтли познакомил своих подданных с искусством письма, а потом и с другими знаниями, спасенными потомками тольтеков и возрожденными благодаря совместным трудам жителей долины. Ацтеки жадно впитывали знания, но употребили их не на общую пользу. Используя раздоры между племенами, вступая в союзы то с одними народами, то с другими, они добились того, что все соседи ослабли во взаимных распрях, они же оказались самыми сильными в военном отношении.
Маленький Пойек воззрился на меня с возмущением, словно я был лично виновен в агрессивности своих предков. Нелтитика же, с отстраненной бесстрастностью истинного историка, продолжал:
– С тех пор мешикатль преуспевали и процветали во всем, превзойдя влиянием и богатством соседние народы, некогда смотревшие на них свысока. Теночтитлан, их столица, стал самым богатым, самым великолепным городом со времен тольтеков. Хотя Сей Мир населяет множество народов, говорящих на множестве языков, но проникавшие повсюду воины, торговцы и исследователи из Мешико сделали науатлъ вторым языком каждого племени, от северных пустынь до южных джунглей. – Должно быть, господин наставник заметил на моем лице легкую самодовольную улыбку, ибо заключил: – Полагаю, этих достижений вполне достаточно для законной гордости, однако мешикатль, не удовлетворяясь истиной, занялись самовозвеличиванием вопреки истории. Они переписали свои исторические книги, стараясь убедить себя и остальных в том, что являются древнейшим народом, творцом всего, что заслуживает восхищения. Разумеется, можно заниматься самообманом и даже вводить в заблуждение будущих историков, однако на самом деле мешикатль – всего-навсего обыкновенные узурпаторы, а не подлинные наследники былого величия. И уж тем более не возрожденные тольтеки.
Госпожа Толлана пригласила меня к себе отведать шоколада, и я отправился в гости охотно, ибо на языке у меня давно вертелся не дававший мне покоя вопрос. Правда, в ее покоях присутствовал также и наследный принц, так что, пока они обсуждали с ним какие-то непонятные мне вопросы дворцовой жизни, я помалкивал. Однако едва в их беседе наступило затишье, отважился спросить:
– Вы родились в Толлане, моя госпожа, а ведь это бывший город тольтеков. Значит ли это, что вы тоже принадлежите к этому народу?
И сама госпожа, и Черный Цветок удивились, потом она улыбнулась.
– Знай, Кивун, что любой уроженец Толлана был бы горд, имей он возможность заявить, будто в его жилах течет хоть капля крови тольтеков, но я, увы, о себе этого сказать не могу. Толлан с незапамятных времен является городом текпанеков, и я происхожу именно из этого племени, хотя подозреваю, что в прошлом в нашей семье пару раз попадались отоми.
– Выходит, – разочарованно промолвил я, – в Толлане не осталось и следа тольтека?
– Что до людей, то мало кто может проследить свое происхождение так далеко, но вот развалины, пирамиды, каменные террасы и обнесенные стенами дворы еще сохранились. И пусть пирамиды пусты, террасы прогнулись и потрескались, а стены местами обвалились, но изысканный узор древней каменной кладки различим до сих пор. Кое-где сохранились рельефы и даже рисунки. Но особенно много осталось статуй, они-то и производят самое сильное впечатление.
– Статуи богов? – спросил я.
– Вряд ли, ибо все они одного роста, с одинаковыми лицами. Статуи эти строги, просты и правдоподобны, без излишеств и показных красот, присущих современным произведениям. Похоже, что когда-то они были колоннами, поддерживавшими некую массивную крышу. Только вот высечены эти колонны в виде настоящих людей, если, конечно, можно представить себе людей ростом в три раза выше нас.
– А может быть, это изображения гигантов, населявших землю после богов? – предположил я, вспомнив огромную бедренную кость, о которой поведал Нелтитика.
– Нет, я думаю, это изображения самих тольтеков, только гораздо больше их истинного роста. Лица изваяний не суровы и не жестоки, чего можно ожидать от богов или гигантов, они невозмутимы, но бдительны. Многие колонны повалены на землю, но иные еще стоят, и лики древних взирают с них со спокойным, терпеливым ожиданием.
– А чего они ждут, моя госпожа?
– Может быть, возвращения тольтеков, – ответил за нее Черный Цветок и, издав хриплый смешок, добавил: – Ждут, когда те, проведя невесть сколько вязанок лет, притаившись в небытии, вновь объявятся во всем своем величии и обрушат свой гнев на нас, дерзких похитителей их славы и их владений.
– Нет, сын мой, – возразила госпожа Толлана, – тольтеки никогда не были воинственным народом и не стремились к господству. Даже случись чудо и появись они снова, тольтеки наверняка пришли бы с миром.
Она отпила шоколаду, поморщилась и, взяв со своего столика искусно вырезанный из древесины ароматного кедра венчик, состоявший из нанизанных на центральный стержень позвякивающих колец, опустила его в свою чашку. Потерев этот венчик между ладонями, хозяйка взбила красноватый напиток до образования густой шапки пены. Сделав еще глоток, госпожа слизнула пенку с верхней губы и сказала:
– Сходи как-нибудь в город Теотиуакан, Кивун, и полюбуйся там остатками настенных росписей. Там много изображений тольтеков, но воин изображен лишь единожды. Да и тот снаряжен не для войны, а для какой-то церемонии. У его копья вместо острого наконечника – пучок перьев, а кончики стрел покрыты смолой оли, как у мальчиков, обучающихся стрельбе из лука.
– Да, моя госпожа. Я сам стрелял таким стрелами, когда учился военному делу.
– А другие настенные изображения позволяют предположить, что тольтеки никогда не совершали человеческих жертвоприношений, а одаряли своих богов лишь цветами, бабочками, перепелами и тому подобным. Народ Мастеров был миролюбив и потому, что поклонялся добрым богам. Одним из них был Кецалькоатль, до сих пор почитаемый многими племенами, и именно то, каким видели тольтеки Пернатого Змея, позволяет нам больше узнать о них самих. Кто, как не мудрый и доброжелательный народ, мог оставить нам в наследство бога, столь гармонично сочетающего в себе могущество и любовь? Самого грозного и в то же время самого милостивого из всех существ, змея, облачением которого служит не твердая чешуя, а нежное, красивое оперение птицы кецаль.
– Но мне рассказывали, что Пернатый Змей некогда жил в здешних землях и когда-нибудь вернется снова.
– Да, Кивун, судя по тому немногому, что нам удалось понять из сохранившихся надписей, Кецалькоатль действительно когда-то здесь жил. Давным-давно он был у тольтеков юй-тлатоани, если только они не именовали своих правителей иначе. Говорят, он был очень добр и исполнен высочайшей мудрости. Именно ему приписывают создание календарей, звездных карт и цифр, которыми пользуются и в наше время. Говорят даже, что он оставил рецепты многих современных блюд, хотя мне трудно представить себе Кецалькоатля на кухне, занимающимся стряпней. – Она улыбнулась, покачала головой, но потом снова заговорила серьезно: – Говорят, будто в годы его правления хлопок на полях рос не только белый, но и самых разных цветов, словно его уже окрасили, а початки маиса созревали такие, что больше одного человеку было не поднять. О пустынях в его правление и не слышали, фрукты и плоды в изобилии росли повсюду, и воздух благоухал их смешанными ароматами...
– Моя госпожа, – спросил я, – а возможно ли, чтобы он и вправду вернулся?
– Ну, если верить легендам, Кецалькоатль, случайно или намеренно, совершил тяжкий грех, после чего посчитал себя недостойным и отрекся от престола. Он отправился к берегу Восточного океана, соорудил плот (по одним рассказам – сплел его из перьев, а по другим – свил из живых змей), обратился к опечаленным тольтекам с прощальной речью, пообещав, что еще вернется, отчалил от берега и исчез за горизонтом. С тех пор Пернатого Змея чтут как бога все известные нам народы. Уже минули многие вязанки лет, сами тольтеки тоже исчезли, но Кецалькоатлю еще предстоит вернуться.
– Не исключено, что он уже вернулся, – предположил я. – Жрецы говорят, что боги часто появляются среди нас в человеческом обличье и остаются неузнанными.
– Прямо как наш господин, мой отец, – рассмеялся Черный Цветок. – Но, сдается мне, Пернатого Змея было бы трудно проглядеть. При появлении такого бога наверняка поднялся бы шум. Будь уверен, Кивун, если Кецалькоатль вообще вернется, хоть со своей свитой из тольтеков, хоть один, мы непременно о нем услышим.
Я покинул Шалтокан ближе к концу сезона дождей в год Пятого Ножа и, если не считать тоски по Тцитцитлини, был настолько поглощен учебой и прелестями дворцовой жизни, что почти не замечал, как летит время. Поэтому я удивился, когда однажды мой товарищ по учебе принц Ива сказал, что завтра наступает первый день немонтемин, пяти «скрытых дней». Мне пришлось посчитать на пальцах, чтобы убедиться в том, что я нахожусь вдали от дома уже почти целый год, и год этот подходит к концу.
– На эти пять «скрытых дней» вся жизнь замирает, – промолвил принц. – Никто не учится и не работает, и в нынешнем году мы воспользуемся ими, чтобы двор смог перебраться во дворец в город Тескоко и подготовиться к празднованию месяца Куауитль Ихуа.
Это был первый месяц нашего солнечного календаря, название его означало «Древо Возрастает». На первый месяц года по традиции приходилось множество пышных церемоний, суть которых сводилась к обращению к богу дождя Тлалоку: весь народ молился о ниспослании нам обильных дождей.
– Думаю, тебе захочется побывать дома, – продолжил Ива, – поэтому я предлагаю тебе воспользоваться моим личным акали. По окончании праздников я снова пришлю лодку на Шалтокан, и ты вернешься ко двору в Тескоко.
Это предложение оказалось для меня неожиданным, но я принял его с глубокой благодарностью за проявленную принцем заботу.
– И вот еще что, – сказал он. – Ты не мог бы отправиться в путь прямо завтра утром? Понимаешь, Кивун, моим гребцам хотелось бы вернуться на свой берег до начала «скрытых дней».
Ах, сеньор епископ! Я весьма польщен благосклонным решением вашего преосвященства снова присоединиться к нашему маленькому обществу. И снова, мой господин, ваш недостойный и смиренный слуга осмеливается покорнейше приветствовать ваше прибытие... Да, я понимаю, ваше преосвященство. Вы говорите, что до сих пор я недостаточно рассказывал о религиозных обрядах моего народа. Вы желаете узнать побольше о нашем суеверном страхе перед «скрытыми днями» и выслушать из первых уст рассказ о ритуале вымаливания дождя, который длился целый месяц. Ну что ж, я сделаю все, чтобы угодить вашему преосвященству, и постараюсь рассказать обо всем, что вас интересует. Если моя старческая память уведет меня в сторону от того, что имеет значение, или мой старый язык будет слишком поверхностно описывать то, что относится к делу, то пусть ваше преосвященство, ничуть не стесняясь, прерывает меня в любом месте, задает вопросы или требует разъяснений.
Так вот, до окончания года Шестого Дома оставалось шесть Дней, когда резной, украшенный флагами и балдахином акали принца Ивы доставил меня в Шалтокан. Это роскошное судно с шестью гребцами причалило почти одновременно с простеньким двухвесельным каноэ владыки Красной Цапли, на котором прибыл из школы домой его сын. Да что там каноэ, я даже одет был лучше, чем этот отпрыск провинциального вождя, так что Пактли на пристани невольно отвесил мне почтительный поклон, а когда узнал меня, от удивления потерял дар речи.
Дома меня встретили как героя, вернувшегося домой с войны. Отец без устали хлопал меня по плечу, кстати, я уже почти догнал его и по росту, и по ширине плеч. Тцитцитлини бросилась мне на шею, и при этом ноготки ее мягко, но призывно вонзились в мою спину, однако со стороны это выглядело обычными сестринскими объятиями. Даже на матушку я произвел благоприятное впечатление, главным образом благодаря наряду. Я намеренно предстал перед сородичами в лучшем своем одеянии – великолепно расшитой накидке с гелиотропной застежкой на плече и вызолоченных сандалиях, на которых ремешки переплетались чуть ли не до колен.
Среди друзей, родственников и соседей, валом валивших, чтобы на меня поглазеть, я с радостью заметил Чимальи и Тлатли. Они приехали из Теночтитлана домой с оказией, на грузовом судне. Родительский дом, с его тремя комнатами и двориком, казался слишком тесным, ибо в нем было не протолкнуться от гостей. Не подумайте, что все так уж по мне соскучились. Тут дело было скорее в любопытстве, а также в том, что в полночь наступали «скрытые дни», на время которых все визиты прекращались.
За исключением моего отца и нескольких товарищей, работавших в карьере, лишь немногие из гостей выбирались за пределы нашего острова, и всем, конечно, хотелось послушать, что делается в большом мире. Однако вопросов гости почти не задавали, довольствуясь тем, что мы – я, Чимальи и Тлатли – рассказывали, каждый по-своему, об учебе и школах.
– Ох уж эти школы, – хмыкнул Тлатли. – На настоящее учение и времени-то почти не остается. Эти противные жрецы поднимают нас до рассвета, заставляя подметать не только наши спальни, но и все здание, после чего мы отправляемся на озеро – ухаживать за школьными чинампа да собирать маис и бобы для школьной кухни. Или же тащимся по дамбе на материк – рубить деревья для священных костров да резать и собирать в мешки колючки мангуйи.
– Насчет еды и растопки мне все понятно, – сказал я, – но зачем нужны колючки?
– Чтобы наказывать провинившихся, приятель Крот, – буркнул Чимальи. – За самую мелкую провинность жрец заставляет ученика наносить себе уколы. В ушные раковины, в пальцы, в ладони... даже в промежность.
– Но достается и тем, кто ведет себя безупречно, – подхватил Тлатли. – Там, в столице, чуть ли не через день праздник в честь какого-нибудь бога, о большинстве из которых я прежде даже не слыхал. И всем мальчикам приходится приносить в дар этим богам свою кровь, хотя бы по капле.
– А когда же вы учитесь? – спросил кто-то из слушателей.
Чимальи скорчил гримасу.
– В оставшееся время, да только что это за учеба? Учителями у нас жрецы, а они в науках не сведущи и знают в лучшем случае только то, что написано в книгах. Да вдобавок и книги в школе все старые, разваливаются прямо в руках.
– Правда, нам с Чимальи еще повезло, – вставил Тлатли. – Нас ведь не в писцы готовят, так что без пособий вполне можно обойтись. Большую часть учебного времени мы проводим в мастерских своих наставников по искусству, которые не тратят зря времени на всевозможную чушь вроде обрядов да ритуалов. Они заставляют нас всерьез заниматься делом, так что мы в конечном счете учимся-таки тому, что нас послали изучать.
– Некоторые другие мальчики тоже, – подхватил Чимальи. – Те, кого направили в ученики и подмастерья к лекарям, резчикам, музыкантам и прочим мастерам ремесел. Но мне по-настоящему жаль тех, кому положено учиться в классах, изучать чтение, письмо и тому подобное. Когда эти бедняги не заняты работами по школе, исполнением церемоний или умерщвлением плоти, их учат жрецы столь же невежественные, как и они сами. Ты можешь радоваться, Крот, что не попал в калмекактин. Там мало чему можно научиться, если только сам не желаешь стать жрецом.
– А кому захочется стать жрецом какого бы то ни было бога? – пробормотал, передернувшись, Тлатли. – Ведь это означает отказ не только от соитий или пития октли, но даже от умывания. Разве что ненормальному, которому нравится страдать самому и видеть, как страдают другие.
Надо же, а ведь не так давно, когда Тлатли и Чимальи, надев свои лучшие накидки, отправлялись на учебу, я завидовал им. А вот теперь наоборот, мои товарищи, в тех же самых накидках приехавшие на праздники домой, искренне завидовали мне. Чтобы произвести на них впечатление, не было нужды рассказывать о роскошной жизни при дворе Несауальпилли, достаточно было просто сообщить, что наши учебники для прочности рисуют на обработанной дымом оленьей коже. Ну а уж то, что нас практически не отвлекают на участие в церемониях, не заставляют заниматься посторонней работой и не отягощают правилами, а наши наставники, все как один, знатоки своего дела и рады заниматься с любознательными учениками даже в неурочное время, повергло моих друзей в изумление.
– Подумать только! – пробормотал Тлатли. – Учителя хорошо разбираются в той области знаний, которую преподают!
– Учебники из оленьей кожи! – с завистью вздохнул Чимальи.
Неожиданно гости, столпившиеся у двери, стали отодвигаться в стороны, давая дорогу ученику еще одного, лучшего в столице и предназначенного для избранных калмекактин. При появлении сына правителя многие попытались исполнить обряд целования земли, но не всем хватило для этого места.
– Микспанцинко, – нерешительно сказал гостю мой отец.
Не обращая на хозяина ни малейшего внимания и даже не потрудившись его поприветствовать, Пактли протиснулся ко мне и заявил:
– Я пришел, чтобы попросить тебя о помощи, юный Крот. – Он вручил мне лист сложенной гармошкой писчей бумаги и, постаравшись придать голосу дружелюбие, пояснил: – Я так понимаю, что ты у нас обучаешься в основном словесности – искусству письма и чтения, – а потому мне хотелось бы, прежде чем я вернусь в школу и представлю эту работу на суд моего наставника, узнать о ней твое мнение.
Правда, пока господин Весельчак произносил эту фразу, взгляд его переместился на мою сестренку, и я подумал, что ему, наверное, не слишком-то приятно использовать такой предлог для посещения нашего дома. Но другого предлога он придумать не успел, тем паче что после наступления полуночи, как я уже говорил, все визиты прекращались. Хотя было понятно, что Пактли ничуть не интересует мое мнение о его писанине (он без зазрения совести таращился на Тцитци), я все же пролистал сложенные страницы, а потом усталым голосом спросил:
– А в каком направлении все это следует читать?
Несколько человек, напуганные моим тоном, воззрились на меня в ужасе. А Пактли с таким негодованием, будто получил от меня оплеуху, буркнул:
– Можно подумать, Крот, что ты этого не знаешь! Как всегда, слева направо.
– Слева направо знаки читают обычно, но не всегда, – пояснил я. – Первое и основное правило письма, которое ты, очевидно, не усвоил, состоит в следующем: большинство изображений должны быть обращены в ту сторону, в каком направлении следует читать написанное.
Должно быть, куражу мне придало то, что двор, при котором я провел почти целый год, несравненно превосходил великолепием двор отца Пактли. Я очень уверенно чувствовал себя в щегольском одеянии и был польщен тем, что оказался в центре внимания родных и близких, иначе ни за что не осмелился бы выйти за рамки традиции, предписывающей выказывать по отношению к знати подобострастное почтение. Так или иначе, не утруждая себя дальнейшим чтением, я сложил рукопись и вернул ее Пактли.
Замечали ли вы, ваше преосвященство, что разные люди, испытывая одинаковые чувства (например, гнев), меняются в лице по-разному? Услышав ответ, Пактли побагровел, а лицо моей матери побледнело. Тцитци от удивления непроизвольно поднесла руку к губам, но тут же рассмеялась. Следом за ней рассмеялись Тлатли и Чимальи. Господин Весельчак перевел испепеляющий взгляд с меня на них, потом обвел им всех собравшихся (большинству гостей, похоже, очень хотелось сделаться невидимками) и, потеряв от ярости дар речи, скомкал свою писанину и вышел, грубо отпихивая плечом всякого, кто не успевал посторониться и дать ему пройти.
Большинство гостей, словно желая отмежеваться от моей непочтительности, поспешили уйти следом за Пактли. Все вдруг заговорили о том, что живут неблизко, а ведь еще нужно поспеть домой до наступления темноты и удостовериться, что в очагах не осталось ни одного непотушенного уголька. Пока этот массовый исход продолжался, Чимальи и Тлатли поддерживали меня улыбками, Тцитци пожала мне руку, отец выглядел растерянным, а матушка – совершенно ошеломленной. Правда, ушли не все гости. Некоторых из наших знакомых подобная дерзость, да еще проявленная мною перед самым наступлением несчастливых дней, нисколько не обескуражила.
В эти грядущие пять дней делать что-либо считалось опрометчивым, однозначно бесполезным, а возможно, и опасным. Считалось, что это вроде как не настоящие дни, а некая пустота между Ксуитекуитль, последним месяцем уходящего года, и Куауитль Ихуа, первым месяцем наступающего. Предполагалось, что в эти отсутствующие в календаре и как бы несуществующие дни боги погружаются в ленивую дрему, отчего даже солнце на небе становится прохладнее и бледнее. Естественно, что люди старались ничего не делать, дабы не потревожить дремлющих в истоме богов и не навлечь на себя их гнев.
Таким образом, на протяжении этих пяти «скрытых дней» жизнь замирала. Всякая работа останавливалась, все виды деятельности, кроме жизненно необходимых, прекращались. Домашние очаги были потушены, так что пищу не готовили и питались всухомятку. Люди не пускались в дорогу, не ходили в гости, не собирались группами. Мужья и жены воздерживались от плотской близости. Кстати, подобное воздержание или меры предосторожности практиковались также и за девять месяцев до немонтемин, ибо считалось, что дети, рожденные в «скрытые дни», их не переживут. По всем окрестным землям люди сидели дома и бездельничали, в крайнем случае занимались рутинными домашними делами вроде заточки инструментов или починки сетей. Скучное это было время.
Поскольку затевать что-либо в «скрытые дни» считалось дурным предзнаменованием, неудивительно, что и оставшаяся в нашем доме в тот вечер компания завела разговор о знаках и знамениях. Чимальи, Тлатли и я, сидя в сторонке, продолжали сравнивать наши школы, когда до меня донеслись обрывки разговоров старших.
– Как раз в «скрытые дни», скоро тому уж год будет, Ксопан переступила через свою маленькую дочурку, которая ползала на кухне у матери под ногами. И, понятное дело, она испортила ребенку тонали. Прошел год, а бедная девочка не подросла ни на палец. Вот увидите, так карлицей и останется.
– Я раньше смеялся над всякими историями о вещих снах, но теперь точно знаю, что это правда. Однажды ночью мне приснилось, будто разбился кувшин с водой, а на следующий день погиб мой брат Ксикама. Его задавило в карьере, помните?
– Порой бывает, что страшные последствия наступают не сразу, и можно даже забыть, что накликало беду. Вот, помню, давно это было, уж не один год минул, приметил я, что Теоксиуитль метет сор прямо под ноги нашему сынишке, который играл на полу. Я ей сказал: быть беде! И что вы думаете, прошло время, малец подрос и взял в жены женщину, вдвое старше его годами! Ровесницу самой Теоксиуитль. Стал посмешищем всей деревни!
– А вот ко мне как-то прицепилась бабочка, кружит и кружит вокруг головы. И что вы думаете: месяца не прошло, как получаю известие: Куепоини, моя единственная любимая сестра, в тот самый день умерла в своем доме в Тлакопане. Вот и не верь после этого в знамения!
Я невольно отметил про себя два момента. Во-первых, на Шалтокане все говорили на грубом диалекте, после изысканного науатлъ Тескоко резавшем мне слух. Во-вторых, все как один рассказывали только о дурных знаках: никто не вспомнил случая, когда сбылось бы доброе предзнаменование. Но от этих мыслей меня отвлек Тлатли, начавший рассказывать, что ему удалось узнать от своего наставника-ваятеля.
– Люди – единственные существа, у которых есть нос. Нет, не смейся, Крот. Из всех живых существ, изображения которых вырезает или высекает скульптор, только у мужчин и женщин есть носы, которые представляют собой не просто пару отверстий на морде, как у животных, но особую, выступающую часть лица. А поскольку, как известно, наши статуи всегда богато украшаются орнаментами и прочим, так что создаваемые ими образы во многом условны, наставник научил меня, изображая людей, всегда делать лица с преувеличенно большими носами. Таким образом, глядя на самую сложную статую, всякий, даже совершенно не сведущий в искусстве человек может с первого взгляда определить, что она представляет человека, а не ягуара, змею или, к примеру, богиню воды Чальчиутликуэ с лицом лягушки.
Я кивнул, и эта мысль отложилась в моей памяти. Более того, я применил ее в рисуночном письме, а впоследствии эту манеру – изображать мужчин и женщин с сильно выступающими носами – переняли у меня и многие другие писцы. Если даже нашему народу суждено исчезнуть с лица земли, как исчезли тольтеки, я надеюсь, что, по крайней мере, наши книги уцелеют. Наверное, у будущих читателей может сложиться ошибочное представление, будто все жители здешних земель имели длинные крючковатые носы, как у майя, но, по крайней мере, они смогут без труда отличить людей от зверей или богов в облике животных.
– Спасибо тебе, Крот. Я придумал уникальную подпись для моих рисунков, – сказал Чимальи со смущенной улыбкой. – Другие художники подписывают свои работы символами своего имени, но я использую вот это.
И он показал мне пластинку размером с подошву сандалии, со вкраплениями по всей поверхности несчетного количества крохотных кусочков острого обсидиана. Признаться, я порядком испугался, когда Чимальи вдруг сильно хлопнул левой ладонью по этой дощечке, а потом, все еще ухмыляясь, раскрыл ее и продемонстрировал струящуюся кровь.
– Художников по имени Чимальи может быть на свете сколько угодно, но именно ты, Крот, объяснил мне, что нет двух одинаковых рук. – Теперь ладонь друга была полностью покрыта его собственной кровью. – Таким образом, у меня есть подпись, которую никто никогда не сможет подделать.
Он хлопнул по стоявшему поблизости здоровенному жбану для воды, и на тускло-коричневой глиняной поверхности заблестел красный отпечаток его ладони. Путешествуя по здешним краям, ваше преосвященство, вы увидите эту подпись на многих настенных росписях и рисунках во дворцах и храмах. Чимальи, прежде чем перестал работать, создал невероятное количество произведений...
Они с Тлатли в тот вечер покинули наш дом последними. Друзья оставались у нас до тех пор, пока бой барабанов и завывание раковины-трубы не возвестили о начале немонтемин. Мать заметалась по дому, гася светильники, а друзья заторопились, чтобы добраться до своих жилищ прежде, чем эти сигналы смолкнут. Надо сказать, что задержаться в такой вечер в гостях могли только отважные люди, ибо, какой бы дурной славой ни пользовались «скрытые дни», слава «скрытых ночей» была и того хуже. Кстати, то, что друзья остались, спасло меня от выволочки. В их присутствии матушка не стала нападать на меня за непочтительность по отношению к господину Весельчаку, а подвергать сына наказанию во время немонтемин ни она, ни отец не могли. Ну а потом о происшествии и вовсе позабыли.
Однако для меня те дни оказались если и «скрытыми», то по-особенному. В один из них Тцитци отвела меня в сторонку и тихонько, но решительно прошептала:
– Братец, мне что, нужно пойти и стянуть еще один священный гриб?
– Безбожница, – шепнул в ответ я. – В такие дни даже мужьям и женам запрещается восходить на супружеское ложе.
– Только мужьям и женам. Нам с тобой это запрещено всегда, поэтому мы особенно ничем не рискуем.
И прежде чем я успел сказать что-нибудь еще, сестренка подошла к здоровенному, по пояс ей высотой, глиняному кувшину, тому самому, на котором теперь остался кроваво-красный отпечаток руки Чимальи, и налегла на него всем телом. Сосуд упал и разбился, а вода, которую матушка заготовила впрок, разлилась по известковому полу. Мать, ворвавшись в комнату, разразилась в адрес Тцитцитлини визгливой бранью:
– Ах ты растяпа!.. Да чтобы наполнить кувшин, потребовался целый день... Думала, запаслись водой до конца немонтемин... а теперь – ни капли не осталось! И ведь другого сосуда, такого же большого, у нас нет!
– Ничего страшного, – невозмутимо откликнулась сестра. – Мы с Микстли можем взять каждый по два самых больших сосуда из оставшихся и вдвоем за один раз принесем столько же воды, сколько и было.
Матери это предложение не понравилось, и бранилась она еще довольно долго, однако, кричи не кричи, а другого выхода не было. В результате она отпустила нас, и мы, прихватив по самому большому кувшину, выскользнули из дома. Стоит ли говорить, что очень скоро кувшины оказались отставленными в сторону?
В последний раз я описывал вам Тцитци такой, какой она была в ранней юности, но за время моего отсутствия сестренка повзрослела и расцвела. Ее бедра и ягодицы приобрели женственную округлость, а каждая из упругих грудей теперь заполняла мою сложенную чашечкой ладонь. Соски, когда она возбуждалась, набухали еще сильнее, кружки вокруг них сделались больше и сильнее выделялись на нежной коже, а сама Тцитци стала еще более возбудимой, страстной и необузданной в ласках.
За не столь уж долгое время, которое мы могли уделить друг другу по дороге к источнику, она самое меньшее трижды достигла наивысшего возбуждения. Ее возросшая страстность в сочетании с более зрелым телом навели меня на некоторые догадки, а последующий опыт общения с женщинами убедил в том, что они оказались правильными. Вот что я понял. Если хотите узнать, какова женщина в постели, достаточно взглянуть на кружки вокруг ее сосков. Чем они больше и темнее, тем более возбудима и страстна их обладательница. Красота и особенности фигуры при этом не имеют значения, точно так же как и манера поведения. Изображая распутницу или, наоборот, нарочито сдержанную женщину, она может намеренно или неумышленно вводить мужчину в заблуждение, но знающий человек всегда определит степень ее приверженности плотским утехам по надежным признакам, которых никакое искусство, никакие мази и притирания не могут ни скрыть, ни подделать. Женщина с большими темными кругами вокруг сосков всегда привержена плотским радостям, даже если будет прикидываться холодной, а женщина с соском, походящим на мужской, неизменно останется холодна, сколько бы она ни изображала буйный темперамент. Разумеется, я высказался лишь в самом общем смысле, тогда как и цвет, и размер сосков имеют множество градаций, которые немало говорят опытному взгляду. Но только опытному. Зато уж такой мужчина, бросив лишь один взгляд на обнаженную грудь, получает полное представление о том, чего ему ждать от этой женщины и насколько пылкой она будет в постели. Опытного человека не проведешь.
Ваше преосвященство желает, чтобы я покончил с этой темой? Ну что ж, должен признать, что я уделил ей столько внимания, поскольку не мог не изложить своей собственной теории. Она многократно подвергалась проверке на практике и ни разу меня не подвела. По-моему, мужчине очень полезно знать такие вещи, ведь они могут пригодиться ему и за пределами спальни.
Ййо, аййо!!! Знаете, ваше высокопреосвященство, мне вдруг пришло в голову, что моим открытием могла бы заинтересоваться ваша Святая Церковь. Посудите сами, разве это не самый быстрый и простой способ безошибочного отбора тех женщин, кому самой природой предназначено быть монахинями в ваших...
Да-да, мой господин, уже заканчиваю. Можно сказать, закончил.
Так вот, когда мы с Тцитци наконец, шатаясь, вернулись домой с четырьмя полными воды кувшинами, матушка, разумеется, не преминула выбранить нас за то, что мы шляемся неизвестно где в такое время. Сестренка удивила меня и тут. Только что она была страстной, неистовой, в экстазе впивающейся в меня ногтями самкой, а сейчас лгала с небрежной легкостью, что твой жрец:
– Нечего нас ругать. Мы вовсе не бездельничали. Просто не нам одним потребовалось набрать из источника воды. Народу пришло немало, а поскольку всякие сборища нынче запрещены, нам с Микстли пришлось ждать своей очереди в сторонке. Так что, матушка, вины за нами никакой нет.
Когда эти унылые «скрытые дни» подошли к концу, весь Сей Мир вздохнул с огромным облегчением. Уж не знаю, ваше преосвященство, что вы имеете в виду, говоря вполголоса о «пародии на Великий Пост», но первый же день месяца Растущего Древа положил начало всеобщему веселью. В последующие дни праздник продолжался. В особняках знати, в домах зажиточных простолюдинов и даже в местных деревенских храмах устраивались пирушки, на которых все – хозяева и гости, жрецы и молящиеся – вознаграждали себя за вынужденное воздержание во время немонтемин.
Правда, в том году начало празднеств было несколько омрачено известием о кончине Тисока, нашего юй-тлатоани, но надо сказать, что его правление было самым коротким и наименее примечательным за всю историю Мешико. Поговаривали, разумеется не открыто, что правителя отравили. Одни приписывали это злодеяние старейшинам Совета, недовольным тем, что владыка совершенно не интересовался войнами, а другие его брату Ауицотлю, Водяному Чудовищу, – весьма деятельному принцу, который мечтал заполучить власть и снискать славу великого государя. Так или иначе, Тисок был настолько бесцветной фигурой, что о нем не слишком скорбели, и у нас на Шалтокане проходившая на площади перед пирамидой многолюдная церемония восхваления бога дождя Тлалока была одновременно посвящена и восшествию на престол Чтимого Глашатая Ауицотля.
К свершению обрядов приступили лишь после того, как Тонатиу погрузился в сон на своем западном ложе, дабы владыка тепла не узрел, какие почести воздают его брату, властелину влаги, и не позавидовал тому. На закате на площади и на склонах ближайших холмов начали собираться жители острова. Приходили все, кроме самых старых, немощных и недужных, а также тех, кому приходилось остаться дома, чтобы за ними ухаживать. Едва солнце скрылось за горизонтом, как на ступенях пирамиды и в находящемся на ее вершине храме появились жрецы в черных одеждах. Они готовились разжечь множество факелов и жаровен, которым предстояло распространять разноцветный дым и сладостные ароматы. Жертвенный камень в эту ночь не использовался: вместо этого к подножию пирамиды, так, что в нее при желании мог заглянуть каждый, доставили огромную каменную купель, наполненную предварительно освященной особыми заклинаниями водой. После наступления темноты деревья, росшие вокруг пирамиды, тоже осветились множеством огоньков. Бесчисленные крохотные светильники создавали удивительное впечатление: казалось, будто в рощице собрались все светлячки Сего Мира. А на ветвях деревьев раскачивалось множество ловких малышей – мальчиков и девочек в любовно сшитых матерями праздничных нарядах. Разноцветные бумажные платьица девочек были круглыми или вырезанными в форме лепестков – малышки изображали различные фрукты и цветы. Мальчики, в еще более причудливых костюмах из перьев, представляли собой птиц и бабочек. Всю праздничную ночь мальчики-«птицы» и мальчики-«насекомые» перебирались с ветки на ветку, делая вид, будто «пьют нектар» из девочек-«фруктов» и девочек-«цветов».
Когда окончательно настала ночь и все население острова собралось у пирамиды, на ее вершине появился главный жрец Тлалока. Протрубив в раковину, он властно воздел руки, и шум толпы начал стихать. Руки жреца оставались поднятыми до тех пор, пока на площади не воцарилась полная тишина. Потом он уронил их, и в тот же самый миг раздался оглушительный раскатистый гром: ба-ра-РУУМ! То был голос самого бога дождя Тлалока. Содрогнулось все: листва на деревьях, пламя костров, благовонный дым и даже сам воздух. На самом деле Тлалок тут, конечно, был ни при чем: это жрецы били огромной деревянной колотушкой по туго натянутой змеиной коже «громового» барабана, иначе именовавшегося «барабаном, вырывающим сердце». Звуки эти разносились аж на два долгих прогона, так что можете себе представить, как они воздействовали на нас, собравшихся неподалеку. Наводящий страх пульсирующий грохот, продолжался до тех пор, пока людям не стало казаться, что их кости вот-вот рассыплются. Потом грохот постепенно начал стихать, пока наконец его звук не слился с ударами в небольшой, «божий» барабан. Их ритмичный перестук стал фоном для ритуального приветствия Тлалока, провозглашаемого главным жрецом.
Время от времени жрец умолкал, и тогда вся толпа издавала протяжный, похожий на совиный крик: «Ноо-оо-оо!» приблизительно соответствующий по смыслу вашему церковному «аминь». Также в промежутках между его декламациями вперед выступали младшие жрецы. Они извлекали из своих одежд маленьких водяных существ – лягушек, саламандр и змей, – показывали нам этих извивающихся тварей, а потом глотали их. Живых и целиком!
Наконец жрец завершил свое древнее песнопение, выкрикнув изо всей мочи: «Техуан тьецкуийа ин ауиуитль, ин покхотль, Тлалокцин!» Переводится это так: «Мы хотим укрыться под могучим кипарисом, о владыка Тлалок!», то есть – «Мы просим твоей защиты, твоего покровительства».
В тот самый миг, когда их глава проревел это, остальные жрецы, рассредоточенные по площади, бросили в жаровни пригоршни тончайшей маисовой муки, и каждое такое облачко взорвалось с громким треском и ослепительной вспышкой: казалось, что повсюду засверкали молнии. И вновь оглушительно загрохотал громовой барабан. Его пробирающий до самых костей бой начал стихать лишь тогда, когда казалось, что еще чуть-чуть – и наши зубы, расшатавшись, выпадут из десен. Но вот громыхание сошло на нет, и наши уши, вновь обретшие способность воспринимать обычные звуки, наполнила музыка. Теперь играли на глиняной флейте, имевшей форму сладкого картофеля, на подвешенных тыквах различных размеров, издававших, когда по ним ударяли палочками, звуки разной тональности, и на свирели, сделанной из пяти скрепленных между собой обрезков тростника различной длины. Ритм этому оркестру задавал инструмент под названием «крепкая кость» – то была оленья челюсть, скрежетавшая, когда по зубам животного водили жезлом. Едва зазвучала музыка, танцоры – мужчины и женщины, которым предстояло исполнять танец Тростника, – выстроились кругами, каждый из которых был расположен внутри другого. У их лодыжек, колен и локтей были прикреплены высушенные стручки с семенами, трещавшие, шуршавшие и шептавшие при каждом движении. Мужчины в одеждах синего, как вода, цвета держали в руках обрезки тростниковых стеблей – длиной в руку и толщиной в запястье. Юбки и блузы женщин были бледно-зелеными, цвета молодого тростника, а тон всему танцу задавала Тцитцитлини.
Танцоры скользили в такт жизнерадостной музыке грациозно переплетающимися вереницами. Руки женщин изящно изгибались над головами, подражая колышущемуся на ветру тростнику, а мужчины потрясали своими палками, чтобы создать впечатление, что этот качающийся тростник шелестит и шуршит. Потом музыка стала громче; женщины собрались в центре площади, приплясывая на месте, тогда как мужчины обступили их кольцом, выполняя в такт резкие движения своими толстыми обрезками тростника. При каждом таком выпаде становилось ясно, что в руке у танцора находится не один стебель, а много вставленных один в другой. В самом толстом тростнике находился другой, потоньше, в том – еще тоньше, и так далее. После резкого взмаха все спрятанные внутри стебли выскакивали наружу, и в руке танцора вместо короткого обрезка оказывалось длинное, утончающееся к концу удилище. Концы этих удилищ смыкались над головами танцующих женщин, и те, к восторгу зевак, оказывались под сенью легкого тростникового купола. Потом ловким движением запястий мужчины заставляли эти раздвижные стебли сложиться обратно, причем делали это все одновременно. Этот искусный трюк повторялся снова и снова, но каждый раз с каким-нибудь отличием. Например, выстроившись в две линии, танцоры раздвигали свои удилища навстречу друг другу, образуя коридор или тоннель с тростниковой крышей, по которому в танце проходили женщины...
Когда танец Тростника подошел к концу, началось действо, вызвавшее у зрителей немало смеха. На освещенную кострами площадь приковыляли (а то и приползли) все те старики, которых донимала боль в костях и в суставах. Известно, что такого рода недуги, делающие людей скрюченными, по какой-то причине особенно обостряются именно в сезон дождей. Старики и старухи притащились на площадь для того, чтобы, танцуя перед Тлалоком, упросить владыку дождливого сезона сжалиться над ними и облегчить их страдания.
Несчастные, разумеется, относились к церемонии со всей серьезностью, но со стороны такой танец неизбежно выглядел весьма комично, и зрители один за другим начинали хихикать, а потом и вовсе покатываться со смеху. Танцоры, со своей стороны, осознав, что выглядят смешно, начинали кривляться уже намеренно, потешая и зрителей, и бога. Одни выставляли свои недуги, хромоту или спотыкание в преувеличенном виде, а другие и вовсе подпрыгивали на четвереньках, изображая лягушек, ковыляли бочком на манер крабов или вытягивали навстречу друг другу свои старые негнущиеся шеи, словно журавли в брачный сезон. Зеваки просто заходились от смеха.
Престарелые танцоры настолько увлеклись и так затянули свое безобразное кривляние, что жрецам пришлось убирать их со сцены чуть ли не силой. Возможно, вам, ваше преосвященство, будет интересно узнать, что все эти усилия просителей никогда не оказывали на Тлалока желаемого воздействия, так что ни один калека в результате не выиграл. Напротив, многие из них после той ночи оказывались прикованными к постели, но эти старые дурни все равно год за годом приходили на церемонию.
Потом наступил черед танца ауаниме, то есть тех женщин, долгом которых было доставлять телесную радость благородным воинам. Их танец не зря назывался квеквецкуекатль, «щекотливый», ибо он пробуждал у зрителей, мужчин и женщин, старых и молодых, желание устремиться к танцовщицам и начать вытворять нечто совершенно непристойное и недопустимое. Танец был настолько откровенным в своих движениях, что, хотя в нем и участвовали только женщины, причем держались они на расстоянии одна от другой, зрители могли бы поклясться, что рядом с ними незримо присутствовали обнаженные мужчины...
После того как ауаниме, запыхавшиеся, растрепанные, еле державшиеся на ногах, покинули площадь, жрецы под алчный стон «божьего» барабана вынесли туда богато украшенные носилки с мальчиком и девочкой, лет примерно четырех. Поскольку ныне покойный и не очень-то оплакиваемый Чтимый Глашатай Тисок так и не удосужился устроить войну, у нас не было детей-пленников, так что для праздничного жертвоприношения жрецам пришлось купить малышей в семьях местных рабов. Четверо их родителей теперь с гордостью взирали на то, как разукрашенные носилки несколько раз торжественно обнесли вокруг площади.
И родители, и дети имели полное основание испытывать гордость и удовлетворение, ибо покупка была совершена заранее, и все это время за детьми тщательно ухаживали и хорошо их кормили. Пухленькие, бодрые и бойкие, малыши весело махали ручонками своим родителям, да и всем, кто махал им. И уж конечно, не будь эти дети предназначены в жертву, им бы никогда не надеть таких нарядов – одеяний тлалокуэ, духов, составляющих свиту бога дождя. Накидки были из тончайшего хлопка, сине-зеленые, с узором из серебристых дождевых капелек, а за спиной у малышей трепыхались облачно-белые бумажные крылышки.
Дальше произошло то, что всегда бывало на каждой церемонии в честь Тлалока: дети и понятия не имели о том, что их ждет и чего ждут от них, а потому при виде такой нарядной толпы, огней и музыки от души радовались, подпрыгивали, смеялись и лучились, как два маленьких солнышка. Это, конечно, шло вразрез с тем, что требовалось, поэтому жрецам, несшим кресло, пришлось тайком ущипнуть малышей за ягодицы. Поначалу детишки растерялись, потом принялись огорченно хныкать и наконец разрыдались. Именно это от них и было нужно: ведь чем громче крик, тем сильнее будут грозы, чем больше слез, тем обильнее прольются дожди.
Толпа (это поощрялось и ожидалось даже от взрослых мужчин и закаленных воинов) подхватила плач. Люди били себя в грудь и оглашали площадь горестными стенаниями. Когда охи и стоны, перекрывавшие неистовый бой «божьего» барабана, достигли предела, жрецы остановили носилки возле стоявшей у подножия пирамиды каменной ванны, наполненной водой. Шум стоял такой, что жрец наверняка и сам не слышал собственных слов, которые произносил нараспев, обращаясь к детишкам, поднимая их по очереди на руках к небу, дабы Тлалок узрел и одобрил предлагаемую жертву.
Потом к ним приблизились еще два младших жреца: один с маленьким горшочком, а другой – с кистью. Главный жрец склонился над мальчиком и девочкой, и, хотя никто не мог слышать, все поняли, что он велит им надеть маски, чтобы вода не попала малышам в глаза, пока они будут плавать в священном сосуде. Дети все еще хныкали, их щеки были мокрыми от слез, но они не противились, когда жрец кистью размазал по их лицам жидкий оли, оставив непокрытыми только бутоны их губ. Мы не видели выражения лиц детишек, когда жрец отвернулся от них и, хотя слова его по-прежнему заглушались шумом, снова принялся декламировать заключительное обращение к Тлалоку. Призыв принять жертву, даровать взамен щедрые дожди и все в таком духе...
Помощники жреца подняли мальчика и девочку в последний раз, и главный жрец быстро мазнул клейкой жидкостью по нижней части их лиц, покрыв оли рты и ноздри, после чего детей опустили в резервуар. Соприкоснувшись с холодной водой, резиновый сок мгновенно загустел. Понимаете, согласно обряду, жертвы должны были умереть не от воды, а в воде. Поэтому дети не захлебнулись и не утонули. Они медленно задохнулись под плотным слоем загустевшего каучука, брошенные в резервуар, где бились и дергались в конвульсиях под вой толпы и бой барабанов. Дети барахтались все слабее, и наконец сначала девочка, а за ней и мальчик затихли и погрузились в воду. На поверхности остались лишь их неподвижные, широко распростертые белые крылья.
Хладнокровное убийство, ваше преосвященство? Но ведь они были детьми рабов, и в жизни их не ожидало ничего хорошего. Лишения, страдания, а в конце – бессмысленная смерть и унылая, беспросветная вечность во тьме Миктлана. Вместо этого малыши умерли во славу Тлалока, ради блага тех, кто продолжил жить, а потому заслужили вечное блаженство в пышных зеленых садах загробного Тлалокана.
Варварское суеверие, ваше преосвященство? Но следующий сезон дождей оказался столь изобильным, что лучшего не мог бы выпросить даже христианин. И урожай был прекрасным.
Жестоко? Душераздирающе? Что ж, пожалуй... Мне, по крайней мере, этот праздник запомнился именно таким. Ибо он был последним, какой нам с Тцитцитлини довелось провести вместе...
Когда принц Ива прислал за мной свой акали, дули такие ветры и волнение было столь сильным, что гребцам удалось подогнать судно к Шалтокану лишь около полудня. Ну и погода выдалась, однако мне все равно пришлось возвращаться. Ветер просто ревел, лодка плясала на обдававших нас брызгами волнах, и до Тескоко мы добрались уже после того, как солнце прошло полпути к своей постели.
Город начинался сразу от пристани, но, по существу, то была лишь окраина, где обитали и работали те, чья жизнь была напрямую связана с озером. Там находились верфи, мастерские, где вили канаты и плели сети, изготовляли крючки, отроги и прочую утварь, предназначавшуюся для лодочников, рыбаков и птицеловов. Поскольку никто меня не встречал, гребцы Ивы вызвались проводить меня какую-то часть пути и поднести узлы. Я прихватил с собой кой-какую одежду, еще один, тоже подаренный мне Чимальи, комплект красок да корзинку со сластями, испеченными Тцитци.
По мере того как мы приближались к улицам, где они жили, мои спутники прощались и уходили, и вот наконец последний из гребцов сказал мне, что если я пойду дальше, никуда не сворачивая, то непременно выйду на центральную площадь, к большому дворцу. К тому времени уже совсем стемнело, и на улицах в столь непогожий вечер почти не было прохожих. Но не думайте, что я шел в темноте, ибо окна почти всех домов светились. Похоже, здесь у всех жителей имелись светильники с кокосовым маслом, рыбьим жиром или чем-нибудь еще, в зависимости от благосостояния хозяев. Свет проникал через окна, даже если они были закрыты решетчатыми ставнями и занавешены полотнищами из промасленной бумаги. Кроме того, на самих улицах были установлены высокие шесты, на верхушках которых в медных жаровнях полыхали смолистые сосновые щепки. Ветер сдувал оттуда искры, а порой и капли горящей смолы. Эти шесты крепились в отверстиях, просверленных в каменных станинах, выполненных по большей части в виде приземистых статуй различных богов.
Проделав не столь уж долгий путь, я почувствовал усталость, ибо был изрядно нагружен, да и сильный ветер не добавлял мне бодрости. Неудивительно, что, приметив под усыпанным красными цветами деревом тапучини каменную скамью, я обрадовался и присел на нее, чтобы перевести дух. Ветер сдувал на меня алые лепестки. Через некоторое время я почувствовал, что на каменной поверхности скамьи вырезан рельеф. Однако было так темно, что я, даже не пытаясь всмотреться в надпись, начал водить по ней пальцами, надеясь ее прочесть.
– Место отдыха для Владыки Ночного Ветра, – процитировал я вслух, мысленно улыбнувшись.
– Как раз то же самое, – произнес голос из темноты, – ты прочел в прошлый раз, когда мы с тобой встретились на другой скамейке. Это было несколько лет тому назад.
Я вздрогнул, а потом прищурился, чтобы рассмотреть фигуру на другом конце скамьи. И снова увидел человека в накидке и сандалиях – дорогих, хотя и изношенных в пути. И опять его лицо было покрыто дорожной пылью, что делало и без того плохо различимые в сумраке черты и вовсе неразборчивыми. Только вот сейчас я и сам был запылен не меньше его, к тому же с прошлого раза сильно подрос и раздался в плечах. Просто удивительно, что незнакомец меня узнал.
– Да, йанкуикатцин, – сказал я, справившись с волнением, – это поразительное совпадение.
– Ты не должен называть меня господином незнакомцем, – проворчал он с язвительностью, которая запомнилась мне в прошлый раз. – Здесь я свой, и меня все знают. Если кто тут и незнакомец, так это ты.
– Верно, мой господин, – охотно согласился я. – Однако именно здесь мне удалось научиться читать кое-что посложнее знаков, которые вырезают на скамейках.
– Хотелось бы надеяться, – сухо проронил он.
– Это все благодаря юй-тлатоани Несауальпилли, – пояснил я, – по великодушному приглашению которого я уже много месяцев обучаюсь при его дворе.
– И чем ты собираешься отблагодарить Чтимого Глашатая за такую милость?
– Ну, я готов сделать для него все, что угодно, ибо искренне признателен своему благодетелю и был бы рад ему угодить. К сожалению, мне пока не выпало чести лично увидеть Чтимого Глашатая, и никто до сих пор не возлагал на меня никаких поручений, не считая выполнения учебных заданий. Признаюсь, порой мне становится неловко: кому приятно чувствовать себя нахлебником?
– Может быть, Несауальпилли просто ждет. Хочет убедиться, что ты оказался достойным его доверия. Удостовериться, что ты готов сделать для него все.
– Я готов. Сделаю все, чего бы он ни потребовал.
– Не сомневаюсь, что рано или поздно ему что-нибудь от тебя понадобится.
– Надеюсь на это, мой господин.
Некоторое время мы сидели в молчании, нарушаемом лишь ветром, стонавшим между домами как Чокакфуатль, Рыдающая Женщина, вечная скиталица. Наконец запыленный странник саркастически изрек:
– Ты хочешь принести пользу при дворе Чтимого Глашатая, а сам сидишь здесь, хотя его дворец там.
Он махнул рукой, и я понял этот жест: незнакомец опять отсылал меня столь же бесцеремонно, как и в прошлый раз.
Я встал, собрал свои узлы и не без обиды сказал:
– Я понял намек моего нетерпеливого господина и ухожу. Микспанцинко.
– Ксимопанолти, – равнодушно обронил он.
На углу, возле светильника, я обернулся, но оказалось, что его свет не достигает скамьи. Если путник и продолжал сидеть, с такого расстояния его уже было не разглядеть. Единственное, что я видел, это небольшое облачко красных лепестков тапучини, танцующих на улице под порывами ночного ветра.
Наконец я добрался до дворца и нашел там поджидавшего меня мальчика-раба Коцатля. Видимо, в отличие от пригорода в столице не было достаточного пространства для возведения дополнительных павильонов и пристроек, поэтому городской дворец оказался гораздо больше: думаю, в нем насчитывалось никак не меньшее тысячи комнат. Впрочем, он тоже занимал обширную площадь: даже в центре столицы Несауальпилли не отказывал себе в садах, деревьях, фонтанах и тому подобном.
Здесь имелся даже живой лабиринт, занимавший пространство, которого хватило бы на десяток крестьянских наделов. Насадил его какой-то давний предок нынешнего правителя, и с тех пор лабиринт, хотя его регулярно подстригали, сильно разросся. Теперь его извилистые, разветвляющиеся и переплетающиеся дорожки обступали непроницаемые колючие изгороди из терновника, вдвое выше человеческого роста. В зеленой внешней ограде имелось одно-единственное отверстие, лаз, и говорили, что якобы всякий вошедший туда непременно, пусть и после долгих блужданий, найдет путь к маленькой травянистой полянке в центре лабиринта, но что вернуться обратно тем же путем решительно невозможно. Путь наружу знал только главный садовник дворца – старик, в семье которого этот секрет передавался из поколения в поколение; его не раскрывали даже самому юй-тлатоани. Поэтому входить внутрь разрешалось только в сопровождении старого садовника, не считая тех случаев, когда кого-то отправляли в лабиринт в наказание. Бывало, что нарушителя закона обнаженным загоняли (иной раз – остриями копий) в лаз, а спустя примерно месяц садовник отправлялся в лабиринт и выносил то, что оставалось от несчастного оголодавшего, израненного колючками, поклеванного птицами и изъеденного червями.
На следующий день перед началом занятий ко мне подошел принц Ива и, поздравив с возвращением ко двору, мимоходом заметил:
– Кивун, отец велел передать, что будет рад видеть тебя в тронном зале в любое удобное для тебя время.
В удобное для меня время! Сколь же любезен был юй-тлатоани аколхуа, если проявлял такую учтивость по отношению к безродному чужеземцу, который жил припеваючи во дворце правителя исключительно благодаря его доброте и гостеприимству.
Конечно, я немедленно покинул классную комнату и пошел – точнее, почти побежал по галереям огромного строения. Запыхавшись, я наконец добрался до тронного зала, где выполнил ритуальный жест целования земли и промолвил:
– Счастлив предстать перед высокой особой Чтимого Глашатая.
– Ксимопанолти, Кивун, – ответил правитель и, поскольку я оставался коленопреклоненным, добавил: – Можешь подняться, Крот.
Я выпрямился, но не сдвинулся с места, и тогда он сказал:
– Подойди ко мне, Темная Туча.
Я с почтительной робостью двинулся вперед, тогда как правитель улыбнулся и заметил:
– Имен у тебя, как у птицы, которая вольно летает над всеми землями Сего Мира и которую каждый народ называет по-своему.
Коротким, быстрым движением он указал на одно из сидений, стоявших полукругом перед троном:
– Садись.
По правде сказать, так называемый «трон» Несауальпилли был ничуть не более величественным или впечатляющим, чем коренастый табурет, предложенный мне. Правда, трон стоял на помосте, и поэтому я смотрел на правителя снизу вверх. Он сидел не в церемонной, торжественной позе, а расслабившись: вытянул ноги вперед и скрестил их на уровне лодыжек. Хотя стены тронного зала украшали гобелены из перьев и расписные панели, никаких других предметов обстановки, кроме трона, низких табуретов для посетителей да стоящего непосредственно перед юй-тлатоани низенького стола из черного оникса (на столе этом, поблескивая, покоился белый человеческий череп), я не увидел.
– Этот череп, уж не знаю чей он, всегда держал здесь мой отец, Постящийся Койот, – пояснил правитель, проследив за моим взглядом. – Возможно, это череп какого-нибудь врага и его поместили здесь как напоминание о торжестве. Или же череп умершей возлюбленной служил отцу воспоминанием об утрате. Не знаю, почему он хранил его, но не исключено, что по той же причине, что и я сам.
– И что же это за причина, владыка Глашатай?
– В этот зал издавна являются послы, которые угрожают нам войнами или предлагают договориться о мире. Сюда приходят обиженные, дабы я восстановил справедливость, и челобитчики, просящие о милостях. Когда эти люди обращаются ко мне, их лица искажаются гневом, омрачаются невзгодами или озаряются улыбками, изображающими фальшивую преданность. Так вот: внимая словам всех этих посетителей, я предпочитаю смотреть не на их лица, а на этот череп.
– Но почему, мой господин? – только и смог сказать я.
– Да потому, что это есть единственно чистое и честное человеческое лицо, без какой-либо маски, без лживой личины, скрывающей вероломство. Лицо, не искаженное ни страхом, ни подобострастием. Лицо, на котором навсегда запечатлена ироническая усмешка над суетной озабоченностью каждого человека насущными, сиюминутными потребностями. Когда посетитель умоляет меня немедленно вмешаться, я нарочно тяну время, скрываю свои чувства и порой выкуриваю покуитль, а то и два, глядя на этот череп. Он напоминает мне о том, что слова, которые я произнесу, вполне могут пережить мою бренную плоть, что, воплотившись в указы и законы, они могут просуществовать очень долго, а значит, я не вправе изрекать их, не оценив все возможные последствия как для тех, кто живет ныне, так и для тех, кому предстоит жить в грядущем. Аййо, сей череп нередко остерегал меня от необдуманных решений, которые я мог принять в порыве чувств.
Несауальпилли перевел взгляд с черепа на меня и рассмеялся:
– И даже если некогда эта голова принадлежала болтливому идиоту, то, как ни странно, в качестве молчаливого мертвеца он оказался бесценным мудрым советчиком.
– Мне кажется, мой господин, – заметил я, – что даже самый мудрый советник может быть полезен лишь тому, кто и сам достаточно мудр, чтобы внимать советам и понимать, что он в них нуждается.
– Я принимаю это как похвалу, Кивун, и благодарю тебя. Но скажи, мудро ли я поступил, привезя тебя сюда с Шалтокана?
– Как я могу судить об этом, мой господин? Мне ведь неизвестно, зачем это было сделано.
– Еще во времена Постящегося Койота город Тескоко прославился как центр знаний и культуры, но это не значит, что он сам по себе останется таким навеки. В самых благородных семьях могут рождаться болваны и бездельники – за примерами далеко ходить не надо, такие есть и среди моей собственной родни, – поэтому мы не стесняемся привлекать таланты отовсюду и не чураемся даже вкраплений иностранной крови. Ты показался нам человеком одаренным и многообещающим, а потому оказался в Тескоко.
– Придется ли мне здесь и остаться, владыка Глашатай?
– Это будет зависеть от тебя, от твоего тонали и от обстоятельств, которые никто не может предвидеть. Однако твои учителя отзываются о тебе с похвалою, поэтому я думаю, Кивун, что тебе предстоит принять более деятельное участие в придворной жизни.
– Мой господин, я всегда надеялся, что мне представится возможность отблагодарить тебя за великодушие. Правильно ли я понял, что смогу принести тебе пользу, ибо на меня будет возложено некое задание?
– Да, если, конечно, оно придется тебе по вкусу. За время твоего недавнего отсутствия я взял себе еще одну жену. Ее зовут Чалчиуненетль, Жадеитовая Куколка.
Я промолчал, несколько смущенный столь неожиданным и вроде бы не имевшим ко мне никакого отношения заявлением. Правитель, однако, продолжил:
– Она старшая дочь Ауицотля, его подарок мне, коим он обозначил свое восшествие на трон в качестве нового юй-тлатоани Теночтитлана. Эта девушка мешикатль, как и ты, а по возрасту (ей пятнадцать лет) годится тебе в младшие сестры. Наша брачная церемония, разумеется, будет совершена по всем правилам, однако плотскую близость придется отсрочить до тех пор, пока Жадеитовая Куколка не достигнет полной зрелости.
И снова я промолчал, хотя, конечно, мог бы рассказать мудрому Несауальпилли кое-что об особенностях созревания девушек нашего народа.
– С ней прибыла целая армия прислужниц, – продолжил Чтимый Глашатай, – так что мне пришлось отвести для ее свиты все восточное крыло. Можно сказать, что Жадеитовая Куколка имеет свой маленький двор, поэтому, что касается удобств, услуг и женского общества, тут она не будет ни в чем нуждаться. Однако, Кивун, мне пришло в голову, что не мешало бы и тебя включить в ее свиту, ибо там явно не хватает хотя бы одного лица мужского пола, а вы с ней к тому же соплеменники. Таким образом, ты мог бы послужить мне, обучая девушку нашим обычаям, принятой в Тескоко манере говорить и всему тому, что необходимо супруге, которой я мог бы гордиться.
– Но, владыка Глашатай, – уклончиво ответил я, – возможно, твоя супруга не слишком обрадуется тому, что к ней приставят то ли соглядатая, то ли наставника. Юные девушки бывают своенравны, строптивы и нетерпимы, если им вдруг покажется, что кто-то покушается на их свободу.
– Уж мне ли этого не знать, – вздохнул Несауальпилли. – У меня самого две или три дочери примерно того же возраста. А Жадеитовая Куколка, будучи дочерью одного юй-тлатоани и супругой другого, наверняка окажется еще своенравнее их. По правде сказать, я и врагу не пожелал бы состоять при особе бойкой, избалованной девицы. Хотя, Крот, надеюсь, что она тебе понравится...
Должно быть, некоторое время назад правитель дернул за скрытую веревочку колокольчика, ибо в следующее мгновение он сделал жест, и я, обернувшись, увидел стройную девушку в богатых церемониальных юбке, блузке и головном уборе, которая медленно, но уверенно направлялась к помосту. Она шла с высоко поднятой головой, но скромно потупя очи, а черты ее лица поражали совершенством.
– Дорогая, – промолвил Несауальпилли, – это тот самый Микстли, о котором мы говорили. Ты не против, если он присоединится к твоей свите в качестве твоего спутника и защитника?
– Если это угодно моему господину и супругу, я готова повиноваться, а к молодому человеку, коль скоро он не против, буду относиться как к старшему брату.
Тут веки с длинными ресницами поднялись, и я увидел очи, подобные невероятно глубоким лесным озерам. Позднее я узнал, что она имела обыкновение закапывать в глаза сок травы камопалксиуитль, расширявший зрачки и придававший им блеск, подобный сиянию драгоценных камней. Правда, это принуждало Жадеитовую Куколку избегать не только очень яркого, но и простого дневного света, при котором ее расширенные глаза видели почти так же плохо, как мои.
– Вот и хорошо, – сказал Чтимый Глашатай, удовлетворенно потирая руки.
«Интересно, – подумал я, – долго ли он совещался со своим советником-черепом, прежде чем принял такое странное решение?» Признаюсь, меня мучили дурные предчувствия.
– Кивун, я хочу, чтобы госпожа Жадеитовая Куколка всегда могла получить от тебя братский совет и наставление. Разумеется, ты не должен бранить ее за оплошности или наказывать за проступки: простолюдин, поднявший руку на знатную женщину или оскорбивший ее словом, присуждается к смерти. Я не требую и того, чтобы ты взял на себя роль тюремщика, шпиона или доносчика, но был бы рад, Крот, если бы ты нашел возможным посвящать госпоже, своей названой сестре, то время, какое сможешь уделить без вреда для своей учебы и выполнения домашних заданий. Надеюсь, ты будешь служить ей с той же преданностью, с какой служишь мне или моей первой супруге, госпоже Толлане-Текиуапиль. А теперь, молодые люди, ксимопанолти. Ступайте и познакомьтесь друг с другом.
Как только мы, с подобающими поклонами, покинули тронный зал, Жадеитовая Куколка с приветливой улыбкой сказала:
– Микстли, Крот да еще и Кивун. Сколько же у тебя имен?
– Моя госпожа может называть меня, как пожелает.
Она улыбнулась еще нежнее и приложила кончик изящного пальчика к остроконечному маленькому подбородку.
– Я, наверное, буду звать тебя... – Госпожа улыбнулась еще более ласково и промолвила с нежностью, отдающей приторностью липкого сиропа магуй: – Я буду звать тебя Куалкуфе.
Это слово у нас употребляется только в повелительном наклонении и произносится всегда властно, в приказном тоне, ибо обозначает: «Выполняй!» Сердце мое упало: если она с ходу придумала мне такое имечко, то, похоже, все мои недобрые предчувствия относительно этого поручения были не напрасны.
В этом я оказался прав. Хотя Жадеитовая Куколка и продолжала говорить слащавым тоном, от ее нарочитой скромности и смирения не осталось и следа: теперь она стала настоящей принцессой.
– Тебе нет нужды отрываться от своих дневных занятий, Выполняй, – заявила она. – Однако я хочу, чтобы ты был в моем распоряжении вечерами, а если необходимо, то и в ночное время. Так что изволь перенести свои пожитки в покои, находящиеся напротив моих.
С этими словами, не дожидаясь моего ответа и даже не попрощавшись, госпожа повернулась и зашагала прочь по коридору.
Камень жадеит, в честь которого эта красавица получила свое имя, хотя и не являлся редким и не обладал какими-то особо полезными свойствами, высоко ценился нашим народом, ибо его цвет считался цветом Средоточия, или Центра Всего. В отличие от испанцев, признающих лишь четыре стороны света, которые они распознают при помощи устройства, именуемого компасом, мы их различаем пять и обозначаем различными цветами. Вашим востоку, северу, западу и югу у нас соответствуют красный, черный, белый и голубой цвета. Но у нас также есть еще и зеленый, символизирующий, если пользоваться вашими понятиями, центр компаса. Место, где человек находится прямо сейчас, в любой момент, все пространство над этим местом до самого неба и все пространство под ним до загробной обители Миктлан. Таким образом, зеленый, жадеитовый, цвет имел в наших глазах особую ценность, и именем Жадеитовая Куколка могли наречь лишь дочь очень знатных, высокопоставленных родителей.
Как и с жадеитом, с этой юной принцессой следовало обращаться почтительно, а благодаря своей удивительной, изысканной красоте она вполне заслуживала того, чтобы именоваться куколкой. Другое дело, что, как настоящая куколка, она полностью лишена была человеческой совести и никогда не ведала ее угрызений. И хотя я не сразу верно истолковав свое дурное предчувствие, ей, как настоящей жадеитовой кукле, впоследствии суждено было оказаться разбитой.
Должен признаться, что предчувствия предчувствиями, однако великолепие новых покоев привело меня в восторг. Они состояли из трех комнат, не считая ванной с парилкой. Мало того, что груда стеганых одеял на кровати в новой спальне была еще выше, чем в прежней, так на нее еще и было наброшено огромное покрывало, сшитое из сотен отбеленных беличьих шкурок. Над этим ложем высился балдахин с кистями, с которого свисали почти невидимые, тончайшие сетчатые занавески, задернув которые вокруг постели я мог отгородиться от москитов и мотыльков.
Некоторое неудобство состояло в том, что мои новые покои находились на значительном удалении от остальных помещений, обслуживавшихся Коцатлем, но стоило мне упомянуть об этом Жадеитовой Куколке, как маленького раба тут же освободили от всех прочих обязанностей и полностью предоставили в мое распоряжение. Мальчик был горд таким повышением, да и сам я, признаться, почувствовал себя чуть ли не молодым вельможей. Забегая вперед, скажу, что впоследствии, когда мы с Жадеитовой Куколкой впали в немилость, маленький Коцатль не покинул меня в несчастье и готов был свидетельствовать в мою пользу.
Однако вскоре мне пришлось усвоить, что если мальчик теперь является моим личным рабом, то сам я – точно такой же раб Жадеитовой Куколки. В первый же вечер, когда служанки пропустили меня в ее роскошные покои, юная принцесса встретила меня такими словами:
– Я рада, что мне подарили тебя, Выполняй, а то тут можно умереть от скуки. Я чувствую себя словно какое-то редкое животное в клетке.
Я попытался было возразить против слова «подарили», но она перебила меня.
– Питца, – промолвила юная супруга правителя, указывая на стоявшую за ее покрытой подушками кушеткой немолодую служанку, – сказала мне, что ты ловок по части изображения людей и умеешь передать на рисунке внешнее сходство.
– Моя госпожа, я и впрямь льщу себя надеждой на то: изображенные мною люди без труда узнают себя на рисунках. Правда, мне довольно давно не доводилось практиковаться в этом искусстве...
– Вот на мне и попрактикуешься. Питца, сбегай за Коцатлем и вели ему принести все, что потребуется Выполняю для рисования.
Мальчик вскоре явился с несколькими мелками и листами самой дешевой, коричневой, неотбеленной, ибо она использовалась лишь для черновиков, бумаги. Я жестом велел ему присесть в углу комнаты.
– Ты знаешь, моя госпожа, что у меня слабое зрение, – промолвил я извиняющимся тоном. – Не позволишь ли пересесть поближе к тебе?
Она милостиво кивнула, я пододвинул табурет поближе и принялся делать набросок. Все время, пока я рисовал, Жадеитовая Куколка держала голову неподвижно и ровно, не сводя с меня огромных блестящих глаз, а когда я закончил и вручил ей бумагу, она, не взглянув, передала ее через плечо служанке.
– Питца, это я? Что скажешь, похожа?
– До самой последней ямочки на щеке, моя госпожа. И глаза твои, тут уж никто не ошибется.
Только после этого юная принцесса соблаговолила рассмотреть рисунок и милостиво улыбнулась:
– Да, это и вправду я. Я очень красивая. Спасибо, Выполняй. Скажи, а ты умеешь изображать только лицо или тело тоже?
– О моя госпожа, я умею изображать жесты, облачения, эмблемы и знаки достоинства...
– Меня все это не интересует, я спрашиваю про тело. Ну-ка нарисуй меня.
Служанка Питца издала сдавленный крик, а у малыша Коцатля отвисла челюсть, когда Жадеитовая Куколка без тени смущения и малейшего колебания сняла с себя все свои украшения и браслеты, сандалии, блузку, юбку и даже нижнее белье.
Питца отошла в сторону и спрятала покрасневшее от смущения лицо в оконной занавеске, а Коцатль, похоже, и вовсе потерял способность двигаться. Юная госпожа вольготно расположилась на своей кушетке, в то время как я, хоть от волнения и уронил кое-какие свои рисовальные принадлежности на пол, преодолевая смущение, ухитрился довольно строгим тоном сказать:
– Моя госпожа, но это весьма нескромно.
– Аййа, – рассмеялась принцесса, – узнаю стыдливого простолюдина! Ты должен усвоить, Выполняй, что знатная особа не стесняется своей наготы в присутствии рабов, хоть мужчин, хоть женщин. Для нее они все равно что ручной олень, перепел или мотылек.
– Я не раб, – довольно натянуто возразил я, – а для свободного человека созерцание его госпожи, супруги юй-тлатоани нагой является преступлением, караемым смертью. Ну а что до рабов, то они умеют говорить.
– Только не мои, ибо они боятся гнева своей госпожи больше любого закона или владыки. Питца, а ну покажи Выполняю свою спину.
Служанка заскулила и, не поворачиваясь, спустила блузу, продемонстрировав свежие рубцы от ударов. Я покосился на Коцатля: он тоже все увидел и все понял.
– Давай, – промолвила Жадеитовая Куколка, улыбаясь своей слащавой улыбкой, – садись как тебе угодно близко и нарисуй меня всю, с ног до головы.
Я повиновался, хотя моя рука и дрожала так, что мне часто приходилось стирать линию и рисовать ее заново. Признаюсь, дрожь эта объяснялась вовсе не страхом или смущением, нет, тут дело было совсем в другом. Лицезрение обнаженной Жадеитовой Куколки повергло бы в дрожь кого угодно. Наверное, ее правильнее было бы назвать Золотой Куколкой, ибо кожа девушки имела цвет золота, а тело, в каждом своем изгибе, в каждой выпуклости или углублении, было совершенным, без малейших изъянов, словно вышло из-под резца великого ваятеля. Я не мог не заметить, что и размер, и цвет ее сосков свидетельствовали о страстности натуры. Я изобразил свою госпожу в той свободной позе, в которой она расположилась на кушетке, небрежно опустив одну ногу на пол. Руки она закинула за голову, чтобы еще выгоднее подчеркнуть красоту груди. И хотя я не мог не видеть (да признаться, не мог и не запомнить) некоторые, особо интимные места, чувство приличия заставило меня изобразить их несколько смазанно, скорее намеком. Что вызвало крайнее неудовольствие Жадеитовой Куколки:
– Все бы ничего, но что это за расплывчатое пятно у меня между ног? Ты такой щепетильный, Выполняй, или просто не знаешь, как устроено женское тело? Неужели не ясно, что мое лоно, святая святых моего тела, заслуживает самого пристального внимания и детального изображения?
Встав с кушетки, она подошла ко мне (я сидел на низеньком табурете) почти вплотную и пальцем обвела места, о которых только что говорила и которые выставила на обозрение.
– Видишь, как эти нежные розовые губы смыкаются здесь, впереди, обнимая это маленькое ксаапили, утолщение, похожее на жемчужину, которое – ооо! – реагирует на любое, самое легчайшее прикосновение?
Я весь покрылся потом, служанка Питца зарылась в занавески, а бедняга Коцатль, сидевший в углу на корточках, казалось, не мог ни говорить, ни двигаться.
– Ладно, Выполняй, не дрожи ты так. Я не собираюсь ни дразнить тебя, молодой ханжа, ни испытывать твое искусство рисовальщика. Мне и так все ясно, и сейчас ты получишь задание.
Красавица повернулась и щелкнула пальцами, призывая служанку.
– Эй, Питца, кончай прятаться! Выходи и одень меня.
Пока служанка ее одевала, я поинтересовался:
– Моя госпожа желает, чтобы я нарисовал чей-нибудь портрет?
– Да.
– Чей же?
– На свое усмотрение, – ответила Жадеитовая Куколка и, когда я озадаченно заморгал, пояснила: – Ты должен понимать, что при моем положении было бы неприлично, гуляя по дворцу или передвигаясь в паланкине по городу, указывать при всех на того или другого человека и говорить: «Вот этого!» К тому же, случается, зрение меня подводит, так что я могу проглядеть кого-нибудь действительно привлекательного. Я имею в виду мужчину, конечно.
– Мужчину? – тупо переспросил я.
– Я хочу, Выполняй, чтобы ты повсюду носил с собой листы бумаги и мелки. И как только тебе повстречается, где угодно, красивый молодой мужчина, ты должен будешь запечатлеть для меня его лицо и фигуру. – Она хихикнула. – Можешь не раздевать его. Я хочу получить как можно больше рисунков самых разных мужчин, столько, сколько ты сможешь сделать. Но при этом никто не должен знать, зачем ты их рисуешь и для кого. Если тебя спросят, скажи, что ты просто практикуешься в своем искусстве.
И с этими словами госпожа кинула мне обратно два рисунка, которые я только что сделал.
– Это все. Ты можешь идти, Выполняй! Вернешься, когда сможешь показать мне подходящую подборку.
Даже тогда я был не настолько наивен, чтобы не заподозрить в глубине души, чем чреват этот приказ. Однако я предпочел выбросить подозрения из головы и, приложив к этому все свои способности, сосредоточился на выполнении задания. Самым трудным было понять, в чем именно заключается мужская красота для пятнадцатилетней девушки. Не получив на этот счет никаких конкретных указаний, я стал тайком делать наброски с принцев, благородных воинов, наставников по телесным упражнениям и тому подобных рослых, крепких и, на мой взгляд, видных молодых людей. Однако, отправляясь к госпоже в сопровождении Коцатля, тащившего целую стопку моих работ, я шутки ради положил сверху сделанное по памяти изображение того согбенного, скрюченного, коричневого, как боб какао, странного старика, который продолжал появляться в моей жизни.
Жадеитовая Куколка хмыкнула и, к моему удивлению, сказала следующее:
– Ты думаешь, будто остроумно подшутил надо мной, Выполняй. Однако мне приходилось слышать от опытных женщин, что, имея дело с карликами и горбунами, можно получить особое удовольствие. Так же как и, – она покосилась в сторону Коцатля, – занимаясь этим с мальчиками, чей тепули размером еще с мочку уха. Как-нибудь попробую, когда мне надоедят взрослые мужчины...
Госпожа просмотрела все рисунки и выбрала один:
– Йо, аййо, Выполняй! Вот этот мне нравится. Какой решительный взгляд! Кто он?
– Наследный принц Черный Цветок.
Красавица нахмурилась.
– Нет, это могло бы вызвать осложнения.
Она вновь внимательно перебрала листы бумаги.
– А этот?
– Я не знаю его имени, моя госпожа. Он гонец: порой я вижу его бегущим с посланиями.
– То, что нужно! – заявила Жадеитовая Куколка со своей обычной чарующей улыбкой и, указав на рисунок, распорядилась: – Приведи его ко мне. Выполняй!
На этот раз она не просто произнесла мое имя, а отдала приказ.
Признаюсь, я ожидал чего-то подобного, но все равно покрылся холодным потом и заговорил осторожно, с нарочитой официальной почтительностью:
– Моя госпожа, мне было приказано служить, а не укорять тебя, однако, если я правильно понял твои намерения, то прошу тебя передумать. Ты дочь величайшего правителя Сего Мира и законная супруга другого великого владыки. Позабавившись с кем бы то ни было, еще даже не побывав в постели своего мужа, ты уронишь честь двух Чтимых Глашатаев.
Я ожидал, что Жадеитовая Куколка схватится за хлыст, так хорошо знакомый ее рабам, однако госпожа выслушала меня все с той же очаровательной улыбкой и, ничуть не смутившись, промолвила:
– Я могла бы наказать тебя за дерзость, но вместо этого просто замечу, что Несауальпилли старше моего отца и что его мужская сила, очевидно, израсходована на госпожу Толлану и на всех прочих жен и наложниц. Муж пока не приближает меня к себе, поскольку наверняка отчаянно пытается вернуть с помощью всяческих знахарских и колдовских снадобий твердость своему вялому тепули. Но с какой стати я должна впустую тратить свою юность, соки и цвет моей красоты, ожидая, когда он восстановит силы и снизойдет до исполнения своих супружеских обязанностей. Коль скоро моему господину вздумалось отложить вступление в супружеские права, я сделаю так, что это будет отложено по-настоящему надолго. Ну а когда мы оба действительно будем готовы стать мужем и женой, я, можешь не сомневаться, сумею устроить так, что у Несауальпилли не возникнет и тени сомнения в моей невинности.
Я предпринял еще одну попытку. Я действительно приложил тогда все усилия к тому, чтобы отговорить Жадеитовую Куколку, хотя впоследствии этому, кажется, никто не поверил.
– Моя госпожа, вспомни, из какого рода ты происходишь. Ты внучка почитаемого Мотекусомы, рожденного Непорочной Девой. Его отец бросил в сад своей возлюбленной жадеит. Она положила камень себе на грудь и в тот же миг понесла. Таким образом, великий Мотекусома был зачат до того, как его мать сочеталась браком и вступила в плотские отношения с его отцом. Ты не должна пятнать семейное наследие, тебе следует хранить чистоту и целомудрие...
Она прервала меня смехом.
– Выполняй, я тронута твоей заботой. Но ты запоздал со своими наставлениями. Они были бы уместны лет пять или шесть назад, когда я еще была девственницей.
– Тебе лучше... ты можешь идти, мальчик, – спохватившись, хоть и с некоторым опозданием, сказал я, повернувшись к Коцатлю.
– Выполняй, приходилось ли тебе когда-нибудь вид рельефные изображения необузданных хуаштеков? Деревянные торсы и торчащие вверх мужские члены преувеличенного размера? Мой отец Ауицотль повесил одну такую панель на стене дворцовой галереи, чтобы удивлять и забавлять мужчин, своих друзей. Однако рельеф этот вызывает интерес и у женщин. Некоторые его детали вытерты до блеска, и сделали это восхищенные женщины. Самые разные – знатные, служанки, шлюхи. Поучаствовала в этом и я.
– Полагаю, мне не пристало выслушивать... – пробормотал я, но Жадеитовая Куколка оставила мои робкие возражения без внимания.
– Чтобы дотянуться до этой штуковины, мне пришлось притащить и приставить к стене большой сундук.
И я повторяла это вновь и вновь, ибо после каждого раза вынуждена была давать передышку своей нежной тепили и возобновляла свое занятие лишь после того, как у меня все заживало и переставало болеть. Но я упорствовала, и наступил день торжества, когда мне удалось-таки совладать с кончиком этой здоровенной деревянной штуковины. Постепенно мне удалось ввести ее в себя почти полностью. Признаюсь тебе откровенно: с той поры у меня было, наверное, мужчин сто, не меньше, но ни с одним из них я не пережила таких ощущений, какие испытывала тогда, прижимаясь животом к грубой резьбе, изображавшей хуаштека.
– Моя госпожа, мне не следует это знать, – взмолился я.
Жадеитовая Куколка пожала плечами.
– Я не стыдлива и не лицемерна, ибо сама природа требует от меня частой близости с мужчинами, а я не собираюсь противиться своей природе. И если потребуется, то я использую для этой цели и тебя, Выполняй. Ты совсем недурен. И ты не станешь доносить на меня, поскольку сам Несауальпилли заявил, что не хочет видеть в тебе соглядатая. Правда, это не может помешать тебе признаться в собственной вине, но поскольку она обоюдна, то ты погубишь этим не только себя, а нас обоих. Так что...
Госпожа вернула мне рисунок, который я сделал с ничего не подозревающего гонца, а также вручила перстень, который сняла со своего пальца.
– Дашь ему это. Это свадебный подарок моего господина-супруга, и другого такого перстня ни у кого нет.
И действительно, стоимость огромного изумруда, оправленного в червонное золото, даже не поддавалась оценке. Эти драгоценные камни лишь изредка доставляли в наш край купцы, осмеливавшиеся добраться до далекой страны Спутанного Леса, однако изумруды добывались даже не там, а еще южнее, в какой-то неизвестной земле. Перстень моей госпожи был из числа тех украшений, которые выигрывают, когда рука их владельца поднята, ибо к его кольцу крепились еще и жадеитовые подвески, лучше всего видные именно в таком положении. Перстень, изготовленный специально для среднего пальца Жадеитовой Куколки, мне едва налез на мизинец.
– Ни ты, ни гонец ни в коем случае не должны надевать его, – предупредила меня девушка. – Этот перстень слишком бросается в глаза. Пусть этот человек просто спрячет его, а потом, сегодня ночью, ровно в полночь, покажет стражнику у восточных ворот. Увидев этот знак, стража пропустит его, а Питца встретит и приведет сюда.
– Сегодня ночью? – сказал я. – Но мне нужно время, чтобы отыскать его, моя госпожа. Он же гонец, и его могли послать с поручением неизвестно к кому.
– Сегодня ночью, – повторила принцесса. – Я и так уже слишком долго обходилась без мужчины.
Уж не знаю, что бы она сделала со мной, если бы я не нашел этого человека, но я смог отыскать гонца и подошел к нему с видом знатного юноши, которому нужно отправить послание. Мое имя при этом названо не было, а вот гонец представился:
– Я Йейак-Нецтлин, к услугам господина.
– К услугам госпожи, – поправил я его. – Она желает, чтобы ты посетил ее во дворце в полночь.
Парень растерянно посмотрел на меня и пробормотал, что ночь – не лучшее время для того, чтобы бегать с посланиями, но тут взгляд молодого человека упал на перстень в моей ладони, и глаза его расширились.
– Если речь идет об этой госпоже, – промолвил он, – то послужить ей мне не помешают ни полночь, ни сам Миктлан.
– Речь идет о службе, требующей особой осторожности, – проворчал я, чувствуя во рту горечь. – Покажешь этот перстень стражнику, и тебя пропустят.
– Слушаю и повинуюсь, юный господин. Я непременно приду.
И он пришел. Я не ложился спать, пока не услышал, как Питца, крадучись, подвела Йейак-Нецтлина к двери напротив. После этого я заснул, так что не знаю, как долго он пробыл там и когда ушел. Неизвестно мне также и то, как часто потом повторялись визиты молодого гонца в спальню моей госпожи. Могу лишь сказать, что, прежде чем зевающая от скуки Жадеитовая Куколка поручила мне возобновить поиски и зарисовки, прошел целый месяц. Видимо, Йейак-Нецтлин все это время вполне ее удовлетворял. Имя этого гонца означало Длинные Ноги, но, возможно, он был щедро одарен и по части длины чего-нибудь еще.
Однако хотя Жадеитовая Куколка на целый месяц оставила меня в покое, на душе у меня все равно было очень тревожно. Раз в восемь или девять дней Чтимый Глашатай непременно наносил визит своей младшей, предположительно любимой, супруге, и я, присутствуя при их встречах, изо всех сил старался не потеть от смущения и страха. Мне оставалось лишь гадать, почему, во имя всех богов, Несауальпилли не замечает очевидного – того, что его супруга вполне созрела и готова к тому, чтобы муж (или же кто-нибудь другой) насладился ею в постели.
Ювелиры, имеющие дело с жадеитом, утверждают, что этот минерал легко найти среди обычных камней, ибо он сам заявляет о своем присутствии. Если вы как следует присмотритесь во время прогулок по загородной местности, то непременно заметите, что над некоторыми камнями поднимаются испарения. Это и есть жадеит. Он словно бы объявляет: «Я здесь. Приди и возьми меня!»
Подобно тому поделочному камню, в честь которого она получила свое имя, Жадеитовую Куколку тоже окружал какой-то загадочный, неподдающийся определению ореол, некое свечение, аура, я даже не знаю, как это лучше назвать, одним словом – нечто как бы говорившее каждому мужчине: «Я здесь. Приди и возьми меня!» Неужели Несауальпилли оказался единственным человеком в мире, не ощущавшим ее призывного жара? Или же он, как и предполагала его юная жена, действительно был лишен мужской силы и поэтому не интересовался ее прелестями? Вряд ли. Будучи свидетелем их встреч и бесед, я склоняюсь к тому, что он проявлял из благородства благоразумие, осмотрительность и сдержанность. Ибо Жадеитовая Куколка, подогреваемая своим порочным нежеланием довольствоваться лишь одним мужчиной, умело вводила мужа в заблуждение, побуждая видеть в себе вовсе не жадную до плотских утех юную женщину, но наивное, хрупкое, невинное создание, которое принудили вступить в брак из политических соображений, дитя, еще не готовое делить постель с мужчиной. Во время его визитов она вовсе не была той искушенной женщиной, которую так хорошо знали я, ее рабы и, надо думать, Йейак-Нецтлин. Жадеитовая Куколка облачалась в одежды, искусно скрывавшие соблазнительные формы и придававшие ей трогательную хрупкость ребенка. Каким-то непостижимым образом коварная красавица ухитрялась ослаблять свою манящую ауру плотского вожделения, не говоря уж о том, что от ее обычного высокомерия и вспыльчивости не оставалось и следа. Обращаясь ко мне, она ни разу не назвала меня унизительным именем Выполняй. Удивительно, но истинная Жадеитовая Куколка была способна оставаться для собственного супруга тайной, сокрытой, как говорят у нас, «в мешке и в ларце».
В присутствии своего господина она не только не позволяла себе томно возлежать на кушетке, но даже не садилась на табурет, а лишь смиренно стояла на коленях у его ног, смущенно потупив взор. Голос девушки звучал как робкий лепет невинного ребенка, так что, не будь мне известна вся ее подноготная, я и сам бы поверил, что передо мною наивное дитя.
– Надеюсь, теперь, в обществе земляка, тебе уже не так скучно и одиноко, как раньше? – спросил ее как-то Несауальпилли.
– Аййо, мой господин, – отозвалась Жадеитовая Куколка и улыбнулась, продемонстрировав трогательные ямочки на щеках. – До чего же я благодарна Микстли. Он все мне показывает, объясняет, что к чему, а вчера даже сводил меня в книгохранилище и прочел несколько величайших стихотворений твоего досточтимого отца.
– Ну и как, тебе понравилось? – поинтересовался юй-тлатоани.
– О да, очень. Но еще больше мне хотелось бы послушать собственные сочинения моего супруга и господина.
Несауальпилли, разумеется, не упустил случая продекламировать несколько своих произведений, хотя с подобающей скромностью и отметил, что гораздо лучше эти стихи звучат в сопровождении барабана. Мне лично больше всего запомнилось стихотворение, воспевающее закат. Его завершали следующие строки:
- ...Как дивных цветов ярчайший букет
- Опускают в вазу из самоцветов,
- Так и бог лучезарный скрывает свой свет,
- И уходит день, вместе с солнечным светом.
– Какая прелесть! – выдохнула Жадеитовая Куколка. – Но до чего же грустно стало от этих стихов у меня на душе!
– На тебя так действует закат? – удивился правитель.
– Нет, мой господин, просто я подумала о боге солнца. И о богах вообще. Я знаю, что со временем познакомлюсь со всеми богами твоей страны, но пока мне не хватает тех, к кому я привыкла у себя на родине. Что, если я осмелюсь попросить у высокочтимого супруга разрешения поставить в этих покоях несколько особенно дорогих мне статуй?
– Моя дорогая Куколка, – с добродушной снисходительностью промолвил юй-тлатоани, – ты можешь делать все, что угодно, и размещать в своих покоях что вздумается, лишь бы это помогало тебе стать счастливее и справиться с тоской по дому. Я пришлю к тебе Пицкуитля, придворного скульптора, и он изготовит для тебя изваяния тех богов, какие милы твоему нежному сердечку.
В тот раз, покидая покои, Несауальпилли велел мне знаком последовать за ним, что я и сделал, усилием воли заставляя себя не потеть от страха, ибо не сомневался, что меня станут расспрашивать о том, чем занимается Жадеитовая Куколка, когда не посещает книгохранилищ и не наслаждается стихами. Однако, к огромному моему облегчению, Чтимый Глашатай поинтересовался лишь моими собственными делами.
– Не слишком ли обременительно для тебя, Крот, посвящать столько времени юной госпоже, твоей названой сестре? – доброжелательно спросил он.
– Нет, мой господин, – солгал я. – Она весьма разумна в своих требованиях и не посягает на время, предназначенное для моих занятий. Мы беседуем, прогуливаемся по дворцу или бродим по городу только по вечерам.
– Кстати, о беседах, – промолвил правитель. – Хочу попросить тебя приложить некоторые усилия и постараться избавить Жадеитовую Куколку от режущего слух произношения, выдающего в ней уроженку Мешико. Сам ты легко и быстро овладел благородной речью Тескоко, так что будь добр, Кивун, постарайся научить ее выражаться более изысканно.
– Да, мой господин, я постараюсь.
Он продолжил:
– Твой наставник по словесному знанию сказал мне, что и в искусстве письма ты также быстро добился заслуживающих восхищения успехов. Может быть, ты сумеешь выделить время и для того, чтобы применить эти познания на практике?
– Конечно, мой господин! – с жаром заверил я его. – Я обязательно найду на это время.
Так началась моя карьера писца, которой я, замечу, во многом был обязан Ауицотлю, отцу Жадеитовой Куколки. Едва вступив на престол Мешико, он немедленно заявил о себе как о решительном и доблестном правителе, развязав войну против живших на северо-восточном побережье хуаштеков. Чтимый Глашатай лично возглавил объединенное войско мешикатль, аколхуа и текпанеков и менее чем за месяц завершил поход, одержав победу. Воинам досталась большая добыча, а побежденный народ, как было заведено, обложили ежегодной данью. Все трофеи и подати делили между участниками Союза Трех: по две пятых доставалось Теночтитлану и Тескоко, одна пятая – Тлакопану.
В связи с этим Несауальпилли поручил мне расчертить учетную книгу, где бы перечислялось все, что уже поступило и должно было поступить от хуаштеков: бирюза, какао, хлопчатобумажные накидки, юбки и блузы, всевозможные ткани. Кроме этого, следовало также изготовить другие книги, где отмечалось распределение вещей и ценностей по различным складам Тескоко. За это ответственное задание, требовавшее познаний не только в письме, но и в арифметике, я взялся с пылом и рвением, твердо вознамерившись выполнить его как следует.
Однако, как я говорил, Жадеитовая Куколка также нашла применение моим способностям и вскоре снова призвала меня, велев возобновить поиски и зарисовки «красивых мужчин». А заодно не преминула пожаловаться на полную бездарность придворного ваятеля:
– С дозволения моего господина и супруга я заказала эту статую, снабдив присланного им придворного ваятеля, этого старого болвана, подробнейшими указаниями. И взгляни, Выполняй, что он изобразил! Какое уродство!
Я присмотрелся к мужской фигуре, которую вылепили в полный рост из глины и для твердости обожгли. Ни на одного из известных мне богов нашей родины скульптура не походила, хотя мне и показалось, что я уже где-то видел это изображение.
– Считается, будто аколхуа преуспели по части искусств, – с презрением продолжила девушка, – но я вижу, что здешний придворный мастер просто удручающе бездарен в сравнении с куда менее известными художниками, творения которых я видела дома. Если следующая работа Пицкуитля окажется не лучше этой, я пошлю в Теночтитлан за теми безвестными мешикатль, и он будет посрамлен. Так ему и передай!
Я заподозрил, что госпожа попросту изобретает предлог, чтобы вызвать в Тескоко кого-то из своих прежних любовников, но оставил свои подозрения при себе и, как было велено, отправился вниз, в мастерскую придворного ваятеля. Там царил шум: в печах для обжига ревело пламя, стучали молотки, скрежетали резцы учеников и подмастерьев. Чтобы сообщить мастеру о жалобах и угрозах Жадеитовой Куколки, мне пришлось кричать.
– Я сделал все, что мог, – сказал пожилой художник, – но юная госпожа даже не соизволила назвать мне имя избранного ею бога, чтобы я мог взять за образец другие его статуи или рисованные изображения. Вот, посмотри, для работы мне дали лишь это.
И ваятель показал мне рисунок, выполненный мелком на грубой бумаге. Мой собственный рисунок, изображавший Йейак-Нецтлина. Для меня это стало полнейшей неожиданностью. Я не понимал, с чего это Жадеитовой Куколке пришло в голову придать статуе неведомого бога сходство с простым смертным, дворцовым скороходом. Однако я не стал расспрашивать госпожу, поскольку она наверняка ответила бы, что это не мое дело.
В следующий раз, показывая рисунки, я намеренно добавил к ним и шутливое изображение супруга Жадеитовой Куколки, Чтимого Глашатая. Она удостоила его лишь мимолетного взгляда, фыркнула и презрительно отбросила в сторону. А выбор ее на сей раз пал на молодого помощника придворного садовника. Именно этому юноше, его звали Ксали-Отли, я на следующий день и вручил перстень, сопроводив это необходимыми указаниями. Как и его предшественник, новый любовник госпожи был всего лишь простолюдином, однако на науатлъ говорил очень чисто. Это вселило в меня надежду, что, хотя мне в ближайшее время предстоит редко видеться с Жадеитовой Куколкой, этот юноша поможет ей совершенствоваться в благородном наречии Тескоко, так что поручение Несауальпилли будет выполнено.
Составив полный перечень всего, что поступило в качестве дани от хуаштеков, я принес свою работу отвечавшему за учет податей помощнику казначея, который по достоинству оценил мой труд, удостоив его похвалы перед лицом своего начальника, Змея-Женщины. А господин Крепкая Кость, в свою очередь, был настолько добр, что хорошо отозвался обо мне в присутствии Несауальпилли. Так что в результате Чтимый Глашатай послал за мной и спросил, не хочу ли я попробовать свои силы в той самой работе, которой сейчас занимаетесь вы, почтенные братья. Мне предложили записывать все, что произносилось в зале, где юй-тлатоани заседал со своим Изрекающим Советом, и в палате справедливости, где он принимал простых аколхуа, являвшихся к нему с жалобами и прошениями.
Естественно, я взялся за эту работу с радостью и энтузиазмом, и хотя поначалу она давалась мне непросто и случались ошибки, но в конечном счете и этот мой труд был удостоен похвалы. К тому времени я уже набил руку в письме, так что мог изображать символы красиво и точно, однако на моей новой должности требовалась еще и быстрота. Скажу с гордостью, в этом мне тоже удалось преуспеть, хотя, конечно, скорость моего письма, почтенные господа писцы, не шла ни в какое сравнение со скоростью вашего. А ведь на советах, приемах и судах требовалось записывать практически каждое слово, причем зачастую несколько человек говорили одновременно. К счастью, в таких случаях у нас, так же как и у вас, одновременно работали несколько опытных писцов, поэтому то, что упустил один, как правило, всегда мог восполнить другой.
Я быстро научился рисовать по ходу дела только те знаки, которые отражали лишь самое важное из сказанного, а уже потом, на досуге, припоминал детали, заполнял пропуски и превращал свою скоропись в подробную развернутую запись. После этого я переписывал текст начисто и добавлял краски, которые делали его полностью понятным. Подобный порядок действий не только помогал мне делать записи быстрее, но и способствовал улучшению памяти.
Весьма полезным изобретением стали придуманные мною, если можно так выразиться, составные символы, отображавшие целую последовательность слов. Например, изображение одного лишь кружка, знака открытого рта, обозначало длинную тираду, С которой каждый выступавший начинал свою речь. Это было традиционное обращение к юй-тлатоани: «В высочайшем присутствии благороднейшего нашего повелителя и господина, Чтимого Глашатая Тескоко Несауальпилли...» Если же речь шла о том, что случилось давно, или, напротив, о совсем недавних событиях, я предварял запись изображением младенца, обозначавшего «новое», «недавнее», или же стервятника – символа «старости», «былого». Ну да ладно... я понимаю, что это не слишком ценные воспоминания, которые могут представлять хоть какой-то интерес разве что для моих собратьев писцов. Признаюсь честно, я так подробно говорил обо всех этих вещах по той простой причине, что мне не хочется рассказывать о некоторых других. Прежде всего о том, как я выполнял поручения своей госпожи, Жадеитовой Куколки.
– Мне требуется новое лицо, – заявила она, хотя мы оба знали, что требовалось ей отнюдь не лицо. – И я не собираюсь ждать, пока ты соберешь новую подборку рисунков. Дай-ка мне взглянуть на те, что ты уже сделал.
Я принес госпоже все, что у меня имелось, и она, быстро просмотрев рисунки, сказала:
– Вот этот вроде бы неплох. Кто он такой?
– Какой-то раб, которого я видел во дворце. Кажется, носильщик или кто-то в этом роде.
– Выполняй! – скомандовала Жадеитовая Куколка, вручая мне перстень.
– Моя госпожа, – изумился я. – Раб?!
– Когда у меня появляется срочная потребность, я особо не привередничаю, – призналась она. – Кроме того, иметь дело с рабами порой совсем неплохо. Хотя бы потому, что от них можно потребовать любых непристойностей: эти бедолаги ни в чем не осмелятся мне отказать. – И красавица улыбнулась своей слащавой улыбкой пресыщенной женщины. – Чем меньше у человека прав, тем сильнее он пресмыкается, стараясь угодить.
Прежде чем я успел что-либо возразить, Жадеитовая Куколка подвела меня к алькову в стене и сказала:
– Посмотри. Вот второй бог, которого я заказала у так называемого ваятеля Пицкуитля.
– Это не бог! – в ужасе воскликнул я, уставившись на новую статую. – Это младший садовник Ксали-Отли.
– Тебе, как и всем в Тескоко, следует считать, что это малоизвестный бог, почитаемый в Теночтитлане моей семьей. Но не беспокойся: этот старый бездарь Пицкуитль так его изобразил, что и мать родная не узнает. Я уже послала в Мешико за художниками, о которых говорила. Они прибудут сюда сразу после праздника Очпанитцили. Иди и скажи Пицкуитлю, что я велю приготовить для них мастерскую и снабдить их всеми материалами, какие потребуются. А потом найди того раба и дай ему перстень. Выполняй!
Когда я снова явился к скульптору, он ворчливо сказал:
– Могу лишь повторить, что не так просто делать статую на основе рисунка. Хорошо хоть, на сей раз госпожа дала мне еще и череп.
– Что?
– Ну да, добиться сходства гораздо легче, когда у тебя под рукой подлинные лицевые кости, на которые остается лишь вместо плоти налепить глину.
Не желая поверить в то, о чем мне следовало бы догадаться гораздо раньше, я запинаясь пробормотал:
– Но... но, мастер Пицкуитль... никто не может обладать черепом бога.
Он смерил меня долгим взглядом из-под тяжелых век и ответил:
– Я знаю одно: мне дали череп недавно умершего молодого мужчины, строение лицевых костей которого примерно соответствовало полученному мною рисунку, и сказали, что речь идет о каком-то второстепенном боге. Я не жрец, чтобы подвергать сомнению подлинность этого бога, и я не такой дурак, чтобы позволить себе сомневаться в словах великой госпожи, супруги правителя. Я просто исполняю то, что мне поручают, и поэтому мой собственный череп до сих пор остается в целости и сохранности. Ты все понял?
Я молча кивнул. Да уж, наконец-то я все понял, причем слишком хорошо.
– Что касается новых, прибывающих по приказу госпожи художников, то мастерская для них будет готова, – продолжил мастер. – Но скажу откровенно: я не завидую никому, кто находится в услужении у госпожи Жадеитовой Куколки. Ни самому себе. Ни им. Ни тебе.
Вот уж точно, мое положение, положение сводника и пособника убийцы, было незавидное. Но увы, я увяз уже так глубоко, что не видел никакой возможности освободиться. А потому отправился искать парнишку, звавшегося, на высокопарный манер рабов, Ньец-Уийотль, что значит Я Обрету Величие. Видимо, его способности не соответствовали столь многообещающему имени, ибо вскоре Жадеитовая Куколка призвала меня снова.
– Ты был прав, Выполняй, – промолвила она. – С рабом вышла ошибка: это существо и впрямь возомнило себя человеком. – Красавица рассмеялась: – Ну что ж, в скором времени он станет богом, а это всяко больше того, на что такое ничтожество вообще могло рассчитывать. Но это наводит меня вот на какую мысль. Мой супруг и господин может в конечном счете задуматься, почему в моих покоях стоят лишь статуи богов мужского пола: мне не помешает обзавестись хотя бы одной богиней. В последний раз среди твоих рисунков я приметила миловидное женское лицо. Принеси этот листок, я хочу взглянуть на него еще раз.
С тяжелым сердцем выполнил я приказ госпожи, проклиная себя за то, что вообще сделал этот набросок, пленившись очарованием незнакомой красавицы. Она и впрямь привлекала множество мужских взглядов, зажигавшихся мечтами и желаниями, хотя сама была замужней женщиной, супругой процветающего кожевенника, державшего лавку на рынке Тескоко. Звали ее Немальуфли, и она поражала не только своей совершенной, цветущей красотой, но еще и тем, что буквально лучилась счастьем. И имя ей подходило: оно означало Сама Утонченность.
Жадеитовая Куколка внимательно присмотрелась к изображению и, к моему облегчению, сказала:
– Я не могу послать тебя к ней, Выполняй! Это было бы нарушением приличий и могло бы вызвать нежелательный шум. Я пошлю одну из моих рабынь.
К сожалению, вопреки надеждам мне не удалось остаться непричастным к этой истории, ибо вскоре юная госпожа заявила:
– Эта женщина, Немальуфли, придет сюда сегодня вечером. И – поверишь ли? – она станет первой женщиной, с которой я займусь тем, чем обычно занимаюсь с мужчинами. Я хочу, чтобы ты захватил свои рисовальные принадлежности и изобразил нашу забаву во всех подробностях, дабы я потом могла полюбоваться всем, что мы с ней проделаем.
Разумеется, меня все это напугало и огорчило, причем по трем причинам. Во-первых, я злился на себя из-за того, что невольно навлек на Саму Утонченность беду, во-вторых (сознаюсь, это было эгоистично), после такой ночи я уже никак не смог бы утверждать, что не знал, что за дела творятся в покоях моей госпожи. В-третьих, я содрогался при одной лишь мысли о том, что мне придется стать вынужденным свидетелем акта, требовавшего, по моему глубокому убеждению, уединения. Но поскольку возможности уклониться так и так не было, я, к стыду своему, испытывал одновременно и некое извращенное любопытство. Разумеется, само слово «патлачуиа» мне слышать доводилось, но на практике я просто не мог себе представить, как две женщины могут заниматься этим друг с другом.
Сама Утонченность выглядела, как всегда, веселой, хотя и несколько озадаченной этим загадочным приглашением. Стояло лето, ночь была теплой, но красавица явилась в накидке: возможно, ей было велено по пути во дворец закрывать лицо плащом.
– Моя госпожа? – деликатно промолвила она, переведя вопросительный взгляд с юной супруги правителя на меня, сидевшего со стопкой бумажных листов на коленях. Мне следовало бы постараться деликатно скрыть свое присутствие, но поскольку я плохо видел, то мог запечатлевать происходящее только с близкого расстояния.
– Не обращай внимания на писца, – сказала Жадеитовая Куколка. – Смотри только на меня. Во-первых, я должна быть уверена, что твой муж ничего не знает об этом посещении.
– Ничего, моя госпожа. Он спал, когда я ушла. Твоя служанка сказала мне, чтобы я ничего ему не говорила, и я не говорила, ибо подумала, тебе может понадобиться от меня что-то, что не касается мужчин.
– Именно так, – удовлетворенно улыбаясь, промолвила хозяйка, а когда гостья вновь перевела взор на меня, резко заявила: – Я же сказала, не обращай на писца внимания. Он ничего не видит и не слышит. Это просто предмет обстановки. Его не существует. – Потом она понизила голос, и он зазвучал завораживающе томно: – Мне говорили, что ты одна из самых красивых женщин в Тескоко. Как видишь, я тоже. Думаю, мы могли бы не без удовольствия сравнить наши прелести.
С этими словами она потянулась и сдернула через голову накидку с Немальуфли. Гостья, естественно, удивилась тому, что супруга правителя лично снимает с нее верхнюю одежду, а потом и испугалась, когда Жадеитовая Куколка следом за накидкой взялась и за блузу, в результате чего посетительница оказалась обнаженной до пояса.
Ее испуганный взор метнулся ко мне, однако я, словно ничего особенного не происходило, придал лицу бесстрастное выражение и сосредоточился на только что начатом рисунке. Не думаю, чтобы потом Сама Утонченность взглянула на меня еще хоть раз: похоже, ей каким-то образом удалось убедить себя в том, будто я и вправду не живой человек, а какой-то неодушевленный предмет. Ибо, не сумей бедная женщина выбросить меня из своего сознания, она, наверное, умерла бы от стыда.
В то время как гостья неподвижно, словно обратившись в статую, стояла посреди комнаты с не прикрытой одеждой грудью, Жадеитовая Куколка с нарочитой медлительностью, как, наверное, делала, когда желала возбудить мужчину, сняла собственную блузу и шагнула вперед, так что обнаженные тела двух женщин почти соприкоснулись. Сама Утонченность была лет на десять старше и на пядь выше юной госпожи.
– Да, – молвила Жадеитовая Куколка, – твоя грудь действительно красива. Только, – она сделала вид, будто надула губки, – почему твои соски выглядят так робко? Разве они не могут набухнуть и затвердеть, как мои? – Она привстала на цыпочки, подалась грудью вперед и воскликнула: – Ты только посмотри, они соприкасаются! Наши груди так подходят одна к другой, моя дорогая! Может быть, подойдет и все остальное?
И она припала губами к губам Самой Утонченности. Та не закрыла глаз, и выражение ее лица не изменилось, но щеки Жадеитовой Куколки ввалились. Спустя мгновение она слегка отстранилась и с восторгом прошептала:
– Ну конечно, я ведь знала, что твои соски могут набухнуть. Смотри, как восхитительно трутся они о мои. – Она снова подалась вперед для очередного поцелуя, и на сей раз Сама Утонченность закрыла глаза, словно боясь того, что может невольно в них отразиться.
Они обе стояли неподвижно достаточно долго, так что я успел их запечатлеть: Жадеитовая Куколка поднялась на цыпочки, и соприкасались у них лишь губы и груди. Потом девушка потянулась и развязала пояс женщины: юбка с шелестом упала на пол. Я увидел, как Сама Утонченность вздрогнула и непроизвольно сомкнула ноги. Спустя мгновение Жадеитовая Куколка развязала также пояс собственной юбки и, поскольку под юбкой у нее ничего не было, осталась совершенно нагой, если не считать золоченых сандалий. Однако, прижавшись к гостье всем телом, она поняла, что та, как всякая порядочная женщина, носила нижнее белье, и, отпрянув, воззрилась на нее со смесью удивления, насмешки и легкой досады.
– Я не стану снимать твое последнее скромное прикрытие, Сама Утонченность, – нежно прошептала она, – и не стану просить тебя это сделать. Я добьюсь того, что тебе самой этого захочется.
Юная госпожа взяла женщину за руку и потянула ее за собой к большому, осененному балдахином ложу. Они улеглись на него, ничем не прикрывшись, а я подошел поближе со своими мелками и листами бумаги.
Брат Херонимо полагает, что это уж слишком? Ну что ж, не стану спорить. Правда, то, что я видел тогда, трудно позабыть. Но конечно, если вам угодно, я избавлю ваш чувствительный слух от описания подробностей. Скажу лишь, почтенные писцы, что я не один раз становился свидетелем изнасилований: того, как воины, и наши, и ваши, неистово набрасывались на своих пленниц. Но за всю свою жизнь мне не доводилось видеть, чтобы не только тело, но и душа женщины были бы изнасилованы другой женщиной так бесстыдно, так похотливо и так всецело, как проделала это Жадеитовая Куколка по отношению к Самой Утонченности.
И что еще меня тогда особенно поразило, так это то, каким образом юная девушка ухитрилась полностью подчинить себе взрослую, замужнюю женщину. Не прибегая к силе, угрозам или приказам, она одними своими прикосновениями, поцелуями и ласками довела Саму Утонченность до такого состояния, что та уже не владела собой.
Может быть, здесь уместно будет упомянуть, что у нас, когда речь идет о соблазнении женщины, принято употреблять выражение «ласкать цветами»...
Некоторое время Сама Утонченность покорно, но безразлично лежала на ложе, тогда как Жадеитовая Куколка губами, языком и самыми кончиками своих пальцев прикасалась к опущенным векам женщины, к ее ресницам, ушным раковинам, углублению в горле, выемке между грудями, обнаженному животу и пупку. Раз за разом языком или кончиком пальца она медленно выводила спирали вокруг одного из теперь уже напрягшихся сосков гостьи, перед тем как ущипнуть или лизнуть его. Юная госпожа больше не припадала к губам Самой Утонченности в страстных поцелуях, но время от времени шаловливо облизывала ее закрытые губы. Постепенно губы женщины, как и ее груди, стали набухать и краснеть. Ее гладкое, медного оттенка тело местами покрылось гусиной кожей и стало подрагивать.
Порой Жадеитовая Куколка прерывала свои ласки и крепко прижималась к Самой Утонченности всем телом, извиваясь в экстазе. Та, даже не открывая глаз, чувствовала, что происходит с юной госпожой. Равнодушной к этому могла бы остаться лишь каменная статуя, а женщина, пусть даже самая добродетельная и запуганная, – отнюдь не изваяние. Когда юная госпожа в очередной раз затрепетала в экстазе, Сама Утонченность откликнулась стоном и впервые по своей воле припала к губам Жадеитовой Куколки. Губы женщин слились, они обе застонали, трепетные тела крепко прижались одно к другому, и гостья, протянув руку, уже по своей воле сорвала с бедер разделявшую их ткань.
Потом Сама Утонченность снова закрыла глаза, вытянулась и укусила тыльную сторону своей ладони, не удержавшей всхлип. Она опять застыла неподвижно, а Жадеитовая Куколка продолжила свое соблазнение. Но теперь лежавшая на ее разворошенной постели женщина была полностью обнажена, так что юная госпожа получила доступ к спрятанным ранее интимным местам. Некоторое время Сама Утонченность удерживала ноги плотно сжатыми, но потом медленно, словно вопреки ее воле, они стали раздвигаться. Сначала самую капельку, потом чуточку больше...
Жадеитовая Куколка зарыла свою голову между ними, ища то, что она когда-то описала мне как «маленькую розовую жемчужину». Это продолжалось некоторое время, за которое гостья, словно испытывая муки, издала множество охов и стонов, а потом наконец выгнулась и забилась в экстазе. Ну а затем, придя в себя, она, должно быть, решила, что, раз зашла так далеко, терять ей уже нечего, и начала вытворять с Жадеитовой Куколкой то же самое, что до этого та проделывала с ней. Они сливались воедино в разнообразных позициях: то как мужчина и женщина, целуя одна другую в губы и соприкасаясь промежностями; то обняв друг друга за бедра и используя свои языки в качестве миниатюрных, но зато более проворных и неутомимых заменителей мужского члена. Порой они устраивались так, что смыкали свои лона и старались соприкоснуться и потереться друг о друга «маленькими розовыми жемчужинами».
Это их положение напомнило мне легенду о возникновении человечества. По нашим поверьям, когда на Земле миновали эры богов и гигантов, боги решили подарить ее людям. Однако подобных существ тогда просто не существовало, так что им пришлось изготовить одинаковое количество мужчин и женщин. Однако эти первые люди оказались неудачными, ибо и у мужчин, и у женщин не было ног, а то, что расположено между ними, заменяли гладкие выпуклости. Легенда гласит, что боги намеревались скрыть срамные части людей из скромности, но в это трудно поверить, ибо сами они, и боги и богини, всегда были привержены плотским радостям и ни скромностью, ни сдержанностью сроду не отличались.
Так или иначе, эти первые люди вполне могли, прыгая на обрубках тел, наслаждаться всеми красотами подаренного им богами мира, но не имели возможности наслаждаться друг другом, к чему, несмотря на отсутствие необходимых органов, все же стремились, ведь недаром они были изначально разделены на два разных пола. К счастью для будущего человечества, эти первые люди нашли выход из положения: мужчина и женщина одновременно подпрыгнули и (так спариваются в полете некоторые насекомые) соединили в воздухе нижние части своих тел с такой силой, что произошло совокупление. Признаюсь, легенда эта не слишком внятна, ибо не объясняет, как же именно все-таки произошло соитие, что способствовало зачатию и как первые женщины сумели разрешиться от бремени. Но так или иначе они это сделали, и следующее поколение людей появилось на свет уже с ногами и с половыми органами. Глядя на то, как Жадеитовая Куколка и Сама Утонченность нетерпеливо трутся друг о друга промежностями, я не мог не вспомнить о первых людях, вознамерившихся совокупиться, несмотря на отсутствие необходимых для этого органов.
Должен заметить, что женщина и девушка, какие бы замысловатые позы они ни принимали и сколь бы страстно ни ласкали друг друга, все-таки не впадали в то грубое неистовство, какое бывает при спаривании с участием мужчины: движения их отличались большей плавностью и не были столь порывисты. Бывало, что обе вдруг неподвижно замирали в той или иной позе, причем так надолго, что могло показаться, будто они заснули, но потом, вместе или поодиночке, начинали дергаться и извиваться. Я потерял счет этим вспышкам страсти, но могу сказать, что Сама Утонченность и Жадеитовая Куколка в ту ночь достигли высшей точки наслаждения большее число раз, чем это удалось бы любой из них в объятиях самого выносливого мужчины.
Однако в перерывах между этими маленькими конвульсиями они оставались в своих разнообразных позах достаточно долго, так что я смог сделать множество рисунков их тел, разделенных или переплетенных. Если некоторые из рисунков и оказались смазанными или начертанными дрожащей рукой, то в этом следует винить моделей: их вид слишком уж возбуждал художника. Я ведь и сам не был каменной статуей. Созерцание совокупляющихся красавиц заставляло меня откликаться невольной дрожью, а дважды мой член непроизвольно...
Ну вот, теперь и брат Доминго покидает нас, да так стремительно! Странно, как одни и те же слова могут оказывать на разных людей совершенно противоположное воздействие. Думаю, все дело в том, что слова вызывают в наших головах яркие образы, причем так происходит со всеми, даже с писцами, которые, как считается, лишь бесстрастно внимают звукам да запечатлевают их на бумаге.
Коль скоро, однако, дело обстоит таким образом, я, пожалуй, воздержусь от описания всего прочего, чем занималась эта парочка той ночью. Скажу лишь, что в конце концов они разомкнули объятия и обессиленно растянулись на ложе. Обе тяжело дышали, их тепили набухли и покраснели, кожа лоснилась от пота, слюны и прочих выделений, а тела, словно шкуры ягуаров, были испещрены следами укусов и поцелуев.
Тихонько поднявшись со своего места рядом с кроватью, я дрожащими руками собрал разбросанные вокруг моего сиденья рисунки и отошел в дальний угол. Сама Утонченность тоже встала и медленно, словно человек, только что оправившийся от забытья, стала одеваться. В мою сторону она старалась не смотреть, но я видел, что по лицу гостьи струятся слезы.
– Тебе надо отдохнуть, – сказала ей Жадеитовая Куколка и дернула за висевшую над ложем веревочку колокольчика. – Питца проводит тебя в отдельную комнату.
Появилась заспанная рабыня, и в ее сопровождении все еще плакавшая Сама Утонченность покинула помещение.
– А что, если она расскажет обо всем своему мужу? – дрожащим голосом спросил я.
– Ничего она не расскажет, не посмеет! – уверенно заявила Жадеитовая Куколка. – Дай-ка лучше взглянуть на зарисовки.
Я вручил госпоже рисунки, и она принялась один за другим внимательно их рассматривать.
– Вот значит, как это выглядит? Изысканно... А я-то думала, что уже испытала все виды наслаждений... Как жаль, что мой господин Несауальпилли приставил ко мне только немолодых и непривлекательных служанок. Пожалуй, некоторое время мне придется довольствоваться посещениями Самой Утонченности.
Я был рад услышать это, поскольку знал, какая судьба в противном случае неминуемо ожидала бы бедную женщину.
Юная госпожа отдала мне рисунки обратно, потом потянулась и сладострастно зевнула.
– Знаешь, Выполняй, мне и правда кажется, что сегодня я испытала наибольшее наслаждение с тех пор, как попробовала ту деревянную штуковину.
«Ну что ж, это, наверное, вполне резонно, – думал я, направляясь обратно в свои покои. – В конце концов, женщина знает потребности женского тела лучше любого мужчины. Ведь только ей известны все тайны собственной чувственности, только она знает, как именно ее тело, а стало быть, и тела других женщин реагируют на различные действия и прикосновения партнера. Но если так, значит, и мужчина, получив доступ к этим знаниям, может добиться большего совершенства в искусстве плотских утех, к обоюдному удовольствию, как своему собственному, так и той, с кем он делит ложе». Исходя из этих соображений, я провел немало времени, изучая рисунки и восстанавливая в памяти детали, которые не могли запечатлеть никакие мелки.
Прошу понять меня правильно: я вовсе не гордился той ролью, которую мне пришлось сыграть в падении Самой Утонченности, но всегда считал, что человек должен по возможности извлекать пользу из всего, даже если ему приходится участвовать в самых плачевных событиях.
Увы, грехопадение Самой Утонченности отнюдь не стало самым прискорбным событием в моей жизни. Если бы я только знал, какой удар поджидает меня, когда снова вернулся домой, на родной Шалтокан, чтобы участвовать в празднике Очпанитцили.
Это название означает «Метение Дороги», сам же обряд принадлежит к числу тех церемоний, которые совершаются ради того, чтобы хорошо уродился маис. Праздник приходился на наш одиннадцатый месяц (примерно середина вашего августа) и состоял из череды различных ритуалов, кульминацией которых служила мистерия рождения Кентиотля, бога маиса. Особенностью этого торжества являлось то, что ведущую роль в нем играли женщины, мужчины же, в том числе и многие жрецы, оставались простыми зрителями.
Праздник начинался с того, что самые почтенные и добродетельные жены и вдовы Шалтокана шествовали со специально изготовленными из перьев метлами, подметая все храмы и прочие святые места острова. Потом под руководством наших храмовых прислужниц женщины разыгрывали целое ночное представление, с песнями, музыкой и танцами. Выбранная из числа жительниц острова девственница исполняла роль Тетеоинан, матери всех богов. Кульминацией ночи становилось представление, которое она совершала на вершине нашей храмовой пирамиды: сама, без участия мужчины, последовательно изображала утрату девственности, зачатие, беременность, вынашивание плода и родовые муки. Затем женщины-лучницы, выполнявшие свою задачу с превеликим пылом и рвением, но абсолютно неумело, расстреливали ее из луков. Поскольку стрелками они были никудышными, жертва, как правило, умирала долго и в мучениях.
Конечно, в последний момент почти всегда происходила подмена, ибо мы не приносили в жертву своих девушек, за исключением тех редких случаев, когда участница церемонии по каким-то причинам сама высказывала желание умереть. Таким образом, смерть обычно настигала не девственницу, изображавшую Тетеоинан, а какую-нибудь рабыню или пленницу, жизнь которой ничего не стоила. В отличие от первой части представления от жертвы не требовалось невинности, так что порой в праздничную ночь избавлялись от какой-нибудь никчемной старухи.
Так или иначе, когда неумело истыканная стрелами, истекшая кровью жертва испускала-таки дух, за дело наконец принимались жрецы. Выступив из храма, в котором до этого скрывались, они, почти невидимые в ночи из-за своих черных одежд, затаскивали тело внутрь. Там они быстро снимали кожу с одного бедра жертвы. Жрец надевал эту коническую шапочку из плоти себе на голову и выбегал из храма под взрыв музыки и песен: сие означало рождение бога маиса Кентиотля. Новорожденный «бог» вприпрыжку сбегал с пирамиды, присоединялся к танцующим женщинам, и пляски продолжались до самого утра.
Я рассказываю обо всем этом потому, что подобная церемония проводилась регулярно, а вас ведь интересуют наши обычаи. Полагаю, что в том году празднества проходили так же, как и обычно, но точно сказать не могу, ибо я уехал раньше, чем все закончилось.
Великодушный принц Ива вновь выделил мне акали с гребцами, и я, прибыв на Шалтокан, встретил там Пактли, Чимальи и Тлатли, которых тоже отпустили из школ на праздник. Вернее, Пактли уже завершил свое обучение, что не могло меня не тревожить, ибо теперь у него не оставалось никакого занятия, кроме как дожидаться смерти своего отца, владыки Красной Цапли, и освобождения престола. Ну а пока островом правил его отец, господин Весельчак мог направить все свои силы на то, чтобы с помощью моей жадной и честолюбивой матери добиться-таки своего и заполучить в жены Тцитци, отнюдь не желавшую такой участи и до сих пор ухитрявшуюся ее избегать.
Однако у меня неожиданно появился и другой, причем даже более основательный повод для беспокойства. Чимальи и Тлатли настолько не терпелось увидеть меня, что они, приплясывая от возбуждения, ждали у причала, когда причалит мое каноэ. Не успел я сойти на берег, как друзья с криками и смехом бросились мне навстречу.
– Крот, у нас новости! Новости так новости!
– Наши способности оценили по заслугам! Нас призвали ко двору Тескоко!
Они говорили так сумбурно, что сперва я даже не понял, о чем речь. А когда сообразил, то пришел в ужас. Оказалось, что оба моих друга и есть те талантливые художники из Мешико, которых пригласила Жадеитовая Куколка. После каникул вместо возвращения в Теночтитлан им предстояло отправиться вместе со мной в Тескоко.
– Я буду ваять статуи, – сказал Тлатли, – а Чимальи станет раскрашивать их, чтобы они казались живыми. Так говорится в послании госпожи Жадеитовой Куколки. Представляешь? Дочь одного юй-тлатоани и супруга другого! Никогда прежде художники нашего возраста не удостаивались такой чести!
– Мы и понятия не имели, что госпожа Жадеитовая Куколка вообще видела работы, выполненные нами в Теночтитлане! – воскликнул Чимальи.
– А она, оказывается, видела и пришла в такое восхищение, что призвала нас к себе! – восторженно подхватил Тлатли. – Должно быть, у этой госпожи хороший вкус.
– Вкусы у этой госпожи весьма разнообразные, – уныло пробормотал я.
Мои друзья почувствовали, что я почему-то не разделяю их восторгов, и Чимальи чуть ли не извиняющимся тоном сказал:
– Это наш первый настоящий заказ, Крот. Статуи и картины, которые мы создавали в городе, представляли собой лишь элементы убранства нового дворца Ауицотля, так что платили нам не больше, чем каменщикам. А в этом послании говорится, что нам выделят целую мастерскую, с инструментами и материалами. Естественно, что мы просто не помним себя от восторга. Но скажи, тебя что-то смущает?
– Может быть, эта госпожа тиранка, которая заставит нас работать до смерти? – спросил Тлатли.
Я мог бы ответить, что насчет смерти он действительно попал в точку, однако вместо этого пробормотал:
– Эта госпожа не без некоторых странностей, но у нас еще будет время поговорить о ней. А сейчас прошу прощения, но я сам устал, как ты выразился, до смерти.
– Конечно, Крот, – откликнулся Чимальи. – Давай мы отнесем домой твой багаж. Тебе надо встретиться с родными, поесть, хорошенько отдохнуть, а уж потом ты обязательно расскажешь нам все о Тескоко и дворце Несауальпилли. Мы не хотим, чтобы нас там посчитали невежественными провинциалами.
И всю дорогу мои приятели продолжали весело болтать о том, как им повезло. Я же слишком хорошо понимал, что рано или поздно «художества» Жадеитовой Куколки все равно выйдут на свет, а когда это произойдет, гнев Несауальпилли обрушится на всех, кто пособничал молодой госпоже совершать прелюбодеяния и убийства. У меня, правда, теплилась слабая надежда на то, что я понесу не самое строгое наказание, ибо действовал в точном, буквальном соответствии с приказами правителя, тогда как все остальные выполняли преступные указания Жадеитовой Куколки и вряд ли могли рассчитывать на пощаду. Мысленно я уже видел на шеях Питцы, ночного привратника, а возможно, мастера Пицкуитля, а заодно и Тлатли с Чимальи веревочные петли, замаскированные цветочными гирляндами.
Дома отец и сестра заключили меня в радостные объятия. Объятия матушки были более вялыми, но она сослалась на то, что весь день орудовала метлой в разных храмах. Мама подробно рассказывала о том, как готовятся женщины острова к Очпанитцили, но я мало что слышал, потому что пытался придумать какой-нибудь повод, чтобы ускользнуть и уединиться с Тцитци.
Мне не терпелось не столько продемонстрировать сестре кое-что из почерпнутого мною во время наблюдений за Жадеитовой Куколкой и Самой Утонченностью, сколько поговорить о своем двусмысленном положении при дворе Тескоко и посоветоваться насчет того, как уберечь Чимальи и Тлатли от столь незавидной участи.
Однако матушка продолжала сетовать на то, как тяжело мести целый день храмы, до самого вечера. А с наступлением темноты к нам в дом ввалились облаченные в черное жрецы.
Четверо жрецов явились за моей сестрой.
Даже не поздоровавшись с хозяевами (служители богов всегда пренебрегали правилами приличия), один из жрецов, не обращаясь ни к кому из присутствующих в отдельности, громко вопросил:
– Здесь ли жительствует девица по имени Чиучнауи-Акатль-Тцитцитлини?
Разобрать слова было непросто, ибо хриплый голос жреца походил на какое-то птичье курлыканье. Что не удивляло, ибо многие храмовые служители в знак покаяния и смирения прокалывали себе языки, а потом еще и расширяли отверстия, вставляя в них все более и более толстые камышинки, веревки или колючки.
– Да, это моя дочь, – сказала мать, горделиво указывая на сестру. – Девятая Тростинка, Звенящий Колокольчик.
– Тцитцитлини, – прохрипел неопрятный старик, обращаясь уже непосредственно к девушке. – Мы пришли сообщить, что тебе оказана высокая честь. В последнюю ночь Очпанитцили ты будешь изображать богиню Тетеоинан.
– Нет! – непроизвольно произнесла сестра одними губами и, в ужасе глядя на четырех облаченных в черные рубища жрецов, провела дрожащей рукой по своему лицу. Его желтовато-коричневая кожа приобрела цвет самого бледного янтаря.
– Ты пойдешь с нами, – заявил другой жрец. – Следует соблюсти некоторые предварительные формальности.
– Нет, – повторила Тцитци, на сей раз громко.
Она обернулась, глянула на меня, и сердце мое упало. Глаза сестренки, полные ужаса и понимания, что ее ждет, были бездонно черными, так расширялись от закапанного в них снадобья зрачки Жадеитовой Куколки. Мы оба прекрасно знали, что это за «предварительные формальности» – женщины, прислужницы жрецов, будут осматривать удостоившуюся чести девственницу с целью удостовериться, что она действительно является таковой. Как я уже говорил, Тцитци были известны средства, позволявшие выдать себя за девственницу, но эти стервятники нагрянули совершенно неожиданно, и теперь у нее не было ни малейшей возможности принять необходимые меры.
– Тцитцитлини, – с мягким укором промолвил отец. – Отказываться тебе никак нельзя. Это будет неучтиво по отношению к жрецам, к женщинам нашего острова, остановившим на тебе свой выбор и тем самым оказавшим тебе честь, и, что хуже всего, по отношению к самой богине Тетеоинан.
– Это также рассердит нашего достойного правителя, – вставила мать, – ибо девственница в этом году была избрана по совету владыки Красной Цапли и его сына.
– Но меня-то никто не спросил! – воскликнула сестра в последнем порыве неповиновения.
Теперь мы с ней поняли, кто предложил Тцитци на роль Тетеоинан, не посоветовавшись с ней и не спросив ее согласия. Поняли мы и почему так получилось. Все произошло по наущению матушки, которая, во-первых, хотела похвастаться оказанной ее дочери высокой честью перед другими женщинами, а во-вторых, надеялась, что Тцитци в роли богини еще более распалит вожделение господина Весельчака, что подстегнет его к свадьбе. Маме очень хотелось, чтобы наше семейство причислили к знати, и ради этого она готова была отдать дочь Пактли в жены.
– Почтеннейшие жрецы, – взмолилась Тцитци, – я совершенно непригодна для этой роли. Если выступать придется мне, то все будут смеяться над моей неловкостью, что станет оскорблением для богини.
– Вранье! – отмел все возражения один из жрецов. – Мы видели, как ты танцуешь, девушка. Идем с нами. И немедленно!
– Предварительные формальности не займут много времени, – подхватила мать. – Иди, Тцитци, а как вернешься, поговорим о твоем наряде. Ты ведь у нас красавица. И ты будешь самой красивой Тетеоинан, когда-либо вынашивавшей Кентиотля.
– Нет, – слабо пролепетала сестра, отчаянно пытаясь придумать отговорку. – Я... время неподходящее... месячные...
– Никаких «нет»! – рявкнул жрец. – Мы не приемлем никаких возражений. Если ты не пойдешь сама, мы уведем тебя силой.
Мы с сестренкой не смогли даже попрощаться, поскольку предполагалось, что она уходит совсем ненадолго. Двинувшись к двери в окружении четырех вонючих стариков, Тцитци бросила на меня лишь один отчаянный взгляд, да и тот я чуть было не проглядел, потому что мои глаза в этот момент обшаривали помещение в поисках чего-нибудь, что могло бы сойти за оружие. Клянусь, окажись у меня под рукой макуауитль Пожирателя Крови, я, словно сквозь «сорную траву», прорубил бы себе путь, прорвавшись через жрецов и родителей, и мы вдвоем убежали бы куда глаза глядят. Но ничего острого или тяжелого в пределах досягаемости не нашлось, а нападать с голыми руками было бесполезно. В свои двадцать лет я, пожалуй, совладал бы с четырьмя стариками, но никак не с могучим, привычным к работе с камнем отцом. Он удержал бы меня без особого труда, а мой порыв навлек бы на нас обоих лишние подозрения. Так что последствия оказались бы роковыми. Хотя и так все в конце концов обернулось хуже некуда.
С тех пор прошло много лет, и я не раз задавался вопросом: не лучше ли было тогда сделать хоть что-то? До сих пор я ищу объяснения своему бездействию. Было ли оно вызвано обычной трусостью? Ведь я знал, что разоблаченная Тцитци ни за что меня не выдаст. Или же во мне теплилась отчаянная надежда на то, что сестре каким-то образом удастся ввести осматривающих ее женщин в заблуждение, и тогда я все испорчу своим вмешательством? А может, таков просто был тонали – и мой, и сестренкин? Этого я не знаю и никогда не узнаю. Однако, так или иначе, момент был упущен, и стая стервятников, окружив Тцитци, увела ее из родного дома.
Обратно в ту ночь она не вернулась.
Мы сидели и ждали, не ложась спать даже после того, как протрубили храмовые раковины, и за все это время никто из нас не проронил ни слова. Разумеется, отца беспокоило, что «предварительные формальности» затянулись так надолго, да и мать явно начинала опасаться, что какие-то препоны смогут помешать ее столь хитроумному замыслу. Но в конце концов она рассмеялась и сказала:
– Не стоит переживать, разве жрецы отослали бы Тцитци домой в темноте? Наверняка она заночевала при храме, вместе с прислужниками. Чем зря беспокоиться, давайте-ка лучше ложиться спать.
Я улегся на свой тюфяк, но сон не шел. В голову лезли страшные мысли: ведь жрецы, выяснив, что Тцитци не девственница, вполне могли воспользоваться ею как мужчины. Разумеется, посвящая себя богам, все наши жрецы давали обет безбрачия, но ни один человек в здравом уме не поверил бы, что они всю жизнь соблюдали чистоту и воздержание. После того как прислужницы осмотрят Тцитци и установят, что она уже потеряла девственность, жрецы смогут делать с ней все, что угодно, ибо в каком бы состоянии она ни покинула храм, это все равно будет приписано предыдущему распутству. А уж о том, чтобы выдвинуть против жрецов обвинения, не могло быть и речи.
В муках катался я по постели, представляя себе, как похотливые жрецы пользуются Тцитци всю ночь напролет, один за другим, как они радостно зовут всех прочих жрецов из других храмов Шалтокана. Дело тут было даже не в том, что в другое время служители богов не имели возможности удовлетворять свое вожделение: скорее всего, для этого использовались храмовые прислужницы. Но как вы, почтенные братья, может быть, уже и сами заметили по своим монахиням, женщины, решившие посвятить себя служению Богу, как правило, не принадлежат к тем, которые, лицом ли, фигурой ли, способны разжечь в мужчине неудержимое желание. Так что, надо думать, заполучив в ту ночь юную красавицу, самую желанную девушку Шалтокана, жрецы были вне себя от радости.
Я представлял себе, как они хищной черной стаей налетают на беспомощно распростертое тело Тцитци. Помимо всего прочего, жрецы давали еще и обет никогда не снимать своих черных одежд, однако, даже если они и нарушили его ради такого случая, их нагие тела все равно были грязными и вонючими, ибо жрецы с момента принятия сана никогда не мылись.
Надеюсь, что все это было всего лишь плодом моего воспаленного воображения. Очень хочется верить, что моя прекрасная возлюбленная не стала в ту ночь добычей отвратительной черной стаи. Впоследствии ни один жрец ни словом не обмолвился о том, что произошло в храме той ночью, а поутру Тцитци так и не вернулась домой.
Вместо нее явился жрец, один из четырех приходивших накануне, и без всякого выражения сообщил:
– Ваша дочь признана недостойной выступать на празднике в роли Тетеоинан, ибо установлено, что она имела плотские отношения по меньшей мере с одним мужчиной.
– Ййа, оийааййа! – запричитала матушка. – Какой позор!
– Просто невероятно, – пробормотал отец. – Тцитци всегда была такой хорошей девочкой. Я не могу поверить...
– Может быть, – сказал без обиняков жрец, – вы вместо этого добровольно согласитесь отдать свою дочь для жертвоприношения?
– Где она? – сквозь зубы спросил я жреца.
– Когда служительницы храма установили, что девушка не соответствует требованиям, – бесстрастно ответил жрец, – об этом было доложено во дворец правителя, откуда поступил приказ доставить ее туда для беседы с...
– Пактли! – вырвалось у меня.
– Вот уж для кого будет удар, – сказал отец, печально покачав головой.
– Глупец! Да он просто придет в ярость! – выпалила мать. – И из-за этой шлюхи, твоей дочери, удар обрушится на всех нас.
– Сейчас же иду во дворец, – заявил я.
– Нет, – решительно возразил жрец. – Я понимаю, что вы все волнуетесь, но правитель приказал привести только девушку. Она отправилась туда в сопровождении двух наших прислужниц. Никто из вас не должен просить об аудиенции вплоть до особого распоряжения.
В тот день Тцитци так и не вернулась домой. И никто из соседей не зашел к нам, поскольку весь остров к тому времени уже наверняка знал о нашем позоре. И конечно, никто уже не позвал мою мать «мести дорогу». И она, предвкушавшая, что вскоре получит возможность смотреть на соседок сверху вниз, вместо этого в одночасье стала отверженной. Естественно, что это не улучшило ее и без того сварливый характер. Весь этот тоскливый день матушка изводила отца упреками в том, что он не следил за дочерью, а меня бранила за то, что я будто бы свел сестру с какими-то «дурными приятелями». Обвинение это было нелепым, но оно натолкнуло меня на интересную мысль.
Я выскользнул из дома и отправился искать Чимальи и Тлатли. Они встретили меня с некоторым смущением, пытаясь неловко выразить сочувствие.
– Один из вас может спасти Тцитци, – с ходу заявил я.
– Мы бы оба рады помочь ей, – заверил меня Чимальи. – Но вот только как?
– Не секрет, что этот несносный Пактли уже давно домогался моей сестры. Про это знает весь остров. А теперь еще стало известно и то, что Тцитци предпочла ему кого-то другого. Таким образом, сын наместника оказался всеобщим посмешищем. Он наверняка взбешен, и уязвленная гордость может подтолкнуть его к какому-нибудь ужасному поступку. Один из вас мог бы этому помешать.
– Каким образом? – спросил Тлатли.
– Женившись на Тцитци, – сказал я.
Никто никогда не узнает, какой болью отдались эти слова в моем сердце, ибо произнести их для меня означало отказаться от Тцитци и отдать ее кому-то другому. Оба друга, услышав это, отпрянули и воззрились на меня, удивленно вытаращив глаза.
– Моя сестра действительно оступилась, – продолжил я. – С этим не поспоришь, но вы ведь оба знаете ее с детства и уж, конечно, согласитесь, что она вовсе не распутница. Уверен, тот из вас, кто простил бы Тцитци, поняв, что она поступила так из нежелания достаться господину Весельчаку, получил бы самую верную и добродетельную жену, какую только можно найти. Ну а то, что красивее моей сестры на всем острове не сыскать, вы и без меня прекрасно знаете.
Юноши растерянно переглянулись, и их можно было понять. Представляю, как поразило их мое предложение.
– На вас последняя надежда, – гнул свое я. – Сейчас Тцитци как потерявшая невинность девушка всецело находится во власти Пактли. Он может объявить ее шлюхой или даже лживо обвинить в том, будто бы она изменила ему, будучи с ним помолвленной. Это равнозначно супружеской измене, и в таком случае Пактли не составит труда уговорить владыку Красную Цаплю покарать ее смертью. Но если окажется, что у девушки есть жених, тогда ничто подобное ей не грозит. – Я впился взглядом сначала в Чимальи, потом в Тлатли. – Если один из вас выступит вперед и публично попросит ее руки...
Оба друга отвели глаза.
– Понимаю, для этого требуется храбрость. Да и без насмешек тут не обойдется: конечно, нежданно объявившегося жениха сочтут именно тем, кто и обесчестил Тцитци. Но брак все покроет и защитит мою сестру от любых посягательств со стороны Пактли. Это спасет ее, Чимальи! Это будет благородный поступок, Тлатли! Я прошу вас, я просто умоляю!
Друзья снова посмотрели на меня, но теперь уже не растерянно, а печально. И Тлатли заявил от имени обоих:
– Мы не можем, Крот. Правда не можем. Ни я, ни Чимальи.
Такой ответ не только обидел и разочаровал меня, но вдобавок еще и озадачил.
– Что значит – не можете? Уж говорили бы откровенно, что попросту не хотите связываться!
Друзья стояли передо мной плечом к плечу, коренастый Тлатли и стройный как тростинка Чимальи. Посмотрев на меня с сочувствием, они снова переглянулись, и во взглядах их было нечто такое, чего я никак не мог понять.
Потом они робко взялись за руки, сцепили пальцы и снова воззрились на меня. Теперь уже с вызовом.
– О! – подавленно выдохнул я и, помолчав, добавил: – Простите меня, ребята. Мне не следовало настаивать. Какой же я дурак!
– Да что там, Крот, мы свои люди, – сказал Тлатли. – Но нам бы не хотелось, чтобы о нас пошли сплетни.
– Но в таком случае, – возобновил я свои попытки, – что мешает вам просто совершить брачную церемонию? А потом...
– Я не смогу этого сделать, – сказал Чимальи со спокойным упорством. – И Тлатли тоже не позволю. Такой поступок был бы слабостью, пятнающей то чувство, которое мы испытываем друг к другу. Постарайся взглянуть на это таким образом, Крот. Представь, что кто-нибудь предложил бы тебе жениться на одном из нас.
– Ну, такое предложение шло бы вразрез со всеми законами и обычаями. Но взять в жены Тцитци – это же совсем другое дело. Брак был бы чистой формальностью, Чимальи, а потом...
– Нет, – сказал он и добавил, не знаю уж насколько искренне: – Нам очень жаль, Крот.
– Мне тоже. – Я вздохнул, повернулся и пошел домой.
Однако я не собирался так просто отказываться от своего плана: я по-прежнему надеялся убедить одного из друзей совершить то, что, по моему глубокому убеждению, пошло бы на благо всем нам. Брак избавил бы сестру от нависшей над ней опасности, Тлатли и Чимальи – от возможных подозрений относительно характера их дружбы, а меня самого – от того, что наши с Тцитци непозволительные отношения рано или поздно выйдут наружу. Муж мог бы открыто привозить ее с собой, приезжая в Тескоко, и тайно приводить ко мне на свидания. Чем дольше я размышлял, тем все более идеальным вариантом казался мне этот план. Да Чимальи и Тлатли – просто эгоисты, если отказываются от этого брака под тем предлогом, будто это может запятнать их собственную любовь! Я должен убедить их, а если понадобится, то и припугнуть разоблачением. Я решил непременно вернуться к этому разговору и добиться своего, однако, как вскоре выяснилось, было уже слишком поздно.
В следующую ночь Тцитци снова не пришла домой.
Несмотря на это, я заснул, и снились мне не стервятники, а мы с сестрой и огромный кувшин для воды, на котором сохранился отпечаток окровавленной ладони Чимальи.
Этот сон вернул меня в те «скрытые дни», когда Тцитци нарочно уронила и разбила кувшин с водой, чтобы у нас с ней возник повод отлучиться из дома. Вода растеклась по полу и забрызгала мне лицо. Я проснулся посреди ночи и обнаружил, что оно действительно влажное, но не от воды, а от слез.
На следующее утро за нами прислали из дворца правителя. Причем, как ни странно, гонец сообщил, что владыка Красная Цапля и господин Весельчак желают видеть вовсе не главу семьи, как это можно было бы предположить, но нашу мать. Отец дожидался ее возвращения молча, понурившись, избегая встречаться со мной взглядом. Когда мама вернулась, лицо ее было бледным, а руки, пока она снимала с головы и плеч платок, дрожали; однако от былой ее подавленности не осталось и следа. Матушка вовсе не выглядела женщиной, пережившей утрату и убитой горем.
– Дочь мы, похоже, потеряли, однако это еще не значит, будто мы потеряли всё, – промолвила она.
– В каком смысле – мы потеряли Тцитци? – спросил я.
– Ну, она так и не явилась во дворец, – ответила мать, не глядя на меня. – Обманула охранявших ее храмовых прислужниц и сбежала. Бедный Пактцин, он от всего этого едва не лишился ума. Когда ему доложили о побеге, он велел искать беглянку по всему острову, но Тцитци так и не нашли, а один птицелов сообщил, что у него украли каноэ. Помнишь, – обратилась она к отцу, – как твоя дочь однажды пригрозила, что именно это и сделает: украдет акали и сбежит с острова?
– Да, – отозвался он безучастно.
– Так вот, похоже, Тцитци так и поступила. А поскольку угадать, куда именно она направилась, невозможно, Пактли пришлось отказаться от поисков. Сердце его разбито, как и наши сердца. – Это была настолько явная ложь, что мать поспешила продолжить, прежде чем успел заговорить я: – Увы, придется смириться с тем, что беглянка потеряна для нас навсегда. Тцитци всегда была очень своевольной, к тому же она сама виновата в том, что случилось. Так что вряд ли девчонка осмелится объявиться на Шалтокане снова.
– Не верю ни единому слову! – заявил я, но матушка оставила мою реплику без внимания и продолжила, обращаясь к отцу:
– Правитель, как и Пактли, понимает наше горе и вовсе не считает нас виновными. Что же делать, раз наша дочь оказалась недостойной и своенравной! Знаешь, владыка Красная Цапля мне прямо так и сказал: «Я всегда уважал Кивуна, и мне хотелось бы сделать для него хоть что-нибудь, чтобы смягчить боль утраты. Как ты думаешь, он согласится, если я назначу его начальником каменоломен?»
Услышав это, мой отец встрепенулся.
– Что? – воскликнул он. – Не может быть!
– Представь, именно так и сказал владыка Красная Цапля, – подтвердила матушка. – Он хочет поставить тебя главным над всеми каменоломнями Шалтокана. Владыка считает, что хоть это и не избавит нас от стыда и страданий, но зато люди увидят, что ты пользуешься его уважением и доверием.
– Не верю! – повторил я.
Никогда прежде господин Красная Цапля не называл моего отца Кивуном, и мне казалось сомнительным, чтобы он вообще знал об этом его прозвище.
Мать снова оставила мои слова без внимания и продолжала говорить, обращаясь исключительно к отцу:
– Нам не повезло с дочерью, но зато повезло с текутли. Любой другой правитель отправил бы всю семью в изгнание. Только подумай – ведь из-за нашей дочери пострадал его собственный сын, а владыка проявил такое великодушие!
– Пост начальника каменоломен... – пробормотал мой отец с таким видом, словно его только что стукнуло по голове здоровенным камнем, добытым в этих самых каменоломнях. – На эту должность сроду не назначали таких молодых...
– Так ты согласен? – спросила его мать.
Отец с запинкой пробормотал:
– Ну, вообще-то... это, конечно, слабое возмещение за потерю любимой дочери, пусть даже и согрешившей...
– Так ты согласен? – снова повторила мать, уже более резко.
Отец продолжал рассуждать вполголоса:
– Но, с другой стороны, мне протянули руку поддержки и дружбы. И отказаться теперь, после того как господину наместнику уже было нанесено нашей семьей оскорбление, значит оскорбить его снова, и более того...
– Так ты согласен?!
– Ну... да. Конечно. Я согласен. Разве могу я поступить иначе. Не так ли?
– Вот именно! – воскликнула мать и потерла руки с таким довольным видом, будто только что обстряпала какое-то неблаговидное дельце. – Пусть по милости этой шлюхи, имя которой я больше никогда не произнесу вслух, нам уже не пробиться в знать, но зато среди масехуалтин мы поднялись на одну ступеньку выше. И поскольку владыка Красная Цапля готов посмотреть на наш позор сквозь пальцы, так же поступят и все остальные. Мы по-прежнему можем держать голову высоко, не стыдясь пересудов соседей. А сейчас, – деловито завершила она, – я должна идти. Меня ждут женщины, пора уже подметать у храмовой пирамиды.
– Я с тобой, дорогая, – сказал отец. – Хочу взглянуть на западный карьер, он сейчас как раз пустой по случаю праздника. У меня давно была мысль, что там надо кое-что усовершенствовать, да все руки как-то не доходили...
Когда родители вместе вышли за дверь, мать оглянулась и велела:
– Вот что, Микстли, собрал бы ты все вещи сестры да сложил бы их в одно место. Как знать, может быть, когда-нибудь Тцитци и пришлет за ними носильщика?
Я был уверен, что сестра никогда не только не захочет, но и не сможет этого сделать, но поступил, как мне было велено: сложил в корзины все, что принадлежало Тцитци. Только одну ее вещь я припрятал для себя: маленькое изображение Хочикецаль, богини любви и цветов, к которой молодые девушки обращались с просьбами о счастливом замужестве. Сестра держала фигурку этой богини возле своей кровати.
Оставшись один в доме, наедине со своими мыслями, я еще раз обдумал рассказ матери и пришел к выводу, что на самом деле случилось следующее. Прислужницы, повинуясь приказу, доставили мою сестру во дворец к Пактли. Тот убил ее – причем я даже боялся думать, каким именно способом. Его отец, возможно, и счел это справедливой карой, однако, будучи человеком благородным и справедливым, не мог одобрить самовольное убийство, совершенное без надлежащего судебного процесса и вынесения приговора. Перед владыкой Красной Цаплей неизбежно встал нелегкий выбор: либо подвергнуть суду собственного сына, либо замять все это дело. Вот почему Пактли и моя матушка, которая, как я полагаю, давно уже состояла с ним в сговоре, придумали историю о краденом каноэ и бегстве Тцитци. А чтобы окончательно все замять и отбить у нас охоту задавать вопросы или возобновлять поиски, правитель решил бросить отцу подачку.
Убрав вещи Тцитци, я сложил свои собственные, с которыми приехал из Тескоко, в переносную плетеную корзину, засунув туда и фигурку Хочикецаль, а затем взвалил корзину на плечи и вышел из родительского дома, чтобы больше никогда туда не возвращаться. Когда я спускался к берегу озера, за мной некоторое время летела бабочка, кружившая вокруг моей головы.
Мне повезло, и я нашел рыбака, который не считал святотатством работать во время праздника Очпанитцили. Он уже сидел в лодке, поджидая, когда с наступлением темноты поднимется озерный сиг. За плату, значительно превышавшую то, что он надеялся заработать за целую ночь успешного лова, рыбак, разумеется, согласился отвезти меня до Тескоко. На мой вопрос, не слышал ли он, чтобы у кого-нибудь на озере недавно пропала лодка, рыбак ответил отрицательно.
Я бросил взгляд назад, на освещенный лучами закатного солнца и казавшийся таким мирным и безмятежным остров. Шалтокан по-прежнему выступал над водой, оставаясь точно таким же, как и раньше. Правда, теперь он навеки лишился звона маленького колокольчика, но наверняка даже и не заметит столь малой потери. Ведь и владыка Красная Цапля, и господин Весельчак, и мои друзья Чимальи и Тлатли, и даже собственные родители, не говоря уж о прочих жителях Шалтокана, – все они уже согласились забыть о Тцитцитлини.
Все, кроме меня.
– В чем дело, Кивун? – воскликнула госпожа Толлана, первая, кого я встретил во дворце. – Неужели ты вернулся, не дождавшись окончания праздника?
– Да, моя госпожа. Все дело в том, что я больше не считаю Шалтокан своим домом. А здесь мне есть чем заняться.
– Ты хочешь сказать, что скучал по Тескоко? – спросила она с улыбкой. – Выходит, мы научили тебя любить наш край? Мне приятно думать так, Кивун.
– Пожалуйста, госпожа, – хрипло промолвил я, – больше не надо называть меня этим именем. Меня от него тошнит.
– Вот как? – Она присмотрелась к моему лицу, и ее улыбка погасла. – Ну что ж, выбирай тогда сам то имя, которое тебе по душе.
Вспомнив кое о чем, что мне приходилось в последнее время делать, я ответил так:
– Тлилектик-Микстли – именно такое имя выбрали для меня в книге пророчеств и предсказаний. Видно, так тому и быть. Называй меня тем, кто я есть. Темной Тучей.
IHS S.C.C.M.
Его Священному Императорскому Католическому Величеству императору дону Карлосу, нашему королю и повелителю
Его Высочайшему и Всемогущему Величеству из города Мехико, столицы Новой Испании, сегодня, в день праздника Чудотворной Иконы Всех Скорбящих, в год от Рождества Христова одна тысяча пятьсот двадцать девятый, шлем мы наш нижайший поклон.
Верный вассал своего государя искренне сожалеет о том, что не может присовокупить к последним листам сей рукописи также и «рисунки, изображающие туземцев и особенно туземных женщин, выполненные рассказчиком и относящиеся к данной хронике», указания относительно коих содержались в последнем послании Его Величества, ибо престарелый индеец, будучи о том спрошенным, лишь рассмеялся. Туземцу показалась смешной сама мысль, что такие тривиальные и неприличные наброски стоили того, чтобы хранить их все эти годы. Удивило его также и предположение о том, что, если даже наброски эти все же представляли собой некую ценность, они могли уцелеть в столь бурное и наполненное разнообразными событиями время.
Мы воздерживаемся от того, чтобы сокрушаться по поводу утраты вышеупомянутых непристойных изображений, ибо пребываем в уверенности, что, даже имейся эти картинки в наличии, они едва ли смогли бы поведать Вашему Величеству что-либо полезное. Нам известно, что столь тонкий ценитель искусства, коим является наш император и суверен, привычен к высоким произведениям искусства, достославным творениям мастеров, чьи изображения всегда безошибочно узнаваемы. Что же до пачкотни индейцев, то изображенные ими лица, как правило, не только лишены портретного сходства, но в них вообще трудно признать человеческих существ. Редчайшее исключение составляют лишь немногие более или менее правдоподобные рельефы и фрески.
Ранее Вашему Наивысочайшему Величеству было угодно повелеть своему капеллану сохранить для истории «свитки, дощечки для письма и любые другие письменные свидетельства прошлого, каковые могут подкрепить показания очевидцев». Однако мы заверяем Вас, государь, что ацтек, разглагольствуя о том, что его племени якобы ведомы искусства письма, чтения, рисунка и живописи, допускает хвастливое преувеличение. Эти дикари никогда не создавали, не имели и не сохраняли никаких летописей, где была бы записана их история, не считая разве что нескольких разрозненных, сложенных гармошкой листков, кусков кожи или дощечек, испещренных множеством примитивных фигурок, какие могли бы накарябать несмышленые детишки. На взгляд цивилизованного человека, это никак нельзя считать письменными свидетельствами, да и у самих дикарей сии «произведения» служили в качестве подспорья для их «мудрецов». Последние использовали эти каракули и картинки для подкрепления своей памяти, когда повторяли устные предания, касающиеся истории их племени или клана. Истории, заметим, в лучшем случае сомнительной, а зачастую и вовсе вымышленной.
Ко времени прибытия в эти земли вашего слуги братья-францисканцы, которых послал сюда пятью годами ранее Его Святейшество покойный Папа Римский Адриан, уже прочесали все окрестности столицы ацтеков вплоть до самых укромных уголков. Эти добрые братья собрали из всех уцелевших строений, каковые отдаленно напоминали наши архивные хранилища, не одну тысячу индейских «книг», но никак не использовали их, ожидая дальнейших указаний.
По этой причине мы, в качестве облеченного полномочиями епископа, от имени Вашего Величества самолично изучили конфискованные «библиотеки», но не обнаружили в «книгах» ничего, кроме безвкусных изображений гротескных фигур. По большей части то были воплощенные кошмары: животные, монстры, языческие боги, демоны, бабочки, рептилии и прочие твари сходной вульгарной природы. Некоторые из этих каракулей должны были, видимо, изображать человеческие существа, но делалось это в той нелепой манере, которую, как это повелось в Болонье, именуют caricatura[20], то есть в стиле абсурдном и бессмысленном.
А поскольку все эти языческие изображения не только не содержали никакой полезной информации, но и являли собой зримое воплощение гнусных дикарских суеверий и заблуждений, внушаемых самим дьяволом, мы повелели свалить тысячи таких «рукописей» в кучу на главной рыночной площади этого города и сжечь их дотла, а пепел развеять. По нашему убеждению, то был единственно подобающий конец для всех этих языческих писаний. Мы весьма сомневаемся в том, что где-либо сохранились другие памятники, проливающие свет на былые ложные «религии» народов, ставших ныне жителями Новой Испании.
Позвольте обратить внимание Вашего Величества на то, что присутствовавшие при сожжении индейцы, хотя почти все они уже были обращены в Истинную Веру, выказывали, глядя на пылающий костер, непотребную и бесстыдную скорбь, а иные даже проливали слезы, оплакивая сию языческую мерзость, как могли бы истинные христиане оплакивать уничтожаемые язычниками списки Священного Писания. Мы считаем это свидетельством того что сии существа еще не впитали догматов христианства настолько, насколько желали бы того мы и Святая Католическая Церковь. Так что у покорнейшего и смиреннейшего слуги Вашего Благочестивого Величества останется еще немало неотложных обязанностей епископа, относящихся к более настоятельному распространению Святой Веры.
Мы молим Ваше Величество проникнуться пониманием того, что подобные обязанности должны быть приоритетными, так что слушанию разглагольствований вышеупомянутого болтливого ацтека мы можем посвятить лишь немногие, изредка выпадающие нам свободные часы, а также просим Ваше Величество понять, что по тем же самым причинам мы время от времени вынуждены пересылать пакеты с записанными со слов дикаря хрониками, не сопроводив их какими-либо комментариями, а порой даже и без предварительного прочтения.
Да сохранит Господь Вседержитель жизнь Вашего Священного Величества на многие предстоящие годы и да расширит Он владения Вашей империи, о чем неустанно пребывает в молениях Ваш смиренный и покорный слуга, епископ Мексики
Хуан де Сумаррага
(подписано собственноручно).
QUINTA PARS[21]
Маленький раб Коцатль приветствовал мое возвращение в Тескоко с неподдельным восторгом и облегчением, потому что, как выяснилось, Жадеитовая Куколка была чрезвычайно раздосадована моим отъездом и все свое дурное настроение выплескивала на него. Хотя у молодой госпожи имелся внушительный штат служанок, она в мое отсутствие задействовала и Коцатля, причем то взваливала на мальчика тяжелую и нудную работу, то просто заставляла его бегать рысцой, а то и без всякой причины подвергала порке.
Коцатль намекнул, что ему приходилось выполнять без меня поручения самого низкого свойства, а когда я поднажал на него как следует, поведал, что женщина по имени Сама Утонченность во время очередного визита к госпоже выпила яд и скончалась в страшных мучениях, с пеной у рта. С тех пор Жадеитовой Куколке приходилось довольствоваться любовниками, которых находили для нее Коцатль и служанки, которым, как я понял, это удавалось хуже, чем мне. Однако госпожа не стала немедленно по прибытии давать мне какие-либо поручения, не прислала ко мне раба с приветствием и вообще никак не дала понять, что знает о моем возвращении и что это ее интересует. Жадеитовая Куколка была занята в церемонии Очпанитцили, проводившейся, разумеется, не только в Мешико.
А вскоре после праздников во дворец, как и было запланировано, прибыли Тлатли с Чимальи, и госпожа занялась их обустройством. Она лично проследила за тем, чтобы мастерская художника и скульптора была обеспечена всеми необходимыми инструментами и материалами, и подробно объяснила обоим, чем им предстоит заниматься. Я намеренно не встречал своих земляков и не помогал им обустраиваться на новом месте, а когда через день или два мы случайно столкнулись в дворцовом саду, отделался кратким приветствием. Они что-то смущенно и растерянно пробормотали в ответ.
Потом я встречал обоих довольно часто, поскольку их мастерская была расположена в подвале, как раз под тем крылом дворца, где находились покои Жадеитовой Куколки, но всякий раз ограничивался кивком. К тому времени Чимальи и Тлатли уже успели несколько раз побеседовать со своей покровительницей и энтузиазм их порядком поостыл. Вид у юношей был скорее испуганный; они понимали, что влипли, и с удовольствием посоветовались бы со мной, однако я упорно не шел на сближение.
В ожидании, когда госпожа наконец призовет меня к себе, я готовил один рисунок, намереваясь преподнести его Жадеитовой Куколке. Задача оказалась нелегкой, поскольку требовалось изобразить одного хорошо знакомого мне молодого человека так, чтобы он был похож на себя, но при этом сделать его настолько привлекательным, чтобы перед его красотой было невозможно устоять. Я порвал множество показавшихся мне неудачными набросков, пока не добился наконец удовлетворительного результата, но и после этого потратил еще уйму времени на доработку. Однако получившийся в результате портрет, как я надеялся, должен был пленить юную госпожу. Так оно и вышло.
– Ого, да это просто красавец! – воскликнула она, когда я вручил ей рисунок, а приглядевшись повнимательнее, пробормотала: – Родись этот парень женщиной, быть бы ему Жадеитовой Куколкой. – В устах молодой госпожи то была высшая похвала. – Как его зовут?
– Весельчак.
– Аййо, подходящее имя! Где ты его откопал?
– Пактли – сын и наследник правителя моего родного острова, госпожа. Его отец, владыка Красная Цапля, наместник Шалтокана.
– И, увидев его дома на празднике, ты вспомнил обо мне и сделал зарисовку? Как это мило с твоей стороны, Выполняй. Я почти готова простить тебе долгую отлучку. А теперь отправляйся и привези его мне.
– Боюсь, госпожа, – правдиво ответил я, – что по моей просьбе он не явится. Мы с Пактли не слишком-то любим друг друга. Однако...
– Значит, ты делаешь это не ради его блага, – прервала девушка. – Интересно, с чего это ты решил побеспокоиться обо мне? – Ее бездонные глаза впились в меня с подозрением. – Правда, лично тебе я никогда не делала ничего плохого, но особой любви ко мне ты раньше все равно не испытывал. Откуда вдруг эта неожиданная забота?
– Я стараюсь предвидеть желания и повеления моей госпожи.
Никак не отреагировав на последние слова, Жадеитовая Куколка дернула за веревочку и велела прибежавшей на звон колокольчика служанке немедленно привести Чимальи и Тлатли. Когда оба они, трепеща, предстали перед ее очами, госпожа показала им мой рисунок.
– Вы оба родом с Шалтокана. Вам знаком этот молодой человек?
Тлатли воскликнул:
– Пактли!
А Чимальи сказал:
– Да, госпожа, это господин Весельчак, но...
Я бросил на юношу взгляд, который заставил его заткнуться; наверняка он хотел добавить, что в жизни Весельчак никогда не выглядел столь привлекательно и благородно. Ну а на то, что Жадеитовая Куколка перехватила мой взгляд, мне было наплевать.
– Все ясно, – сказала она так лукаво, как будто уличила меня. – Вы двое можете идти.
Когда мои земляки покинули комнату, юная госпожа продолжила:
– Говоришь, вы друг друга недолюбливаете? Не иначе, тут замешана девушка: полагаю, этот красивый знатный юноша перешел тебе дорогу. Поэтому ты коварно устраиваешь для него свидание, зная, чем все может закончиться.
Бросив выразительный взгляд на сделанные мастером Пицкуитлем изваяния гонца Йейак-Нецтлина и садовника Ксали-Отли, я заговорщически улыбнулся и сказал:
– Мне бы хотелось думать, что я оказываю услугу всем троим: моей госпоже, моему господину Пактли и самому себе.
Жадеитовая Куколка весело рассмеялась.
– Ну, значит, так тому и быть. Я не против, но тебе придется самому устроить, чтобы он прибыл сюда.
– Я взял на себя смелость приготовить письмо – на самой лучшей, выделанной оленьей коже. Там все указано, как обычно: полночь, восточные ворота. Не сомневаюсь, что, если моя госпожа поставит на этом письме свое имя и вложит в него перстень, Пактли прибудет сюда на той же лодке, которая доставит ему послание.
– Ты просто умница, Выполняй! – сказала она и отнесла письмо на низенький столик, где стояли горшочек с краской и камышинка для письма.
Поскольку в Мешико не принято давать девушкам образование, Жадеитовая Куколка, разумеется, не умела ни читать, ни писать, но, будучи особой высокого происхождения, могла по крайней мере изобразить символы своего имени.
– Сейчас пойдешь на причал и отыщешь мой акали. Отдашь послание кормчему и скажешь, чтобы отправлялся на рассвете. Я хочу, чтобы господин Весельчак был здесь уже завтра ночью.
Тлатли и Чимальи, как оказалось, поджидали меня снаружи, в коридоре, желая предостеречь.
– Ты хоть понимаешь, что затеял, Крот? – спросил Тлатли дрожащим голосом.
– Хочешь увидеть, что ждет господина Пактли? – сказал Чимальи чуть более спокойно. – Пойдем, посмотришь.
Я последовал за ними по каменной лестнице. Мастерская была прекрасно оборудована, но поскольку находилась в подвале, и днем и ночью освещалась плошками и факелами, отчего сильно смахивала на темницу. Статуй оказалось несколько, но две из них я мгновенно узнал. Статуя раба по имени Я Обрету Величие была уже вылеплена в полный рост, и Чимальи начал раскрашивать глину специально смешанными красками.
– Ну просто один к одному, – сказал я, не покривив душой. – Госпожа Жадеитовая Куколка наверняка будет довольна.
– Ну, уловить сходство не составило труда, – скромно ответил Тлатли. – Тем паче что я мог работать на основе твоего превосходного рисунка и лепить глину, имея под рукой настоящий череп.
– Но мои наброски черно-белые, – заметил я, – и даже такой мастер, как Пицкуитль, не сумел найти нужные краски. Чимальи, я восхищаюсь твоим талантом.
И вновь я говорил вполне искренне. Изваяния Пицкуитля были раскрашены традиционно: для открытых частей тела неизменно цвета меди, волосы – черные, и так далее.
У Чимальи же оттенки кожи варьировались, как это бывает у живого человека: нос и уши самую малость потемнее, чем остальное лицо, щеки чуть более розовые, даже черные волосы переливались, приобретая каштановый оттенок.
– После обжига в печи цвета сольются и все будет выглядеть еще лучше, – сказал Чимальи. – Взгляни-ка сюда, Крот. – Он обвел меня вокруг статуи раба и показал вытисненный внизу символ сокола – знак Тлатли. А под ним красовался отпечаток кровавой ладони Чимальи.
– Да уж, тут не ошибешься, – промолвил я равнодушным тоном и перешел к следующей статуе. – А это, наверное, будет Сама Утонченность?
– Думаю, Крот, тебе лучше не называть вслух имена... э... моделей, – натянуто отозвался Тлатли.
– Это было больше, чем просто имя, – сказал я.
Пока что полностью были готовы лишь голова и плечи женщины. Они прикреплялись к шесту на той же самой высоте, что и при жизни, ибо опорой им служил собственный скелет несчастной красавицы.
– С этой особой у меня возникают затруднения, – заявил Тлатли. Он говорил равнодушно и профессионально, словно не знал, что создает изображение недавно погибшего человека. И достал мой первый набросок, сделанный на рыночной площади: – Твоего рисунка, вкупе с черепом, вполне достаточно для работы над головой. Ну а колотль, каркас, дает мне представление об основных пропорциях тела, но...
– Значит, это каркас? – поинтересовался я. – Ты это так называешь?
– Видишь ли, любая скульптура из глины или воска должна обязательно поддерживаться изнутри каркасом, подобно тому, как мякоть кактуса поддерживает древесная основа. Ну а что может быть лучшим каркасом для статуи человека, чем его собственный скелет?
– Да уж, – только и смог сказать я. – А если не секрет, откуда ты их берешь, эти скелеты?
– Их присылает нам госпожа Жадеитовая Куколка, – ответил Чимальи. – Со своей личной кухни.
– Откуда?
Чимальи отвел взгляд.
– Не спрашивай меня, как госпожа убедила делать это своих поваров и кухонных рабов. Но они снимают кожу, извлекают внутренности и срезают плоть с... с модели... не расчленяя ее. Потом они вываривают оставшееся в больших чанах с известковой водой. Чтобы скелет не рассыпался, варку прекращают еще до того, как растворятся связки. Поэтому на костях все равно остаются ошметки мяса, которые нам приходится соскребать. Но зато мы получаем целый скелет. Бывает, конечно, что повредят ребро или фалангу пальца, но это ерунда. Вот только...
– Вот только, к сожалению, – подхватил Тлатли, – даже полностью сохранившийся скелет не дает мне полного представления об особенностях строения тела – всех его изгибах, выпуклостях и впадинах. Насчет мужской фигуры строить догадки проще, но женская – это совсем другое дело. Нужно знать, как выглядели при жизни ее грудь, бедра и ягодицы.
– Они были великолепны, – пробормотал я, вспомнив Саму Утонченность. – Пойдем в мои покои, у меня там есть другой рисунок. Такой, который даст тебе полное представление о модели.
Я велел Коцатлю приготовить для гостей шоколад. Тлатли и Чимальи обошли все три комнаты, громко восхищаясь роскошным убранством, в то время как я подбирал для них рисунки с изображением Самой Утонченности.
– А, совершенно обнаженная! – обрадовался Тлатли. – Идеально подходит для моих целей.
Сказано это было так, словно речь шла об образце хорошей глины.
Чимальи тоже посмотрел на изображение погибшей женщины и заметил:
– Честно скажу, Крот, тебе здорово удаются детали. Если бы ты не ограничивался рисунками, а научился работать с красками, светом и тенью, из тебя мог бы получиться настоящий художник. И ты мог бы дарить миру красоту.
Я грубовато рассмеялся:
– Вроде статуй, каркасами которых служат вываренные скелеты?
Тлатли, пивший шоколад, принялся оправдываться:
– Мы же не убивали этих людей, Крот. И мы не знаем, зачем молодой госпоже понадобились статуи. По-твоему, было бы лучше, если бы погибших просто похоронили или сожгли, обратив в пепел? Мы, по крайней мере, увековечиваем их образы. И прилагаем все старания к тому, чтобы эти образы стали настоящими произведениями искусства.
– Ничего себе искусство! Нет уж, лучше быть писцом. Я, по крайней мере, просто описываю мир и делаю это честно, ничего не приукрашивая.
Тлатли взял в руки изображение Самой Утонченности.
– А по-моему, ты неплохо отображаешь прекрасное.
– Отныне я не буду рисовать ничего, кроме словесных символов. Мой последний портрет уже написан.
– Портрет господина Весельчака, – догадался Чимальи. Он огляделся по сторонам и, убедившись, что мой раб не может нас слышать, добавил: – Ты ведь понимаешь, что подвергаешь Пактли риску угодить в кухонный чан?
– Очень на это надеюсь, – признался я. – Ибо не собираюсь оставлять смерть своей сестры безнаказанной. Это, – я бросил в лицо Чимальи его собственные слова, – было бы слабостью, пятнающей наши чувства.
Оба смутились и некоторое время молчали, опустив головы. Потом Тлатли заговорил:
– Крот, но ты подвергаешь всех нас опасности разоблачения.
– Ну, мне такая опасность угрожает уже давно. А что касается вас... Я мог бы предостеречь старых друзей, но разве вы поверили бы моему рассказу? Пактли не первый!
– Но до него были всего лишь рабы и простые горожане, – возразил Чимальи. – Возможно, их никогда и не хватятся. А господин Весельчак – человек знатный, наследник правителя Шалтокана.
Я покачал головой.
– Говорят, муж той женщины, изображенной на рисунке, совсем помешался, пытаясь узнать, что случилось с его любимой женой. Рассудок никогда к нему не вернется. И даже рабы не исчезают просто так, ни с того ни с сего. Чтимый Глашатай уже поручил своим стражникам расследовать таинственное исчезновение нескольких человек. Так что разоблачение неминуемо, это лишь вопрос времени. И не исключено, что все произойдет уже следующей ночью, если Пактли не станет мешкать...
На лбу Тлатли выступил пот.
– Крот, имей в виду, мы не допустим, чтобы ты...
– Вы не можете остановить меня. А если попробуете сбежать, предупредить Пактли или остеречь Жадеитовую Куколку, я немедленно об этом узнаю и прямиком отправлюсь к юй-тлатоани.
– Он не пощадит тебя, – сказал Чимальи. – Ты поплатишься жизнью вместе со всеми. Зачем ты хочешь погубить меня и Тлатли, Крот? Зачем ты губишь себя?
– В гибели моей сестры виноват не только Пактли, – заявил я. – К этому причастны также и мы трое. Я готов, если таков мой тонали, искупить вину ценой собственной жизни, а у вас остаются кое-какие возможности спастись.
– Не говори ерунду! – Чимальи всплеснул руками. – Какие уж тут могут быть возможности?
– Ну, мало ли какие. Я думаю, что госпожа Жадеитовая Куколка достаточно умна, чтобы не убивать столь знатного юношу. Скорее всего, она позабавится с ним некоторое время, не исключено, что довольно долго. А потом отошлет Пактли домой, взяв с него слово молчать о случившемся.
– Да, – задумчиво протянул Чимальи, – может быть, она и убийца, но никак не самоубийца. – Он повернулся к Тлатли: – А пока любовники развлекаются, мы с тобой успеем закончить уже заказанные нам статуи и, сославшись на неотложное дело в другом месте...
Тлатли залпом допил остатки шоколада.
– Точно! Будем работать днем и ночью. Мы должны побыстрее закончить свою работу, чтобы успеть попросить у госпожи разрешения отлучиться, прежде чем ей надоест сын нашего правителя.
Порешив на этом, они бегом бросились в мастерскую.
Меня нельзя упрекнуть во лжи, я лишь утаил от них одну деталь своих приготовлений. Я действительно думал, что Жадеитовая Куколка вряд ли решится убить сына правителя, и именно по этой причине внес в письменное приглашение одно небольшое изменение. Пактли должен был заплатить за смерть Тцитцитлини.
Думаю, боги заранее знают обо всех наших замыслах, и они наверняка злорадствуют, потешаясь над простыми смертными: путая планы людей, как сети птицеловов, или воздвигая на пути к их осуществлению самые неожиданные препятствия. Вмешательство богов очень редко идет нам во благо. Но я уверен, что на сей раз, проведав о моем замысле, они сказали: «До чего же ловко придумал Темная Туча! Вот что, давайте-ка ему поможем! Сделаем его коварный план еще лучше!»
На следующую ночь я стоял у себя в комнате, крепко прижав ухо к двери, и слышал, как Питца привела гостя и как они вошли в покои юной госпожи. Я слегка приоткрыл дверь, чтобы лучше слышать, и уже приготовился к тому, что Жадеитовая Куколка, увидев, что живой Пактли отличается от портрета не в лучшую сторону, выкрикнет в мой адрес пару бранных словечек. Однако вместо этого госпожа вдруг издала пронзительный, просто душераздирающий вопль, вслед за которым раздался истерический призыв:
– Выполняй! Ко мне! Немедленно сюда! Выполняй!
Я никак не ожидал, что разочарование окажется настолько сильным, что Жадеитовая Куколка впадет в истерику, даже если ей совершенно не понравился господин Весельчак. Открыв дверь и выглянув в коридор, я увидел там двоих стражников с копьями, которые привычно отсалютовали мне оружием, никак не препятствуя моему проникновению в комнаты Жадеитовой Куколки.
Я нашел юную госпожу в передней, сразу за дверью. Лицо ее, искаженное яростью, было бледным от потрясения, но тут же, на моих глазах, побагровело от нескрываемой злобы.
– Что это за представление ты тут устроил, собачий сын? – закричала красавица, срываясь на визг. – Да как ты только посмел сделать меня предметом своих гнусных шуток?
Она продолжала выкрикивать что-то в этом роде, тогда как я, мало что понимая, повернулся к Питце и человеку, которого та привела. А увидев, в чем дело, невзирая на гнев госпожи, не смог удержаться от неуместно громкого смеха. Я совсем забыл о том, что снадобье, которое Жадеитовая Куколка закапывает в глаза, делает красавицу близорукой. Должно быть, она, с нетерпением поджидавшая гостя, услышав шаги, выбежала из спальни и бросилась ему на шею и лишь потом смогла разглядеть, кого именно заключила в свои пылкие объятия. Теперь понятно, почему госпожа издала такой пронзительный вопль. Я, признаться, и сам был потрясен не меньше, только в отличие от Жадеитовой Куколки не завизжал, а оглушительно захохотал. Ибо вместо господина Весельчака узрел своего старого знакомого – сморщенного старикашку с кожей цвета бобов какао.
Я специально составил письмо к Пактли таким образом, чтобы тот попался, однако не имел ни малейшего представления, каким образом вместо него здесь оказался этот старый бродяга. Но к расспросам обстановка как-то не располагала, да к тому же мне никак не удавалось совладать со смехом.
– Предатель! Негодяй! Мерзавец! – вопила Жадеитовая Куколка, перекрикивая мой громогласный хохот, в то время как Питца пыталась спрятаться в занавесках, а коричневый старикашка размахивал пергаментом с моим письмом, вопрошая:
– Госпожа, разве это не твоя собственноручная подпись?
Она наконец перевела дух и огрызнулась:
– Моя, ну и что? Неужто ты и вправду вообразил, будто мое приглашение может предназначаться жалкому нищему оборванцу! Заткни немедленно свой беззубый рот!
После чего снова набросилась на меня:
– А ты, судя по тому, как тебя корежит от хохота, видимо, считаешь, что здорово пошутил? Сознавайся, и отделаешься колотушками. Но если ты сейчас же не прекратишь смеяться, я...
– Видишь ли, моя госпожа, – не унимался старик, – поскольку я узнал в этом письме руку и стиль моего старого знакомца, присутствующего здесь Крота...
– Заткнись, кому сказано! Когда цветочная гирлянда обовьется вокруг твоей шеи, ты еще пожалеешь о каждом вздохе, потраченном впустую. А его зовут теперь не Кротом, а Выполняем!
– Да неужели? А я и не знал. Ну что ж, имя подходящее!
С этими словами старик прищурился и посмотрел на меня. Глаза его блеснули, причем не слишком дружелюбно. Смех мой моментально прошел.
– Но в письме, моя госпожа, ясно говорится, чтобы я прибыл сюда в этот час, с перстнем на пальце и...
– На каком еще пальце? – опрометчиво взвизгнула красавица. – А еще притворяешься, старый урод, будто умеешь читать! Перстень следовало спрятать, чтобы потом предъявить как пропуск, а ты, наверное, тащился с ним у всех на виду, по всему Тескоко... Ййа, аййа! – Она заскрежетала зубами и снова переключилась на меня: – Ты хоть понимаешь, во что могла вылиться твоя шутка, дубина этакая? Ййа, оййа, не надейся, что умрешь легкой смертью!
– Как это могло быть шуткой, моя госпожа? – спросил старик. – Судя по этому приглашению, ты наверняка кого-то поджидала. И ты с такой радостью выбежала мне навстречу...
– Тебе? С радостью? – взвизгнула девушка и развела руками, как будто физически отбрасывая всякую осторожность. – Да с таким старым уродом не легла бы в постель даже последняя портовая шлюха! – Она снова напустилась на меня: – Выполняй! Зачем тебе понадобилась эта дурацкая выходка? Отвечай немедленно!
Я наконец успокоился и мог говорить.
– Моя госпожа, – промолвил я, стараясь произносить суровые слова по возможности мягко. – Я часто думал о том, что Чтимый Глашатай поступил неосмотрительно, когда, приказав мне служить его супруге Жадеитовой Куколке, велел беспрекословно ей повиноваться, не задавать вопросов и не заниматься доносительством. Однако я человек подневольный. Как ты справедливо заметила, моя госпожа, я не мог разоблачить супругу правителя, не ослушавшись при этом его самого. В конце концов мне пришлось прибегнуть к хитрости: сделать так, чтобы ты себя выдала.
Жадеитовая Куколка отпрянула от меня, беззвучно ловя ртом воздух; ее багровое лицо снова стало бледнеть. Выдавить слова ей удалось не сразу:
– Ты... обхитрил меня? Это... это не шутка?
– Если кто здесь и пошутил, так это я, – подал голос старик. – Я как раз находился на берегу озера, когда некий разодетый, расфуфыренный и надушенный знатный молодой господин сошел с борта твоего личного акали и направился сюда, причем на мизинце его руки в открытую красовался твой перстень, который легко узнать. Такое поведение показалось мне вопиюще нескромным, если не преступным. Я вызвал стражников, чтобы изъять у незнакомца перстень, а при досмотре у него было обнаружено еще и письмо. Я забрал эти вещицы себе и явился сюда вместо твоего любовника.
– Ты... ты... по какому праву... как ты посмел?.. – визжала Жадеитовая Куколка, от ярости брызжа слюной. – Выполняй! Этот человек вор! Он сам сознался! Убей его! Я приказываю тебе убить этого человека, прямо здесь и сейчас, на моих глазах!
– Нет, госпожа, – сказал я по-прежнему мягко, ибо почти начинал испытывать к ней жалость. – На сей раз я тебе не подчинюсь. По той простой причине, что твое истинное лицо наконец-то раскрыто при постороннем. Хватит мной командовать. Теперь, надеюсь, ты больше никого не убьешь.
Красавица быстро развернулась и распахнула дверь в коридор. Может быть, она просто хотела убежать, но когда стоявший снаружи часовой вдруг преградил ей путь, резко приказала:
– Стражник, слушай внимательно! Вот этот нищий голодранец – вор: он нагло украл у меня перстень. А этот бессовестный простолюдин – изменник: он посмел ослушаться моего приказа. Ты должен взять их обоих и...
– Прошу прощения, госпожа, – пророкотал стражник. – Я уже получил приказ от юй-тлатоани. Совсем другой приказ, моя госпожа.
Жадеитовая Куколка от удивления потеряла дар речи.
– Стражник, одолжи мне на минутку копье, – попросил я.
Тот поколебался, но просьбу мою выполнил. Я подошел к ближайшему алькову, в котором стояла статуя молодого садовника, и что было сил вонзил острие копья ему под подбородок. Раскрашенная голова отвалилась, ударилась о пол и покатилась. При этом обожженная глина разбилась и осыпалась, так что, когда голова статуи, подпрыгивая, ударилась о дальнюю стену, перед нами был лишь голый, поблескивавший череп молодого мужчины. Загадочный нищий наблюдал за этим совершенно бесстрастно, а вот огромные черные зрачки Жадеитовой Куколки, казалось, заполнили все ее лицо, превратившись в настоящие озера ужаса. Я вернул копье стражнику и спросил:
– Ну так что там тебе приказали?
– Ты и твой мальчик-раб должны оставаться в твоих покоях, а госпожа со своими служанками – здесь. Вы все будете находиться под стражей до окончания обыска и вплоть до получения дальнейших указаний от Чтимого Глашатая.
– Не разделишь ли со мной заточение, почтенный старец? – спросил я загадочного старика. – Могу предложить тебе чашку шоколада.
– Нет, – сказал он, оторвав взгляд от обнаженного черепа. – Мне велено явиться с докладом к Чтимому Глашатаю. Думаю, что теперь владыка Несауальпилли отдаст приказ о более тщательном обыске, и не только здесь, но и в скульптурных мастерских.
Я произвел жест целования земли.
– Тогда желаю вам доброй ночи – тебе, старик, и тебе, моя госпожа.
Красавица воззрилась на меня невидящим взглядом.
Когда я вернулся к себе, господин Крепкая Кость и еще несколько доверенных слуг Чтимого Глашатая уже производили там обыск и успели обнаружить рисунки, изображавшие Саму Утонченность в объятиях Жадеитовой Куколки.
Господин епископ сказал, что присутствует на сегодняшней встрече, поскольку его интересуют наши законы и особенности отправления правосудия. Но, думаю, мне вряд ли стоит описывать суд над Жадеитовой Куколкой. Подробное изложение этого процесса его высокопреосвященство найдет в дворцовых архивах Тескоко, если потрудится изучить эти книги. Более того, случай этот описан в хрониках других земель и даже в устных народных преданиях. Скандал тогда разразился такой, что наши женщины и по сей день пересказывают эту историю друг другу.
Несауальпилли пригласил на суд правителей всех соседних народов вместе со всеми их мудрецами, а также всех наместников провинций, причем предложил вельможам и вождям прибыть в сопровождении жен и придворных дам. С одной стороны, он сделал это, поскольку хотел продемонстрировать, что даже сама знатная и высокопоставленная женщина не может совершать преступления безнаказанно, однако имелась и другая причина. Обвиняемая была дочерью Ауицотля – самого могущественного владыки Сего Мира, воинственного и вспыльчивого Чтимого Глашатая Мешико. И Несауальпилли стремился к тому, чтобы сам Ауицотль и правители других народов убедились в полнейшей беспристрастности суда, он хотел таким образом защитить себя от любых возможных упреков в предвзятости. Именно по этой причине владыка Тескоко лично в процессе не участвовал, ограничившись, как и высокие гости, ролью наблюдателя. Допрашивать свидетелей и обвиняемых он доверил незаинтересованным лицам: Змею-Женщине – господину Крепкая Кость и одному из придворных мудрецов, судье по имени Тепитцак.
Зал Правосудия Тескоко был набит битком. Пожалуй, никогда еще столько самых разных правителей – в том числе и из государств, враждовавших друг с другом, – не собиралось в одном месте. Отсутствовал один только Ауицотль, не захотевший выставить себя на всеобщий позор. Могущественный владыка не мог допустить, чтобы, когда неизбежно вскроются постыдные деяния его дочери, люди бросали на него сочувственные и насмешливые взгляды, а потому прислал вместо себя Змея-Женщину. Зато в числе многих других вождей приехал и правитель Шалтокана, господин Красная Цапля, отец Пактли. На протяжении всего процесса он сидел, опустив голову, и. молча сносил свое унижение. Правда, изредка он все-таки поднимал затуманенные стыдом и горем старые глаза, и тогда взгляд его падал на меня. Наверное, владыка Красная Цапля вспоминал, как давно, когда я был совсем маленьким, сказал мне, что, какое бы занятие я ни выбрал, всегда следует делать свое дело хорошо... Допрос оказался долгим, подробным и утомительным; зачастую показания свидетелей повторялись. Я постараюсь припомнить только наиболее содержательные, напрямую касавшиеся дела вопросы и ответы, дабы пересказать их вашему преосвященству.
Главными обвиняемыми были, разумеется, Жадеитовая Куколка и господин Весельчак. Пактли вызвали первым, и он, бледный и дрожащий от страха, принес клятву. Среди многих вопросов, обращенных к нему в ходе заседания, был и такой:
– Пактцин, дворцовая стража задержала тебя в том крыле здания, которое было отведено для госпожи Чалчиуненетцин, супруги правителя. Для любого лица мужского пола это равносильно преступлению, караемому смертной казнью, ибо никто ни под каким предлогом не имеет права появляться в помещениях, предназначающихся для супруги Чтимого Глашатая и ее свиты. Ты знал об этом?
Пактли громко сглотнул и едва слышно ответил:
– Знал. – Чем подписал себе смертный приговор.
Потом вызвали Жадеитовую Куколку, и в ответ на один из многочисленных обращенных к ней вопросов она заявила такое, что изумленные слушатели ахнули.
Судья сказал:
– Ты сама признала, госпожа, что работники твоей личной кухни убивали твоих любовников и очищали их трупы от плоти, дабы получить скелеты. Мы полагаем, что даже самые низкие рабы могли пойти на это лишь по крайнему принуждению. К каким же мерам ты прибегала?
Кротким голоском маленькой девочки она ответила:
– Я заранее, на долгое время, выставляла на кухне стражу, не позволявшую работникам вкушать никакой пищи, даже пробовать то, что они сами готовили. Я морила людей голодом, доводя до полного изнеможения, и в конце концов ради пищи они соглашались выполнить мой приказ. Как только они это делали, их кормили досыта, после чего ни угроз, ни принуждения, ни стражи уже больше не требовалось...
Конец фразы потонул в страшном шуме. Моего маленького раба Коцатля стало рвать, и малыша пришлось вывести из зала на некоторое время. Я прекрасно понимал, что он чувствует, и мой собственный желудок тоже слегка скрутило, ведь мы с ним получали еду с той же самой кухни.
Как главный сообщник Жадеитовой Куколки, я был вызван вслед за ней и дал суду полный отчет о своих действиях по приказу госпожи, ничего не пропустив. Когда я дошел до истории с Самой Утонченностью, меня прервал дикий рев. Стражникам пришлось схватить обезумевшего вдовца той женщины, чтобы он не накинулся на меня и не задушил, и буквально вынести его из зала. Когда я закончил свой рассказ, господин Крепкая Кость посмотрел на меня с неприкрытым презрением и сказал:
– Откровенное признание, по крайней мере. Можешь ли ты указать нам какие-либо обстоятельства, смягчающие твою вину?
– Нет, мой господин, – ответил я.
Но тут неожиданно послышался другой голос, самого Несауальпилли:
– Поскольку писец Темная Туча отказывается защищать себя, я прошу почтенный суд дать мне возможность высказаться в его пользу.
Судьи согласились с видимой неохотой, ибо явно и слышать не желали о моем оправдании. Но не могли же они отказать своему юй-тлатоани.
– На протяжении всей своей службы у госпожи Жадеитовой Куколки, – промолвил правитель, – этот молодой человек действовал в точном соответствии с моим личным приказом: повиноваться госпоже, не задавая вопросов и не выполняя при ней роль соглядатая. Должен признать, что хоть я, конечно, и не подразумевал под этим бездумного выполнения преступных повелений, но из моих слов это никак не вытекало. Прошу также учесть, что, как ясно показало расследование, Темная Туча по собственной воле нашел единственный способ, не ослушавшись моего повеления, раскрыть правду о прелюбодеяниях и убийствах, совершенных его коварной госпожой. Не сделай он этого, почтеннейшие судьи, нам, возможно, пришлось бы впоследствии судить ее за убийство еще большего количества жертв.
– Слова нашего владыки Несауальпилли будут приняты во внимание, – проворчал судья Тепитцак и снова вперил в меня суровый взгляд. – Позвольте задать еще один вопрос подсудимому. – И он обратился ко мне: – Возлежал ли ты, Тлилектик-Микстли, с госпожой Жадеитовой Куколкой?
– Нет, мой господин, – ответил я.
И тогда, видимо рассчитывая поймать меня на откровенной лжи, судьи вызвали Коцатля и спросили его, вступал ли его хозяин, то есть я, в плотские отношения с супругой правителя.
– Нет, мои господа, – пискнул мальчонка.
– Но у него были для этого все возможности, – упорствовал Тепитцак.
– Нет, мои господа, – упрямо повторил Коцатль. – Всякий раз, когда мой хозяин находился в обществе госпожи, сколько бы это ни продолжалось, я присутствовал там же. Ни мой хозяин, ни какой-либо другой мужчина, принадлежавший ко двору, никогда не делили ложе с госпожой, за исключением одного случая. Это случилось, когда мой хозяин отбыл на праздники домой и госпожа в одну из ночей не смогла отыскать себе любовника вне дворца.
Судьи подались вперед.
– Какой-то мужчина из дворца? Кто же это был?
– Я, мои господа, – ответил Коцатль.
Судьи отшатнулись.
– Ты? – сказал Крепкая Кость. – Сколько же тебе лет, раб?
– Мне только что исполнилось одиннадцать, мой господин.
– Говори погромче, мальчик. Ты хочешь сказать нам, что обслужил обвиняемую в прелюбодействе супругу правителя, как подобает мужчине? Ты совокуплялся с ней? Неужели твой тепули способен?..
– Мой тепули? – пропищал Коцатль, поразив всех тем, что так дерзко прервал судью. – При чем тут тепули, он годен лишь на то, чтобы мочиться! Я обслужил мою госпожу так, как она мне велела, – при помощи рта. Уж я-то никогда бы не позволил себе коснуться знатной женщины чем-то таким гадким, как тепули...
Если мальчик и сказал что-то еще, это потонуло в хохоте присутствующих. Даже обоим судьям пришлось приложить усилия, чтобы сохранить бесстрастные лица. Впрочем, то был единственный веселый момент за весь тот мрачный день.
Тлатли вызвали одним из последних. Я забыл упомянуть, что в ту ночь, когда стража Несауальпилли нагрянула в мастерскую с обыском, Чимальи отсутствовал в связи с каким-то поручением. Чтимый Глашатай и его люди, похоже, не знали про второго мастера, а никто из обвиняемых про Чимальи не упомянул, так что Тлатли сумел представить дело таким образом, будто он работал без напарника.
– Чикуаке-Кали Икстак-Тлатли, – спросил господин Крепкая Кость, – ты признаешь, что некоторые из статуй, представленных здесь как свидетельства преступления, были изготовлены тобой?
– Да, мои господа, – твердо ответил обвиняемый. – Отрицать бесполезно. Вы видите на них мое личное клеймо: выгравированный знак головы сокола, а под ним – отпечаток окровавленной ладони.
Тлатли встретился со мной взглядом, и глаза его молили не упоминать о Чимальи. Я промолчал.
В конце концов судьи удалились в особую комнату, чтобы посовещаться, а зрители с радостью покинули хоть и просторный, но душный зал, чтобы глотнуть свежего воздуха или покурить в саду покуитль. Мы, обвиняемые, остались в зале под стражей, и все это время старались не смотреть друг на друга.
Закончив совещаться, судьи вернулись в зал, и, когда он снова наполнился людьми, господин Крепкая Кость выступил с традиционным заявлением:
– Мы, вопрошавшие злоумышленников, держали совет друг с другом, основываясь исключительно на представленных здесь уликах и прозвучавших показаниях, и пришли к общему решению по доброй воле и свободному убеждению, не действуя предвзято или по чьему-либо усмотрению, не питая к кому-либо из подсудимых ни добрых, ни дурных чувств личного характера и прибегая к помощи одной лишь Тонантцин, благородной богини закона, милосердия и правосудия. – Он извлек лист тончайшей бумаги и, сверяясь с ним, провозгласил: – Мы считаем, что обвиняемый писец Чикоме-Ксочитль Тлилектик-Микстли должен быть освобожден в силу того, что его действия, хотя и заслуживающие порицания, не являлись злонамеренными; кроме того, он частично искупил их, призвав к ответу преступников. Однако... – Крепкая Кость бросил взгляд на Чтимого Глашатая, потом весьма сердито взглянул на меня. – Мы рекомендуем изгнать освобожденного из-под стражи писца за пределы нашей страны как чужака, нарушившего законы гостеприимства.
Что ж, не скажу, что меня такой приговор обрадовал; с другой стороны, я понимал, что еще дешево отделался. Змей-Женщина между тем вновь сверился со своей бумагой и продолжил:
– Перечисленных ниже людей мы считаем виновными во всех вменяемых им гнусных, вероломных и богопротивных злодеяниях...
Далее были оглашены имена Жадеитовой Куколки, господина Весельчака, скульпторов Пицкуитля и Тлатли, моего раба Коцатля, стражников, дежуривших по очереди у восточных ворот дворца, служанки Питцы, многочисленных челядинцев юной госпожи, а также всех работников ее кухни.
Завершив монотонное перечисление имен, судья заключил:
– Признавая этих людей виновными, мы оставляем вынесение приговора и установление каждому из них меры наказания на волю Чтимого Глашатая.
Несауальпилли медленно встал, помолчал, напряженно раздумывая, а потом сказал:
– Как рекомендуют почтенные судьи, писец Темная Туча будет изгнан из Тёскоко с запретом впредь появляться где-либо в землях аколхуа. Осужденного раба Коцатля я милую, принимая во внимание его младые лета, но он точно так же будет выслан из наших владений. Знатные особы, Пактцин и Чалчиуненетцин будут казнены отдельно. Остальные подлежат умерщвлению с помощью икпакксочитль без права предварительного обращения к Тласольтеотль. Их трупы будут преданы огню на общем погребальном костре, вместе с останками их жертв.
Я очень порадовался тому, что пощадили маленького Коцатля, хотя остальных рабов и простолюдинов мне тоже было жалко. Икпакксочитль представлял собой обвитую цветочной гирляндой веревку, которой их должны были удушить. Но хуже всего, что Несауальпилли не разрешил им обратиться к Пожирательнице Скверны, а это значило, что все их грехи пребудут с ними и в том загробном мире, куда они попадут. Более того, их сожгут вместе с их жертвами, чем обрекут на вечные, неизбывные муки.
Нас с Коцатлем отправили под стражей в мои покои, и возле самой двери один из охранников проворчал:
– Это еще что такое?
Возле притолоки, на уровне моих глаз, красовался кровавый отпечаток ладони – молчаливое напоминание о том, что я не единственный из участников этой истории, кто остался в живых, и одновременно предупреждение: наверняка Чимальи собирается мне отомстить.
– Чья-то дурацкая выходка, – сказал я, пожав плечами. – Я велю моему рабу смыть это.
Коцатль вынес в коридор губку и кувшин с водой и принялся за дело, тогда как я, притаившись за дверью, ждал. И вскоре услышал, как Жадеитовую Куколку тоже ведут в заточение. Конечно, я не мог расслышать ее легкую поступь, заглушаемую тяжелыми шагами стражников, но когда мальчик вернулся с кувшином покрасневшей воды, он сказал:
– Госпожа вернулась вся в слезах. А вместе с ее стражниками пришел и жрец богини Тласольтеотль.
– Если госпожа уже кается в своих грехах, значит, времени у нее осталось очень мало, – заметил я. На самом деле времени у нее совсем не осталось. Вскоре я услышал, как соседняя дверь открылась снова: Жадеитовую Куколку повели на последнюю встречу в ее недолгой жизни.
– Хозяин, – смущенно промолвил Коцатль, – выходит, мы с тобой теперь изгнанники? Оба?
– Да, – вздохнул я.
– Когда нас прогонят... – Он заломил огрубевшие от работы маленькие руки. – Ты возьмешь меня с собой? Как своего раба и слугу?
– Да, – сказал я, поразмыслив. – Ты служил мне верно, и я тебя не брошу. Но, по правде говоря, Коцатль, у меня нет ни малейшего представления о том, куда мы направимся.
Поскольку нас с мальчиком держали в заключении, мы не видели ни одной из казней. Но позднее я узнал подробности кары, постигшей господина Весельчака и Жадеитовую Куколку, каковые детали могут представлять интерес для вашего преосвященства.
Жрец Тласольтеотль не предоставил преступнице возможности полностью очистить свою душу перед богиней, а, сделав вид, будто по доброте своей хочет ее успокоить, подмешал грешнице в чашку шоколада вытяжку из растения толоатцин, сильнодействующего снотворного. Скорее всего, сон сморил Жадеитовую Куколку, прежде чем она успела перечислить грехи, совершенные ею до десятого года жизни, так что она отправилась на смерть, отягощенная бременем великой вины. Спящую, ее перенесли к дворцовому лабиринту, о котором я уже рассказывал, и сняли с нее всю одежду, после чего старый садовник, единственный, кто знал тайные тропы, оттащил Жадеитовую Куколку в центр лабиринта. Туда, где уже лежал труп Пактли.
Господина Весельчака еще раньше доставили к осужденным работникам кухни и приказали им умертвить его перед собственной казнью. Не знаю, проявили ли они милосердие, даровав ему быструю смерть, но очень сомневаюсь, поскольку никаких причин испытывать к Пактли добрые чувства у них не было. Так или иначе, но со всего его трупа, за исключением головы и гениталий, содрали кожу, выпотрошили внутренности, срезали мясо до костей, в результате чего получился не слишком чистый, со свисавшими клочьями мяса скелет. Затем покойнику вставили в тепули что-то такое (наверное, прутик или тростинку), что поддерживало член торчащим, и, пока Жадеитовая Куколка исповедовалась жрецу, затащили этот мерзкий труп в лабиринт. Проснувшись посреди ночи в центре лабиринта, юная госпожа обнаружила, что она совершенно голая и в ее тепили, как в более счастливые времена, введен затвердевший мужской член. Но ее расширенные зрачки, должно быть, быстро приноровились к бледному свету луны, и тогда красавица увидела, что ее последним любовником стал жуткий мертвец.
О том, что происходило потом, можно только догадываться. Наверняка Жадеитовая Куколка в ужасе отпрянула от него и с пронзительными криками помчалась прочь. Должно быть, она металась по тропинкам, которые снова и снова выводили ее обратно – к костям и торчащему тепули мертвого господина Весельчака. И, возвращаясь в очередной раз, она находила его в компании все большего и большего количества муравьев, мух и жуков. Наконец он оказался настолько покрытым кишащими пожирателями падали, что Жадеитовой Куколке показалось, будто труп изгибается в попытке подняться и преследовать ее. Сколько раз она убегала, сколько раз бросалась на непроницаемую колючую изгородь и сколько раз снова натыкалась на отвратительный труп, никто уже не узнает.
Когда поутру садовник вынес Жадеитовую Куколку наружу, от ее красоты уже ничего не осталось. Лицо и тело кровоточили, изодранные колючками ногти на руках были сорваны. Видимо, девушка в отчаянии рвала на себе волосы, ибо кое-где оказались вырванными целые пряди. Действие расширяющего зрачки снадобья сошло на нет, и они сделались почти невидимыми точками в ее выпученных глазах. Рот был широко раскрыт в беззвучном вопле. Жадеитовая Куколка всегда гордилась своей красотой, и, наверное, знай она, что однажды предстанет перед людьми в таком виде, это стало бы для нее страшным унижением и оскорблением. Но теперь ей уже было все равно: глухой ночью, где-то в глубине лабиринта, сердце девушки перестало биться, разорвавшись от ужаса.
Когда все закончилось, нас с Коцатлем освободили из-под стражи, заявив, что теперь мы не имеем права не только посещать занятия, но и разговаривать с кем-либо из знакомых. Моя карьера писца Совета тоже закончена. Короче говоря, мы должны были вести себя тише воды ниже травы и ждать, пока Чтимый Глашатай не определит точную дату и условия нашего изгнания. Поэтому несколько дней я только и делал, что блуждал в одиночестве по берегу озера, отшвыривая ногой гальку и сетуя на злую судьбу, из-за которой все мои честолюбивые мечты, которые я связывал с Тескоко, обратились в ничто. Как-то раз, погруженный в грустные раздумья, я задержался на берегу до сумерек, а когда спохватился и поспешил назад, то на полпути к дворцу наткнулся на сидевшего на валуне человека. Уж не знаю, откуда тот взялся, но выглядел он почти так же, как и во время двух предыдущих наших встреч: усталый, бледный, на лице дорожная пыль.
Когда мы обменялись вежливыми приветствиями, я сказал:
– И снова ты появился в сумерках, мой господин. Прибыл издалека?
– Да, – хмуро отозвался он. – Из Теночтитлана, а там, между прочим, готовится война.
– Ты говоришь так, как будто это будет война против Тескоко.
– Вслух этого, конечно, никто не скажет, но на деле так оно и будет. Чтимый Глашатай Ауицотль наконец завершил строительство своей Великой Пирамиды, и, для того чтобы церемония ее освящения не знала равных в истории, ему нужны бесчисленные пленники. Поэтому он и собирается объявить очередную войну, которая обернется против Тескоко.
Меня удивил ход рассуждений собеседника.
– Что-то ты путаешь, мой господин, – сказал я. – Просто войска Союза Трех, в том числе и Тескоко, выступят в совместный поход, как всегда бывает в подобных случаях. Почему ты решил, что это будет война против Тескоко? Скорее всего, союзники нападут на Тлашкалу.
– Ауицотль, – пояснил запыленный странник, – утверждает, что поскольку почти все силы мешикатль и текпанеков сейчас находятся на западе, в Мичоакане, то им нет никакого смысла выступать в поход на восток, против Тлашкалы. Но это лишь предлог. На самом деле Ауицотль взбешен из-за суда и казни его дочери.
– Но он не может отрицать, что она заслужила это.
– Совершенно верно, но от этого он еще пуще злится и жаждет мести. Поэтому Ауицотль издал приказ, чтобы и Теночтитлан, и Тлакопан оба выделили лишь по символическому отряду, а основную часть войска в этой войне придется выставить Тескоко. – Запыленный скиталец покачал головой. – Так что из каждой сотни воинов, которым предстоит сражаться и умереть ради захвата пленников, необходимых для жертвоприношения у Великой Пирамиды, примерно девяносто девять будут аколхуа. Так Ауицотль намеревается отомстить за смерть Жадеитовой Куколки.
– Но ведь каждому понятно, что подобный расклад несправедлив, – возразил я. – Разве Несауальпилли не может отказаться?
– Может, конечно, – устало промолвил путник, – но от этого ему будет только хуже. Его отказ обернется еще более тяжкими последствиями, вплоть до распада Союза Трех и даже открытой войны против Тескоко. Кроме того, – печально добавил странник, – Несауальпилли, скорее всего, считает себя обязанным дать отцу казненной преступницы какое-то возмещение.
– Что? – возмущенно воскликнул я. – После всего, что она сделала?
– Боюсь, он все равно чувствует свою ответственность за случившееся. Может быть, за то, что не уделял молодой жене внимания.
Странник устремил на меня взгляд, и мне вдруг стало не по себе.
– Для этой войны Несауальпилли потребуется каждый, кто способен держать оружие. Уверен, он будет рад любому добровольцу, и если кто-то считает себя перед ним в долгу, то для такого человека нет способа лучше, чем пойти к владыке Тескоко на службу.
Я сглотнул и ответил:
– Мой господин, но от некоторых на войне нет никакого проку.
– Тогда они могут просто умереть на ней, – был ответ. – Ради славы, ради покаяния, ради уплаты долга, ради счастливой вечной жизни в загробном обиталище воинов. Всегда найдется, ради чего. Помню, ты в прошлый раз говорил, что очень благодарен Несауальпилли и мечтаешь что-нибудь для него сделать.
Последовало долгое молчание. Потом, словно бы решив сменить тему, загадочный странник уже обыденным тоном сказал:
– Ходят слухи, что в скором времени ты собираешься покинуть Тескоко. Скажи, ты уже решил, куда отправишься?
Я надолго задумался и, лишь когда на землю пала тьма, а над озером раздались стенания ночного ветра, ответил:
– Да, мой господин, решил. Я пойду на войну.
Это было зрелище, на которое стоило посмотреть: на пустынной равнине к востоку от Тескоко выстраивалась могучая армия. Равнина ощетинилась копьями, расцветилась яркими пятнами знамен, засверкала бликами, отражавшимися от обсидиановых наконечников и клинков. Всего там собралось около четырех, а то и пяти тысяч человек, но, как и предсказывал запыленный скиталец, Чтимый Глашатай Мешико Ауицотль и Чималпопока, вождь текпанеков, прислали лишь горстку воинов, да и то в основном пожилых ветеранов или, наоборот, неопытных новобранцев.
Как военачальник Несауальпилли организовал все наилучшим образом. Огромные знамена из перьев указывали местонахождение основных сил – многочисленных отрядов аколхуа и нескольких небольших подразделений из Теночтитлана и Тлакопана. Многоцветные полотнища флагов из тканей обозначали отдельные подразделения, находившиеся под командованием благородных воинов. Маленькими остроконечными вымпелами или флажками отмечались мелкие группы во главе с младшими командирами. Под особыми стягами собирались вспомогательные формирования: носильщики, необходимые для транспортировки припасов, снаряжения и запасного оружия; лекари, костоправы; жрецы различных богов, барабанщики с трубачами, а также предназначенные для очистки поля битвы «вяжущие» и «поглощающие».
Хотя я убеждал себя в том, что иду сражаться ради Несауальпилли, и хотя мне было стыдно за поведение Ауицотля, но я ведь, что ни говори, родом был все-таки из Мешико. Поэтому, решив записаться добровольцем, я явился к начальнику моих соотечественников – единственному старшему командиру из числа мешикатль, благородному воителю-Стреле по имени Ксокок. Он смерил меня оценивающим взглядом и неохотно сказал:
– Что ж, хоть ты и неопытен, но по крайней мере не выглядишь таким заморышем, как почти все в этой команде, кроме меня. Ступай, доложись куачику Икстли-Куани.
Старина Икстли-Куани! Я настолько обрадовался, услышав это имя, что чуть было не бросился со всех ног к остроконечному флажку, где и стоял мой учитель, поносивший последними словами нескольких весьма несчастного вида новобранцев. На челе его красовался головной убор из перьев, сквозь носовую перегородку было продето костяное украшение, в руке куачик держал щит со знаками его имени и воинского ранга. Я опустился на колени и поскреб землю в торопливом жесте целования, после чего обнял его, словно давно потерянного, а теперь нашедшегося родича, и воскликнул:
– Господин Пожиратель Крови! Как я рад видеть тебя снова!
Остальные воины захихикали. Немолодой куачик побагровел и грубо оттолкнул меня в сторону, брызгая слюной:
– А ну-ка отвали! Клянусь каменными яйцами Уицилопочтли, с тех пор, когда я в последний раз выходил на поле боя, армия сильно изменилась. Сперва дряхлые старые ворчуны и прыщавые юнцы, а теперь это! Что они теперь, специально набирают куилонтин? Собираются зацеловать врагов до смерти?
– Это я, господин! – крикнул я. – Твой ученик! Командир Ксокок отправил меня в твой отряд. – Мне потребовалось время, чтобы сообразить: Пожиратель Крови наверняка обучил на своем веку сотни мальчишек и он никак не может мгновенно, даже не порывшись в памяти, вспомнить и узнать одного из них.
– А, Связанный Туманом? – воскликнул он наконец, но далеко не с той радостью, какую выказал я. – Говоришь, направлен ко мне? Выходит, ты вылечил глаза, да? Теперь, надеюсь, видишь дальше своего носа?
– К сожалению, нет, – вынужден был признаться я.
Пожиратель Крови яростно раздавил ногой муравья.
– Мое первое настоящее дело после десяти лет простоя, и такое невезение, – проворчал он. – Пожалуй, даже куилонтин был бы предпочтительнее. Ну да ладно, Связанный Туманом, становись вместе с прочим моим отребьем.
– Да, господин куачик, – отозвался я по-военному четко. Но тут кто-то потянул меня за накидку, и я вспомнил про стоявшего все это время позади мальчика. – А что ты прикажешь делать юному Коцатлю?
– Кому? – Старый служака недоумевающе огляделся, а когда, случайно посмотрев вниз, заметил мальчишку, просто взревел от возмущения: – Этому сопляку?
– Он мой раб, – пояснил я. – Мой личный слуга.
– Молчать в строю! – рявкнул Пожиратель Крови на солдат, которые начали хихикать. Затем он описал круг, чтобы остыть, после чего подошел ко мне вплотную и, глядя прямо глаза в глаза, заявил:
– Вот что, Связанный Туманом, некоторых знатных людей, командиров и благородных воителей, потомков древних родов действительно сопровождают ординарцы. Но ты – йаокуицкуи, новобранец, самый нижний чин из всех имеющихся. И у тебя хватает наглости не только явиться в армию со слугой, но еще и притащить с собой сущего недомерка!
– Я не могу бросить Коцатля, – сказал я. – Мальчик никому не помешает. Разве нельзя определить его к жрецам или еще куда-нибудь в обоз, где он мог бы пригодиться?
– А я-то думал, что в кои-то веки отдохну от возни с мелюзгой и отведу душу на настоящей войне, – проворчал Пожиратель Крови. – Ладно, малявка, ступай вон к тому черно– желтому флажку. Скажешь тамошнему младшему командиру, что Икстли-Куани велел приставить тебя к кухне, мыть посуду. Что же до тебя, Связанный Туманом, – добавил он вкрадчивым тоном, – то сейчас посмотрим, помнишь ли ты хоть что-то из того, что я вдалбливал вам на занятиях. А ну, ублюдки! – взревел он так, что все бойцы, в том числе и я, подскочили. – Стройся! В колонну по четыре – СТАНОВИСЬ!
В Доме Созидания Силы я усвоил, что обучение воинскому делу совсем не похоже на мальчишеские игры в войну. Теперь мне предстояло понять, что и игра, и учеба – всего лишь бледное подражание настоящей воинской службе. Взять хотя бы два момента, неизбежно сопутствующих любому походу, но никогда не упоминающихся в рассказах о славных победах: грязь и вонь. Набегавшись и наигравшись в детстве или даже утомившись после нелегкой муштры в Доме Созидания Силы, я всегда имел приятную возможность привести себя в порядок, побывав в парной и как следует вымывшись. В полевых условиях об этом не приходилось и мечтать. Все бойцы были покрыты грязью и потом, и хуже, чем от нас, воняло только от выгребных ям, служивших отхожими местами. Меня мутило от запахов застарелого пота, грязной одежды, немытых ног, мочи и фекалий. Зловоние представлялось мне самой гнусной стороной войны. Во всяком случае до тех пор, пока я не столкнулся с настоящей войной.
И еще одно. Я слышал, как старые солдаты жаловались, что даже если вожди затевают поход в разгар сухого сезона, проказливый Тлалок часто усугубляет трудности, поливая армию сверху и превращая землю под ногами воинов в вязкую трясину. Так вот, наш поход состоялся в сезон дождей, и все те несколько дней, пока мы, оставаясь в лагере, упражнялись с оружием, готовясь к выступлению, Тлалок изводил нас непрекращающимся ливнем. И когда наконец пришло время выступить в Тлашкалу, наши накидки насквозь промокли, а на сандалии налипли тяжеленные комья грязи.
Столица тлашкалтеков находилась в тринадцати долгих прогонах к юго-востоку. По приличной погоде мы могли бы форсированным маршем добраться туда за два дня, но это означало бы прибыть на место усталыми до изнеможения и столкнуться с противником, который тем временем набирался сил, готовясь к встрече с нами. Поэтому Несауальпилли приказал двигаться не спеша, чтобы мы добрались до цели только дня за четыре, но зато сравнительно бодрыми.
Первые два дня мы топали прямо на восток, так что нам приходилось время от времени перебираться лишь через пологие отроги вулканов, которые дальше на юг переходили в крутые пики, именовавшиеся Тлалоктепетль, Истаксиуатль и Попокатепетль. Потом мы повернули на юго-восток и направились уже непосредственно в Тлашкалу. И все это время воинам, за исключением тех промежутков, когда мы карабкались и скользили по каменистым кручам, приходилось месить грязь. Мне никогда не доводилось забираться так далеко от дома, однако осмотреть окрестности, к сожалению, не было никакой возможности – не только по причине плохого зрения, но и из-за пелены непрекращающегося дождя.
Мы маршировали, не слишком обремененные боевым снаряжением. Помимо обычной одежды у каждого воина имелась тяжелая плотная накидка под названием тламаитль, которую надевали в холодную погоду и в которую закутывались ночью. Кроме того, каждый из нас нес мешочек с пиноли (подслащенной медом маисовой мукой) и кожаный бурдюк с водой. Рано утром и в полдень во время привала мы смешивали пиноли с водой и готовили невкусную, но питательную кашу атоли. На каждом ночном привале нам обычно приходилось ждать, когда нас нагонят вспомогательные подразделения, нагруженные более тяжело. Хорошо еще, что по их прибытии каждому воину давали сытный горячий обед, в том числе чашку густого, насыщающего и бодрящего шоколада.
Служивший при кухне Коцатль всегда собственноручно приносил мне ужин, причем частенько ухитрялся увеличить порцию, а то и просто стянуть фрукт или какую-нибудь сладость. Поскольку Пожиратель Крови всегда при этом ворчал, а мои сослуживцы посмеивались, видя, как баловал меня слуга, я иной раз пытался уклониться от угощения. Но мальчишку это нисколько не смущало.
– Господин, – увещевал он меня, – не отказывайся. Не стоит изображать благородство, поверь мне, ты вовсе не объедаешь товарищей, шагающих в первых рядах. Неужели ты не знаешь, что лучше всех в армии кормятся те, кто дальше всего от передовой: носильщики, повара, гонцы и прочие. А послушал бы ты, как они хвастаются своими «подвигами»! Ах, как бы мне хотелось притащить тебе кувшин с горячей водой! Прости меня, господин, но запах здесь просто ужасный.
На четвертый день нашего пути, такой же серый и промозглый, как и предыдущие, высланные вперед разведчики донесли Несауальпилли, что в одном долгом прогоне впереди нас поджидают силы тлашкалтеков. Они заняли позицию на противоположном берегу реки, которую нам предстояло форсировать. В сухое время года здесь, наверное, протекал всего лишь мелкий ручеек, но после непрекращающегося дождя он разлился, превратившись в серьезное препятствие. Правда, глубина там была не больше, чем до середины бедра, но расстояние от берега до берега превышало дальность выстрела из лука, и это при довольно сильном течении. План противника был очевиден: переходя реку вброд, мы будем представлять собой медленно движущиеся мишени, не способные ни воспользоваться собственным оружием, ни уклониться от вражеского. С помощью стрел и метаемых из атль-атль дротиков тлашкалтеки рассчитывали существенно уменьшить число наших воинов и подорвать их боевой дух, прежде чем мы форсируем поток и сможем схватиться с ними лицом к лицу.
Говорят, что Несауальпилли, узнав об этом плане, улыбнулся и сказал:
– Очень хорошо. Ловушка приготовлена врагами и Тлалоком столь искусно, что, пожалуй, не станем их разочаровывать. Поутру мы в нее попадемся.
Он отдал приказ, чтобы наша армия остановилась на ночлег там, где находилась, по-прежнему довольно далеко от берега, и призвал к себе командиров всех рангов и благородных воителей. Мы, простые солдаты, кто присев на корточки, а кто и растянувшись на сырой земле, ждали. А на полевых кухнях тем временем уже вовсю хлопотали над улейном, особенно сытным, ибо все знали, что утром у нас не будет времени поесть даже атоли. Оружейники распаковывали и раскладывали оружие, которое предстояло раздать на следующий день. Барабанщики подтягивали отсыревшую кожу, жрецы и лекари готовили свои снадобья, инструменты для операций, благовония и книги заклинаний, чтобы завтра ухаживать за ранеными или от имени Пожирательницы Скверны выслушивать признания умирающих.
Пожиратель Крови вернулся с совещания командиров, когда мы уже получили еду и шоколад, и с ходу объявил:
– Сразу, как только поужинаем, наденем доспехи и вооружимся. Потом, с наступлением темноты, выйдем на намеченные позиции: спать будем прямо там, на месте. Подъем завтра предстоит ранний.
Пока мы ели, он рассказывал нам о плане Несауальпилли. На рассвете одна треть армии в боевом порядке, с барабанами и трубами, устремится прямо в реку, словно не подозревая об опасности. Когда противник начнет осыпать наших воинов стрелами, они собьются с шага и станут метаться по руслу, создавая впечатление неразберихи. Обстрел усилится, и колонна, как будто наступление захлебнулось, обратится в бегство. Пусть противник думает, что наша армия превратилась в беспорядочную, охваченную паникой толпу. Несауальпилли полагал, что иллюзия легкой победы выманит тлашкалтеков с их надежной безопасной позиции и побудит броситься за нами в погоню, чтобы «завершить разгром». Врагам и в голову не придет, что это «бегство» – всего лишь военная хитрость. Тем временем остальные наши воины укроются за камнями, в зарослях кустарника или за деревьями вдоль реки. Ни один из них не должен не только вступать в бой, но и высовываться из укрытия, пока «отступающие» не заманят всю армию Тлашкалы на наш берег. Враги, преследуя отступающих, окажутся между нашими затаившимися в засаде отрядами, и тогда Несауальпилли, наблюдающий за происходящим с возвышенности, даст знак барабанщикам и прозвучит сигнал к атаке. Отряды выскочат из засады, и на флангах ничего не подозревающего противника сомкнутся могучие клещи нашей армии.
– А куда именно нас поставят? – поинтересовался один седовласый боец.
– Почти на таком же безопасном удалении от неприятеля, как поваров со жрецами, – недовольно буркнул Пожиратель Крови.
– Что? – воскликнул пожилой ветеран. – Мы топали в такую даль по жуткой грязище, а теперь даже не услышим лязг обсидиана?
Наш куачик пожал плечами.
– Ну, вы же и сами знаете, сколь постыдно мало участие Мешико в этом походе. Вряд ли стоит винить Несауальпилли за то, что он, сам сражаясь на войне, затеянной Ауицотлем, отказывает нам в праве схватиться с неприятелем. Благородный Ксокок просил позволить мешикатль хотя бы идти в первых рядах тех, кто будет форсировать реку. Мы могли бы послужить наживкой для тлашкалтеков и, скорее всего, погибнуть, но Несауальпилли отказал нам даже в такой возможности стяжать славу.
Лично я был рад это слышать, ибо к посмертной славе вовсе не стремился, но другой солдат недовольно пробурчал:
– И что же, мы так и будем просто сидеть здесь, как последние трусы, и ждать, когда нам позволят сопровождать одержавших победу аколхуа и их пленников в Теночтитлан?
– Ну, не так уж все и плохо, – сказал Пожиратель Крови. – Может быть, кое-что удастся сделать и нам. Например, захватить одного-двух пленников. Некоторые из угодивших в западню тлашкалтеков могут прорваться мимо смыкающихся стен воинов аколхуа. Отряды мешикатль и текпанеков рассредоточатся с обеих сторон, с севера и с юга, словно сеть, предназначенная для отлова всех, кто вырвется из засады.
– Повезет, если мы поймаем в такую сеть хотя бы зайца, – проворчал седовласый ветеран. Он поднялся и, обращаясь ко всем нам, сказал: – Вот что, йаокуицкуи, вы будете сражаться впервые, поэтому я дам вам один совет. Перед тем как надеть доспехи, сходите в кусты и как следует облегчитесь. Когда грянут барабаны, у вас такой возможности уже не будет.
И, видимо, подавая пример, он удалился. Я последовал за ним и, присев на корточки, услышал неподалеку бормотание:
– Чуть не забыл об этой штуковине...
Оглянувшись, я увидел, как старый воин извлек из мешочка маленький, завернутый в бумагу предмет.
– Один гордый новоиспеченный папаша вручил мне это, чтобы зарыть на поле боя, – пояснил он. – Пуповина его новорожденного сына и маленький воинский щит.
Ветеран бросил пакет на землю, втоптал в грязь и, присев, полил реликвию мочой и навалил сверху горку экскрементов.
«Ну и ну, – подумал я, – вот так тонали для маленького мальчика. Интересно, может, и моими пуповиной и щитом распорядились подобным образом?»
Пока мы, простые солдаты, с трудом влезали в пропотевшие стеганые хлопковые панцири, благородные воители облачались в свои пышные, поражающие великолепием боевые одеяния.
Благородными воителями именовались у нас те, кто принадлежал к одному из воинских сообществ или, как сказали бы вы, рыцарских орденов. Таких сообществ было три: в два из них, Ягуаров и Орлов, воинов принимали за подвиги на поле боя, а в сообщество Стрел можно было попасть за выдающуюся меткость, убив из лука множество врагов.
Воители-Ягуары в знак отличия носили плащи из шкуры этого хищника, а в качестве шлема использовали его голову. Разумеется, череп удаляли, после чего передние зубы ягуаpa приклеивали к краям пятнистого капюшона, так что верхние клыки нависали надо лбом воина, а нижние загибались перед его подбородком. Панцири у воителей-Ягуаров также были раскрашены под цвет шкуры могучего пятнистого кота. Воители-Орлы в качестве шлема надевали огромную орлиную голову, сделанную из дерева и покрытую настоящими орлиными перьями: открытый клюв выдавался вперед надо лбом и под подбородком. Орлиными перьями они покрывали и весь панцирь, к сандалиям крепились искусственные когти, а обшитая перьями накидка походила на сложенные крылья. Воитель-Стрела тоже носил шлем в виде птичьей головы, но уже не орла, а любой другой, не столь благородной птицы, по своему выбору. При этом панцирь его покрывали такие же перья, какими он предпочитал оперять свои стрелы.
У всех этих воителей имелись деревянные, кожаные или плетеные щиты, покрытые перьями, из которых складывались сложные мозаичные узоры, у каждого – разные, включавшие в себя символы его имени. Благородные воители славились доблестью и считали прославление своего имени в бою делом чести. Разумеется, самые отважные и честолюбивые противники хотели сразиться именно с этими героями, ибо каждому было лестно стяжать славу «победителя доблестного Ксокока» или другого прославленного воина. Мы, йаокуицкуи, получили щиты, лишенные каких-либо украшений, а доспехи у всех нас были одинаково белыми, пока не стали одинаково грязными. Простым воинам не разрешалось иметь никаких гербов или символов, но некоторые из старых солдат втыкали перья в волосы или раскрашивали лица, дабы показать, что для них это не первая кампания.
Натянув доспехи, мы с моими товарищами-новичками отправились в тыл, к жрецам. Те, зевая, выслушивали сбивчивые, обращенные к Тласольтеотль признания, а потом давали нам снадобье, предназначавшееся для подавления страха и пробуждения отваги. Я хоть и не верил в то, что глоток какой-то бурды способен совладать со страхом, леденящим сердце и парализующим ноги, тем не менее послушно пригубил зелье. Оно состояло из размешанных в дождевой воде белой глины, толченого аметиста, листьев конопли, порошка какао и лепестков орхидеи.
Когда мы вернулись к флагу, командир мешикатль, благородный воитель-Стрела Ксокок объявил:
– Знайте все: целью завтрашнего сражения является захват пленных для принесения в жертву Уицилопочтли. Иными словами, мы должны стараться наносить удары плашмя – оглушающие, но не смертельные. Предпочтительнее ранить врага, чем убить его. Однако вы должны помнить, что если для нас это просто Цветочная Война, то тлашкалтеки смотрят на нее иначе. Они будут стоять насмерть, будут сражаться, чтобы защитить свои жизни и отнять наши. Аколхуа понесут наибольшие потери или стяжают великую славу. Но вот что я хочу сказать вам: увидев бегущего врага, помните, что вам надлежит захватить его в плен живым, однако не забывайте, что сам он при этом попытается вас убить.
Произнеся эту не слишком ободряющую речь, Ксокок повел нас (каждый боец был вооружен копьем и макуауитль) вперед, резко повернув на север. При этом командир оставлял по пути, через равные промежутки, небольшие группы солдат. Подразделение Пожирателя Крови отделилось от основных сил первым, и, когда остальные мешикатль потащились дальше, куачик дал нам последнее наставление:
– Те из вас, кому уже случалось бывать в бою и брать пленных, знают, что опытный воин должен пленить врага самостоятельно, не прибегая ни к чьей помощи: только так можно стяжать славу героя. Однако новобранцам, если кому-то из них представится возможность пленить недруга, не возбраняется позвать на помощь товарища и разделить с ним честь победы. А сейчас следуйте за мной... Видите дерево? Вот ты взберешься на него и затаишься в ветвях... А ты и ты, вы оба спрячетесь вон за тем нагромождением камней... Связанный Туманом, твое место будет за этим кустом...
И таким образом он расставил всех нас длинной, тянущейся на север цепью, приблизительно на расстоянии ста шагов друг от друга. В темноте мы не видели товарищей, да и при свете дня должны были тщательно маскироваться, но ведь в крайнем случае всегда можно громко крикнуть.
Сомневаюсь, чтобы в ту ночь хоть кто-то из нас, за исключением, может быть, нескольких закаленных в боях ветеранов, сомкнул глаза. Сам я не спал, тем паче что спрятаться за отведенным мне кустом можно было, лишь скрючившись в три погибели. По-прежнему сыпал дождь, так что моя накидка промокла до нитки. Та же судьба постигла и мой хлопковый панцирь: он размок, прилип к коже и стал настолько тяжелым, что я даже засомневался, сумею ли, когда придет время, выпрямиться.
После бесконечно долгого, томительного ожидания я наконец услышал, как справа, с юга, донеслись слабые звуки. Основные силы аколхуа готовились – кто выступить в засаду, кто пойти в ложную атаку, под губительные стрелы тлашкалтеков. Сейчас их жрецы распевали традиционные, предваряющие битву молитвы, но с такого расстояния до меня доносились лишь обрывки песнопений.
– О могучий Уицилопочтли, бог сражений и битв, начинается война... Выбери же, о великий бог, тех, кто должен убивать, тех, кому предстоит быть убитыми, и тех, чья участь быть захваченными как ксочимикуи, дабы ты мог испить кровь их сердец... О владыка воинств, молим тебя одарить своей улыбкою тех, кому суждено погибнуть на этом поле или на твоем алтаре... Пусть проследуют они прямо к дому солнца, чтобы возродиться снова и жить там в любви и почете среди тех доблестных мужей, кои были их предшественниками...
Ба-ра-РУУМ! Все мое затекшее тело содрогнулось от грома «вырывающих сердца» барабанов. Даже обволакивающий все вокруг дождь не смог смягчить этого пробирающего до костей грохота. Я надеялся, что наводящий страх шум не напугает воинов Тлашкалы и не обратит их в бегство раньше, чем нашим удастся заманить их в задуманную Несауальпилли ловушку. Вскоре к грому барабанов присоединились стоны, завывания и протяжное блеяние труб-раковин. А затем весь этот шум стал медленно стихать: музыканты вместе с колонной наступающих удалялись в направлении реки, навстречу поджидавшему их врагу.
Поскольку набухшие дождевые тучи висели так низко, что, казалось, их можно было коснуться рукой, настоящего рассвета мы в тот день не дождались, однако со временем стало гораздо светлее. В результате я убедился, что всю ночь просидел сгорбившись за сухим, почти полностью облетевшим кустом, который едва ли мог бы послужить полноценным укрытием и для земляной белки. Мне требовалось срочно затаиться в каком-нибудь другом месте. Времени было в обрез, и я, с трудом встав, придерживая макуауитль и волоча копье, чтобы оно не торчало над головой, на полусогнутых ногах двинулся на поиски нового убежища.
Признаюсь вам, почтенные братья, что даже если бы вы подвергли меня всем пыткам, имеющимся в арсенале вашей Святой Инквизиции, я бы и тогда не смог вразумительно объяснить, почему выбрал в то утро именно это направление. С одинаковым успехом можно было искать новое убежище где угодно, в любой стороне. Но меня потянуло именно на восток, туда, где в скором времени предстояло разразиться сражению. Могу лишь предположить, будто руководствовался подсказкой внутреннего голоса, внушавшего мне что-то вроде: «Темная Туча, ты сейчас на грани того, чтобы ввязаться в битву на первой и, может быть, единственной войне в твоей жизни. Будет жаль, если ты так и не переступишь эту грань и не постигнешь того, чего человеку нельзя понять, не испытав на себе».
Однако я так и не дошел до реки, где аколхуа уже столкнулись с тлашкалтеками, и лишь издали до меня доносился шум схватки. Сначала рев, гиканье и боевые кличи, а потом – вопли и проклятия раненых. А главное – свист рассекающих воздух стрел и дротиков. Должен сказать, что тупое оружие, на котором мы тренировались в школе, практически не производило шума, тогда как острые обсидиановые наконечники боевых стрел и копий буквально пели в воздухе, неся погибель своим жертвам. Поэтому с того дня всякий раз, когда мне приходилось записывать повествование о сражении, я всегда добавлял к изображениям стрел, дротиков и копий завиток, символизирующий пение.
Сперва шум слышался спереди от меня – оттуда, где две армии сошлись на реке, а потом, когда аколхуа обратились в бегство, а тлашкалтеки пустились в погоню, стал смещаться вправо. Затем барабанщики по приказу Несауальпилли подали сигнал, клещи сомкнулись, и неистовые звуки сражения усилились во много раз. Благородные воители издавали свои кличи, подражая грозному рычанию ягуаров, пронзительному клекоту орлов или уханью сов. Я мог лишь представлять себе, как аколхуа наносят удары мечами плашмя и делают выпады тупыми концами копий, в то время как их недруги отчаянно дерутся, изо всех сил стараясь сразить противников насмерть.
Надо полагать, картина была впечатляющей и на нее стоило посмотреть, однако панораму боя от меня скрывали неровная местность, деревья и кусты, серая пелена дождя и, конечно же, моя близорукость. Я уже совсем было решил подкрасться поближе, когда кто-то робко похлопал меня по плечу.
Не выпрямляясь, продолжая сидеть на корточках, я резко развернулся, выставил перед собой копье... и чуть не насадил на него Коцатля. Мальчик тоже стоял пригнувшись и приложив палец к губам. Переведя дух, я прошипел:
– Коцатль, чтоб тебе провалиться! Что ты здесь делаешь?
– Я находился поблизости от тебя всю ночь, господин, – прошептал он, – поскольку думал, что моему хозяину может понадобиться пара глаз получше его собственных.
– Нахальный постреленок! Я еще не...
– Нет, господин, ни в коем случае. Но похоже, я ждал не зря. Сюда приближается враг, и если б не я, он увидел бы тебя первым.
– Что? Враг? – Я пригнулся еще ниже.
– Да, господин. Воитель-Ягуар в полном боевом облачении. Должно быть, он вырвался из засады. – Коцатль поднял голову и торопливо огляделся. – Думаю, он собирается зайти нашим в тыл и неожиданно снова на них напасть.
– Посмотри еще, – нетерпеливо попросил я мальчика. – Где именно этот человек находится и куда он направляется?
Маленький раб привстал, пригляделся и доложил:
– Он находится примерно в сорока длинных шагах, слева от тебя. Движется медленно, пригнувшись, но, похоже, не ранен. Просто соблюдает осторожность. Если он продолжит идти в том же направлении, то неизбежно пройдет между вон теми двумя деревьями, что в десяти длинных шагах перед тобой.
Получив столь точные указания, даже слепец мог бы перехватить противника.
– Пойду к деревьям, – сказал я. – А ты оставайся здесь и незаметно приглядывай за врагом. Если он заметит мое движение, ты это увидишь. Предупреди меня криком, асам беги.
Копье и плащ я оставил на месте и, взяв с собой только макуауитль, извиваясь пополз вперед, к маячившим за пеленой дождя деревьям. Они торчали над порослью высокой травы и низких кустов, сквозь которые едва виднелась протоптанная оленями тропа. Я решил, что по ней-то и движется сбежавший тлашкалтек. Коцатль голоса пока не подавал, и я, добравшись до деревьев, присел на корточки за одним из них, держа свой макуауитль наготове – обхватив рукоять обеими руками и отведя клинок назад для удара.
Сквозь шелест моросящего дождя до моего слуха доносились лишь слабые шорохи травы и ветвей, а потом вдруг прямо перед моим укрытием на землю опустилась ступня в заляпанной грязью сандалии, отделанной по краям ягуаровыми когтями. Миг спустя я увидел и вторую ногу. Должно быть, оказавшись между деревьями, воин рискнул наконец выпрямиться в полный рост, чтобы оглядеться.
Я замахнулся острым обсидиановым мечом, вспомнив, как замахивался когда-то на кактус топали, и мне показалось, что благородный воитель на какой-то миг завис в воздухе. А потом, рухнув, растянулся на земле: я перерубил его обутые в сандалии ноги выше лодыжек. Одним рывком я оседлал врага, отшвырнул макуауитль, еще остававшийся в его руке, и, приставив тупой кончик моего собственного к его горлу, задыхаясь произнес освященное традицией ритуальное обращение победителя к пленнику. В мое время воины всегда соблюдали правила учтивости. Невежливо было называть этого человека пленником, так что поверженному воителю-Ягуару я сказал:
– Ты мой возлюбленный сын.
– Да проклянут тебя все боги Сего Мира! – злобно огрызнулся тот в ответ, и его можно было понять. Его, благородного воителя-Ягуара, застали врасплох – и кто же? Не другой славный воитель вроде него или хотя бы закаленный в боях ветеран, а йаокуицкуи, неопытный новобранец самого низшего ранга. Я прекрасно понимал, что, случись нам сойтись в бою лицом к лицу, он мог бы не спеша изрубить меня на мелкие кусочки. Воитель тоже понимал это, а потому побагровел и заскрежетал зубами. Однако, как ни силен был его гнев, воин все же совладал с ним и нашел в себе силы вымолвить традиционные слова сдающегося в плен:
– Ты мой почтенный отец.
Я отвел оружие от шеи врага, и он сел, тупо уставившись на кровь, хлеставшую из обрубков его ног, и две ступни, так и оставшиеся стоять рядом на оленьей тропе. Накидка из ягуара, составлявшая наряд благородного воителя, даже промокшая и заляпанная грязью, производила сильное впечатление. Пятнистая шкура крепилась к оскаленной голове хищника, служившей шлемом таким образом, что передние лапы зверя были своего рода рукавами, куда продевались руки воителя, а когти постукивали у его запястий. Ремни при падении не расстегнулись, и на его левом предплечье по-прежнему красовался круглый щит.
В кустах снова раздалось шуршание, и появился Коцатль.
– Мой господин захватил своего первого пленника сам, без посторонней помощи, – тихо, но гордо промолвил он.
– И я не хочу, чтобы этот человек умер, – отозвался я, задыхаясь, но не от усталости, а от возбуждения. – У него сильное кровотечение.
– Может быть, обрубки можно перетянуть и чем-нибудь замотать, – предложил воин, говоривший на науатлъ с сильным тлашкальским акцентом.
Коцатль быстро развязал кожаные ремешки его сандалий, и я туго перетянул ими обе ноги пленника. Кровотечение мгновенно ослабло: кровь уже не хлестала, а лишь сочилась. Потом я встал между деревьями, чтобы осмотреться и прислушаться, как хотел это сделать воитель-Ягуар. К моему удивлению, с юга доносился не яростный шум битвы, а лишь невнятный гомон, словно на рыночной площади, перемежаемый отрывистыми приказами. Очевидно, пока я совершал свой маленький подвиг, главное сражение подошло к концу.
– Похоже, мой возлюбленный сын, ты сегодня не единственный пленник, – сказал я угрюмому воину. – Кажется, вся ваша армия разбита.
Тот лишь хмыкнул.
– Сейчас я отнесу тебя туда, где твоими ранами смогут заняться лекари. Думаю, у меня хватит сил тебя нести.
– Да уж, теперь я вешу меньше, – сардонически заметил пленник.
Я взвалил его изуродованное тело на закорки, а тлашкалец обхватил меня руками за шею. Его разукрашенный щит прикрыл мою грудь, словно был моим собственным. Коцатль, уже успевший притащить мне плащ и копье, теперь подобрал мой простой плетеный щит и окрашенный кровью макуауитль. Засунув их себе под мышки, мальчик взял в каждую руку по одной отсеченной ступне и поплелся под дождем следом за мной. Пошатываясь, я брел на юг – туда, где, как я надеялся, собиралась и восстанавливала порядок после победоносного сражения наша армия. На полпути мне повстречались бойцы нашего отряда: Пожиратель Крови собирал своих людей с ночных постов, чтобы отвести их к месту сбора.
– Связанный Туманом! – проревел, увидев меня, куачик. – Как ты посмел бросить свой пост? Где ты?.. – И осекся. Челюсть у него отвисла, а глаза от изумления округлились, почти сравнявшись по размеру с разинутым ртом. – Чтоб мне провалиться в Миктлан! Вы только гляньте! Гляньте, что тащит на спине мой лучший ученик! Я должен немедленно доложить об этом командиру Ксококу!
И он побежал прочь.
Товарищи взирали на мою добычу с восторгом и завистью. Один из них предложил мне помощь, но я выдохнул: «Нет!» Даже это слово далось мне с трудом, однако подвиг был мой, и я не собирался ни с кем делиться славой.
Вот в таком виде – с угрюмым воителем-Ягуаром на спине и ликующим Коцатлем, следовавшим за мной по пятам, сопровождаемый аж двумя командирами, Ксококом и Пожирателем Крови, гордо вышагивавшими по обе стороны от подчиненного, – я и прибыл наконец к месту, где завершилось сражение.
Особого ликования и торжества там не наблюдалось: уцелевшие и легко раненные воины обеих армий отдыхали, в изнеможении повалившись на землю; остальные аколхуа и тлашкалтеки корчились от боли, стонали и кричали на разные лады.
Между ними расхаживали лекари со своими снадобьями и бормотавшие заклинания жрецы. Некоторые из уцелевших бойцов, превозмогая усталость, помогали лекарям или собирали разбросанное по полю оружие, а также трупы и отсеченные части тел: руки, ноги и даже головы. Непосвященному человеку сейчас было бы трудно разобраться, кто здесь победители, а кто побежденные. Над полем висел смешанный запах крови, пота, грязных тел, мочи и кала.
Лавируя между лежавшими бойцами, я озирался по сторонам, высматривая кого-нибудь из командиров, чтобы сдать ему пленного.
Но весть об успехе опередила нас, и передо мной неожиданно появился не кто иной, как сам Несауальпилли. Он был облачен, как и подобало юй-тлатоани, в мантию, но под ней носил оперенный панцирь воителя-Орла, сейчас основательно заляпанный кровью. Вождь аколхуа не просто командовал войском, но и лично участвовал в сражении. Ксокок и Пожиратель Крови почтительно остановились в паре шагов за моей спиной, а правитель Тескоко приветствовал меня, подняв руку.
Я опустил своего пленника на землю, устало исполнил жест целования земли и, тяжело дыша, с трудом проговорил:
– Мой господ... господин... это... мой возлюбленный сын.
– А это, – промолвил благородный воитель, с иронией кивнув в мою сторону, – мой почтенный отец. Микспанцинко, владыка Глашатай.
– Молодец, юный Микстли, – сказал командующий. – Ксимопанолти, воитель-Ягуар Тлауи-Колотль.
– Я приветствую тебя, старый враг, – обратился пленник к моему господину. – В первый раз мы встречаемся не в разгар сражения.
– И похоже, что этот раз окажется последним, – ответил юй-тлатоани, опустившись на колени рядом с пленником, словно тот был его товарищем. – Жаль. Мне будет недоставать тебя. Мы с тобой встречались в незабываемых поединках. Кто мог предположить, что такой великий герой будет взят в плен новобранцем? – Он тяжело вздохнул. – Порой терять достойного противника бывает не менее печально, чем доброго друга.
Я слушал этот разговор с некоторым изумлением. До сего момента мне не приходило в голову поинтересоваться символами на щите пленного, тем паче что его имя – Тлауи-Колотль, Вооруженный Скорпион, – все равно ничего мне не говорило. Но для опытных воинов оно, очевидно, было громким и столь славным, что отблеск этой славы падал и на человека, пленившего подобного героя.
– Чтобы вырваться из засады, мой старый враг, – сказал Вооруженный Скорпион Несауальпилли, – я убил четырех твоих благородных воителей. Двух Орлов, Ягуара и Стрелу. Но если бы я знал, что уготовил мне тонали, – он бросил на меня взгляд, в котором смешивались удивление и презрение, – то уж лучше бы позволил одолеть меня кому-нибудь из них.
– Ты еще сразишься с благородными воителями, прежде чем умрешь, – заверил его Чтимый Глашатай. – Я позабочусь об этом. А сейчас позволь мне облегчить твои страдания...
Он повернулся и окликнул возившегося неподалеку с раненым бойцом лекаря.
– Минуточку, – побормотал тот.
Одному из воинов аколхуа в бою отсекли нос, сейчас хирург пришивал его на место, используя колючку кактуса в качестве иглы и собственный волос вместо нитки. По правде сказать, смотреть на это было страшнее, чем на просто кровавую рану. Закончив пришивать, врач поспешно залепил швы пастой из подсоленного меда и поспешил к моему пленнику.
– Развяжи-ка ремни на его ногах, – бросил лекарь одному своему помощнику и, повернувшись к другому, распорядился: – А ты набери из того костра плошку угольев, да погорячее.
Стоило снять ремни, как обрубки ног Вооруженного Скорпиона снова начали кровоточить, а к тому времени, когда второй помощник вернулся с миской раскаленных добела угольков, по которым пробегали, вспыхивая, маленькие искорки, кровь уже хлестала ручьем.
– Мой господин, – услужливо обратился Коцатль к лекарю, – вот его ноги.
Хирург досадливо хмыкнул:
– Убери. Ступни нельзя взять да и пришить на место, как кончик носа. – И обратился к раненому: – Как будем прижигать, обе сразу или по одной?
– Как тебе угодно, – равнодушно ответил Вооруженный Скорпион.
Как до этого он ни разу не вскрикнул и не застонал от боли, точно так же раненый воитель не издал ни звука и когда лекарь, взяв в руки одновременно оба его обрубка, сунул их в плошку с углями. А вот Коцатль не выдержал: повернулся и убежал. Кровь зашипела, над плошкой поднялось облачко розоватого пара. Опаленная плоть затрещала, испуская чуть менее противный голубоватый дымок. Вооруженный Скорпион наблюдал за всем этим так же спокойно, как и лекарь, невозмутимо вынувший обуглившиеся и почерневшие обрубки из углей. Это прижигание запечатало рассеченные кровеносные сосуды и остановило кровотечение. Затем целитель щедро смазал обрубки бальзамом: пчелиным воском, смешанным с яичными желтками, настоем ольховой коры и корнем барабоско, после чего поднялся и доложил:
– Мой господин, смерть этому воину уже не грозит, но пройдет еще несколько дней, прежде чем он оправится от потери такого большого количества крови.
– Пусть для него приготовят носилки, подобающие знатному господину, – распорядился Несауальпилли. – Вооруженный Скорпион возглавит колонну пленников.
Потом он повернулся к Ксококу и, глядя на него холодно, промолвил:
– Сегодня мы, аколхуа, лишились многих бойцов, а еще больше их умрет от ран, так и не увидев свои дома. Враг потерял примерно столько же, но количество захваченных пленников приблизительно равно числу наших уцелевших воинов. Ваш Чтимый Глашатай Ауицотль должен быть доволен тем, что сделали мы для него самого и для его бога. А если бы он и Чималпопока из Тлакопана послали сюда настоящие армии, мы вполне могли бы захватить всю страну Тлашкалу. – Он пожал плечами. – Ну да ладно. Сколько врагов взяли в плен воины Мешико?
Благородный воитель Ксокок переступил с ноги на ногу, прокашлялся, указал на Вооруженного Скорпиона и пробормотал:
– Мой господин, наш единственный пленник перед тобой. Может быть, текпанеки захватили еще нескольких отбившихся... Пока не знаю. Но из мешикатль, – он указал на меня, – только этот йаокуицкуи...
– Как тебе должно быть хорошо известно, – съязвил Несауальпилли, – он уже не йаокуицкуи. После захвата первого пленника он получает право именоваться ийак. А этот единственный пленник, захваченный мешикатль в сегодняшней битве, как ты сам слышал, убил четырех благородных воителей аколхуа. Позволю себе заметить, что, говоря об убитых противниках, Вооруженный Скорпион всегда принимал в расчет только благородных воителей, что же до прочих, то он наверняка убил и захватил в плен сотни аколхуа, мешикатль и текпанеков.
– Да уж, – пробормотал Пожиратель Крови, на которого эти слова произвели сильное впечатление. – Выходит, наш Связанный Туманом – настоящий герой.
– Да какой из меня герой, – возразил я. – Мне просто очень повезло, да и этого не случилось бы без Коцатля и...
– Но это случилось, – оборвал меня Несауальпилли и вновь обратился к Ксококу: – Возможно, ваш Чтимый Глашатай сочтет нужным пожаловать этому юноше более высокое отличие, чем звание ийак, ведь, в конце концов, он единственный мешикатль, проявивший в последнем походе доблесть и отвагу. Я лично напишу Ауицотлю письмо, а ты представишь героя вашему повелителю.
– Как прикажешь, мой господин, – сказал Ксокок, чуть ли не буквально поцеловав землю. – Мы все гордимся нашим Связанным Туманом.
– В таком случае называйте его каким-нибудь другим именем! Но хватит разговоров, Ксокок. Построй своих людей, они будут «пеленающими» и «поглощающими». Действуй!
Ксокок воспринял этот приказ как оскорбление, да так оно, собственно говоря, и было. Однако они вместе с Пожирателем Крови бегом отправились его выполнять. Как я уже объяснял, «пеленающими» у нас называли вспомогательные отряды, бойцы которых связывали и охраняли пленников; «поглощающие» же должны были обходить поле боя, добивая тяжелораненых. Завершив обход, они собирали трупы как своих бойцов, так и врагов и предавали их все вместе огню, вложив в рот или в руку каждому погибшему осколок жадеита.
На несколько мгновений мы с Несауальпилли остались вдвоем, и он сказал:
– Сегодня ты совершил подвиг, которым нужно гордиться, но которого можно и стыдиться. Ты пленил могучего врага, самого грозного из всех вышедших сегодня на поле боя, но в то же время нанес благородному воителю несмываемое оскорбление. Даже когда Вооруженный Скорпион достигнет загробной обители героев, его вечное блаженство будет неизменно омрачено привкусом горечи и стыда, ибо все пребывающие там воители узнают, что его победил неопытный новобранец да вдобавок еще и близорукий.
– Мой господин, – заметил я, – я сделал лишь то, что казалось мне правильным.
– Так ты поступал и раньше, оставляя другим горькое послевкусие, – вздохнул правитель. – Я не корю тебя, Микстли. Твой тонали, как было предсказано, состоит в том, чтобы видеть правду и сообщать ее другим. Но у меня есть к тебе одна просьба.
Я почтительно склонил голову:
– Мой господин не должен ни о чем просить простолюдина. Его дело приказывать, а мой долг повиноваться.
– То, что я тебе сейчас скажу, может быть только просьбой, а не приказом. Я очень прошу тебя, Микстли, отныне обращаться с правдой благоразумно, даже осторожно. Поверь мне, истина может разить не менее беспощадно, чем самый острый обсидиан. Причем, подобно клинку, она может поранить и того, в чьих руках находится.
Он резко отвернулся от меня, призвал гонца-скорохода и велел тому:
– Надень зеленый плащ и заплети волосы в косу, как подобает носителю доброй вести. Захвати чистый новый щит и макуауитль и беги в Теночтитлан. Во дворец следуй не кратчайшим путем, но пробегись по улицам, размахивая щитом и мечом и привлекая внимание. Пусть люди осыпают тебя цветами. Пусть Ауицотль знает, что победа одержана и что он получил необходимых ему пленников. – Несауальпилли немного помолчал и закончил, обращаясь уже не к гонцу, а к самому себе: – И что отныне жизнь, смерть и само имя Жадеитовой Куколки должны быть забыты.
Несауальпилли и его армия расстались с союзниками и направились назад тем же путем, каким мы все пришли сюда. А вооруженные отряды Мешико и Тлакопана вместе с длинной колонной пленников двинулись обратно по более короткой дороге – через перевал между пиками Тлалоктепетль и Истаксиуатль, а оттуда – вдоль южного побережья озера Тескоко, прямо к Теночтитлану. Двигались мы медленно, ибо многие раненые едва ковыляли, иных же, как Вооруженного Скорпиона, приходилось нести, но трудным для нас этот марш не был. Во-первых, дождь наконец прекратился, и мы радовались солнечным дням да теплым ночам, а во-вторых, сразу за перевалом началась ровная живописная местность. По одну руку от нас мирно плескалось озеро, а по другую – тянулись пологие, поросшие густыми лесами склоны.
Это удивляет вас, почтенные братья? Какие тут могут быть леса да еще в такой близости от города? Представьте себе, еще совсем недавно вся долина Мешико славилась изобилием деревьев. Чего здесь только не росло: вековые кипарисы, различные породы дубов, сосны с длинными и короткими иголками, лавры, акации, мимозы. Я, мои господа, ничего не знаю о вашей стране Испании или о вашей провинции Кастилии, но это, должно быть, сухие безжизненные земли. Как сейчас, вижу ваших дровосеков, оголяющих наши зеленые холмы ради получения строевой древесины и дров. Помню, они под корень вырубали растения, которые могли красоваться и зеленеть еще вязанки лет, и, отступив назад, горделиво любовались делом своих рук. А при виде голой, серовато-коричневой земли с тоской вздыхали и восклицали: «О Кастилия!», ибо этот унылый пейзаж напоминал им об оставшейся за морем родине.
Добравшись наконец до перешейка между озерами Тескоко и Шочимилько, то есть до земель, некогда входивших в обширные владения народа калхуа, мы привели в порядок наш строй, поправили амуницию и приободрились: впереди был Истапалапан, и нам надо было произвести на его жителей хорошее впечатление. Когда этот город остался позади, Пожиратель Крови сказал мне:
– Если не ошибаюсь, с тех пор как ты бывал в Теночтитлане, прошло немало времени, верно?
– Да, – согласился я. – Лет четырнадцать или около того.
– Ты увидишь, что город сильно изменился. Стал еще более величественным. Вид на него откроется уже со следующей возвышенности, вон с того холма.
Вскоре дорога пошла в гору, и, когда мы взобрались на вершину, мой учитель сделал выразительный жест:
– А теперь смотри!
Увы, мои близорукие глаза не могли различить деталей, однако, прищурившись, я даже на таком расстоянии углядел пятно сияющей белизны.
– Великая Пирамида, – произнес Пожиратель Крови. – Можешь гордиться: ведь ты своей доблестью поспособствовал тому, что ритуал ее освящения будет проведен достойно.
Так мы шли по долине Мешико, пока не вступили на дамбу, ведущую прямо через озеро к Теночтитлану. Каменная дорога была достаточно широкой, чтобы по ней бок о бок могли одновременно пройти двадцать человек. Но мы построили наших пленников в шеренгу по четыре, по бокам шли охранники. Не подумайте, что мы сделали это для того, чтобы придать нашей армии более внушительный вид, просто по обе стороны дамбы толпились горожане, высыпавшие нас поприветствовать. Из толпы были слышны восторженные крики и совиное уханье, нас осыпали цветами, как будто одержанная победа являлась исключительно заслугой немногочисленных воинов Мешико и Тлакопана.
На полпути к городу дамба расширялась, превращаясь в насыпной остров. Там располагалась крепость Акачинанко – цитадель, преграждавшая путь любому захватчику, которому вздумалось бы атаковать столицу с этого направления. Хоть и воздвигнутая на насыпной основе, эта твердыня по размерам могла соперничать с любым из городов, мимо которых мы прошли, а ее гарнизон присоединился к общему ликованию, приветствуя нас барабанным боем, завыванием труб, громкими боевыми кличами и ударами копий о щиты. Я, однако, смотрел на этих воинов с презрением, ибо никто из них не был с нами в сражении.
Когда голова нашей колонны, где шел и я, уже вступала на главную площадь Теночтитлана, хвост ее только-только заходил на дамбу, то есть мы растянулись на целых два с половиной долгих прогона. На величественной центральной площади, в Истинном Сердце Сего Мира, мы, мешикатль, вышли из колонны, а текпанеки резко свернули налево и повели пленников по широкой улице к другой дамбе, западной, через которую можно было попасть в Тлакопан. Пленников предстояло разместить где-то на материке, за пределами города. Они должны были оставаться там вплоть до дня, назначенного для освящения пирамиды.
Великая Пирамида! Я повернулся, чтобы посмотреть на нее, и от изумления разинул рот, как, наверное, сделал бы в детстве. Впоследствии мне доводилось видеть немало пирамид, в том числе и превосходящих эту по размеру, но ни одна из них не была столь блистательной и великолепной. То было самое высокое сооружение в городе, видное из любого конца Теночтитлана, и на вершине ее, повергая всех в трепет, горделиво красовались два величественных храма-близнеца, заметных даже с материка. Однако мне так и не удалось толком полюбоваться ни пирамидой, ни другими красотами столицы (а за четырнадцать лет здесь действительно появилось много нового). К нам, расталкивая толпу, подбежал юный гонец юй-тлатоани, громко выкрикивавший имя воителя-Стрелы Ксокока.
– Это я, – с достоинством заявил наш командир.
– Мой господин, Чтимый Глашатай Ауицотль, повелевает тебе без промедления явиться к нему и привести с собой ийака по имени Тлилектик-Микстли.
– Хорошо. – Благородный воитель был не слишком доволен таким поворотом дела. – Эй, Связанный Туманом, где ты? То есть я хотел сказать – ийак Микстли. Идем.
Лично я предпочел бы предстать перед юй-тлатоани, предварительно помывшись, попарившись и переодевшись в чистое, однако спорить не приходилось. Пока юноша вел нас сквозь толпу, Ксокок наставлял меня, как следует вести себя при дворе:
– Смиренно вырази почтение, а потом извинись и удались, дабы Чтимый Глашатай мог выслушать мой доклад о сражении и победе.
Среди новых достопримечательностей площади была окружавшая ее Змеиная стена. Построенная из камня, оштукатуренная безукоризненно белым гипсом, она в два раза превышала человеческий рост, и ее верхний край изгибался подобно змее. И изнутри, и снаружи вдоль стены шел рельефный узор из резных камней, изображавших змеиные головы. В стене имелись три вместительных проема, от которых начинались три самые широкие и прямые в городе улицы: они вели с центральной площади на север, запад и юг. Кроме того, внутри стены с равными промежутками располагались деревянные двери, через которые можно было выйти к главным зданиям, стоявшим снаружи.
Одним из них был новый дворец, выстроенный для Ауицотля за северо-восточной оконечностью Змеиной стены. Не уступая по размерам ни одной из резиденций его предшественников, правителей Теночтитлана, или дворцу Несауальпилли в Тескоко, он далеко превосходил их богатством и вычурностью отделки. Выстроенный совсем недавно, он был сделан по последнему слову архитектуры и снабжен всеми самыми современными удобствами. Например, на верхних этажах имелись раздвижные потолки, так что в хорошую погоду эти комнаты открывались солнцу, превращаясь в висячие дворики.
Пожалуй, самой примечательной особенностью дворца, представлявшего по форме четырехугольник с пустым пространством посередине, было то, что его окаймлял один из городских каналов. Таким образом, в это здание можно было войти с площади, через ворота Змеиной стены, или заплыть на каноэ. И знатный человек, нежащийся в своем удобном, покрытом балдахином акали, и простой лодочник, перегоняющий челнок со сладким картофелем, могли воспользоваться этим восхитительным маршрутом и, проплывая по каналу, полюбоваться сначала великолепием настенных росписей ведущего к дворцу тоннеля, потом пышным цветением садов внутреннего двора, а затем и красотами другого, огромного, как пещера, коридора, уставленного впечатляющими, недавно выполненными изваяниями. Выплыв из последнего тоннеля, лодка вновь оказывалась за пределами территории дворца.
Придворный юноша чуть ли не бегом протащил нас через портал Змеиной стены, а потом повел по галереям и коридорам к залу, украшением которого служили развешанные по стенам военные и охотничьей трофеи и оружие. Шкуры ягуаров, оцелотов, кугуаров и аллигаторов служили напольными ковриками и покрывалами для низких кресел и скамеек. На помосте стоял трон, а на нем восседал мужчина с квадратными плечами, квадратной головой и квадратным лицом. Трон юй-тлатоани был полностью покрыт мохнатой шкурой обитающего далеко на севере, за пределами наших земель, гигантского медведя, страшного зверя, которого вы, белые, называете oso pardo, или гризли. Массивная голова чудовища возвышалась над головой юй-тлатоани, в оскаленной пасти торчали зубы величиной с мой палец, а осененное этими клыками лицо Ауицотля казалось не менее свирепым.
Слуга, Ксокок и я опустились, чтобы исполнить обряд целования земли. Когда Ауицотль грубовато велел нам встать, воитель Стрела сказал:
– По твоему приказу, Чтимый Глашатай, я привел ийака по имени...
Правитель резко прервал его:
– Ты также принес письмо от Несауальпилли. Отдай его нам. Когда вернешься в расположение отряда, сделаешь в своем списке пометку о том, что по моему указу ийак Микстли повышен до ранга текуиуа. Можешь идти.
– Но, господин, – изумился Ксокок, – разве ты не желаешь выслушать мой рассказ о сражении?
– А что ты о нем знаешь, кроме того, что твои люди проделали путь туда и обратно? Нет уж, о битве нам расскажет текуиуа Микстли, который принял в ней участие. Ты свободен, Ксокок. Ступай!..
Благородный воитель бросил на меня ненавидящий взгляд и удалился. Я сам был настолько потрясен, что даже не заметил обиды командира. Надо же, пробыв в армии меньше месяца, я уже дослужился до чина, который обычно получали лишь воины, прошедшие не одну войну. Как правило, чтобы стать текуиуа, бойцу надо было убить или взять в одном бою в плен не меньше четырех противников.
Честно признаюсь, что я не очень-то обрадовался аудиенции у Ауицотля, поскольку не знал, чего от него можно ждать. Ведь как ни крути, а в конечном счете его дочь Жадеитовая Куколка погибла не без моего участия.
Однако, к счастью, мое имя было слишком распространенным, так что правитель никак не связал меня с громким скандалом, разразившимся недавно в Тескоко. Я почувствовал огромное облегчение, увидев, что юй-тлатоани, насколько это вообще возможно для столь сурового человека, смотрит на меня доброжелательно. Кроме того, меня заинтриговала его манера речи: я впервые слышал, чтобы человек говорил о себе во множественном числе – «мы», «нам».
– Письмо Несауальпилли, – промолвил правитель, прочитав депешу, – льстит тебе, юный воин, в значительно большей степени, чем нам. Он саркастически предлагает нам в следующий раз прислать ему несколько отрядов воинственных писцов вроде тебя вместо тупых «стрел» наподобие Ксокока. – Ауицотль улыбнулся, что, однако, придало ему лишь еще большее сходство с медвежьей головой, служившей властителю головным убором. – Несауальпилли также высказывает предположение, что, будь у него достаточно сил, эта война могла бы закончиться окончательным покорением строптивой Тлашкалы. Ты согласен?
– Мой господин, мне трудно соглашаться или не соглашаться со столь многоопытным военачальником, как Чтимый Глашатай Несауальпилли. Я знаю лишь, что его искусство позволило нам одержать в Тлашкале победу. Основные вражеские силы были разгромлены, и, будь нас достаточно много, мы, наверное, смогли бы закрепить свой успех.
– Ты ведь писец, грамотей, – промолвил Ауицотль. – А сможешь написать для нас подробный отчет о том, как происходила битва, какие силы в ней участвовали и куда они двигались? И снабдить это детальными планами местности?
– Да, владыка Глашатай. Я могу сделать это.
– Тогда принимайся за дело. В твоем распоряжении шесть дней – именно столько осталось до начала церемоний по освящению храма. Тогда все работы прекратятся, и ты получишь привилегию лично представить на церемонии своего прославленного пленника, предназначенного для Цветочной Смерти. Эй, служитель, распорядись, чтобы дворцовый управляющий предоставил этому человеку подходящие покои и все, что ему потребуется для работы. Ты можешь идти, текуиуа Микстли.
Мои новые покои оказались не менее просторными и удобными, чем в Тескоко, а поскольку они располагались на втором этаже, я имел возможность работать при свете солнца. Ко мне хотели также приставить слугу, но я послал за Коцатлем, и когда мальчик прибыл, велел ему срочно раздобыть мне, пока я буду отмываться и париться, смену одежды.
В первую очередь я начертил карту. Она получилась довольно большой и заняла множество сложенных страниц. Для начала я обозначил символом город Тескоко, а потом изобразил маленькие черные отпечатки ног, показывающие наш путь на восток. Нарисовав горы, я отметил место каждого из наших привалов, а под конец начертал знак, обозначающий реку, на которой и произошло сражение. Там я поместил также общепринятый символ полной победы: изображение горящего храма (хотя в действительности мы не только не уничтожали, но даже не видели ни одного теокали) и символ захвата пленных: один воин держит за волосы другого. Потом я снова нарисовал многочисленные следы, но уже двух цветов – черные и красные, что соответствовало нашим бойцам и пленникам. Этими следами я обозначил наш обратный путь на запад, к Теночтитлану.
Неотлучно сидя у себя в покоях (еду мне приносили прямо туда), я за два дня закончил работу над картой и принялся за гораздо более сложный отчет – о ходе битвы и военном искусстве обоих противников, повествуя об этом в меру своего знания и понимания. В самый разгар работы в мою залитую солнцем комнату явился Коцатль и попросил разрешения меня отвлечь.
– Господин, из Тескоко прибыла большая ладья. Кормчий говорит, что привез твои пожитки.
Я обрадовался, ибо покидал двор Несауальпилли налегке, не чувствуя себя вправе взять с собой чудесные одеяния, пожалованные мне правителем. Да и как бы я потащил их с собой в поход? Поэтому, хотя Коцатль и раздобыл кое-какие обноски, ни у него, ни у меня не было почти ничего, кроме весьма прискорбного вида набедренных повязок, сандалий и тяжелых тламаитль, которые мы надели, отправляясь на войну.
– Скорее всего, – сказал я мальчику, – мы должны благодарить за подобную заботливость госпожу Толлану. Надеюсь, она прислала одежду и для тебя. Попроси придворного носильщика помочь тебе принести узел сюда.
Он ушел, а когда вернулся в сопровождении кормчего и целой вереницы носильщиков, я был настолько удивлен, что совершенно позабыл о работе. У меня в жизни не было и малой доли всего того добра, которое слуги сейчас приносили и грудами складывали в моих покоях. Два узла, большой и маленький, я узнал. В том, что побольше, находились моя одежда и другое имущество, в том числе фигурка богини Хочикецаль, которую я взял на память о сестре, а в маленький была увязана одежонка Коцатля. Но прочие тюки и пакеты оказались мне совершенно незнакомы, и я заявил, что, похоже, произошла какая-то ошибка.
– Мой господин, – возразил кормчий, – на каждом тюке и мешке имеется специальный ярлык. Разве это не твое имя?
И точно: везде были надежно прикреплены куски плотной бумаги с моим именем. Правда, Темной Тучей в наших краях зовут многих мужчин, однако на этих ярлыках значилось мое полное имя: Чикоме-Ксочитль Тлилектик-Микстли. Я попросил присутствующих помочь мне развернуть свертки, полагая, что, удостоверившись в ошибке, они упакуют все снова, чтобы вернуть отправителю. И если вначале я пребывал в недоумении, то теперь впал в изумление.
В первом, обернутом в мешковину тюке оказался комплект из сорока тончайших хлопковых накидок, украшенных богатой вышивкой, а во втором – такое же количество женских юбок, окрашенных в малиновый цвет чрезвычайно дорогим, получаемым из насекомых красителем.
В следующем тюке обнаружилось сорок женских блуз ручного плетения, столь тонкого, что они казались почти прозрачными, а также штука хлопковой материи – шириной в два размаха рук и примерно в две сотни шагов в длину. Ткань, правда, оказалась простой, неокрашенной, но зато это был цельный, не сшитый из отдельных частей кусок, над которым усердному ткачу пришлось потрудиться не один год, что делало ее просто драгоценной. Самый тяжелый тюк, как выяснилось, содержал множество кусков итцетль, необработанного обсидиана.
Но самую большую ценность представляли три совсем маленьких свертка, ибо там содержались не товары, а то, что заменяло нам деньги. В первом мешочке были бобы какао – тысячи две или три, не меньше. Во втором обнаружилось две или три сотни кусочков олова и меди в форме лезвий крохотных топориков, каждое из них стоило примерно восемьсот бобов. Третий мешочек представлял собой обернутый в ткань пучок перьев, полупрозрачный ствол каждого из которых, запечатанный со стороны среза замазкой из оли, был заполнен поблескивающим порошком из чистого золота.
– Хотел бы я и вправду владеть всеми этими сокровищами, но они не мои, – сказал я лодочнику. – Забери все это обратно. Таким ценностям место в сокровищнице Несауальпилли.
– Так именно оттуда они и взялись, – упрямо заявил кормчий. – Не кто иной, как сам Чтимый Глашатай лично проследил за погрузкой всего этого на мое суденышко и приказал доставить тебе. И обратно мне велено привезти только одно: письменное свидетельство того, что груз вручен по назначению. За твоей подписью, мой господин, если ты не против.
Я все еще не мог поверить тому, что видели мои глаза и слышали мои уши, но спорить дальше вряд ли имело смысл. В полном ошеломлении я выдал кормчему расписку, и он вместе с носильщиками удалился, оставив нас с Коцатлем стоять, разинув рты от изумления перед горой сокровищ.
Наконец мальчик сказал:
– Господин, не иначе как это последний подарок от владыки Несауальпилли.
– Похоже на то, – согласился я. – Он позаботился о моем образовании, приучил к дворцовой жизни, а потом вынужден был отослать куда глаза глядят. Однако правитель – человек совестливый, так что он, видимо, решил снабдить меня средствами, необходимыми, чтобы найти себе другое занятие.
– Занятие? – пискнул Коцатль. – Да неужели ты собираешься работать, господин? Но зачем? Этого вполне достаточно, чтобы безбедно прожить до глубокой старости. Хватит, чтобы содержать жену, детей и преданного раба. Помнится, – лукаво добавил он, – ты говорил, что если когда-нибудь обзаведешься, как знатный человек, особняком, то сделаешь меня управляющим.
– Попридержи язык, – сказал я. – Если бы я стремился только к безделью, то разумнее всего было бы позволить Вооруженному Скорпиону отправить меня в иной мир. Благодаря богатству у меня теперь появилась возможность выбрать себе род занятий. Осталось только выяснить, к чему именно я испытываю склонность.
Закончив за день до церемонии освящения пирамиды отчет о сражении, я, прихватив его с собой, отправился на поиски увешанного трофеями зала, где меня принимал Ауицотль. Однако по дороге меня перехватил взбудораженный чем-то дворцовый управляющий, заявивший, что сам отнесет властителю карту и доклад.
– Чтимый Глашатай встречает сегодня множество вождей, прибывших на церемонию из дальних краев, – пояснил он. – Все дворцы вокруг площади битком набиты правителями и их свитами, а ведь ожидаются еще и другие, которых неизвестно где размещать. У меня просто голова идет кругом, но я прослежу, чтобы Ауицотль ознакомился с твоим отчетом, как только у него появится свободное время. Подожди, вот закончится вся эта суета, и он снова тебя вызовет.
И с этими словами хлопотливый управляющий умчался.
Мы столкнулись с ним на первом этаже, и я решил побродить по дворцовым помещениям, любуясь их архитектурой и убранством, и в конце концов забрел в огромный, как пещера, внутренний двор. Там было множество статуй, а посередине протекал канал. На воде играли солнечные блики. Мимо меня проплыло несколько грузовых лодок, и гребцы, как и я сам, восхищались изваяниями Ауицотля и его жен, покровителя Теночтитлана Уицилопочтли и множества других богов и богинь. На одной из этих великолепных статуй я заметил гравировку в виде сокола, личный знак покойного Тлатли.
Не зря он похвалялся много лет назад: работы Тлатли и впрямь не нуждались в подписи, ибо созданные им изображения богов разительно отличались от тех, которые из поколения в поколение воспроизводились и повторялись старательными, но не слишком одаренными ваятелями. Пожалуй, наиболее отчетливо своеобразие его манеры проявилось в статуе богини Коатликуе, матери Уицилопочтли. Глядя снизу вверх на огромную каменную фигуру, я почувствовал себя подавленным ее сверхъестественным обликом.
Поскольку Коатликуе все-таки была матерью бога войны, ее, как правило, изображали в виде самой обычной женщины, хотя и весьма мрачного вида. Тлатли же создал неожиданный, ни на что не похожий образ. Его богиня не имела головы, вместо этого у нее над плечами слились, словно в поцелуе, две огромные змеиные головы, которые заменяли ей лицо. При этом у каждой змеи был виден только один глаз – это и были два сверкающих ока богини, а соединившиеся пасти змей образовывали открытый в жуткой усмешке, полный зубов рот. На шее богини висело ожерелье из отрубленных кистей рук и вырванных сердец, с большим кулоном-черепом. Нижнюю часть тела покрывало одеяние, сплетенное из извивающихся змей, из-под него торчали не человеческие ноги, а когтистые звериные лапы. То, бесспорно, было единственное в своем роде изображение божества женского рода, и производило оно столь устрашающее впечатление, что, пожалуй, создать сей чудовищный шедевр мог лишь куилонтли, не способный любить женщин.
Я прошелся под плакучими ивами, нависавшими над каналом в саду внутреннего двора, и вступил в зал, украшенный вместо изваяний настенной живописью. Росписи были посвящены выдающимся деяниям, совершенным Ауицотлем как до, так и после его восшествия на трон: Чтимый Глашатай был изображен не только в качестве главного героя многочисленных сражений, но и в качестве мастера, собственноручно доводящего до совершенства отделку Великой Пирамиды. Однако независимо от сюжета все изображения казались не застывшими, а живыми, они изобиловали деталями и поражали великолепием красок. Бесспорно, эти фрески превосходили все, что я видел раньше, и в нижнем правом углу каждой из них, как и следовало ожидать, красовался кроваво-красный отпечаток ладони – личный знак Чимальи.
Это заставило меня призадуматься: интересно, вернулся ли он обратно в Теночтитлан, суждено ли нам встретиться снова, а если суждено, то каким способом Чимальи попытается меня убить? Я разыскал Коцатля и дал ему следующие указания:
– Ты знаешь в лицо художника Чимальи, у которого, как тебе известно, есть причина желать мне смерти. Мне завтра предстоит исполнять определенные обязанности, не могу же я при этом беспрерывно озираться по сторонам, опасаясь убийцы?! Поэтому ты должен будешь толкаться в толпе и приглядываться. Если заметишь Чимальи, тут же дай мне знать. Завтра в городе великий праздник, и в такой толчее он запросто может незаметно пырнуть меня ножом и ускользнуть безнаказанным.
– Если я замечу Чимальи первым, у него ничего не выйдет. Пусть только объявится на церемонии, я его обязательно увижу, – твердо заявил Коцатль. – Разве я не приносил пользу своему хозяину, заменяя ему зоркие глаза?
– Это правда, малыш, – сказал я. – И твоя бдительность и преданность не останутся без награды.
Да, ваше преосвященство, мне известно, что сегодня вы присутствуете здесь, поскольку проявляете особый интерес к былым нашим обрядам, ритуалам и церемониям. Поэтому, хотя сам я не только никогда не был жрецом, но и не водил с ними особой дружбы, постараюсь в меру своих познаний и возможностей рассказать о Великой Пирамиде и обряде ее освящения как можно подробнее.
Если и были в истории Мешико церемонии более многолюдные, торжественные и внушавшие еще большее благоговение, то мне на своем веку такие видеть не доводилось. Главная площадь Теночтитлана – Сердце Сего Мира – превратилась в тот день в настоящее море людей, разноцветных тканей, плюмажей, золота и драгоценностей. Надо всем висел смешанный запах благовоний, разгоряченных тел и пота. Одна из причин скученности заключалась в том, что шеренги крепко державшихся за руки стражей не допускали толпу на середину площади, оставляя широкий проход, по которому к пирамиде должны были провести пленников. Однако свою роль сыграло и то, что за последние годы открытое пространство площади сократилось, ибо там появились новые храмы, не говоря уж о самой Великой Пирамиде.
Поскольку его преосвященство никогда не видел этого грандиозного сооружения, мне стоит описать, как оно выглядело. Основание пирамиды было квадратным, расстояние между углами составляло сто пятьдесят шагов. Четыре пологих склона поднимались к плоской, тоже квадратной, вершине, каждая сторона которой составляла семьдесят шагов в длину.
На западном склоне пирамиды имелось две лестницы: для поднимающихся и для спускающихся. Их разделял богато украшенный желоб, по которому стекала кровь жертв. Первый крутой пролет в пятьдесят две узких ступени вел к уступу, отмечавшему треть высоты пирамиды. Следующий пролет состоял из ста четырех ступеней и завершался на верхней площадке, где высились храмы и храмовые пристройки. Через каждые тринадцать ступенек по обеим сторонам лестницы возвышались каменные изваяния богов, как главных, так и второстепенных; их каменные кулаки сжимали высокие древка белых, сотканных из перьев флагов.
Для того, кто стоял у самого подножия Великой Пирамиды, сооружения на ее вершине были невидимы. Со своего места он мог разглядеть лишь широкую двойную лестницу, которая казалась сужающейся кверху и ведущей еще выше, чем на самом деле, – к голубому небу, к обители солнца. Наверняка у ксочимикуи, бредущего вверх по ступенькам навстречу Цветочной Смерти, создавалось впечатление, будто он и впрямь взбирается к самим небесам, жилищу верховных богов.
Однако, добравшись до верхней площадки, он прежде всего видел маленький жертвенный камень в форме пирамиды, а позади него два храма. В каком-то смысле эти теокальтин символизировали собой войну и мир, ибо тот, что находился справа, служил жилищем бога войны Уицилопочтли, тогда как во втором храме, который располагался слева, обитал Тлалок – бог дождя, отвечавший за урожаи и обеспечивавший наше процветание в мирное время. Наверное, там по праву следовало поставить еще и третий храм, для бога солнца Тонатиу, но у него, как и у некоторых других особо почитаемых богов, уже имелось отдельное святилище – на более скромной пирамиде в другом месте площади. Находился на площади также и храм, в котором помещались изображения многочисленных богов подчиненных нам народов.
Новые храмы Тлалока и Уицилопочтли на вершине только что построенной Великой Пирамиды были всего лишь квадратными каменными строениями, в каждом из которых находилась полая каменная статуя бога, широко раскрывшего рот в ожидании сердца. Однако они выглядели весьма внушительно и казались выше, чем на самом деле, благодаря высоким каменным фасадам и гребням крыш. Оба храма покрывал орнамент: резкий, угловатый, кроваво-красный узор использовался для святилища Уицилопочтли, а плавный, с мягкими изгибами, в нежно-голубых тонах – для святилища Тлалока. Корпус пирамиды сиял почти гипсовой белизной, на фоне которой выделялись тянувшиеся вдоль каждого пролета золотые перила, выполненные в виде покрытых красной и зеленой чешуей змеиных тел и заканчивавшиеся на уровне земли огромными змеиными головами.
В первый день церемонии верховные жрецы Тлалока и Уицилопочтли вместе со своими помощниками спозаранку суетились возле храмов на вершине пирамиды, занятые последними приготовлениями.
На уступе, опоясывавшем пирамиду, стояли самые могущественные вожди. Среди них, разумеется, были Чтимый Глашатай Теночтитлана Ауицотль с Чтимым Глашатаем Тескоко Несауальпилли и Чтимым Глашатаем Тлакопана Чималпопокой. Прибыли на церемонию также и правители других городов, провинций и народов – с окраин Мешико, из земель сапотеков и миштеков, тотонаков и хуаштеков, а также представители таких земель и народов, о которых я в ту пору даже не слышал. Заклятый враг Теночтитлана, непримиримый Шикотенкатль из Тлашкалы, разумеется, отсутствовал, но вот Йокуингаре из Мичоакана приглашение принял.
И знаете, что мне пришло в голову, ваше высокопреосвященство: если бы ваш генерал-капитан Кортес прибыл на площадь в тот день, он мог бы единым махом завоевать весь наш край, перебив всех законных правителей. И тогда уже ничто не помешало бы ему прямо на площади объявить себя владыкой всех тех земель, что именуются ныне Новой Испанией, и наши народы, лишенные вождей, едва ли смогли бы оказать испанцам сопротивление. Они уподобились бы обезглавленному животному, способному лишь бесцельно дергаться и биться в конвульсиях. Как я теперь понимаю, небеса приберегли для нас бедствия и страдания на потом, но тогда – ййа, аййа! – тот день был истинным торжеством Мешико. Мы ведь даже не подозревали о существовании белых людей и полагали, что все наши дни и дороги устремлены далеко вперед, в безграничное будущее. На самом деле у нас оставалось всего лишь несколько лет доблести и славы, и все-таки я рад – даже зная то, что знаю сейчас, – что ничье вторжение не омрачило нам тогда тот великолепный день.
Все утро было посвящено развлечениям. Певцы и танцоры, выступавшие в Доме Песнопений, то есть в том самом здании, где я диктую вам сейчас эти строки, значительно превосходили своим искусством всех, кого мне довелось видеть и слышать в Тескоко, не говоря уж о Шалтокане, хотя, по моему мнению, ни одна танцовщица не могла сравниться изяществом и грацией с моей навеки утраченной Тцитцитлини. Среди музыкальных инструментов преобладали знакомые: «громовые», «божьи» и водяные барабаны, сделанные из тыквы погремушки, а также флейты из тростника, берцовых костей и сладкого картофеля. Однако певцам и танцорам аккомпанировали также и другие, диковинные инструменты, каких мне еще не случалось видеть. Один из них назывался «водные трели» и представлял собой трубку, вставленную в кувшин с водой: когда в трубу дули, инструмент издавал интересные звуки – бульканье, сопровождавшееся эхом. Другой инструмент, тоже духовой, с виду походил на толстое глиняное блюдо. Музыкант не шевелил ни губами, ни пальцами, а двигал лишь головой, дуя в мундштук и тем самым заставляя находившийся внутри «блюда» маленький глиняный шарик перекатываться по ободу – от одного отверстия к другому. Одним словом, ни в музыкантах, ни в инструментах в тот день недостатка не было. Музыка играла так громко, что ее наверняка слышали не только собравшиеся в Теночтитлане, но и все, кто остался дома, на берегах всех пяти озер.
Артисты выступали на нижних ступеньках пирамиды и на специально освобожденной площадке возле ее основания. Когда они уставали и им требовалось отдохнуть, их место занимали атлеты. Силачи поднимали огромные тяжеленные камни или перебрасывали с одной руки на другую обнаженных девушек, словно те весили не больше перышка. Акробаты совершали прыжки, которым позавидовали бы даже кролики и кузнечики, или забирались – по десять, двадцать, даже по сорок человек одновременно – друг другу на плечи, составляя из своих тел некое подобие Великой Пирамиды. Шуты-карлики исполняли гротескные, непристойные пантомимы. Невероятное количество шаров в руках жонглеров образовывало в воздухе петли и замысловатые узоры...
Нет, ваше высокопреосвященство, неправильно думать, что утренние представления были просто способом, как вы выразились, отвлечь народ и смягчить предстоящие ужасы. Уж не знаю, что вы имели в виду, когда пробормотали о «хлебе и зрелищах», но ваше высокопреосвященство сделали неверный вывод о том, что такого рода развлечения не имели непосредственного отношения к предстоящему религиозному ритуалу. Каждый исполнитель посвящал свое выступление богам, которых восхваляли в тот день. А если то или иное представление и не отличалось особой торжественностью, а было, напротив, развлекательным, то делалось это для того, чтобы развеселить божество, привести его в хорошее настроение и таким образом склонить к благожелательному принятию наших последующих подношений.
Все, что происходило в то утро, обязательно имело определенное отношение к нашим религиозными верованиям, обычаям или традициям, хотя это, наверное, и не так просто уразуметь иноземцу, каким является ваше преосвященство. Например, в празднике участвовали токотин, прибывшие по специальному приглашению с побережья океана, из земель тотонаков. Именно там и была изобретена или, возможно, навеяна их богами эта ни с чем не сравнимая забава. Для выступления токотин потребовалось просверлить в мраморе, которым была вымощена площадь, отверстие, куда вставили ствол чрезвычайно высокого дерева, предварительно положив вниз живую птицу. Считалось, что кровь этой птицы должна была придать артистам силы, необходимые для полетов. Да-да, именно для полетов.
Вставленный в отверстие ствол был высотой почти с Великую Пирамиду. На его верхушке находился крохотный, пожалуй не больше чем в один обхват, деревянный помост, с которого свободно свисали крепкие веревки. Пятеро тотонаков взбирались по стволу-шесту на вершину: один нес флейту и маленький, прикрепленный к набедренной повязке барабан. Остальные четверо не были обременены ничем, кроме обилия ярких перьев. Собственно говоря, они были совсем голыми, если не считать этих перьев, приклеенных к их рукам. Добравшись до помоста, эти четверо артистов каким-то непостижимым образом размещались по краям деревянной площадки, в то время как пятый медленно, осторожно поднимался на ноги и вставал в самом центре.
Там, на огромной высоте, на ограниченном пространстве, он начинал пританцовывать, аккомпанируя себе на флейте и барабане – постукивая по барабану одной рукой и закрывая и открывая отверстия флейты пальцами другой. Хотя все собравшиеся внизу, на площади, взирали на это затаив дыхание, в полной тишине, но музыка с такой высоты была почти не слышна. Тем временем остальные четверо токотин осторожно привязывали веревки к своим лодыжкам, чего зрители, опять же, снизу видеть не могли.
Когда все было готово, пританцовывавший человек подавал сигнал музыкантам на площади.
Ба-ра-РУУМ! Разом ударяли все барабаны, гремели все трубы, зрители от нетерпения не могли устоять на месте, а четверо взобравшихся на столб спрыгивали с помоста. Они прыгали прямо в воздух!
Их распростертые руки по всей длине окаймляли перья, причем каждый токотин носил оперение определенной птицы: первый – красного макао, второй – синего рыболова, третий – зеленого попугая и четвертый – желтого тукана. Широко раскинутые руки были подобны распростертым крыльям. Первый прыжок уносил токотин в сторону от столба, но их останавливали обвязанные вокруг лодыжек веревки. В этом-то и заключалась вся хитрость: люди просто упали бы и ударились о столб, если бы не искусный способ переплетения веревок. Прыжок постепенно переходил в медленное круговое вращение вокруг столба, причем все четверо находились на одинаковом расстоянии друг от друга, каждый в изящной позе птицы, зависшей в воздухе с распростертыми крыльями.
В это время человек наверху продолжал танцевать, а музыканты внизу – выбивать завораживающий, пульсирующий ритм. И под этот аккомпанемент четверо людей-птиц описывали все более и более широкие круги, постепенно снижаясь. При этом, подобно парящим птицам, они, меняя наклон крыльев-рук, меняли и свое положение в воздухе – приподнимались или опускались, как будто тоже танцевали. Веревка, удерживавшая каждого токотин, тринадцать раз обвивалась вокруг столба по снижающейся спирали. Совершая последний, самый широкий и стремительный круг, когда тело его пролетало уже над самой мостовой, человек выгибался, отведя крылья назад (точь-в-точь как садящаяся птица), и касался земли ногами. Освободившись от веревки, он невольно пробегал еще некоторое расстояние и останавливался, причем все четверо делали это одновременно. После этого пятый артист, скользя по натянутой веревке, спускался на площадь.
Если его преосвященство счел возможным прочесть некоторые из моих предыдущих рассказов о наших верованиях, ему должно быть понятно, что представление токотин было не просто акробатическим трюком, но символическим действом, каждый аспект которого имел особое значение. Так, нагие оперенные летуны уподоблялись Кецалькоатлю, Пернатому Змею. Четверо артистов, описывавших круги, и танцующий человек посередине представляли наши пять сторон света: север, восток, запад, юг и центр. Тринадцать оборотов каждой веревки соответствовали тринадцати годам нашего ритуального календаря, а четыре раза по тринадцать составляет пятьдесят два, то есть количество лет в одной вязанке. Имели место и иные, более прозрачные символы: скажем, слово «токотин» означает «сеятель». Однако я не стану распространяться о этом, ибо понимаю, что вашему преосвященству не терпится поскорее услышать о самой церемонии жертвоприношения.
Накануне ночью все пленные тлашкалтеки исповедовались жрецам Пожирательницы Скверны, после чего их переместили ближе к городу и разделили на три группы – с тем чтобы они могли двигаться к Великой Пирамиде по трем широким улицам, ведущим к площади. Первым приблизиться к месту жертвоприношения предстояло славнейшему из пленников, Вооруженному Скорпиону. Его должны были нести на носилках, но он надменно отказался от этого и двигался навстречу Цветочной Смерти, обхватив руками плечи двух заботливых братьев-воителей, тоже из сообщества Ягуаров, хотя, конечно же, не его соотечественников, а мешикатль. Вооруженный Скорпион висел между ними, и обрубки его ног болтались в воздухе, как обгрызенные корни. Меня поставили у подножия пирамиды, где я присоединился к этим троим и сопровождал их вверх по лестнице до террасы, на которой нас поджидали все важные персоны.
– Будучи самым высокопоставленным из наших ксочимикуи, – сказал Чтимый Глашатай Ауицотль, обращаясь к моему «возлюбленному сыну», – ты, Вооруженный Скорпион, имеешь почетное право первым возлечь на алтарь Цветочной Смерти. Однако как прославленный своей доблестью воитель-Ягуар ты можешь предпочесть этому возможность сразиться за свою жизнь на Камне Битв. Каково твое желание?
Пленник вздохнул.
– Жизнь моя уже закончилась, великий господин, но тем не менее я был бы не прочь сразиться в последний раз. И поскольку у меня есть выбор, я выбираю Камень Битв.
– Решение, достойное воина, – заметил Ауицотль. – И тебе будет предоставлена честь сразиться с достойными противниками, нашими воителями самого высокого ранга. Стражи, помогите высокочтимому Вооруженному Скорпиону подняться на камень и приготовьте все для обряда.
Я подошел поближе. Камень Битв, как я уже рассказывал, стал единственным, чем дополнил оформление площади предыдущий юй-тлатоани Тисок. Этот широкий, приземистый цилиндр из найденного на вулкане базальта, находившийся между Великой Пирамидой и Камнем Солнца, приберегался для воинов, доблесть которых позволяла им сподобиться чести встретить смерть с оружием в руках. Но пленнику, который предпочел ритуальный бой смерти на алтаре, предстояло сразиться не с одним противником. Если хитростью или отвагой ему и удастся одолеть одного мешикатль, на смену тому придет другой, а потом и третий. Против предназначенного в жертву были готовы один за другим выступить целых четыре бойца, и один из них обязательно должен был убить приговоренного к смерти... во всяком случае, о другом исходе я не слышал.
Вооруженный Скорпион был в полном боевом облачении: в хлопковом панцире с надетой поверх него ягуаровой шкурой, обозначавшей его высокий ранг. Пленника поместили на камень, где он, не имея ног, не мог даже стоять, тогда как его противник, державший в руках макуауитль с острыми обсидиановыми краями, имел возможность двигаться, соскакивать с камня и запрыгивать обратно, а также нападать с любой стороны. Кроме того, Вооруженный Скорпион имел при себе лишь палку, чтобы защищаться от ударов противника, и макуауитль, но не боевой, а такой, какие давали новичкам, обучавшимся военному делу, – вместо острых кусков обсидиана деревянные лезвия окаймляли пучки перьев.
Вооруженный Скорпион сидел на краю камня в позе невозмутимого ожидания, держа безопасный меч в правой руке и придерживая левой лежавшую на коленях палку.
Его первым противником стал один из тех двух воителей-Ягуаров, которые помогли пленному добраться до площади. Мешикатль вскочил на Камень Битв слева от Вооруженного Скорпиона, тогда как меч воин аколхуа, напомню, держал в правой руке. Но безногий воитель отреагировал совершенно неожиданным для противника образом. Даже не пошевелив своим мечом, он резко взмахнул палкой и нанес нападавшему удар в подбородок. Одного этого удара оказалось достаточно, чтобы воин рухнул наземь без чувств, со сломанной челюстью. Толпа восхищенно загудела: люди, выражая восторг, ухали как совы. Вооруженный Скорпион остался сидеть в той же небрежной позе, только палка переместилась с колен на левое плечо.
Теперь настала очередь второго воителя-Ягуара, помогавшего пленнику. Предположив, что первая победа была совершенно случайной, он тоже вспрыгнул на камень слева от Вооруженного Скорпиона, занеся обсидиановый клинок и не сводя взора с макуауитль сидящего. Но Вооруженный Скорпион опередил его: хлесткий удар палки обрушился на шлем нападавшего, как раз между ушами ягуара. Мешикатль мгновенно свалился с камня, череп его раскололся, и он умер прежде, чем лекарь успел подбежать к месту падения. Толпа взревела.
Третьим противником оказался воитель-Стрела, уже усвоивший, что в руках пленника даже простая палка является серьезным оружием. Он вспрыгнул на камень справа, одновременно замахнувшись своим макуауитль. Вооруженный Скорпион вновь вскинул палку, но лишь для того, чтобы отклонить меч противника. Сам он на сей раз воспользовался своим макуауитль, но не так, как ожидал мешикатль. Вместо того чтобы, как это обычно делается, размахнуться и нанести рубящий удар, он резко ткнул твердым тупым концом в горло воителя-Стрелы, прямо в тот самый бугорок хряща, который вы, испанцы, называете адамовым яблоком. Мешикатль захрипел, упал и умер в конвульсиях от удушья прямо на камне.
Когда стражники убрали обмякший труп, толпа уже безумствовала, причем ее восторженные крики были адресованы отнюдь не воинам мешикатль, но чужеземцу. Даже правители и вожди на пирамиде возбужденно переговаривались. Ни один из присутствующих не мог припомнить, чтобы пленник, даже вполне здоровый, не говоря уж об увечном, хоть раз одолел трех противников подряд.
Четвертый воин был, несомненно, самым опасным, ибо являлся левшой, что большая редкость. Практически все наши бойцы, будучи правшам от природы, обучались владеть оружием, используя правую руку, и всю жизнь сражались именно ею. Неудивительно, что, столкнувшись с левшой, обычный воин оказывается в замешательстве, ибо чувствует себя так, словно его атакует собственное зеркальное отражение.
Этот левша, воитель-Орел, взобрался на Камень Битв не спеша, с жестокой, самоуверенной улыбкой. Вооруженный Скорпион сидел, как прежде, – с палкой в левой руке и мечом без лезвия в правой. Воитель-Орел, держа макуауитль в левой руке, сделал ложный выпад и метнулся вперед. В тот же самый миг Вооруженный Скорпион проделал фокус, которому позавидовал бы любой из выступавших недавно жонглеров. Он подбросил палку и макуауитль в воздух и поймал их, поменяв руки. Мешикатль при виде такого проворства попытался было отпрянуть, но не успел. Меч и палка пленника обрушились на запястье его левой, державшей оружие руки с обеих сторон, и оно оказалось зажатым двумя деревяшками, как клещами или крепким клювом попугая. В тот же миг Вооруженный Скорпион впервые приподнялся, переместившись из сидячего положения на колени и обрубки ног, и с невероятной силой крутанул этот деревянный клюв. В результате пленник вывернул воителю-Орлу руку, и тот упал на спину. Тлашкалтек тут же приставил свой деревянный клинок к горлу лежавшего перед ним противника, а затем, отбросив меч и палку в сторону, навалился на него всей тяжестью своего тела. После этого Вооруженный Скорпион поднял голову и посмотрел вверх – на пирамиду и на вождей.
Ауицотль, Несауальпилли, Чимпалопока и остальные стоявшие на террасе совещались, их жесты выдавали восхищенное изумление. Потом Ауицотль подошел к краю площадки и махнул рукой. Правильно поняв его жест, Вооруженный Скорпион откинулся назад и отпустил противника. Тот сел, потирая горло, с таким потрясенным видом, словно не мог поверить в случившееся. Затем их обоих подняли на террасу. Я последовал за ними, светясь от гордости за моего «возлюбленного сына».
– Вооруженный Скорпион, – обратился к нему Ауицотль, – ты совершил нечто неслыханное и непостижимое. Тебе пришлось сражаться на Камне Битв, будучи более тяжко изувеченным, нежели кто-либо из избиравших этот путь до тебя. Однако ты единственный при этом одолел всех противников. Этот хвастун, которого ты победил последним, займет твое место, став ксочимикуи. А ты свободен и можешь возвращаться домой в Тлашкалу.
Но Вооруженный Скорпион решительно покачал головой:
– Нет, владыка Глашатай, это невозможно. Раз мой тонали привел меня к пленению, значит, боги возжелали моей смерти. Постыдно вернувшись домой живым, я посрамил бы этим свой род, своих братьев-воителей и всю Тлашкалу. Благодарю тебя, мой господин, но я получил то, о чем просил, – один последний бой, и это был славный бой. А вот воитель-Орел пусть живет: боец-левша слишком ценен, чтобы его лишиться.
– Если таково твое желание, – сказал юй-тлатоани, – мы оставим жизнь этому человеку. Мы готовы исполнить и любую другую твою просьбу.
– Я желаю встретить Цветочную Смерть и поскорее отправиться в загробную обитель воинов.
– Будет исполнено, – промолвил Ауицотль, после чего добавил: – А препроводить тебя туда будем иметь честь я сам и Чтимый Глашатай Несауальпилли.
После этого Вооруженный Скорпион, соблюдая традицию, обратился к своему пленителю, то есть ко мне, с вопросом: не желает ли «почтенный отец» поручить «возлюбленному сыну» передать что-либо богам?
– Желаю, мой возлюбленный сын, – молвил я с улыбкой. – Скажи богам, что я прошу их наградить тебя после смерти так, как ты заслужил того при жизни. Я хочу, чтобы ты во веки веков наслаждался блаженством лучшего из загробных миров.
Он кивнул, обнял за плечи двух Чтимых Глашатаев, и те подняли его по оставшимся ступеням к каменному жертвеннику. Собравшиеся жрецы, пребывая в почти безумном восторге от сопутствовавших первому дню торжеств благоприятных предзнаменований, устроили настоящее представление, размахивая горшочками с благовониями, подкрашивая дым жаровен, бросая в огонь специальные порошки и декламируя нараспев заклинания. Воитель-Ягуар Вооруженный Скорпион, умирая, удостоился двойной чести: Ауицотль вскрыл его грудь обсидиановым ножом, а Несауальпилли, приняв сердце героя в ковш, отнес его в храм Уицилопочтли и вложил в отверстые уста бога.
На этом, во всяком случае до наступления ночного празднования, мое участие в церемонии закончилось, и я, тихонько спустившись с пирамиды, отошел в сторонку. После блистательного отбытия в мир иной Вооруженного Скорпиона все остальное уже выглядело не таким интересным. Если что и впечатляло, так это масштабы самого действа: в тот день Цветочная Смерть была дарована тысячам ксочимикуи, никогда еще прежде число жертв не оказывалось столь огромным.
Ауицотль вложил сердце второго пленника в рот статуи Тлалока, а потом они с Несауальпилли снова спустились к террасе пирамиды. Они и другие правители расступились в стороны и сначала наблюдали за церемонией, а потом, разбившись на группы, принялись беседовать между собой о предметах, ведомых лишь власть имущим. Тем временем длинные колонны пленников стекались по улицам Тлакопана, Истапалапана и Тепеяка к Сердцу Сего Мира. Пройдя между тесными рядами зрителей, они один за другим поднимались вверх по лестнице пирамиды. Сердца первых ксочимикуи, во всяком случае первых двух сотен пленников, вкладывались в уста Тлалока и Уицилопочтли до тех пор, пока полые внутренности статуй не заполнились доверху и кровь не стала изливаться назад из каменных ртов. Разумеется, со временем втиснутым в полости изваяний сердцам предстояло сгнить и освободить место для новых жертв, но в тот день сердец оказалось слишком много, и те, которые не вмещались в полости статуй, бросали в специально принесенные чаны. Когда чаны переполнялись грудами дымящихся (некоторые из них еще слабо пульсировали) сердец, младшие жрецы хватали их и спешили с ними вниз по лестнице Великой Пирамиды. Они сбегали на площадь и разносили эти, оказавшиеся лишними дары к другим пирамидам – сначала в Теночтитлане и в Тлателолько, а потом и в другие города на берегу нашего озера.
Пленники нескончаемой чередой поднимались по правой стороне лестницы, тогда как вскрытые трупы их предшественников сбрасывали вниз слева. Расставленные вдоль всей лестницы служители храмов следили, чтобы трупы не задерживались на склонах: они сталкивали их ногами, в то время как желоб между лестницами нес вниз непрерывный поток крови, которая лужами растекалась у ног запрудившей площадь толпы. Убив около двух сотен ксочимикуи, жрецы отбросили все попытки соблюдать детали церемониала. Они отложили в сторону горшочки с благовониями, флаги и священные жезлы, прервали пение заклинаний и просто, подобно «поглощающим» на поле боя, выполняли свою кровавую работу. Торопливо, а потому не очень аккуратно.
Поспешное запихивание сердец в изваяния привело к тому, что внутри храмов кровью оказались заляпаны не только полы, но стены и даже потолки. Кровь изливалась из дверей храмов и стекала с жертвенного камня, так что очень скоро ею оказалась залита вся площадка.
К тому же многие пленники, сколь бы покорно ни воспринимали они свою участь, ложась под нож, непроизвольно опустошали мочевые пузыри, а то и кишечник. Жрецы, и без того то немытые, облаченные, как всегда, в грязные черные одеяния, превратились в движущиеся сгустки красного и коричневого – сворачивавшейся крови, слизи и присохшего кала.
У основания пирамиды так же торопливо, в запарке, трудились рубщики. Они отсекали у Вооруженного Скорпиона и других благородных воителей-тлашкалтеков головы, чтобы потом выварить их, очистить черепа от плоти и выставить на площади – на специальном уступе, предназначенном для демонстрации черепов наиболее примечательных ксочимикуи. Отрубленные бедра тех же воителей предназначались для торжественного ночного пира воинов-победителей. По мере того как к ним сверху сбрасывали все больше и больше тел, рубщики уже отрезали только самые лакомые кусочки, которые или сразу же отправлялись в зверинец, на корм животным, или откладывались для заготовки впрок, чтобы впоследствии, засоленными или копчеными, послужить пропитанием самым жалким беднякам или оставшимся без хозяев рабам.
Разделанные тела мальчишки-подручные оттаскивали к ближайшему каналу и складывали на большие грузовые лодки, которые по мере заполнения отплывали на материк: в цветочный питомник Шочимилько, к прибрежным садам и нивам, где тела предстояло захоронить, чтобы они, разложившись, удобрили почву. Каждую группу лодок с трупами сопровождал акали поменьше, на котором везли слишком мелкие для каких-либо иных целей кусочки жадеита, один такой кусочек следовало вложить в рот или кулак каждого мертвеца, прежде чем тот будет предан земле. Мы никогда не отказывали побежденным врагам в этом талисмане из зеленого камня, служившем пропуском в загробный мир.
Пленники между тем все шли и шли. Кровь, смешанная с испражнениями, лилась с вершины Великой Пирамиды таким потоком, что сточный желоб забился, и густая жижа, перелившись через его края, стала медленным водопадом стекать по ступеням, перекатываясь через трупы и омывая ноги бредущих вверх пленников, отчего иные из них, поскользнувшись, падали. Та же жижа струилась по всем четырем гладким стенам Великой Пирамиды и растекалась по Сердцу Сего Мира. И если в то утро Великая Пирамида блестела, как покрытый снегом пик Попокатепетль, то после полудня она больше напоминала блюдо с нагроможденными на него грудками дичи, изобильно политое поваром густым красным соусом моли. Но это было естественно: ведь вся эта церемония и задумывалась как великое пиршество богов, обладающих большим аппетитом.
Отвратительно, ваше преосвященство? Думаю, отвращение и тошноту вам внушает мысль об огромном числе людей, почти одновременно преданных смерти. Но, ваше преосвященство, если смерть есть не продолжение существования, а уход в ничто, то может ли существовать мера, измеряющая это ничто? Ведь ничто, на сколь великую цифру его ни умножь, даст в результате лишь то же самое ничто, и ничего другого. Говорят, что со смертью каждого человека умирает все ведомое ему мироздание. Все сущее в этой вселенной: люди и животные, друзья и враги, каждый цветок, облачко, ветерок, всякая мысль и любое чувство – все уходит в небытие. Так что, ваше преосвященство, каждая отдельная смерть есть несчетное число смертей, и каждый день уносит в ничто неисчислимое множество вселенных.
Вы недоумеваете, какому злобному демону может быть угодно единовременное умерщвление такого множества людей? Отвечу. Такие жертвы угодны многим богам, включая и Господа-Вседержителя христиан...
Нет, ваше преосвященство, по моему убогому разумению, я вовсе не богохульствую. Я лишь повторяю то, что слышал от братьев-миссионеров, наставлявших меня в христианском вероучении. Если они говорили правду, то ваш Господь Бог некогда пришел в негодование, видя испорченность и греховность сотворенных им людей, а потому в праведном гневе утопил их всех одновременно, наслав на Землю Великий Потоп. Помнится, он оставил в живых лишь одного лодочника с семьей, дабы его потомство заселило мир заново. Знаете, размышляя об этом, я всегда удивлялся его выбору, потому как лодочник оказался склонным к пьянству, сыновья его были людьми, мягко говоря, со странностями, а все их потомки постоянно ссорились и враждовали друг с другом»
Должен, однако, сказать, что и по нашим поверьям мир тоже уничтожался, причем тем же самым способом – наводнением и по тем же самым причинам – в силу недовольства богов поведением сотворенных ими людей. Однако наши предания, видимо, уходят дальше в глубь времени, чем ваши, ибо, согласно рассказам наших жрецов, еще до потопа человечество уже погибало трижды. В первый раз его пожрали ягуары, во второй – погубила всеразрушающая буря, а в третий – сжег пролившийся с небес огненный дождь. Разумеется, все эти ужасы происходили вязанки вязанок лет назад, и даже самое последнее, великое наводнение случилось настолько давно, что самые мудрейшие тламатини не смогли точно вычислить, когда именно оно было.
Таким образом, боги четырежды создавали Сей Мир и населяли его человеческими существами, и четыре раза объявляли они свое творение неудачным, полностью его уничтожали и начинали все заново. Поэтому все мы, ныне живущие, представляем собой результат пятой предпринятой богами попытки. Однако, если верить жрецам, наш мир тоже несовершенен, а значит, рано или поздно и он будет предан уничтожению, чтобы боги опять смогли начать все заново. На сей раз его погубит землетрясение.
Разумеется, когда именно небеса обрушат на нас свой гнев, никому не ведомо, но у нас считалось, что земля может начать содрогаться в один из пяти «пустых дней» в конце года, поэтому мы и старались в это время вести себя тише воды ниже травы. Еще более вероятным казалось, что конец света придется на исход самого знаменательного, пятьдесят второго года в вязанке. Вот почему именно в это время мы истовее всего молились и каялись, совершали самые обильные жертвоприношения и исполняли обряд Нового Огня.
Точно так же, как мы не знали, когда следует ждать рокового землетрясения, так неведомым для нас оставалось и то, за какие именно прегрешения боги наслали на предыдущие поколения людей ягуаров, бури, огненный ливень и потоп. Однако нам казалось весьма вероятным, что наши предшественники относились к богам с недостаточным почтением и предлагали им скудные, не удовлетворявшие их жертвы. Вот почему мы в свое время изо всех сил старались не повторить их ошибок и не проявить подобной небрежности.
Да, это правда, мы убили бесчисленное количество ксочимикуи, дабы умилостивить Тлалока и Уицилопочтли в день освящения Великой Пирамиды. Но, ваше преосвященство, попытайтесь взглянуть на это нашими глазами. Ни один человек не отдавал при этом больше, чем свою собственную жизнь. Каждый из пленников умирал лишь один раз, что рано или поздно все равно с ним бы случилось. А ведь, умирая таким образом, он обретал самую достойную кончину из всех возможных. С позволения вашего преосвященства, я, хотя и не помню их точных слов, снова сошлюсь на братьев-миссионеров, учивших, что схожее представление о смерти бытует и среди христиан. Вроде бы там наивысшее проявление любви состоит в том, что человек жертвует жизнью ради своих близких, общего дела и Святой Веры.
Благодаря наставлениям ваших миссионеров мы, мешикатль, теперь знаем, что раньше, даже совершая правильные поступки, мы руководствовались неверными побуждениями. Однако я вынужден с прискорбием напомнить вашему преосвященству, что на этой Земле еще обитают непокоренные белыми людьми народы, владения коих не включены в состав провинции Новая Испания. Тамошние жители по невежеству своему до сих пор считают, будто приносимый в жертву испытывает лишь кратковременную боль в миг Цветочной Смерти, после чего ему обеспечено вечное блаженство в загробном мире. Этим дикарям ничего не известно о христианском Господе Боге, который не ограничивает человеческие страдания земной жизнью, но и после смерти ввергает людей в Ад, обрекая на вечные муки.
О да, ваше преосвященство, я знаю, что Ад существует только для того множества испорченных людей, которые заслужили вечное страдание, тогда как немногие избранные праведники отправляются в Рай, где обретают несказанную благодать. Но ведь ваши миссионеры учат, что в этот самый Рай нелегко попасть даже христианам, тогда как Ад весьма вместителен и угодить туда проще простого. После обращения в Христову веру я посетил множество служб и проповедей и пришел к выводу, что христианство оказалось бы куда более привлекательным для язычников, умей священники вашего преосвященства описывать прелести Рая так же живо и впечатляюще, как они описывают ужасы Ада.
Очевидно, ваше преосвященство не желает слушать мои неуместные рассуждения, даже чтобы опровергнуть или оспорить их, и предпочитает вместо этого удалиться? Ну что ж, я ведь всего лишь новообращенный христианин и, вероятно, слишком дерзко высказываю свое мнение, не успев глубоко постичь незнакомое для меня учение. Поэтому я лучше оставлю тему религии и продолжу свой рассказ.
Праздничный пир воинов, состоявшийся в тогдашнем пиршественном зале этого самого Дома Песнопений в ночь после освящения Великой Пирамиды, имел, разумеется, некую связь с нашей религией, но это вряд ли вас заинтересует. Существовало поверье, что, вкушая жареное мясо принесенных в жертву пленников, победители таким образом вбирают в себя их силу и боевой дух. Однако «почтенному отцу» строго запрещалось вкушать плоть «возлюбленного сына». Иными словами, никто не мог есть мясо пленника, захваченного им лично: с точки зрения нашей религии это было еще более мерзким грехом, чем кровосмешение. Вот почему, в то время как все прочие старались заполучить хоть маленький кусочек плоти несравненного Вооруженного Скорпиона, мне пришлось довольствоваться мякотью бедра менее значимого воина.
Как мы могли это есть, мои господа? А что, мясо было прекрасно приправлено специями и хорошо прожарено. Да и гарниров тоже хватало: бобы, тортильи, тушеные томаты. Потом мы запивали все это шоколадом и...
Тошнотворно, мои господа? Почему, совсем наоборот! Мясо было весьма вкусное, нежное и хорошо приготовленное. Поскольку эта тема так возбуждает ваше любопытство, скажу, что человеческая плоть по вкусу очень похожа на мясо тех животных, которых вы привезли из-за моря и называете свиньями. Пожалуй, именно это сходство и питает слухи о том, что вы, испанцы, находитесь в близком родстве со свиньями и даже, хоть и не вступаете с ними в законные браки, способны к скрещиванию с этими животными.
Ййа, почтенные братья, не делайте такие лица! Сам-то я никогда не верил этой болтовне, ибо прекрасно понимаю, что ваши свиньи – всего лишь одомашненные животные, родственные диким вепрям нашей земли, и не думаю, чтобы испанец был способен совокупиться с одним из них.
Конечно, ваша свинина гораздо ароматнее и нежнее, чем грубое мясо наших диких вепрей. Но случайное сходство вкуса свинины и вкуса человеческой плоти, вероятно, стало причиной того, что наши низшие сословия быстро пристрастились жадно пожирать свинину, испытывая при этом куда большую благодарность к испанцам за знакомство с этими животными, нежели за знакомство с учением Святой Церкви.
Так вот, в том ночном пиру, что было вполне справедливо, участвовали почти исключительно воины аколхуа, прибывшие в Теночтитлан в свите Несауальпилли. Чималпопоку представляло лишь символическое число пировавших текпанеков, а нас, мешикатль, было всего трое: я сам и мои непосредственные начальники – куачик Пожиратель Крови и воитель-Стрела Ксокок. Среди аколхуа оказался и тот солдат, которому в битве сперва отсекли, а потом пришили нос. Он с печалью поведал нам, что операция не увенчалась успехом: пришитый нос не прижился, почернел и в конце концов все-таки отвалился. Разумеется, мы дружно уверяли его, что он и без носа выглядит совсем неплохо, но этот воин, будучи человеком воспитанным, сидел в сторонке, чтобы не портить нам аппетит.
Каждому гостю предоставили весьма соблазнительно одетую женщину-ауаниме, которая накладывала ему с общих блюд лакомые кусочки, набивала и разжигала курительную трубку, наливала шоколад и октли и при желании удалялась с ним в один из расположенных вокруг трапезной и отделенных от нее занавесками маленьких альковов.
Да, господа писцы, вижу по вашим лицам, что вам неприятно это слышать, но ведь меня позвали сюда рассказывать правду. И то пиршество, на котором подавали человеческое мясо, и последующие греховные совокупления – все это происходило прямо здесь, в этом здании, где ныне находится резиденция благочестивого епископа.
Признаюсь, мне трудно припомнить все подробности, ибо в ту ночь я выкурил впервые в жизни покуитль (причем не один) и выпил много октли. Пробовать перебродивший сок магуйиш мне доводилось и раньше, но в тот раз я впервые употребил его в количестве, достаточном, чтобы затуманить сознание. Припоминаю, что собравшиеся воины похвалялись своими подвигами как в недавней битве, так и в прошлых войнах, а также что несколько раз провозглашались тосты за мою первую победу и мое быстрое повышение в чине. В какой-то момент все три Чтимых Глашатая оказали нам честь своим кратким появлением и подняли с нами чашу октли. Я смутно помню, что благодарил Несауальпилли – пьяно, неискренно и, возможно, бессвязно – за его щедрые дары, но что он ответил, да и ответил ли вообще, этого моя память не сохранила.
В конце концов, надо думать, под влиянием октли, я набрался смелости и увел одну из ауаниме в альков. Помнится, то была хорошенькая молодая женщина с волосами, искусно выкрашенными в цвет гиацинта. Поскольку главным ее занятием было доставлять удовольствие воинам, она хорошо знала свое дело и кроме обычного соития научила меня некоторым неведомым мне ранее способам наслаждения: испробовать их все и не выбиться при этом из сил мог только молодой человек, неутомимый и исполненный энергии. Я, со своей стороны, «ласкал ее цветами», то есть опробовал на партнерше кое-что из того, чему научился, глядя на сцену соблазнения Самой Утонченности. Эти знаки внимания ауаниме восприняла с явным удовольствием: по роду занятий она совокуплялась много и часто, но исключительно с мужчинами, причем в основном с грубыми, так что с подобной изысканностью никогда не сталкивалась. Полагаю, что женщина запомнила все эти уловки и включила их впоследствии в собственный любовный арсенал.
Наконец, насытившись близостью женщины, едой, курением и выпивкой, я решил немного побыть один. В пиршественном зале к тому времени стало темно от трубочного дыма, запах которого мешался с запахами остатков пищи, человеческого пота и вара, горевшего в светильниках. От всего этого меня замутило, и я, покинув Дом Песнопений, нетвердой походкой направился к Сердцу Сего Мира. Там, однако, в мои ноздри ударила еще худшая вонь, так что меня скрутило еще пуще. Площадь кишела рабами, которые отскребали и оттирали запекшуюся повсюду кровь. Я поспешно вышел за Змеиную стену и оказался у входа в зверинец – в тот самый, который когда-то посещал с отцом.
– Здесь не заперто, – произнес знакомый голос. – Звери все в клетках, к тому же они сегодня вялые, потому что наелись до отвала. Может, зайдем?
Хотя было уже далеко за полночь, я почти не удивился, Увидев старого знакомого – согбенного и сморщенного, коричневого, как какао, старика, который впервые встретился мне как раз у этого зверинца, а потом время от времени появлялся в моей жизни.
Я заплетающимся языком пробормотал приветствие, в ответ на которое старик сказал:
– Давай после всех этих обрядов, ритуалов, пиршеств и прочих сугубо человеческих радостей пообщаемся с теми, кого мы называем зверями.
Я последовал за ним внутрь, и мы двинулись по дорожке между клетками. Все хищники были накормлены до отвала мясом от жертвоприношений, но постоянно текущая вода уже смыла почти все следы их трапезы, удалив даже запах. То там, то сям койот, ягуар или один из больших удавов открывали при нашем приближении сонный глаз, а потом закрывали его снова. Даже из ночных животных бодрствовали лишь немногие: летучие мыши, опоссумы, обезьяны-ревуны, но они тоже были вялыми и издавали лишь негромкие невнятные звуки.
Спустя некоторое время мой спутник сказал:
– А ты проделал долгий путь за короткое время, Выполняй!
– Микстли, – поправил я его.
– Ну, значит, опять Микстли. Всякий раз, когда я встречаю тебя, у тебя другое имя и ты занимаешься новым делом. Ты как та ртуть, которую используют золотых дел мастера, способен приноровиться к любой форме, но не ограничиваешься ею надолго. Что ж, теперь ты еще и приобрел опыт в сражении. Останешься воином?
– Конечно нет, – ответил я. – Ты ведь сам знаешь, что я не гожусь для этого, поскольку у меня слабое зрение. Да и желудок мой к этому не приспособлен.
Старик пожал плечами.
– Всего несколько походов, и воин огрубеет так, что желудок его больше не побеспокоит.
– Меня он беспокоит не столько в походе или перед битвой, сколько после победы. Вот как сейчас... – Я громко рыгнул.
– Ты впервые в жизни напился, – усмехнулся старик. – Ничего, к этому тоже привыкаешь. У воина зачастую это становится потребностью.
– Думаю, что вполне могу без этого обойтись, – сказал я. – В последнее время мне много чего довелось попробовать впервые, и было бы неплохо сделать передышку: обойтись некоторое время без приключений и происшествий. Думаю, я могу рассчитывать на то, что Ауицотль возьмет меня во дворец писцом.
– Бумаги и горшочки с краской, – промолвил мой спутник пренебрежительно. – Микстли, этой скучной ерундой ты сможешь заняться, когда станешь таким же старым и дряхлым, как я. Прибереги такую жизнь до той поры, когда сил у тебя хватит только на то, чтобы записывать свои воспоминания. А пока собирай приключения и впечатления, чтобы потом было что вспомнить. Очень советую тебе попутешествовать. Отправляйся в дальние страны, заводи знакомства с новыми людьми, пробуй невиданные блюда, наслаждайся самыми разнообразными женщинами, любуйся незнакомыми пейзажами, радуйся новому и незнакомому. Кстати, насчет того, что в жизни все надо посмотреть: ведь в прошлый раз, когда ты был здесь, ты так и не увидел текуани. Идем.
Он открыл дверь, и мы вошли в зал, где демонстрировались «люди-животные», уроды и чудовища. Их не держали в клетках, как настоящих зверей. Каждый занимал помещение, которое вполне можно было бы назвать личной комнатой, только у этой «комнаты» не было одной стены, так что посетитель вроде меня всегда мог увидеть обитателей людского зверинца за теми занятиями, которыми они ухитрялись заполнять свою бесцельную жизнь и пустые дни. Стояла ночь, так что все, мимо кого мы проходили, спали на своих постелях, и я разглядывал их без стеснения. Там были мужчины и женщины с совершенно белой кожей и белыми волосами, карлики, горбуны и иные, еще более причудливого обличья уроды.
– Как они оказались здесь? – шепотом спросил я.
Старик ответил, не потрудившись даже понизить голос:
– Некоторые, кого изуродовало увечье, пришли сюда сами, по доброй воле. Других, родившихся уродами, привели сюда родители. В любом случае, за текуани платят, и плату получают или его родные, или те, на кого он укажет сам. А поскольку платит Чтимый Глашатай щедро, то попадаются родители, которые буквально молятся о том, чтобы у них родился уродец и они могли разбогатеть. Самому текуани, конечно, это богатство ни к чему, поскольку здесь он до конца жизни получает все необходимое. Но некоторые из них, самые необычные, стоят баснословно дорого. Вот этот карлик, например.
Карлик спал, но я был даже рад тому, что не вижу его бодрствующим, поскольку у этого человека имелась только половина головы. От выдающейся вперед верхней челюсти и до ключицы – причем у него не было ничего, ни нижней челюсти, ни кожи, – шло открытое белое дыхательное горло; виднелись красные жилы, кровеносные сосуды и пищевод, который открывался сразу позади зубов и шел между его надутыми маленькими беличьими щеками. Карлик лежал, откинув свою кошмарную половину головы назад, и дышал, булькая и присвистывая.
– Он не может жевать или глотать, – сказал мой проводник, – поэтому пищу в него приходится заталкивать по этому верхнему концу пищевода. Поскольку, чтобы принять пищу, карлику приходится запрокидывать голову назад и он не может видеть, чем его кормят, иные из посетителей играют с ним злые шутки. Какой только гадости ему не давали: и слабительное и кое-что похуже. Бывало, этот несчастный оказывался на волосок от смерти, но он настолько жаден и глуп, что все равно откидывает голову назад, завидев посетителя, который собирается его покормить.
Меня передернуло, и я поспешно прошел дальше. Следующий текуани, казалось, не спал, ибо один его глаз был открыт, тогда как второй вообще отсутствовал. Не было и глазницы – просто гладкая кожа – и шеи: безволосая голова начиналась прямо от узких плеч. Конусообразный торс расширялся книзу и покоился на раздутом основании так же прочно, как пирамида, ибо ног у странного существа не было. А вот руки имелись, причем почти нормальные, только вот пальцы на обеих руках были соединены, как будто сплавлены вместе, образуя некое подобие плавников зеленой черепахи.
– Это существо называется женщина-тапир, – заявил коричневый старик, и я знаком попросил его говорить потише. – Нечего стесняться, скорее всего, она спит. Один глаз у нее зарос кожей, а другой лишился век, поэтому и кажется, будто он смотрит. Да и вообще, обитатели людского зверинца быстро привыкают к тому, что их обсуждают вслух.
Но мне совершенно не хотелось обсуждать это жалкое создание. Почему ее назвали в честь тапира, я уже понял: нос несчастной имел форму свисающего хоботка, прикрывавшего рот, если таковой у нее вообще имелся. Правда, не скажи мне старик, что перед нами женщина, я не смог бы определить пол этого создания. Голова вовсе не походила на человеческую, да и различить грудь на сформированном из тестообразной плоти торсе было решительно невозможно. Никогда не закрывающийся глаз смотрел прямо на меня.
– Карлик без челюсти и родился в таком плачевном состоянии, – сказал мой проводник. – Но эта женщина была совершенно нормальной и уже взрослой, когда ее искалечило в результате какого-то несчастного случая. Судя по отсутствию ног, там не обошлось без чего-то режущего или рубящего, все же прочее наводит на мысль об огне. Знаешь, огонь ведь не обязательно сжигает плоть. Порой она просто размягчается, растягивается, тает, так что из нее можно лепить...
Тут у меня скрутило желудок, и я через силу пробормотал:
– Не будь жестоким, помолчи. Она ведь может нас услышать.
– Она! – Старик насмешливо хмыкнул. – Ну конечно, ты ведь всегда очень любезен с женщинами. – Он сделал в мою сторону чуть ли не обвинительный жест. – Кажется, ты только что выбрался из постели одной красотки? А не хочешь ли сейчас совокупиться и с этой, раз ты считаешь, что про такое существо можно сказать «она».
От одной лишь мысли об этом меня нестерпимо затошнило. Я сложился пополам, и меня прямо там, перед этой чудовищной живой кучей, вырвало всем, что я съел и выпил за эту ночь. А когда, опустошив желудок и восстановив дыхание, я бросил извиняющийся взгляд на открытый глаз, из него, не знаю уж, был ли он бодрствующим или просто слезящимся, выкатилась единственная слеза. Обнаружив, что, пока меня рвало, мой проводник исчез, я повернул обратно, прошел через зверинец и вышел наружу.
Но на этом мои неприятности не закончились. Когда уже под утро я добрался до ворот дворца Ауицотля, стражник сказал:
– Прости за беспокойство, текуиуа Микстли, но тебя очень хотел видеть придворный лекарь. Не зайдешь ли ты сначала к нему?
Стражник проводил меня к комнатам придворного целителя, который, стоило мне постучаться, тут же отворил дверь. Лекарь не спал и был полностью одет. Караульный, отсалютовав, отбыл на свой пост, а хозяин покоев окинул меня взглядом, в котором смешались сочувствие, любопытство и профессиональная целительская елейность. Мне подумалось, уж не дожидался ли он меня, чтобы вручить снадобье от тошноты, которая до сих пор еще не прошла, но его вопрос оказался совершенно неожиданным:
– Скажи, мальчик по имени Коцатль – это ведь твой раб?
– Да. Он что, заболел?
– Да нет, несчастный случай. Он ранен. Скажу сразу, рана не смертельная, но и пустяковой ее не назовешь. Когда толпа стала расходиться с площади, мальчика нашли лежащим без сознания рядом с Камнем Битв. Похоже, он стоял слишком близко от бойцов.
Надо же, а ведь я ни разу не вспомнил сегодня о Коцатле с того самого момента, как поручил ему высматривать в толпе Чимальи.
– Выходит, господин целитель, его порезали?
– Да. Рана серьезная... и странная.
Не сводя с меня взгляда, лекарь взял со стола окровавленную тряпицу, развернул ее и показал мне то, что там находилось: не полностью развившийся мужской член.
– Как мочка уха... – пробормотал я.
– Что?
– Ничего, так... Говоришь, рана не смертельная?
– Наверное, мы с тобой сочли бы, что она хуже смертельной, – сухо произнес целитель, – но мальчик выживет, это точно. Он потерял много крови и весь в синяках и кровоподтеках, но это, скорее всего, из-за тесноты и давки. Так или иначе, он не умрет и, будем надеяться, не станет слишком уж сокрушаться о своей потере, ибо еще не имел возможности осознать ценность того, чего так рано лишился. Рана чистая, грязь в нее не попала, так что к тому времени, когда мальчик оправится от потери крови, она уже заживет. Я позаботился о том, чтобы, когда она будет затягиваться, там, где надо, осталось маленькое отверстие. Сейчас раб находится в твоих покоях, текуиуа Микстли, и я взял на себя смелость положить больного мальчика не на его тюфяк, а на твою постель. Она помягче.
Поблагодарив лекаря, я поспешил вверх по лестнице. Коцатль лежал на моей пышной постели, укрытый одеялом. Дыхание его было слабым, болезненно раскрасневшееся лицо свидетельствовало о легком жаре. Осторожно, чтобы не разбудить мальчика, я сдвинул покрывало. Он был голый, не считая повязки между ног, удерживаемой обмотанной вокруг бедер лентой. На плече Коцатля, явно на том месте, за которое нападавший схватил его одной рукой, в то время как другая орудовала ножом, остался синяк. Больше никаких упомянутых лекарем кровоподтеков я не видел, до тех пор пока Коцатль, вероятно ощутив прохладу ночного воздуха, не пробормотал что-то во сне и не перевернулся, показав спину.
– Твоя бдительность и верность не останутся без награды, – сказал я мальчику, хотя плохо представлял себе, в чем эта награда будет заключаться.
Как выяснилось, исполненный жажды мести Чимальи в тот день и вправду укрывался в толпе, но поскольку я почти все время находился на виду и у него не было возможности исподтишка напасть на меня, он выбрал в жертву моего раба. Но зачем было его калечить, ведь мальчик не сделал Чимальи ничего дурного?
Однако потом я припомнил странное выражение на лице целителя и сообразил, в чем тут дело. Лекарь подумал, что, во всяком случае по мнению нападавшего, мальчик был для меня тем же, кем являлся для Чимальи Тлатли. Он нанес удар ребенку не для того, чтобы лишить меня раба, которого легко заменить, но желая искалечить моего предполагаемого любовника. Он выбрал такой способ мести, чтобы посмеяться надо мной. И тут я заметил еще кое-что: на худенькой спине Коцатля блестел знакомый красный отпечаток ладони Чимальи. Только на сей раз художник смочил руку не собственной кровью.
Поскольку я вернулся так поздно или так рано, что небо над раздвинутым потолком уже начинало бледнеть, а также поскольку голова моя и желудок по-прежнему ужасно болели, я присел на ложе Коцатля, не пытаясь задремать, но погрузившись в раздумья.
Я вспоминал злобного, порочного Чимальи в те годы, когда он еще не стал ни злобным, ни порочным, когда он еще был моим другом. Мы с ним были примерно в возрасте Коцатля, когда я вел Чимальи через весь Шалтокан с тыквой на голове, чтобы скрыть его непокорную шевелюру. Я вспомнил, как товарищ сочувствовал мне, когда ему предстояло отправиться в калмекактин, а мне нет, и как он подарил мне набор своих особым образом составленных красок.
Это навело меня на мысль о другом неожиданном подарке, который я получил всего несколько дней тому назад. Все, что доставили в мои покои, стоило очень дорого, за исключением свертка с необработанными осколками обсидиана, которые здесь, в Теночтитлане, не представляли никакой ценности. В каньоне реки Ножей, протекавшей совсем недалеко, к северо-востоку от города, этих камней можно было без труда набрать сколько угодно. Однако далеко на юге, где природных залежей обсидиана практически не имелось, такого рода камни, шедшие на изготовление инструментов и оружия, ценились почти на вес жадеита. Этот «никчемный» сверток заставил меня вспомнить о честолюбивых планах и мечтах, которые я лелеял, будучи мальчишкой-поденщиком на чинампа Шалтокана.
Когда по-настоящему рассвело, я тихонько помылся, почистил зубы, переоделся в чистую одежду, спустился по лестнице и, найдя дворцового управляющего, спросил его, не снизойдет ли юй-тлатоани до того, чтобы принять меня в столь ранний час. Ауицотль милостиво согласился, и меня в скором времени провели в украшенный трофеями тронный зал.
– Мы слышали, – промолвил первым делом правитель, – что вчера твоего маленького раба случайно ранили клинком.
– Так оно и было, Чтимый Глашатай, – ответил я, – но он поправится.
Я не собирался заявлять о злонамеренном покушении и требовать розыска Чимальи, ибо в таком случае мне пришлось бы поведать правителю о том, какое отношение все мы – и я, и Чимальи, и Коцатль – имели к последним дням его дочери. Это вполне могло навести Ауицотля на мысль казнить и меня, и мальчика, а уж потом послать воинов ловить Чимальи.
– Нам жаль, – сказал правитель, – но, к сожалению, толпа, увлекаясь поединками, забывает об осторожности, так что несчастные случаи при этом вовсе не редкость. Мы можем выделить тебе другого раба, пока твой не поправится.
– Благодарю тебя, владыка Глашатай. Раб мне не нужен, но я пришел просить тебя о другой милости. Мне досталось небольшое наследство, которое я хотел бы вложить в товары и попытать счастья в торговле.
Мне показалось, что юй-тлатоани презрительно скривил губы.
– В торговле? Хочешь открыть лавку на рынке Тлателолько?
– Нет-нет, мой господин. Я хочу стать почтекатль, странствующим купцом.
Он откинулся назад и молча уставился на меня из-под медвежьих клыков. То, о чем я просил, было приблизительно таким же повышением в гражданском статусе, как и тот чин, который я получил на военной службе. Хотя с точки зрения закона почтека принадлежали к простонародью, они составляли высший его слой. Изворотливость и удача могли сделать купца богаче большинства знатных пипилтин, да и привилегиями почтека обладали почти такими же, как и знать. Действие большинства общепринятых законов не распространялось на купцов: те подчинялись своим собственным, особым правилам, которые они сами принимали и сами же следили за их соблюдением. У почтека имелся даже собственный главный бог Йакатекутли – Владыка, Указующий Путь. Это замкнутое сообщество ревностно охраняло свои ряды, не пуская в него посторонних, так что стать почтекатль мог далеко не каждый желающий.
– Ты, едва начав служить, был повышен в звании, – ворчливо произнес Ауицотль, – но готов пренебречь этим, чтобы закинуть за плечи мешок с безделушками и надеть дорожные сандалии с толстой подошвой? Стоит ли нам напоминать тебе, молодой человек, что мы, мешикатль, прославились и возвысились как народ доблестных воинов, а не бродячих торговцев?
– Возможно, владыка Глашатай, нынче война уже не имеет того значения, что прежде, – заявил я, дерзко выдержав его хмурый взгляд. – По моему разумению, странствующие купцы, расширяя влияние и преумножая богатства Теночтитлана, приносят больше пользы, чем все наши армии. Ведь купцы завязывают отношения с народами, живущими слишком далеко, чтобы их можно было легко подчинить, но обладающими весьма ценными товарами, которые они готовы охотно продать или обменять.
– Послушать тебя, так можно подумать, будто торговля – легкое дело, – прервал меня Ауицотль. – Позволь нам сказать тебе, что зачастую она сопряжена с опасностями не меньшими, чем солдатское ремесло. Караваны почтека выходят отсюда с весьма ценными грузами и по дороге сплошь и рядом подвергаются нападениям дикарей или разбойников. Но даже если им удается добраться до места благополучно, нередко случается, что в дальних землях у купцов попросту отбирают все их товары, не заплатив какого-либо возмещения. Принимая все это во внимание, мы выделяем для защиты купеческих караванов значительные воинские отряды. А теперь скажи нам, с какой стати мы должны превращать своих головорезов в нянек? По-твоему, для казны это выгоднее?
– Позволю себе, со всем должным уважением, предположить, что Чтимый Глашатай и сам знает ответ на этот вопрос. В так называемый отряд «нянек» Теночтитлан направляет лишь бойцов, вооруженных воинов. Об обозе из носильщиков не идет и речи, ибо почтека сами несут не только свои товары, но и необходимую им в пути снедь, если только не покупают ее по дороге. В отличие от армии купцам нет нужды добывать провизию грабежом, наживая тем самым новых врагов.
Благополучно прибыв к месту назначения, они производят выгодный торг и, вернувшись с твоими воинами домой, вносят весомый вклад в казну. Все встретившиеся им на пути грабители получают суровый урок, который отбивает у них охоту разбойничать. Живущие в далеких землях народы усваивают, что мирная торговля приносит всем взаимную выгоду. Каждое следующее путешествие по уже проторенному маршруту легче и безопаснее предыдущего. Думаю, со временем купцы и вовсе смогут обходиться без сопровождения воинов.
– А что станет с нашими воинами, если Теночтитлан прекратит расширять свои владения? – раздраженно спросил Ауицотль. – Если жители Мешико перестанут стремиться к еще большему могуществу, а предпочтут сидеть сложа руки, жирея за счет торговли? Если некогда уважаемые и внушающие страх мешикатль превратятся в ораву торгашей, спорящих насчет цен и прибылей?
– Мой господин преувеличивает, – смиренно промолвил я. – Никто не говорит об отказе от войн: пусть наши солдаты покоряют ближние земли вроде Мичоакана, а торговцы тем временем будут исследовать дальние и связывать между собой народы узами взаимной выгоды. Тогда не будет надобности в границах между их странами и землями, завоеванными Мешико.
Ауицотль смерил меня долгим задумчивым взглядом, и мне показалось, будто точно так же на меня взирает и венчавшая его чело голова свирепого медведя. Потом он сказал:
– Хорошо. Ты поведал нам о том, чем занятие странствующего торговца полезно и привлекательно для тебя. А теперь объясни, что выиграет торговля, если в сообщество странствующих купцов вступишь и ты?
– Торговля и торговое сословие от этого особо не выиграют, – честно признался я. – Но могу изложить некоторые причины, по которым это может оказаться выгодным для юй-тлатоани и его Изрекающего Совета.
Властитель изумленно поднял кустистые брови:
– Ну что ж, поведай.
– В отличие от большинства странствующих торговцев, разбирающихся только в цифрах да подсчетах, я обучен ремеслу писца. Как уже мог убедиться Чтимый Глашатай, я умею чертить точные карты и составлять подробные описания местности. Иными словами, по возвращении из путешествия я мог бы представить детальные планы владений других народов, снабженные сведениями об их богатствах, численности населения, вооружении, наличии крепостей и тому подобном... – Слушая меня, правитель сдвинул брови, и я решил, что пора закончить свое выступление на смиренной ноте: – Конечно, я понимаю, что должен сперва убедить самих почтека, что достоин того, чтобы быть принятым в их избранное общество...
– Не думаю, чтобы они стали слишком уж упрямиться, отвергая того, кто будет рекомендован их юй-тлатоани, – сухо заметил Ауицотль. – И это все, о чем ты нас просишь? Чтобы мы помогли тебе стать странствующим купцом?
– Если это будет угодно моему господину, я бы хотел бы взять с собой двух спутников. Я не прошу, чтобы мне выделили отряд солдат, но был бы доволен, получив в качестве охранника куачика Икстли-Куани. Я давно знаю его и полагаю, что он один стоит целого отряда. А еще прошу дозволения взять с собой мальчика Коцатля: когда я соберусь в дорогу, он уже поправится.
Ауицотль пожал плечами.
– Что касается куачика, то мы издадим указ об увольнении его с воинской службы: так и так он по возрасту годится уже только для возни с малолетками да новичками. Ну а раб принадлежит тебе, и ты волен распоряжаться им сам, по своему усмотрению.
– Мой господин, я предпочел бы взять с собой Коцатля не как раба. Этот мальчик верно служил мне, и теперь, когда с ним случилось несчастье, мне хотелось бы отблагодарить его, подарив свободу. Могу я просить Чтимого Глашатая официально сделать его свободным человеком? Он будет сопровождать меня не как раб, но как партнер, имеющий свою долю в этом предприятии.
– Мы поручим писцу подготовить указ о его освобождении, – ответил Ауицотль. – А пока мы не можем удержаться от замечания о том, что это будет самая странная по составу купеческая экспедиция, когда-либо отправлявшаяся из Теночтитлана. Куда ты совершишь свое первое путешествие?
– В земли майя, владыка Глашатай, и обратно, если боги позволят. Икстли-Куани бывал там раньше, и это одна из причин, почему я хочу, чтобы он мне сопутствовал. Надеюсь, что мы вернемся со сведениями, представляющими интерес и ценность для моего господина.
Я не стал добавлять, что страстно надеялся вернуться еще и с восстановленным зрением. Говорили, что лекари майя способны творить чудеса, и это стало самой главной причиной, побудившей меня отправиться именно в их страну.
– Твои просьбы будут исполнены, – провозгласил Ауицотль. – Ты будешь приглашен в Дом Почтека для собеседования.
Он поднялся со своего покрытого шкурой гризли трона, давая понять, что беседа окончена.
– Нам будет интересно потолковать с тобой снова, почтекатль Микстли, когда ты вернешься. Если вернешься.
Придя обратно в свои покои, я обнаружил, что Коцатль проснулся, сидит на постели и, закрыв лицо руками, рыдает так горестно, словно его жизнь кончена. В известном смысле, так оно и было. Но когда я вошел, на его лице сначала отразилось изумление, потом радостное узнавание, и наконец оно осветилось лучезарной улыбкой.
– Я думал, ты умер, – простонал мальчик и, выбравшись из одеял, неуклюже заковылял ко мне.
– А ну обратно в постель! – скомандовал я, поднял его и отнес назад, причем Коцатль все время без умолку тараторил:
– Кто-то схватил меня сзади, я не успел ни убежать, ни вскрикнуть. А когда очнулся, лекарь сказал, что во дворце ты еще не появлялся, вот я и решил, что тебя убили. А на меня напали для того, чтобы я не смог тебя предупредить. Потом я опять потерял сознание, а когда пришел в себя – один, на твоей постели, – то и вовсе решил...
– Тсс, малыш, – сказал я, подтыкая ему одеяло. – Успокойся!
– Но я подвел тебя, хозяин, – проскулил он. – Я упустил твоего врага!
– Нет. Чимальи до меня не добрался, потому и набросился на тебя. Я в большом долгу перед тобой и позабочусь, чтобы этот долг был уплачен. Обещаю, что, когда придет время и Чимальи снова окажется в моей власти, ты сам решишь, какая кара ему подходит. А сейчас, – печально пробормотал я, – скажи, ты знаешь, что за рану тебе нанесли?
– Да, – ответил мальчик, закусив губу, чтобы она не дрожала. – Когда это произошло, я лишь почувствовал страшную боль и потерял сознание. Добрый целитель позволил мне оставаться в обмороке до тех пор, пока он... пока он делал то, что мог. Но потом лекарь поднес к моему носу что-то пахнувшее так сильно, что я чихнул, очнулся и увидел, где он меня зашил.
– Бедняжка, – сказал я.
Мне очень хотелось утешить мальчика, но я не знал как. Коцатль пробежал рукой вниз по одеялу, осторожно ощупывая себя, и робко спросил:
– Это что, я теперь стал девчонкой?
– Что за глупости? С чего ты взял?
– Ну да, – фыркнул он, – думаешь, я не знаю, чем отличаются мужчины от женщин? Я видел раздетую женщину, помнишь нашу бывшую госпожу в Тескоко? У нее между ног вместо тепули была дырочка. И у меня, я посмотрел, когда целитель накладывал повязку, теперь осталось то же самое.
– Вовсе это не то же самое, – твердо заявил я, – а ты никакая не девчонка. Ты куда в большей степени мужчина, чем этот подлец Чимальи, нанесший тебе удар сзади, исподтишка, как делают только женщины. Знаешь, Коцатль, многие воины получали в бою похожие раны, и это ничуть не помешало им остаться бойцами. Некоторые даже становились еще более грозными и свирепыми, чем раньше.
– Тогда почему, – упорствовал мальчик, – у всех, кто узнает о моей ране, и у лекаря, и у тебя, господин, такие унылые физиономии?
– Видишь ли, – ответил я, – дело в том, что из-за этой раны ты никогда не сможешь стать отцом.
– Вот как? – воскликнул он, к моему удивлению только обрадовавшись. – Это не страшно. Честно скажу, я сам никогда не видел ничего хорошего в том, чтобы быть ребенком, и не желаю этого несчастья ни для кого другого. Но... выходит, я не смогу быть и мужем?
– Не обязательно. Просто тебе подойдет не всякая жена. А только такая, которой будет довольно того супружеского удовлетворения, какое ты сможешь ей дать. Ты ведь доставлял удовольствие некой, не будем поминать ее по имени, госпоже в Тескоко?
– Она сказала, что да. – Мальчик снова улыбнулся. – Спасибо за то, что успокоил меня, хозяин. Я ведь раб и не смогу многого добиться в жизни, поэтому хотел бы обзавестись хотя бы женой.
– Отныне, Коцатль, ты больше не раб, а я тебе не хозяин.
Улыбка мальчика растаяла, и на лице его появилась тревога.
– Что случилось?
– Да ничего особенного, просто мы с тобой теперь не хозяин и раб, а двое друзей. Ясно?
– Но раб без хозяина – самое несчастное, ничтожное существо, лишенное всяких корней, – произнес он дрожащим голосом.
– Так то раб, а ты свободный человек. Да еще вдобавок имеющий верного друга, который всегда готов ему помочь. Ты и сам видел, Коцатль, что у меня завелось небольшое состояние, и я собираюсь его преумножить. Как только ты выздоровеешь и сможешь путешествовать, мы отправимся на юг, в чужие края. Мы с тобой теперь будем почтека. Что скажешь? Мы будем торговать и богатеть вместе, так что участь превратиться в несчастное существо, лишенное всяких корней, тебе ничуть не грозит. Я только что вернулся от Чтимого Глашатая и спросил у него дозволения на это предприятие. А еще он обещал подготовить специальный указ, согласно которому ты больше не раб, а мой партнер и друг.
Мальчик улыбнулся сквозь слезы, положил свою ручонку мне на запястье, впервые позволив себе коснуться меня без приказа или разрешения, и пробормотал:
– Настоящим друзьям не нужны никакие указы правителей.
Некоторое время назад сообщество купцов Теночтитлана возвело собственное здание, в котором размещались склады, где хранились товары всех его членов, проводились встречи, а также находились конторы счетоводов, деловые архивы и тому подобное. Дом Почтека располагался недалеко от Сердца Сего Мира и хотя уступал размерами резиденции правителя, но выглядел настоящим дворцом.
При Доме Почтека имелись кухня и трапезная, где членам сообщества и гостям подавали еду и напитки, а также постоялый двор, на котором приезжие купцы могли остановиться на ночь. Один из многочисленных слуг с важным видом препроводил меня в роскошную палату, где я предстал перед тремя пожилыми почтека.
Я явился на беседу с намерением вести себя почтительно, но без робости и заискивания, а потому, сделав подобающий жест целования земли, расстегнул застежку плаща и, не оглядываясь и не дожидаясь приглашения, сел. Слуга, хоть и удивился подобному поведению со стороны простолюдина, однако каким-то загадочным образом ухитрился поймать мой плащ и подставить сиденье.
Один из трех старейшин купеческого сообщества ответил на мое приветствие легким движением руки и велел слуге принести нам шоколад. Некоторое время все трое молча рассматривали меня, словно снимая глазами мерку. В соответствии с традицией почтека не выпячивать, а скорее скрывать свое богатство, одеты эти важные господа были просто, без каких-либо украшений. Впрочем, достаток этих людей все равно выдавали дородные фигуры, ибо все купцы питались очень хорошо, и холеные руки, не привыкшие к физической работе. Да и покуитлин, которые курили двое из них, были оправлены в чеканное золото.
– У тебя превосходные рекомендации, – сказал первый старейшина язвительно, словно бы сожалея, что не может тотчас отвергнуть мою кандидатуру.
– Но чтобы вступить в сообщество, необходимо иметь еще и достаток, – добавил второй. – Давай посмотрим, что у тебя есть.
Я передал старейшинам список полученных мною товаров и ценностей, и они, попивая вместе со мной пенистый шоколад, приправленный для вкуса и аромата золотистыми лепестками магнолии, знакомились с ним, передавая друг другу.
– Неплохо, – сказал один.
– Но не бог весть что, – заметил другой.
– Сколько тебе лет? – спросил третий.
– Двадцать один, мои господа.
– Ты очень молод.
– Надеюсь, это не препятствие, – сказал я. – Великому Постящемуся Койоту было всего шестнадцать, когда он стал Чтимым Глашатаем Тескоко.
– Если предположить, что ты, юный Микстли, все же не стремишься занять трон, то каковы твои планы?
– Честно говоря, мои господа, я полагаю, что чудесные ткани, расшитые накидки и тому подобное – не самые подходящие товары для сельских жителей. Все это я постараюсь продать здесь знатным людям, которые смогут заплатить за такие вещи настоящую цену. Выручка пойдет на приобретение товаров попроще и подешевле, но таких, какие изготовляются только у нас в Мешико. С ними я отправлюсь на юг, где буду обменивать на товары, обычные для тех краев, но редкие и дорогие у нас.
– Именно этим мы все здесь и занимаемся, причем не один год, – промолвил один из купцов, на которого сказанное мною явно не произвело впечатления. – Но ты совершенно не учел дорожные расходы. Например, того, что тебе придется потратиться на носильщиков.
– Я не собираюсь нанимать носильщиков.
– Вот как? Выходит, твои партнеры и ты сам потащите все на себе? Поверь мне, молодой человек, это плохой способ сэкономить. Наемному носильщику платят поденно, в соответствии с договоренностью, а с компаньонами тебе придется делиться прибылью.
– Учитывая, что со мной отправятся только двое спутников, это не такой уж большой расход.
– Три человека? – насмешливо уточнил старший и постучал по моему списку. – Да нагруженные одним только обсидианом ты и твои друзья свалитесь с ног раньше, чем переберетесь через южную дамбу.
– Мне не придется таскать товары самому или нанимать носильщиков, – терпеливо объяснил я, – потому что для этого куплю рабов.
Все трое сочувственно покачали головами.
– На одного крепкого раба ты потратишь столько же, сколько стоят услуги целого отряда носильщиков.
– Но носильщиков, – возразил я, – мне пришлось бы кормить, одевать и обувать. И не только всю дорогу туда, но и обратно.
– А твои рабы пойдут на пустой желудок и босые? Ну уж и придумал, нечего сказать...
– Распродав товары, которые несли рабы, я продам и самих рабов. За них можно будет выручить хорошую цену.
Старейшины слегка удивились, такое явно не приходило им в голову. Но один все-таки скептически заметил:
– Но ведь в таком случае ты останешься в диких южных краях и без рабов, и без носильщиков. Кто же доставит домой твои приобретения?
– Я собираюсь закупать только те товары, которые имеют большую ценность при малом весе и объеме. В отличие от других почтека у меня нет намерения скупать жадеит, черепашьи панцири или тяжелые шкуры. Многие торговцы покупают все, что им предлагают, просто потому, что у них есть носильщики, которым все равно надо платить и которых надо кормить, так не гонять нее их без груза? Но я стану обменивать свои товары только на самые лучшие краски, редкостные перья и тому подобное. Конечно, чтобы раздобыть нечто особенное, вполне может потребоваться совершить более длительное и дальнее путешествие. Но даже я один могу принести домой на спине мешок драгоценной краски или перьев птицы кецаль тото, а один такой тюк тысячекратно окупит все вложения.
Трое купцов воззрились на меня с невольным уважением, а один хоть и нехотя, но все же признал вслух:
– Вижу, что ты как следует продумал свое предприятие.
– Моя молодость не помеха, – промолвил я. – Зато у меня много сил, которые так нужны для трудного путешествия. И уйма времени.
– Ты, видно, думаешь, что мы всегда были старыми тучными домоседами, – хмыкнул один из старейшин. – Глянь. – Он распахнул накидку и показал на правом боку четыре глубоких застарелых шрама. – Это следы стрел, которыми наградили меня уичоль в горах северо-запада, когда я покусился на покупку Ока Бога, их священного талисмана.
Другой купец приподнял полу длинной мантии, и я увидел, что у него всего одна ступня.
– Это укус науяки, змеи, обитающей в джунглях Чиапа. Ее яд убивает прежде, чем успеешь сделать десять вдохов, поэтому мне пришлось отсечь ступню еще быстрее. Своими руками, своим собственным макуауитль.
Третий купец нагнулся, продемонстрировав макушку своей головы. Она представляла собой сплошной шрам – красный и сморщенный.
– Я странствовал по северным пустыням в поисках навевающих грезы почек кактуса пейотль. Мне удалось миновать владения псов чичимеков, диких псов теочичимеков и даже бешеных псов цакачичимеков. Но в конце концов я столкнулся с племенем йаки, а по сравнению с этими варварами все перечисленные дикие народы просто безобидные кролики. Мне удалось остаться в живых, но какой-то дикарь йаки носит сейчас мой скальп подвешенным на своем поясе, вместе с волосами многих других людей.
Поняв, что меня поставили таким образом на место, я сказал:
– Мои господа, я восхищаюсь вашими приключениями, преклоняюсь перед вашим мужеством и могу лишь надеяться, что когда-либо хоть немного приближусь к положению столь заслуженных почтека. Пока же я счел бы за честь стать самым младшим из членов вашего почтенного сообщества и был бы глубоко признателен за возможность черпать из сокровищницы ваших знаний, добытых ценой столь великих трудов и опасностей.
Трое старейшин снова переглянулись.
– Ну что? – пробормотал один из них, и его товарищи кивнули.
Старик, с которого сняли скальп, обратился ко мне:
– Твое первое торговое путешествие будет одновременно и испытанием: посмотрим, подходишь ли ты для нашего сообщества. Знай же: далеко не все новички почтека возвращаются домой даже из первой вылазки. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь тебе подготовиться как следует. Остальное будет зависеть от тебя.
– Благодарю вас, мои господа, – ответил я. – Все ваши советы и пожелания будут восприняты мною с величайшим почтением. Если вы не одобряете предложенный мною план...
– Нет-нет, – сказал один из них. – В нем есть похвальное своеобразие и смелость. Поставить дело так, чтобы один товар тащил на себе другой... хе-хе-хе!
– Мы можем предложить тебе улучшить первоначальный план только в одном отношении, – добавил другой. – Насчет того, что предметы роскоши лучше всего сбыть здесь, в Теночтитлане, ты безусловно прав. Но вряд ли тебе стоит тратить время на то, чтобы распродавать их в розницу.
– Да, не теряй времени, – подхватил третий. – Говорят, да мы знаем это и по собственному опыту, отправляться в дорогу лучше всего в день Первой Змеи. Нынче уже Пятый Дом, так что осталось... дай подумать... ага, день Первой Змеи наступит по календарю как раз через двадцать три дня. И не дожидайся, пока польют дожди, поверь, что для путешествия на юг годится только сухой сезон.
Первый купец заговорил снова:
– Принеси нам сюда все свои запасы богатых одежд и тканей. Мы рассчитаем их стоимость и честно обменяем всё на товары, которые ты сможешь взять с собой. Нам спешить некуда, так что мы распродадим их потом, выручив на этом лишь самую малость, которая пойдет на нужды нашего сообщества и на дары нашему покровителю, богу Йакатекутли.
Я колебался всего лишь мгновение, однако он это заметил, нахмурился и сказал:
– Юный Микстли, не проявляй недоверия к своим собратьям. Если все мы не будем скрупулезно честными, то никто из нас не получит прибыли, да и вообще не выживет. Это простое, но самое важное правило нашей жизни. И знай также: ты должен вести себя безупречно честно даже с самыми невежественными дикарями в самых дальних, отсталых землях. Потому что, куда бы ты ни отправился, какой-то другой наш почтека или уже бывал там раньше, или отправится вслед за тобой. И только если каждый из нас будет торговать честно, тогда и явившийся после него будет радушно принят теми, к кому он явится... и отпущен живым.
Обращаясь к Пожирателю Крови с предложением стать моим компаньоном, я, честно говоря, побаивался, что перспектива стать нянькой при начинающем неопытном почтека да увечном мальчишке будет воспринята старым воином с негодованием и бранью. Однако куачик, к превеликому моему удивлению, отнесся к этому с воодушевлением.
– Я? Я буду единственным твоим вооруженным охранником? Ты и вправду готов доверить ваши жизни и свое достояние этому старому мешку ветра и костей? – Он несколько раз моргнул, хмыкнул, высморкался и заключил: – Сам посуди, разве я могу отказаться, когда мне оказывают такое доверие?
– Не будь я уверен, что ты вовсе не мешок ветра и костей, мне и в голову не пришло бы являться к тебе с таким предложением.
– Ну что ж, бог войны свидетель, я не хочу участвовать в очередной дурацкой пародии на войну вроде того похода в Тлашкалу. А учить оболтусов в Доме Созидания Силы мне нравится еще меньше. Но – аййа! – вновь увидеть те далекие земли... – Пожиратель Крови устремил взгляд к южному горизонту. – Клянусь каменными яйцами бога войны, вот это по мне! Я благодарю тебя за предложение и принимаю его с радостью, молодой Связ... – Он закашлялся. – Э-э-э... ты теперь мой господин?
– Партнер, – сказал я, – как и Коцатль. Мы поделим на три части все, что сможем заработать. И я надеюсь, что впредь ты будешь звать меня Микстли.
– Что ж, Микстли, раз мы, как ты говоришь, теперь партнеры, позволь мне принять участие в подготовке к походу. Давай я отправлюсь в Аскапоцалько и присмотрю рабов. Я умею отбирать крепких людей, к тому же знаю повадки работорговцев и им меня не провести своими фокусами. Вроде закачки расплавленного пчелиного воска под кожу какому-нибудь дохлятику.
– Зачем это надо? – поразился я.
– Воск застывает, и на теле хилого мужчины проступают мощные, как у летуна токотин, грудные мышцы, а грудь женщины приобретает соблазнительную форму, как у легендарных ныряльщиц за жемчугом с острова Женщин. Правда, в первый же жаркий денек эти восковые сиськи провисают до колен. Но не переживай, покупать рабынь я не собираюсь. Если на юге все осталось по-прежнему, у нас не будет недостатка в прачках, поварихах и прочих красотках, всегда готовых согреть постель путника.
Итак, Пожиратель Крови взял мои перья с золотой пылью и отправился на материк, на невольничий рынок в Аскапоцалько. Несколько дней подряд он тщательно отбирал товар и ожесточенно торговался, после чего вернулся с двенадцатью здоровыми крепкими рабами. При этом среди них не было даже двоих, которые принадлежали бы к одному племени или хотя бы некоторое время провели в загоне одного работорговца. Таким образом Пожиратель Крови исключил попадание в наш отряд друзей или любовников куилонтин, которые могли бы замыслить бунт или побег. Разумеется, у всех этих невольников имелись какие-то имена, но я не собирался забивать себе и своим спутникам голову такой ерундой и стал звать рабов просто: Ке, Оме, Йейи... ну и так далее. То есть Первый, Второй, Третий... до Двенадцатого включительно.
Пока шли эти приготовления, регулярно навещавший Коцатля придворный лекарь сначала разрешил мальчику встать, а потом, удалив повязки и швы, предписал ему физические упражнения. Вскоре мой маленький друг был так же здоров и бодр, как раньше, и ничто не напоминало о его травме, за исключением того, что помочиться теперь Коцатль мог, лишь присев на корточки, как женщина.
В Доме Почтека в обмен на предметы роскоши мне дали раз в шестнадцать больше практичных и дешевых товаров, а когда пришло время выбирать и запасать снаряжение и припасы, трое купеческих старейшин охотно помогли мне советом. Думаю, им было приятно вспомнить молодость, заводя споры насчет сравнительной крепости волокон магуй и конопляных веревок и рассуждая о преимуществах бурдюков из оленей кожи (в которых вся влага сохраняется до капли) и глиняных кувшинов (откуда вода частично испаряется, но в которых она зато всю дорогу остается прохладной). Старейшины знакомили меня с довольно примитивными и неточными старыми картами и с воодушевлением наставляли:
– Единственная пища, которую не нужно тащить на закорках, ибо она несет себя сама, – это собаки течичи. Захвати с собой свору побольше, Микстли. Корм и воду псы раздобудут самостоятельно, а сбежать не сбегут, ибо эта порода очень труслива и отличается привязанностью к человеку. Конечно, мясо у них не самое вкусное, но зато оно всегда будет под рукой, тогда как охота оказывается удачной далеко не всякий раз.
– Но если тебе повезет и ты убьешь дикое животное, знай, что хотя мясо у дичи жесткое, это легко поправить. Заверни добычу в листья папайи, и за ночь мясо станет мягким и вкусным.
– Оказавшись в тех краях, куда армии мешикатль совершали походы, проявляй осторожность в отношении женщин. Некоторые из них, затаив злобу на наших воинов, специально заражают себя смертельным недугом нанауа, а потом совокупляются с первым подвернувшимся мешикатль, чтобы отомстить: ведь мозги и тепули подхватившего эту болезнь напрочь сгнивают.
– Если у тебя закончится запас бумаги для ведения расчетов, нарви листьев могильной лозы. Пиши на них острым прутиком: белые царапины на зеленых листьях сохраняются так же долго, как краска на бумаге.
В день Первой Змеи, едва забрезжил рассвет, Коцатль, Пожиратель Крови и я, в сопровождении дюжины нагруженных рабов и своры откормленных, резвившихся у наших ног маленьких собачонок, покинули Теночтитлан. Путь наш лежал на юг, по соединявшей остров с материком дамбе. Справа от нас высилась гора Чапультепек. На ее каменном фасаде правитель Мотекусома Первый повелел высечь свое гигантское изображение, и каждый последующий юй-тлатоани следовал его примеру. Говорили, что и огромный портрет Ауицотля уже тоже почти закончен, но мы не смогли рассмотреть ни одной детали каменного рельефа, ибо еще царил сумрак. Шел месяц панкуетцалицтли, когда солнце встает поздно и к этому времени еще скрыто за пиком Попокатепетль.
Когда мы только вступили на мост, в той стороне еще не было видно ничего, кроме дымки да обычного опалового свечения занимающейся зари. Но мало-помалу туман рассеивался, и постепенно массивный, но изящный по форме вулкан стал различимым: казалось, будто он, сойдя со своего извечного места, надвигается на путников. Когда пелена тумана растворилась полностью, гора предстала перед нами во всем своем великолепии. Сначала скрытое позади него солнце подсвечивало заснеженный конус, окружая его сиянием, а потом Тонатиу, словно вынырнув из жерла, вознесся над вулканом, возвестив наступление дня.
Озеро заблестело, земли вокруг омылись бледным золотистым светом и бледными же пурпурными тенями. В то же самое мгновение пробудившийся вулкан испустил струю голубого дыма, который поднялся и заклубился в форме гигантского гриба.
Надо думать, все это являлось для выступающих в дорогу добрым предзнаменованием. Солнце освещало снежный конус Попокатепетля, придавая ему блеск белого оникса, инкрустированного всеми драгоценными камнями мира, в то время как сама гора салютовала нам лениво клубящимся дымом, словно говоря:
– Вы уходите, о путники, но я-то остаюсь и пребуду здесь вовеки как залог вашего благополучного возвращения!
IHS S.C.C.M.
Его Священному Императорскому Католическому Величеству императору дону Карлосу, нашему королю и повелителю
Его Королевскому и Императорскому Величеству, нашему почитаемому Государю из города Мехико, столицы Новой Испании, на второй день после Воскресного Молебствия, в год от Рождества Христова одна тысяча пятьсот тридцатый, шлем мы наш нижайший поклон.
Что касается вопроса, поднятого в самом последнем письме Вашего Высокочтимого Величества, то мы должны признаться, что не можем сообщить нашему монарху точное количество пленных индейцев, принесенных в жертву ацтеками по случаю имевшего место более полувека назад «освящения» их Великой Пирамиды. Пирамиды этой давно нет, как не сохранились и записи о жертвоприношениях того дня, если какой-либо счет таковых вообще велся.
Наш хронист ацтек, лично присутствовавший на той церемонии, не может определить это число точнее, чем «тысячи». Однако, возможно, этот старый шарлатан преувеличивает, дабы сделать тот день (и то сооружение) более значимыми в историческом плане. Занимавшиеся здесь изысканиями еще до нашего прибытия братья-миссионеры из ордена Св. Франциска по-разному оценивают количество жертв, принесенных в тот день: от четырех до восьмидесяти тысяч. Но не исключено, что эти добрые братья тоже преувеличили цифру, может быть, невольно, под влиянием своего отвращения к гнусному языческому варварству, а может быть, дабы убедить нас, своего нового епископа, в том, сколь звероподобно и порочно местное население этого края по своей природе.
Правда, мы не нуждаемся в подобных преувеличениях, ибо врожденные дикость и греховность индейцев для нас очевидны. Свидетельством тому служат хотя бы ежедневные разглагольствования нашего рассказчика, чье присутствие мы терпим исключительно по воле Вашего Наиславнейшего Величества. Если за последние месяцы сей дикарь и поведал нам хоть что-то, представляющее некий познавательный интерес, то общий объем таких сведений весьма ничтожен по сравнению с бессмысленной, вредоносной и греховной его болтовней. Он доводил нас до тошноты, прерывая свои рассказы о торжественных церемониях, интересных путешествиях и значительных событиях, чтобы поведать о разврате и прелюбодействе – как своих, так и чужих – да еще и подробно расписать сии действа во всевозможных, по большей части отвратительных деталях, включая и то богомерзкое извращение, о коем у апостола Павла говорится: «Да не будет сие даже поминаемо промеж нами».
С учетом рассказанного им о характере ацтеков, нетрудно поверить, что эти варвары вполне могли возжелать уничтожить восемьдесят тысяч себе подобных за один день, однако, рассуждая практически, мы должны признать, что подобное деяние неосуществимо. Для этого их жрецам-палачам пришлось бы работать без устали целые сутки и убивать примерно по одному человеку в секунду, то есть около шестидесяти человек в минуту. И даже более скромные цифры трудно принять на веру. Ваш смиренный слуга и сам имеет некоторый опыт осуществления массовых казней, и ему трудно поверить в способность столь примитивного народа избавиться от многих тысяч трупов прежде, чем они успели бы загнить и создать в городе угрозу эпидемии.
Впрочем, даже если названная цифра чудовищно преувеличена, если убиенных в тот день было не восемьдесят тысяч, а в десять, в сто, в тысячу раз меньше, то и тогда любой цивилизованный человек и добрый христианин не может не прийти в ужас, услышав о том, что столько невинных людей погибло во имя ложной, идолопоклоннической религии и во славу демонов. А посему, Ваше Величество, по нашему почину и повелению за семнадцать месяцев, минувших со времени нашего прибытия сюда, было уничтожено пятьсот тридцать два языческих капища различного размера – от пышных сооружений на высоких пирамидах до простых алтарей, сооруженных внутри природных пещер. Мы истребили более двадцати одной тысячи идолов разной величины – от чудовищных колоссов, высеченных из скального монолита, до глиняных фигурок, предназначавшихся для домашнего употребления. Ни одному из них отныне не будут приноситься человеческие жертвы, мы же продолжим искать и уничтожать оставшихся идолов по мере расширения владений Новой Испании.
Даже не будь сие предписано нам саном и занимаемой должностью, мы все равно считали бы своим первейшим долгом разоблачение и одоление Диавола, под какой бы личиной оный ни таился. В связи с этим мы дерзаем привлечь особое внимание Вашего Величества к заявлению нашего хроникера (изложено на прилагаемых страницах) – будто бы некоторые из язычников, обитавших в южной части нынешней Новой Испании, имели представление о Едином и Всемогущем Боге, а также поклонялись некоему подобию Святого Креста задолго до появления здесь первых миссионеров нашей Матери Церкви. Откровенно говоря, капеллан Вашего Величества склонен подвергнуть сии сведения сомнению, прежде всего потому, что у него сложилось весьма невысокое мнение об их источнике.
Осмелюсь доложить Вашему Величеству, что еще в Испании, исполняя обязанности верховного инквизитора Наварры и занимаясь искоренением ереси, мы сталкивались со слишком многими неисправимыми нечестивцами, чтобы не распознать такового в каком угодно обличий, вне зависимости от цвета его кожи. Сей ацтек в те редкие моменты, когда им не владеют демоны сладострастия, выказывает все прочие, самые распространенные человеческие слабости и недостатки, а также, в дополнение к этому, еще и не столь часто встречающиеся, но вопиющие пороки. Мы считаем нашего хрониста таким же двуличным, как тех презренных marrano[22], которые приняли Святое Крещение, посещают наши церкви и даже едят свинину, но втайне сохраняют и исповедуют свое ложное учение и исполняют запрещенные иудейские обряды.
Однако, несмотря на все наши подозрения и предположения, мы стараемся оставаться беспристрастными. Если этот старик не лжет преднамеренно и не насмехается над нами, то его сообщение о поклонении некоего южного индейского племени Единому Высшему Существу и даже Святому Кресту может представлять несомненный интерес для теологов. Посему мы направили в тот край миссию братьев-доминиканцев, дабы оные проверили рассказ ацтека и в положенное время доложили Вашему Величеству о результатах.
А пока, Ваше Величество, да прольют Господь Наш и Сын Его Иисус Христос свои щедрые благословения на Ваше Несравненное Величество, дабы процветали все Ваши начинания и Вы не оставили бы своею милостью Вашего смиренного и верного слугу Хуана де Сумаррагу
(подписано собственноручно).
SEXTA PARS[23]
Мне кажется, что я помню каждое отдельно взятое событие каждого отдельно взятого дня того моего первого путешествия, причем на протяжении всего пути – как туда, так и обратно. Позднее, в следующих своих странствиях, я уже перестал обращать внимание на мелкие, да и не только мелкие, но и весьма ощутимые неприятности: томительную жару и пробирающий до костей холод, волдыри и мозоли на руках и ногах, нездоровую пищу и грязную воду, а порой и на полное отсутствие воды и пищи вообще. Подобно жрецам, которые впадают в транс, накурившись дурманящего дыма, я научился становиться бесчувственным и, в то время как ноги несли меня все вперед и вперед, совершенно не замечал окружающей местности, к которой не испытывал ни малейшего интереса. Но в том, первом путешествии, именно потому, что оно было для меня первым, меня интересовало решительно все, вплоть до самых незначительных мелочей, и все эти мелочи, как радостные, так и досадные, я добросовестно отражал в своих записях. Вернувшись, я представил полный и подробный письменный отчет Чтимому Глашатаю Ауицотлю, хотя эти бумаги, надо полагать, и были трудноваты для чтения, поскольку отчасти, попав под дождь или же во время преодоления водных преград, пострадали от влаги, а отчасти пропитались моим собственным потом. К тому же Ауицотль был гораздо более опытным путешественником, чем в то время я, и он, наверное, не раз улыбался, читая те места моих рассказов, где наивно выпячивалось нечто заурядное и старательно разъяснялось очевидное.
Однако те дальние чужие земли уже начали меняться даже в ту пору, ибо неутомимые почтека и другие исследователи приносили тамошним народам вместе с товарами обычаи, понятия и слова, неведомые тем прежде. Ну а в наше время, когда теми путями двинулись испанские солдаты, поселенцы и миссионеры, жизнь туземцев наверняка изменилась до неузнаваемости. Так что как ни крути, но мне приятно осознавать, что благодаря моим описаниям будущие ученые смогут узнать, как раньше выглядели те земли и как тогда жили тамошние народы, в ту пору мало известные Сему Миру.
Если, почтенные господа, что-то в моем описании этого первого путешествия покажется вам недостаточно четким и подробным, то виной тому мое слабое зрение. Если же, с другой стороны, какие-то детали будут описаны с необычайной яркостью, это объясняется тем, что мне еще не раз доводилось путешествовать по тому же самому маршруту позднее, когда я уже обрел способность и возможность смотреть на мир более пристально и видеть вещи более четко.
В долгом путешествии, когда идти приходится как трудными, так и легкими тропами, отряд несущих грузы людей может преодолевать за день, от рассвета до заката, в среднем по пять долгих прогонов. Правда, в первый день мы проделали только половину этого расстояния – просто перешли по длинной дамбе на южный берег озера, в Койоакан и перед закатом устроились на ночлег, ибо завтра нам предстоял трудный путь. Как вы знаете, этот озерный край лежит словно бы в чаше – на дне долины между гор, и, чтобы выбраться оттуда, в любую сторону следует перевалить через гребень. Причем выше и круче всего горная стена как раз с южной стороны от Койоакана.
Несколько лет тому назад, когда первые испанские солдаты пришли в эту страну и я только-только начал понимать их язык, один из них, глядя на вереницу носильщиков, бредущих с грузами на спинах, не выдержал и спросил:
– Почему, во имя Господа, вам, глупым дикарям, не пришло в голову использовать колеса?
Я тогда еще не был хорошо знаком с выражением «во имя Господа», но зато прекрасно знал, что такое «колеса». В детстве у меня была игрушка, глиняный броненосец, которого я катал за веревочку. Поскольку глиняные лапы ходить, понятное дело, не могут, игрушку делали подвижной четыре маленьких деревянных колесика. Я рассказал об этом испанцу, и тот страшно удивился:
– Тогда почему же дьявол не надоумил никого из вас использовать колеса для перевозки грузов, как это сделано на наших пушках и зарядных ящиках?
Я заметил испанцу, что вопрос этот кажется мне на редкость глупым, и в результате за дерзость получил удар по физиономии.
Разумеется, мы знали о возможности применения колес, ибо чрезвычайно тяжелые предметы, вроде Камня Солнца, передвигали, перекатывая на бревнах, помещенных под ними и спереди. Но такие катки не подходили для перемещения более легких грузов, ибо в наших краях не водилось никаких тягловых животных вроде ваших лошадей, мулов, быков и осликов, которых можно было бы впрячь в колесную повозку. Так что единственными вьючными животными были мы сами. Крепкий носильщик способен, не особо напрягаясь, тащить довольно долго груз почти в половину собственного веса. Если поместить этот груз на колеса, то носильщику придется тянуть и толкать еще и вес тележки, которая на пересеченной местности станет только помехой.
Теперь вы, испанцы, проложили множество дорог, по которым грузы тянут животные, тогда как сами вы едете верхом или идете пешком налегке. Нельзя не признать, что процессия из двадцати крытых повозок, влекомых сорока лошадьми, представляет собой весьма внушительное зрелище. Наш маленький обоз из трех купцов и двенадцати рабов, безусловно, не производил такого впечатления. Зато, перенося все свои товары и большую часть провизии на себе, мы имели самое меньшее два преимущества: нам не приходилось кормить прожорливых тягловых животных и заботиться о них, а наши труды с каждым днем делали нас все выносливее и крепче.
Тем паче что неутомимый Пожиратель Крови заставлял нас постоянно тренироваться: еще до того, как мы покинули Теночтитлан, и потом на каждом привале нам всем, включая рабов, приходилось по его милости выполнять упражнения с копьями. Копье имелось у каждого члена отряда, сам же ветеран нес вдобавок внушительный личный запас боевого вооружения, состоявший из длинного копья, дротика, копьеметалки, макуауитль, короткого ножа, лука и колчана, полного стрел. Пожирателю Крови не составило особого труда убедить рабов, что мы будем относиться к ним лучше, чем разбойники, которые могут их «освободить», так что в интересах самих рабов помочь нам отразить любое нападение. Ну а уж как его отразить, он им покажет.
Переночевав на постоялом дворе Койоакана, мы выступили в путь до рассвета, ибо Пожиратель Крови предупредил, что нам следует пересечь дурные земли Куикуилько до того, как солнце поднимется высоко. Это название означает Место Сладостных Песнопений, но если когда-то там и звучали песни, то это было давно. Теперь же Куикуилько стало бесплодной серо-черной пустыней с бугристой, словно из застывших каменных волн, поверхностью. Можно было подумать, что заклятие какого-то могучего чародея мгновенно заморозило сбегавшую, пенясь и клокоча, с горы воду, на самом же деле то был застывший поток лавы из вулкана Кситли, потухшего и уснувшего столько вязанок лет назад, что когда именно произошло последнее извержение, погубившее Место Сладостных Песнопений, ведали лишь боги. Очевидно, когда-то это был огромный город, однако до наших дней дошло только его название, и о том, что за народ там жил, никто не помнил. Единственным сохранившимся строением была торчавшая над полем застывшей лавы пирамида, отличавшаяся от большинства наших тем, что не имела плоских граней, а представляла собой уступчатый конус, своего рода набор положенных одно на другое и уменьшающихся кверху каменных колец. Сколь бы сладостные песни ни звучали когда-то на этом месте, нынче задерживаться на каменистой равнине в дневное время не стоило, ибо ее пористая лава раскаляется под солнцем, испуская невыносимый жар. Даже ранним прохладным утром пустыня представляла собой не самое приятное место для прогулки. Там не росло даже сорняков, не щебетали птицы, и единственным звуком, который мы слышали, был разносившийся эхом по исполинской чаше топот наших собственных ног.
Но как бы ни была уныла вулканическая пустыня, по ней мы, по крайней мере, могли идти прямо, а вот оставшуюся часть того дня нам пришлось провести, то с трудом карабкаясь вверх по горному склону, то, напротив, осторожно спускаясь с этого склона вниз. Подъемы и спуски чередовались, повторяясь снова и снова. Впрочем, этот участок дороги не был ни опасным, ни даже по-настоящему трудным, ибо мы двигались маршрутами, проторенными множеством наших предшественников. Однако с непривычки этот дневной переход показался мне изнурительным: я с трудом дышал, весь вспотел, а спину ломило. Когда мы наконец остановились на ночь на постоялом дворе горной деревушки Шочимилько, даже Пожиратель Крови устал настолько, что не слишком усердно гонял нас перед сном с копьями. Потом все поели, рухнули на постели и заснули как убитые. Все, кроме меня.
Я, разумеется, тоже не прочь был поспать, но на этом же постоялом дворе остановился торговый караван, возвращавшийся с юга; часть их пути пролегала по тем же дорогам, по которым намеревались отправиться и мы. Поэтому, хотя веки мои и налились тяжестью, я вступил в разговор с возглавлявшим караван почтекатль – жилистым мужчиной средних лет. У него было не меньше сотни носильщиков и столько же охранявших их воинов, так что на нашу скромную группу купец наверняка смотрел со снисходительным пренебрежением. Что, впрочем, не помешало ему отнестись к начинающему торговцу вполне доброжелательно. Он просмотрел все мои примитивные карты, внес многочисленные поправки и пометил источники воды и другое, на что следовало обратить внимание.
Потом купец сказал:
– Мне посчастливилось раздобыть у сапотеков некоторое количество драгоценной карминной краски, но до меня дошел слух о еще более редком красителе. Пурпурном. Его обнаружили совсем недавно.
– Что же нового в пурпурном цвете? – удивился я.
– Это особый пурпур, богатый по тону и удивительно стойкий. Он не выцветает, превращаясь в нечто безобразно-зеленое. Если такая краска действительно существует, она будет приберегаться для самых знатных покупателей. Подобный краситель станет цениться выше, чем изумруды или перья птицы кецаль тото.
Я кивнул:
– Это точно, ведь до сих пор никому не удавалось получить по-настоящему стойкий пурпур, так что за него можно было бы запросить любую цену. А ты не пытался проверить, насколько правдивы эти слухи?
Он покачал головой.
– Вот в чем недостаток каравана. Не так-то просто взять да и увести такую уйму народу с проверенного маршрута на поиски неизвестно чего. Слишком многое стоит на кону, чтобы можно было рисковать, отправляясь на поиски без твердой уверенности в успехе.
– А вот я мог бы повести свой маленький отряд куда угодно.
Опытный торговец некоторое время смотрел на меня молча, а потом пожал плечами:
– Возможно, сам я не скоро снова выберусь на юг. – Он склонился над моей картой, указав место на побережье великого Южного океана. – Именно здесь знакомый купец и рассказал мне об этой новой краске. Правда, поведал он немного. Упомянул о свирепых, не подпускающих близко чужеземцев племенах, именуемых чонталтинали. Ну что это, спрашивается, за народ, если он сам называет себя «бродягами»? Да, помнится еще, тот малый поминал улиток. Улиток! Ну скажи на милость, улитки да бродяги, какой в этом смысл? Вот и я не знаю. Но если тебе, молодой человек, достанет смелости попытать счастья, располагая лишь столь скудными сведениями, то я желаю тебе удачи.
На следующий вечер мы подошли к городу, который был да и по сей день остается самым красивым и гостеприимным в землях тлауиков. Он расположен на высоком плато, и находящиеся в нем здания не теснятся беспорядочно друг возле друга, но разделены посадками кустов и деревьев, отчего городок и получил название Куануауак, то есть Окруженный Лесом. Это мелодичное название ваши соотечественники, с их окостеневшим языком, переиначили в смехотворное Куэрнавака, или Коровий Рог, что не делает испанцам чести.
Сам городок, окружающие его горы, кристально прозрачный воздух, тамошний климат – все это настолько привлекательно, что Куануауак всегда был любимым местом летнего отдыха богачей и знати Теночтитлана. Мотекусома Первый возвел там для себя скромный загородный дворец, который все последующие правители Мешико переделывали, достраивали и расширяли, так что со временем он стал не хуже любого из столичных дворцов, а роскошью садов даже превзошел их. Я знаю, что ныне ваш генерал-капитан Кортес сделал его своей резиденцией. Надеюсь, почтенные господа писцы простят мою язвительность, но позволю себе заметить, что, пожалуй, это может служить единственным основанием для переименования города. Так вот, хотя наш маленький караван прибыл туда задолго до заката, мы не смогли устоять перед искушением задержаться и провести ночь среди буйной зелени и благоухания цветов. Но рано поутру мы уже снова были на ногах и, оставив горы за спиной, продолжили путь.
Всюду, где караван останавливался на ночлег, мне, Коцатлю и Пожирателю Крови предоставляли скромные, но удобные отдельные спальни, тогда как наши рабы устраивались в общем помещении, в котором храпели вповалку также носильщики других торговцев. Тюки с товарами мы складывали в охраняемые кладовые, а собак пускали на задний двор, где они рылись в куче кухонных отбросов.
Первые пять дней путешествия мы находились на территории, которую пересекали южные торговые пути. Постоялых дворов в этих краях имелось множество, так что затруднений с ночлегом не возникало. Помимо всего прочего на каждом постоялом дворе нам предлагали также и женщин. Однако все эти трактирные маатиме были, на мой взгляд, простоваты. Кроме того, они и сами не больно-то интересовались мной, пытаясь завлечь главным образом тех, кто возвращался домой.
– Они полагают, что купцы, долгое время странствовавшие в дальних краях и изголодавшиеся по женщинам, не станут проявлять излишнюю разборчивость, но зато от них можно ожидать щедрости, – пояснил Пожиратель Крови. – Думаю, что мы с тобой на обратном пути тоже вполне сможем пожелать маатиме, но сейчас лучше не растрачивать попусту ни силы, ни средства. В тех краях, куда мы держим путь, тоже есть женщины, причем многие из них очень красивы, а свою благосклонность готовы продать за пустячную безделушку. Аййо, потерпи, пока не увидишь женщин народа Туч, вот уж будет пир – и для зрения, и для иных чувств!
На утро шестого дня мы вышли за пределы территории, где сходились основные торговые пути, и вскоре пересекли невидимую границу, вступив в бедные земли миштеков, или, как они называли себя сами, тья-нья – Люди Земли. Хотя с Мешико этот народ и не враждовал, но привечать почтека, заботиться об их удобствах и строить постоялые дворы склонности не имел. Более того, здешние власти, если таковые вообще имелись, не следили за безопасностью дорог и не спешили пресекать разбой.
– В этом месте мы запросто можем нарваться на разбойников, – предупредил Пожиратель Крови. – Они устраивают засады, подстерегая торговцев, как идущих из Теночтитлана, так и возвращающихся домой.
– А почему здесь? – спросил я. – Ведь дальше к северу сходятся все дороги, и там караваны встречаются гораздо чаще.
– Именно по этой самой причине. Ближе к столице на дорогах многолюдно, а объединившиеся по пути домой караваны часто сопровождают такие мощные отряды, что напасть на них могла бы разве что целая армия. То ли дело здесь: дороги пустынны, а стекающиеся к столице караваны еще не успели объединиться. Конечно, наша компания слишком мала, чтобы показаться им ценной добычей, но шайка разбойников не станет пренебрегать и такой мелочью.
После такого предостережения Пожиратель Крови двинулся один вперед отряда, держась на таком расстоянии, что казался Коцатлю лишь маленькой точкой вдалеке. Правда, пока мы следовали по плоской, лишенной деревьев и кустарников равнине, держась все еще отчетливо различимой тропы, нас так никто и не потревожил, а главным нашим врагом была клубившаяся повсюду пыль. Мы закрывали лица полами своих накидок, однако глаза все равно слезились от пыли, а в горле першило. Потом дорога поднялась на бугор, где на полпути к вершине мы обнаружили сидевшего на обочине, аккуратно сложив на пыльной траве готовое к бою оружие, Пожирателя Крови.
– Остановимся здесь, – тихо промолвил он. – Клубы пыли уже предупредили разбойников о нашем приближении, но сосчитать нас они еще не успели. Их самих восемь человек, все тья-нья. Они засели вон там, где дорога проходит через рощицу. Значит, так: надо устроить, чтобы они думали, будто нас всего одиннадцать. Меньше нельзя: совсем маленькая группа не подняла бы такую пылищу, так что они заподозрят подвох.
– Не понял, – пробормотал я, – как мы сделаем вид, будто нас одиннадцать?
Старый воин жестом приказал мне молчать, поднялся на вершину холма, лег и пополз вперед, исчезнув на время из виду. Потом он приполз обратно и спустился к нам.
– На виду из них сейчас только четверо, – объявил Пожиратель Крови, пренебрежительно фыркнув. – Старый трюк. Скоро полдень, так что эти четыре прохвоста делают вид, будто они скромные путники – миштеки, утомленные дальней дорогой и устроившие привал, чтобы подкрепиться. Они любезно пригласят вас разделить с ними трапезу, а когда вы все по-дружески рассядетесь вокруг костра, отложив оружие в сторону, остальные четверо, спрятавшиеся в зарослях, бросятся на вас – и ййа аййа!
– И что же нам делать?
– Используем их же собственную хитрость. Мы, как и они, разделимся и устроим разбойникам такую же ловушку, только мы спрячемся подальше. То есть, я хотел сказать, некоторые из нас. Дай-ка подумать. Так, Четвертый, Десятый и Шестой, вы самые рослые и лучше других умеете обращаться с оружием. Снимите свои вьюки и положите их здесь. Захватите только копья и идите со мной.
Сам Пожиратель Крови оставил весь свой богатый арсенал, взяв только макуауитль.
– Микстли, тебе, Коцатлю и всем прочим предстоит отправиться прямиком в ловушку. Делайте вид, будто вы ни о чем не подозреваете. Их приглашение остановиться, отдохнуть и поесть примите с благодарностью, но постарайтесь не выглядеть слишком уж недалекими и доверчивыми, поскольку это тоже может вызвать у разбойников подозрения.
Пожиратель Крови шепотом дал трем вооруженным рабам наставления, которых я не расслышал, после чего он сам и Десятый исчезли за одним склоном холма, а Четвертый и Шестой завернули за другой. Я глянул на Коцатля, и мы оба улыбнулись, стараясь приободрить друг друга. Оставшимся девяти рабам я сказал:
– Вы сами все слышали. Делайте все, что я велю, и помалкивайте. Пошли.
Мы гуськом перевалили через гребень холма и начали спускаться по склону, а когда увидели четырех мужчин, подбрасывавших палки в только что разведенный близ дороги костер, я приветственно помахал им рукой.
– Добро пожаловать! Вы, видно, такие же путешественники, как и мы! – обратился к нам один из разбойников, когда мы подошли поближе. Он говорил на науатлъ, дружелюбно улыбаясь. – Хочу вас предупредить, что мы прошли по этой проклятой дороге не один долгий прогон, пока наконец не отыскали это единственное тенистое местечко. Не присядете ли передохнуть с нами? А может быть, разделите и нашу скромную трапезу?
И незнакомец поднял за длинные уши тушки двух зайцев.
– Отдохнуть нам действительно не помешает, – отозвался я, делая своим людям знак остановиться и располагаться, как им нравится. – Но мяса этих двух тощих зверьков и вам-то четверым будет маловато. Остальные мои носильщики как раз сейчас отправились на охоту: глядишь, и принесут что-нибудь посытнее и повкуснее. И тогда мы сможем предложить вам угощение...
Улыбка говорившего сменилась обиженной гримасой.
– Ты, похоже, принимаешь нас за разбойников, – с укором сказал он, – потому и делаешь вид, будто у тебя уйма людей. Это не по-дружески: ведь скорее нам надо вас опасаться, а не наоборот. Вас одиннадцать человек, а нас всего четверо. Так что давайте в знак взаимного доверия отложим все наше оружие подальше.
И разбойник с самым невинным видом отстегнул и отбросил в сторону свой макуауитль. Три его спутника, поворчав, последовали его примеру. Я дружелюбно улыбнулся, прислонил свое копье к дереву и жестом велел сделать то же своим спутникам. Те демонстративно сложили оружие так, что оно находилось вне пределов досягаемости, и я присел у костра напротив четверых миштеков. Двое из них насадили тощие заячьи тушки на зеленые ветки и закрепили их над костром.
– Скажи-ка, приятель, – обратился я к предводителю. – А какова эта дорога дальше на юг? Стоит ли нам здесь чего-нибудь остерегаться?
– Еще как стоит! – воскликнул он, и глаза его блеснули. – Край здесь самый что ни на есть разбойничий, от грабителей просто проходу нет. Конечно, бедным путникам вроде нас их опасаться нечего, но вот вы, похоже, несете ценные товары. Может, наймешь нас охранниками?
– Спасибо за предложение, – последовал мой ответ, – но я не настолько богат, чтобы позволить себе еще и вооруженную свиту. Как-нибудь обойдусь носильщиками.
– Носильщики не годятся в охрану, а без охраны тебя непременно ограбят, – равнодушно заметил мой новый знакомый, а потом насмешливо добавил: – Впрочем, у меня есть другое предложение. Какой смысл тебе рисковать и тащить свои товары дальше по такой ненадежной дороге? Оставь их нам на хранение, а сам налегке иди куда глаза глядят. Ручаюсь, тебя никто не тронет. – (Я рассмеялся.) – Небось решил, что я шучу? Ничего, думаю, мы сможем убедить тебя принять это предложение, дружище.
– А я думаю, приятель, что самое время позвать с охоты моих носильщиков.
– Давай, – ухмыльнулся разбойник. – А хочешь, я сам их позову?..
– Хочу, – сказал я.
На какой-то миг главарь бандитов растерялся, но, видимо, решив, что я рассчитываю взять его на испуг, издал громкий клич. После этого все четверо тут же метнулись к своему оружию, но одновременно с ними из-за деревьев выступили Пожиратель Крови, Шестой, Четвертый и Десятый, причем появились они с разных сторон. Тья-нья, уже поднявшие было мечи, замерли, как изображения воинов на рельефах.
– Эх, и славно же мы поохотились, господин Микстли! – зычно объявил Пожиратель Крови. – Да я вижу, у вас тут компания. Ничего, мы принесли столько добычи, что можем и поделиться. – С этими словами он, а за ним и рабы побросали наземь то, что каждый из них держал в руке. Отсеченные человеческие головы.
– Не сомневаюсь, друзья: что-что, а уж хорошую еду вы распознаете сразу, – добродушно сказал Пожиратель Крови оставшимся разбойникам. Те попятились и, прислонившись к самому большому дереву, заняли оборонительную позицию, но вид у всех четырех был совершенно ошеломленный. – Да бросьте вы свое оружие. И не робейте, угощайтесь.
Злоумышленники затравленно огляделись. К этому моменту каждый член нашего отряда уже держал в руке копье, а потому разбойники беспрекословно подчинились, когда наш куачик взревел:
– Я сказал – бросить оружие!
Повиновались они и когда он приказал им подойти и поднять с земли головы своих товарищей, а услышав «ешьте», направились к костру.
– Куда? – рявкнул безжалостный воин. – Костер для зайцев, а зайцы для нас. Ешьте прямо сырыми!
Четверо незадачливых грабителей присели на корточки и с жалким видом принялись обгладывать мертвые головы. Там, правда, и объедать-то особо нечего, кроме разве что губ, щек и языка.
– Возьмите их оружие и уничтожьте, – приказал Пожиратель Крови нашим рабам. – А потом обыщите их торбы, вдруг попадется что-нибудь стоящее.
Шестой, собрав мечи, принялся по очереди разбивать о валуны их обсидиановые лезвия, пока те не рассыпались в порошок. Десятый и Четвертый обыскали пожитки разбойников, заглянув тем даже под набедренные повязки, но не нашли ничего, кроме набора самых необходимых в дороге предметов: зубочисток, сухого мха для растопки, палочек для добычи огня и прочих мелочей.
– Зайцы на костре вроде поджарились. Разделай-ка их, Коцатль, – промолвил Пожиратель Крови, после чего повернулся к тья-нья и рявкнул: – Жуйте веселее, не можем же мы есть одни. Это невежливо.
Все четверо, давясь, продолжали рвать зубами хрящи, оставшиеся от ушей и носов. Их уже не раз выворачивало, и одного этого было достаточно, чтобы отбить у меня и Коцатля всякий аппетит, но вот суровый старый солдат уминал зайчатину как ни в чем не бывало. Да и все рабы тоже.
Наконец Пожиратель Крови подошел к нам с Коцатлем (мы сидели спиной к едокам), утер рот мозолистой рукой и сказал:
– Мы, конечно, могли бы обратить этих миштеков в рабство, но тогда нам пришлось бы постоянно следить за пленниками, опасаясь их коварства. По-моему, они не стоят таких хлопот.
– Тогда убей их, и делу конец. Они и так уже больше похожи на мертвецов.
– Не-е-т, – задумчиво протянул Пожиратель Крови. – Я предлагаю их отпустить. У разбойников нет гонцов-скороходов, однако они каким-то своим способом ухитряются обмениваться сведениями о купеческих караванах и отрядах: рассказывают друг другу, кого можно безнаказанно ограбить, а с кем шутки плохи. Если мы отпустим этих четверых на свободу, они повсюду разнесут весть о нашей компании, и любая другая шайка как следует подумает, прежде чем решится на нас напасть.
– Это уж точно, – сказал я, восхитившись человеком, совсем недавно называвшим себя «старым мешком ветра и костей».
Именно так мы и поступили. Однако тья-нья не пустились немедленно бежать. И даже когда наш караван отправился дальше, они еще долго сидели, совершенно раздавленные и уничтоженные, там, где мы их бросили. У разбойников не осталось сил и воли даже для того, чтобы отбросить в сторону окровавленные, обглоданные черепа, которые уже облепили мухи.
Закат солнца застал нас посреди зеленой, приятной на вид, но совершенно необитаемой долины, где не было ни деревушки, ни постоялого двора, ни вообще какого-либо человеческого жилья. Пожиратель Крови не разрешал нам останавливаться, пока мы не подошли к речушке с чистой водой, а там показал, как разбить лагерь. Впервые с тех пор, как мы покинули столицу, нам пришлось добыть трением огонь и развести костер, на котором Девятый и Третий приготовили еду. Вытащив из торб одеяла, мы устроили себе постели и улеглись с не слишком приятным чувством, что вокруг нашей стоянки нет ни крыши, ни стен – одна лишь сплошная темнота, населенная ночными тварями, да и сами мы далеко не многочисленное, сильное войско, а всего-навсего горстка людей, ощущающих холодное дуновение бога Ночного Ветра.
Помню, когда ужин был закончен, я встал на самом краю круга света, отбрасываемого нашим костром, и устремил взгляд во мрак настолько непроницаемый, что даже человек с нормальным зрением не смог бы там ничего разглядеть. Луна в ту ночь не светила, а если на небе и проступали звезды, то для меня они были неразличимы.
То, что я испытывал тогда, сильно отличалось от ощущений во время того единственного военного похода, в котором мне довелось участвовать. Явившись сюда по собственной воле, я вдруг особенно остро ощутил свою оторванность от привычного мира, собственные слабость и уязвимость. Как будто так далеко меня завело вовсе не бесстрашие, но безрассудство.
В армии, на ночном привале, когда из темноты беспрерывно слышался шум, производимый множеством людей, я постоянно чувствовал себя частью некоего единого целого. Но в ту ночь за моей спиной в отблесках костра слышались лишь изредка роняемые слова и приглушенная возня: это рабы оттирали кухонные принадлежности, подбрасывали в костер сухие ветки и подкладывали листья под наши одеяла, да собаки дрались из-за объедков. Передо мною же была непроглядная тьма – без малейшего намека на какую-либо деятельность, на какое-либо вообще присутствие людей. Создавалось впечатление, будто я стою на самой грани обитаемого мира, за которую не ступала нога человека. Ночной ветер донес до меня из непроницаемого мрака, пожалуй, самый наполненный одиночеством звук на свете – далекое, едва различимое завывание койота, такое заунывное и тоскливое, словно он оплакивал невосполнимую утрату.
Мне очень редко, даже когда я оставался совсем один, доводилось чувствовать себя по-настоящему одиноким, но в ту ночь, когда я намеренно, чтобы испытать себя, стоял, повернувшись спиной к теплу, свету и людям, а лицом к непроглядному, равнодушному, пустому мраку, я ощутил полное, беспросветное одиночество.
Потом до меня донеслись наставления Пожирателя Крови:
– Ложись спать раздетым, как дома или на постоялом дворе. Ляжешь в одежде – самому же будет хуже: к утру замерзнешь, а укутаться будет не во что. Ты уж мне поверь.
– А что, если явится ягуар и нам придется от него удирать? – спросил Коцатль с лукавой улыбкой.
– Сынок, – невозмутимо отозвался Пожиратель Крови, – если явится ягуар, ты припустишь со всех ног, не заботясь о том, голый ты или одетый. Только от ягуара не убежишь. Будь уверен: таких вкусных, сочных мальчиков, как ты, ягуары уминают вместе с одеждой. – Тут, похоже, старый солдат заметил, как задрожала нижняя губа Коцатля, потому что, ухмыльнувшись, добавил: – Но не беспокойся. Ни одна кошка не подойдет близко к горящему костру, а я уж прослежу за тем, чтобы он не потух. – Старый воин вздохнул. – Это привычка, оставшаяся после многих походов. Едва огонь слабеет, я сразу просыпаюсь. Так что спите себе и ничего не бойтесь.
Я не испытал особых неудобств от того, что закутался всего в два одеяла, хотя под моей подстилкой на твердую холодную землю была набросана лишь какая-то чахлая поросль. Но ведь даже в своих роскошных дворцовых покоях я весь последний месяц спал на жестоком ложе Коцатля, уступив свою кровать выздоравливающему пареньку. Зато ему, успевшему привыкнуть за последнее время к мягкой, пышной постели, видимо, приходилось нелегко. Во всяком случае, если все прочие, устроившись вокруг костра, вскоре захрапели и засопели, мальчик долго беспокойно ворочался, пытаясь устроиться поудобнее, и тихонько поскуливал, ибо это ему никак не удавалось.
– Коцатль, – шепотом окликнул я его, – тащи сюда свои одеяла.
Обрадовавшись, мальчик бросился ко мне, и мы, объединив свои подстилки, соорудили ложе потолще и помягче. Правда, пока мы оба нагишом возились с постелью, наши тела пробрало ночным холодом, так что нам не оставалось ничего другого, кроме как поскорее нырнуть под одеяла, как в гнездышко, и прижаться друг к другу, чтобы согреться. Мало-помалу наша дрожь улеглась, и Коцатль, пробормотав «спасибо, Микстли», вскоре задышал ровно и мягко.
Мальчик-то заснул, а вот у меня сон напрочь пропал. Согревая мое тело, Коцатль разогрел и мое воображение. В военном походе мне приходилось ночевать бок о бок с другими воинами, но это было совсем другое. Причем совершенно не похожее на ощущение, которое я испытал с женщиной в ночь воинского пира. Нет, более всего это напоминало то, что я переживал со своей сестрой в ту пору, когда мы еще только исследовали и познавали друг друга, когда сама Тцитци своим полудетским телом еще напоминала этого мальчика. Ощущение оказалось столь сильным, что мой тепули, находившийся как раз между моим животом и ягодицами мальчика, зашевелился и начал затвердевать. Я строго напомнил себе, что Коцатль – ребенок вдвое меня моложе. Однако руки мои, похоже, тоже вспомнили Тцитци и, словно сами по себе, стали обшаривать тело, по-детски угловатое, а потому так болезненно походившее на то, другое. Вдобавок и между ног у Коцатля вместо мужского члена находилась манящая впадина. Так и получилось, что в то время, как ягодицы мальчика уютно примостились на моем паху, мой тепули внедрился между складками того, что разительно напоминало закрытую тепили. Возбуждение мое достигло такой точки, что я уже не мог остановиться, хотя и очень надеялся, что смогу кончить, не разбудив Коцатля.
– Микстли? – недоумевающе прошептал спросонья мальчик.
Я остановился, нервно рассмеялся и прошептал:
– Наверное, мне следовало взять с собой рабыню.
Он покачал головой и, сонно пробормотав: «Ну, если я могу быть полезным тебе таким образом...», прижался ко мне вплотную.
Позднее, когда мы оба заснули, прильнув друг к другу, мне приснился волшебный сон о Тцитци: в ту ночь я проделал это дважды – во сне со своей сестрой и наяву с Коцатлем.
Я догадываюсь, почему брат Торибио так резко вскочил и вышел. Ему ведь пора на занятия по катехизису, не так ли?
Так вот, наутро я поневоле призадумался, уж не превратился ли я вдруг после всего случившегося в куилонтли и не будет ли меня теперь тянуть только к мальчикам. Однако это беспокойство продлилось недолго. На следующий вечер мы добрались до селения под названием Тланкуалпикан, где имелся непритязательный постоялый двор. Нас накормили и предоставили нам возможность помыться, но вот отдельная комната для ночлега оказалась только одна.
– Я переночую с рабами, – заявил Пожиратель Крови, – а вы с Коцатлем поделите эту комнатушку.
Лицо мое вспыхнуло: я догадался, что старый воин, должно быть, слышал в предыдущую ночь нашу возню, скрип веток под подстилкой или что-то в этом роде. Однако куачик, увидев мою физиономию, расхохотался:
– Значит, ты имел дело с мальчиком в первый раз, да? А теперь усомнился в своей мужской силе? – Он покачал седой головой и рассмеялся снова: – Позволь мне дать тебе совет, Микстли. Когда тебе действительно потребуется женщина, но ее поблизости не окажется, удовлетворяй свое желание любым доступным способом. Скажу по опыту: частенько жители селений, через которые пролегал путь нашего войска, прятали всех своих женщин поголовно, так что нам приходилось заменять их пленниками. – Его явно забавляло мое изумление. – Да не смотри ты на меня так, Микстли. Я знавал солдат, которые потихоньку совокуплялись с домашними ланями или собаками покрупнее. Один из моих бойцов рассказывал, что как-то раз в стране майя ему довелось позабавиться с пойманной в джунглях самкой тапира.
Я был сконфужен, но, видимо, почувствовал некоторое облегчение, ибо мой друг заключил:
– Радуйся, что у тебя есть маленький спутник, который нравится тебе и вдобавок любит тебя настолько, что не возражает против твоих забав. Будь уверен: едва тебе только встретится привлекательная женщина, ты мигом убедишься, что не превратился в куилонтли.
Это звучало обнадеживающе, но на всякий случай не мешало устроить проверку. Помывшись и пообедав на постоялом дворе, я принялся бродить по двум-трем улочкам Тланкуалпикана, пока не углядел в одном из окон женщину. Подойдя поближе, я увидел, что она улыбается мне. Хотя незнакомку трудно было назвать красавицей, но внешность она имела вовсе не отталкивающую. Пугающих признаков страшной болезни нанауа – сыпи на лице, выпадения волос, язвочек вокруг рта и всего прочего – я не заметил. Кожа в других местах, в чем я убедился очень скоро, тоже была здоровой.
Я специально захватил с собой дешевый кулончик с жадеитом, который ей и подарил. Женщина протянула мне руку, прося помочь ей выбраться из окна (муж этой шалуньи, пьяный, валялся в соседней комнате), и мы с ней на полную катушку насладились друг другом. Я при этом не только удостоверился, что по-прежнему способен желать и удовлетворять женщину, но и пришел к выводу, что искушенная и темпераментная женщина все же гораздо соблазнительнее любого мальчика.
После того случая нам с Коцатлем много раз доводилось заночевать в одной постели – и на бивуаках, там это было лучшим способом согреться; и на деревенских постоялых дворах, где не было лишних комнат, – но в плотские отношения с ним я вступал нечасто, лишь в тех случаях, о которых упоминал Пожиратель Крови. Сам Коцатль придумывал разнообразные способы доставлять мне большее удовольствие, вероятно, ему и самому надоедало быть пассивным участником. Но я не стану рассказывать об этом подробно, тем паче что со временем мы с ним и вовсе перестали заниматься подобными вещами, а вот верными друзьями оставались на протяжении всей его жизни, пока он однажды не решил положить ей конец.
Стоял сухой сезон: мягкие, теплые дни и свежие, прохладные ночи. Так что погода была самой подходящей для путешествия, хотя по мере того, как мы продвигались дальше на юг, ночи становились все теплее. Теперь мы уже спали на свежем воздухе, не укрываясь одеялами, а в полдень становилось настолько жарко, что мы, будь у нас такая возможность, с удовольствием маршировали бы нагишом.
Haш путь пролегал по чудесной местности. Порой мы просыпались на лугу, полном цветов, на лепестках которых еще поблескивала утренняя роса, так что казалось, будто все поле усеяно мерцающими драгоценностями. Иной раз цветы поражали своим разнообразием, но бывало и наоборот: огромное пространство занимали совершенно одинаковые, покачивавшиеся на высоченных стеблях желтые венчики, весь день поворачивавшиеся следом за солнцем.
Мы поднимались рано и покрывали к полудню большие расстояния, пересекая самую разнообразную местность. Нам случалось идти через лес настолько густой, что пышная листва не давала возможности расти подлеску: под пологом ветвей расстилался ковер из мягкой травы, словно бы посаженной заботливым садовником. Бывало, что мы брели по прохладным морям перистого папоротника или, не видя друг друга, пробирались сквозь заросли зеленого тростника, а то и серебристой травы выше человеческого роста. Иногда мы взбирались на гору, откуда открывался вид на другие вершины: с близкого расстояния они выглядели зелеными, а издали казались утопающими в сизо-голубой дымке.
Того, кто шел во главе колонны, порой поражали неожиданные проявления таившейся вокруг жизни. То из-под ног выскакивал и пускался наутек затаившийся под корягой кролик, то, с шумом хлопая крыльями, взмывал в воздух фазан, а то выпархивал целый выводок перепелов или голубей. Не раз и не два с нашей дороги убегала голенастая птица-скороход, неуклюже уползал броненосец или ускользала прыткая ящерица. Правда, чем дальше мы продвигались на юг, тем чаще вместо обычных ящериц нам попадались игуаны – огромные, длиной чуть ли не в рост Коцатля, покрытые бородавками, с гребнем вдоль хребта, окрашенные в самые яркие цвета: красный, зеленый и пурпурный.
Почти все время над нашими головами бесшумно описывал круги ястреб, терпеливо высматривавший добычу – тех самых мелких птичек или зверушек, которые выскакивали из-под наших ног, или реял стервятник, дожидавшийся возможности поживиться отбросами человеческой пищи. Лесные белки-летяги планировали с ветки на ветку: казалось, они способны парить, как ястребы, но в отличие от последних сердито цокали. И в лесу, и на лугах – повсюду вокруг нас порхали, а порой и зависали рядом в воздухе яркие длиннохвостые попугаи и похожие на самоцветы колибри, мохнатые черные пчелы и множество бабочек самых причудливых расцветок.
Аййо, сочные краски лета были повсюду, особенно же яркими и насыщенными становились они под полуденным солнцем: в эту пору леса и поля уподоблялись открытым сундукам со сверкающими драгоценностями, самоцветами и теми металлами, которые в равной степени ценят и люди, и боги. Солнце вспыхивало в бирюзовом небе подобно круглому щиту из чеканного золота, и его лучи превращали обычные булыжники и гальку в топазы, гиацинты или опалы, которые у нас называют огненными камнями, в серебро и аметисты, в зеркальный камень тецкатль, в жемчуг (он хоть и похож на камень, но на самом деле представляет собой сердцевину раковины) или в янтарь, который также является вовсе не камнем, а застывшей древесной смолой. Зелень деревьев вокруг нас преображалась в изумруды, нефриты и жадеит. И поэтому, проходя через лес, где солнечный свет пробивался сквозь изумрудную листву, мы невольно ступали бережно и осторожно, чтобы не повредить драгоценные золотистые диски, тарелки и блюдца.
С наступлением сумерек цвета постепенно утрачивали яркость. Жаркие краски остывали и тускнели: даже пурпур и бронза становились сперва голубыми, а потом и серыми. Одновременно из низин и оврагов начинал подниматься белесый туман, уплотнявшийся вокруг до тех пор, пока его отдельные клубы не сливались в клочковатое, окутывавшее нас со всех сторон одеяло. Летучие мыши и ночные птицы начинали метаться вокруг, хватая на лету невидимых насекомых и непостижимым образом ухитряясь не сталкиваться ни с нами, ни с ветвями деревьев, ни друг с другом. И даже когда наступала полная темнота, мы все равно продолжали ощущать красоту местности, хоть и не могли ее видеть. Каждый вечер мы ложились спать, вдыхая головокружительные ароматы белых, словно луна, цветов, раскрывавших свои лепестки и испускавших нежное благоухание только по ночам.
Если конец дневного перехода совпадал с нашим прибытием в какое-нибудь поселение тья-нья, мы проводили ночь под крышей и в четырех стенах. Причем в населенных пунктах побольше стены эти, как правило, были бревенчатыми или сложенными из необожженного кирпича, тогда как в мелких деревушках нам приходилось довольствоваться тростниковыми хижинами с соломенной кровлей. За плату всегда можно было раздобыть приличные продукты (изредка даже какие-нибудь местные деликатесы) и нанять женщин, чтобы самим не утруждаться готовкой. Удавалось разжиться и горячей водой, а иногда и попариться в чьей-нибудь домашней парной. В достаточно больших поселениях мы с Пожирателем Крови за пустяковую плату получали по женщине, а иногда обеспечивали рабыней и наших людей (те пользовались ею по очереди).
Но довольно часто ночная тьма заставала нас в безлюдной местности, вдалеке от населенных пунктов. Хотя все мы к тому времени уже привыкли спать на земле и перестали бояться окружающей неприглядной пустоты, в таких ночевках все равно было мало радости. Наш ужин, случалось, состоял из одних бобов и атоли, а пили мы одну только воду, но это была ерунда по сравнению с невозможностью как следует помыться. Приходилось ложиться спать, покрытым коростой грязи и пота, да еще всю ночь чесаться из-за укусов насекомых. Хорошо еще, изредка удавалось остановиться на ночлег рядом с речкой или прудом и худо-бедно ополоснуться хотя бы в холодной воде. Ну а наши дорожные трапезы порой разнообразило мясо вепря или иного дикого зверя, добытого, понятное дело, Пожирателем Крови.
Потом и Коцатль, проявлявший большой интерес к луку и стрелам старого солдата, принялся мимоходом постреливать в придорожные деревья и кактусы, пока не наловчился стрелять довольно метко. Правда, пуская по-мальчишески стрелы во все, что движется, он по большей части сшибал всякую мелочь – скажем, фазана или земляную белку, – которой всю компанию, конечно же, было не накормить. А как-то раз Коцатль заставил всех нас разбежаться, подстрелив коричневого в белую полоску скунса: можете себе представить, во что это вылилось. Но однажды, идя впереди колонны, мальчик поднял с дневного лежбища оленя, всадил в него стрелу и преследовал, пока тот не зашатался и не упал. Когда мы догнали Коцатля, охотник неуклюже свежевал добычу своим маленьким кремневым ножом, но тут Пожиратель Крови сказал:
– Не утруждайся, сынок. Оставь эту тушу стервятникам да койотам. Видишь, ты угодил ему прямо в кишки и их содержимое вылилось внутрь. Мясо будет пахнуть дерьмом. – Коцатль страшно расстроился, однако наставления старого ворчуна выслушал внимательно. – На кого бы ты ни охотился, целься вот сюда или сюда – в сердце или в легкие. И животному не придется мучиться зря, и нам достанется съедобное мясо.
Урок этот мальчик усвоил и в скором времени добыл нам; на обед самку оленя. Ее он подстрелил уже по всем правилам.
На каждом вечернем привале, будь то в деревушке или посреди пустынной местности, я предоставлял Пожирателю Крови, Коцатлю и рабам разбивать лагерь или обустраивать нашу стоянку, а сам же, достав краски и бумагу, принимался по свежим впечатлениям чертить карты и составлять подробный, со множеством деталей отчет о пройденном маршруте, отмечая все мало-мальски заслуживающее упоминания. Если мне не удавалось закончить эту работу до наступления темноты, я обычно продолжал ее с утра, пока остальные сворачивали лагерь. Мне хотелось записать все как можно скорее, пока не поблекли воспоминания, однако, так или иначе, это было хорошей тренировкой памяти. Возможно, именно потому, что я столь основательно упражнял ее в молодые годы, я и теперь, на склоне лет, так хорошо помню многие события своей жизни... включая и такие, которые предпочел бы забыть.
В то путешествие, как и в последующие, я с интересом знакомился с новыми словами и понятиями. Как я упоминал, к тому времени мой родной науатлъ уже стал распространяться повсюду, так что почти в каждой, даже самой захолустной деревеньке можно было найти человека, говорившего на нем вполне сносно. Большинство странствующих купцов удовлетворялись тем, что находили такого переводчика и обо всех сделках договаривались через него. Одному и тому же торговцу доводилось бывать в землях самых разных племен, говоривших на разных языках, но, поскольку практической надобности осваивать все эти языки у него не возникало, мало кто утруждал себя изучением хотя бы одного незнакомого наречия.
Меня же всегда интересовали новые языки, и я, по-видимому, обладал способностью усваивать их без особого труда. Возможно, этому способствовало то, что мне с детства пришлось иметь дело с разными диалектами науатлъ, которые были в ходу на Шалтокане, в Тескоко, Теночтитлане и, пусть там я пробыл совсем недолго, в Тлашкале. Двенадцать рабов нашего каравана, которые говорили на своих родных языках, а кое-как объясняться на науатлъ научились, уже попав в неволю, стали для меня источником новых знаний. Указывая по дороге на какой-либо предмет, я запоминал его название и добавлял еще одно чужеземное слово к уже мне известным.
Не стану уверять, будто я научился бегло говорить на языках всех племен, с которыми встречался во время этого своего и последующих путешествий. Однако наречия миштеков, сапотеков, чиапа и майя мне удалось освоить по крайней мере настолько, что я мог более-менее сносно объясняться. Это сослужило мне добрую службу, ибо позволяло познакомиться с местными обычаями и следовать им, что, в свою очередь, способствовало достижению большего взаимопонимания с местными жителями, а значит, и успеху торговых переговоров. Заключать выгодные сделки мне было легче, чем обычному «глухонемому» торговцу, вынужденному договариваться через толмача.
Приведу один пример. Как-то раз, едва мы перевалили через очередной невысокий кряж, Четвертый начал выказывать радостное возбуждение. Я поговорил с рабом на его родном языке, и тот объяснил, что совсем неподалеку, как раз по пути, находится его родное селение Иночикстлан. Некогда он покинул родительский дом, чтобы попытать счастья в большом мире, но попал в руки разбойников, которые продали его знатному чалька. Он несколько раз переходил от хозяина к хозяину, был включен в состав партии рабов, переданной Союзу Трех в качестве уплаты дани, и в конце концов оказался на помосте невольничьего рынка, где его и нашел Пожиратель Крови.
Разумеется, чуть позже я узнал бы все это и не понимая языка раба, ибо, как только мы прибыли в Иночикстлан, навстречу Четвертому бросились его отец, мать и два брата, со слезами и радостными возгласами приветствовавшие давно пропавшего родственника. Они и сельский текутли (точнее, чагула, как называли мелкого вождя в здешних краях) стали просить разрешения выкупить у меня этого человека. Выразив полное понимание и сочувствие, я, однако, не преминул заметить, что Четвертый – самый рослый из носильщиков нашего отряда, единственный, кто способен в одиночку нести на плечах мешок с необработанным обсидианом. В ответ чагула предложил купить у меня не только раба, но и обсидиан, поскольку в здешних краях этот ценный материал не добывали. Зато жители этой деревни изготовляли превосходные шали, которые вождь и предложил мне в уплату.
Шали оказались и впрямь великолепны, но мне пришлось объяснить селянам, что мы проделали лишь треть пути до конечной цели моего путешествия, так что я пока не стремлюсь приобретать товары, ибо не собираюсь таскать их с собой весь путь туда и обратно. Честно говоря, я уже готов был уступить, ибо настроился отдать Четвертого семье, однако, к моему удивлению, мать и отец носильщика встали на мою сторону.
– Чагула, – почтительно обратились они к своему вождю, – посмотри на этого молодого купца. У него доброе лицо, он нам сочувствует и уж конечно сам заплатил немалую цену за такого замечательного работника, как наш сын. Теперь он – его законная собственность, но неужели ты пожалеешь средств на святое дело освобождения своего соплеменника?
Я не вмешивался, да этого и не требовалось: горластые родственники Четвертого повернули дело так, что, дабы не выглядеть скупым, жестоким и равнодушным к судьбе соотечественника, их чагула вынужден был запустить руку в сельскую казну. Так что в результате за раба и мешок обсидиана он отсыпал мне бобов какао и маленьких медных слитков, нести которые было удобнее и легче, чем необработанный камень. Я получил за него хорошую цену, а за раба выручил вдвое больше, чем за него заплатил! Когда обмен был произведен и Четвертый снова стал свободным жителем Иночикстлана, в селении на радостях решили устроить праздник, на котором мы стали желанными гостями. Естественно, что и едой, и шоколадом, и октли нас угощали бесплатно.
Местные жители еще продолжали праздновать, когда мы отправились в отведенные нам хижины. Раздеваясь перед сном, Пожиратель Крови рыгнул и сказал:
– Я всегда не только считал ниже своего достоинства учить чужие наречия, но и вовсе не признавал ни одно из них человеческим языком. Честно скажу, мне казалось, что ты, Микстли, попусту тратишь время, стараясь освоить эту варварскую тарабарщину. Но теперь я должен признать... – Он снова сильно рыгнул и заснул.
Возможно, сеньор Молина, вам как переводчику будет интересно узнать, что, выучив науатлъ, вы еще не освоили всех местных языков. Я вовсе не хочу с пренебрежением отнестись к вашим достижениям – для иностранца вы говорите на науатлъ превосходно, – однако позвольте заметить, что другие здешние наречия гораздо сложнее.
Например, вам должно быть известно, что ударение в науатлъ, как, если не ошибаюсь, и в вашем испанском языке, почти всегда делается на предпоследнем слоге. Возможно, именно это сходство и помогло мне освоить испанский, хотя во всех прочих отношениях он не имеет с науатлъ ничего общего.
Пуремпече, наши ближайшие соседи, делают ударение на третьем слоге от конца: наверняка вы слышали такие названия, как Патцкуаро, Керетаро и тому подобные. Язык отоми, который распространен к северу отсюда, еще более путаный, ибо в их словах ударение может ставиться где угодно. По правде говоря, из всех известных мне языков, включая и ваш, испанский, отомите кажется мне самым трудным для изучения. Посудите сами: у них есть отдельные слова для обозначения мужского смеха и женского смеха.
Меня и раньше называли по-разному, однако когда я начал путешествовать, имен стало еще больше. И неудивительно: ведь слова Темная Туча на разных языках звучат по-разному. Народ сапотеков, например, произносит их как Цаа Найацу, и одна девушка, даже после того как выучилась от меня беглому науатлъ, все равно продолжала называть меня Цаа. Конечно, ей ничего не стоило сказать Микстли, но Цаа звучало так ласково, так нежно, что это имя я предпочитал любому другому из всех, какими мне довелось называться.
Но об этом я расскажу в свое время.
Я вижу, брат Гаспар, что вы делаете дополнительные пометки, старясь обозначить ударения в словах Цаа Найацу. Да, они произносятся как при пении: звуки то поднимаются, то падают. Честно говоря, мне трудно представить себе, как это может быть передано средствами письма.
Язык сапотеков, несомненно, является самым музыкальным из всех наречий Сего Мира, точно так же как мужчины этого племени слывут самыми красивыми на свете, а женщины – самыми грациозными. Должен сказать, что сапотеками, от слова «сапотин» – так называются мармеладные сливы, щедро произрастающие в их краю, – этот народ называют соседи. Сами они именуют себя более подходяще для племени, обитающего в горах: Бен Цаа, или народ Туч.
Они называют свой язык лучи. Звуков в нем меньше, чем в науатлъ, и слова, в которые складываются эти звуки, короче, однако с помощью этих немногих звуков, в зависимости от того, как они произносятся, то есть от тона, передается огромное количество значений. Мелодичное звучание слов в этом языке очень важно для их понимания. Мелодия, ритм и тон настолько существенны, что некоторые несложные сообщения сапотеки способны передавать, всего лишь насвистывая или мурлыча соответствующую мелодию.
Мы догадались, что приближаемся к владениям народа Туч, заслышав с нависавшей над тропой скалы громкий свист. Вернее, это был даже не свист, а долгая переливчатая трель, издать какую смогла бы далеко не каждая птица. Спустя мгновение свист повторился уже где-то впереди нас, потом, чуть потише, еще дальше, и так звучал эхом, пока не стих в отдалении.
– Наблюдатели сапотеков, – пояснил Пожиратель Крови. – Если наши караульные перекрикиваются, они сообщают друг другу об увиденном свистом.
– А зачем тут понадобились наблюдатели? – поинтересовался я.
– Край, где мы сейчас находимся, Уаксьякак, издавна служит предметом раздоров между мешикатль, ольмеками и сапотеками. Все три народа постоянно совершают друг на друга опустошительные набеги, так что за приближением посторонних здесь внимательно следят. Сейчас переданное свистом сообщение наверняка уже достигло дворца в Цаачиле, и Чтимому Глашатаю доложили не только о том, что движется караван почтека из Мешико, но и сколько нас, чем мы вооружены, а может быть, даже какие по размеру и форме вьюки мы несем.
Возможно, кто-нибудь из ваших испанских солдат, быстро объезжая наши земли верхом на лошади, и сможет увидеть между деревнями, которые он минует, существенную разницу. Для нас же, путешествовавших пешком и передвигавшихся с невысокой скоростью, все они казались почти одинаковыми. Ну разве что южнее городка Куаунауак нам все чаще встречались люди, ходившие босиком, да, пожалуй, праздничные наряды племен отличались некоторым разнообразием. Но существенных отличий между поселениями мы не замечали. Внешний облик людей, их повседневная одежда и жилища – все это если и менялось, то незначительно, постепенно, так что результат становился заметен лишь по преодолении больших расстояний. Конечно, внимательный наблюдатель мог бы приметить, что в некоторых поселениях, особенно в маленьких, где люди варились в своем собственном соку из поколения в поколение, местному населению присущи некоторые характерные особенности. В одном месте народ более смуглый, в другом – преимущественно плотного сложения, и так далее... Но, как правило, люди, живущие по соседству, заключают смешанные браки и приобретают множество общих черт.
Повсюду мужчины работали в одних лишь белых набедренных повязках, а на досуге набрасывали на плечи белые же накидки. Везде женщины носили схожего покроя белые блузы, юбки и, скорее всего, одинаковое нижнее белье. Лишь на нарядной одежде белизну оживляли причудливой вышивкой, вот ее цвета и узоры действительно менялись от места к месту. Кроме того, знатные люди повсюду руководствовались личными вкусами, которые, понятно, не совпадали, так что их пышные головные уборы, мантии из перьев, кольца, серьги, браслеты на руках и ногах – все это имело индивидуальные особенности. Конечно, путешественники, особенно купцы, редко замечают такие детали, хотя человек, проживший всю жизнь в одном селении, наверняка узнал бы выходца из соседней деревни с первого взгляда.
Во всяком случае до тех пор, пока мы не вступили в землю под названием Уаксьякак, все вокруг казалось нам знакомым и привычным. Однако стоило нам услышать первые звуки удивительного языка лучи, как стало ясно: мы оказались во владениях народа, совершенно не похожего ни на один из тех, которые встречали раньше.
Первую свою ночь на земле Уаксьякак мы провели в деревушке под названием Тешитла, в которой на первый взгляд не было ничего особо примечательного. Хижины в основном такие же, как и везде на юге: со стенами из гибких жердей, связанных лозой, и соломенной кровлей. Купальни и парные, как и повсюду, где мы бывали в последнее время, сделаны из глины, да и купленная на ужин еда не отличалась от той, какую мы покупали в других деревнях.
Зато жители Тешитлы нас поразили: никогда прежде нам не доводилось видеть, чтобы в одном месте собралось столько красивых людей. К тому же даже их повседневная одежда выглядела праздничной благодаря ярким краскам.
– Надо же, какие красавцы! – воскликнул Коцатль.
Пожиратель Крови промолчал, потому что уже бывал в этих краях прежде. Опытный путешественник, наблюдая за нашими восторгами, испытывал удовлетворение собственника: можно было подумать, что это он сам каким-то образом населил Тешитлу такими красивыми людьми – специально для того, чтобы поразить нас с Коцатлем.
Как выяснилось позднее, когда мы прибыли в крупный город Цаачилу, Тешитла отнюдь не представляла собой исключения. В этом удивительном краю практически все люди были хороши собой, а сам образ их жизни казался столь же ярким, как и одежда. Пристрастие сапотеков к сочным краскам было вполне понятно, ибо именно в их стране изготавливали самые лучшие, самые изысканные красители Сего Мира. Кроме того, здесь в изобилии водились попугаи ара, туканы и прочие тропические птицы с великолепным оперением. Удивляло другое: почему сами сапотеки столь разительно отличаются от всех своих соседей? Проведя в Цаачиле пару дней, я спросил у одного тамошнего старика:
– Твой народ кажется мне превосходящим все прочие племена Сего Мира. Можешь ты рассказать, откуда вы такие взялись?
– Ты хочешь узнать, откуда взялся народ Туч? – повторил он, словно удивляясь моему невежеству. Этот старик свободно говорил на науатлъ, и его услугами постоянно пользовались приезжавшие в город почтека, именно с его помощью я выучил первые слова на лучи. Звали его Гигу Нашинья, что значит Красная Река, хотя обветренное лицо старика больше напоминало утес. – Вы, мешикатль, – заговорил он, – рассказываете, что якобы ваши предки явились в страну, которой вы владеете ныне, откуда-то с севера. Чиапа толкуют, будто их прапрадеды, наоборот, переселились с юга, Да и все прочие племена, кого ни послушай, оказываются на своих нынешних землях пришлыми. Все, кроме нас, Бен Цаа. Мы не случайно называем себя народом Туч. Мы и вправду; являемся облачным племенем, порожденным тучами и туманами, деревьями и скалами этой страны. Мы не пришли; сюда. Мы всегда жили здесь. Скажи мне, молодой человек, доводилось ли тебе видеть и нюхать цветок сердца? Я сказал, что нет.
– Еще увидишь. У нас его выращивают в каждом дворе. Цветок этот называют так потому, что его нераскрывшийся бутон имеет форму человеческого сердца. Хозяйка срывает только один цветок за раз, и этот единственный цветок, распустившись, наполняет ароматом весь дом. Это удивительное растение первоначально было диким и встречалось только в горах Уаксьякака. Как и мы сами, Бен Цаа, сей цветок появился на свет именно здесь, и подобно нам он до сих пор цветет по-прежнему. На цветок сердца приятно смотреть, его аромат приятно вдыхать, и так было всегда. Народ Бен Цаа крепок и полон сил, так повелось испокон века.
– И еще вы необыкновенно красивы, – заметил я.
– Да, столь же красивы, сколь и жизнерадостны, – согласился старик без ложной скромности. – Народ Туч сохраняет свою красоту, сберегая собственную чистоту. Мы не допускаем ни малейшего загрязнения нашей крови и безжалостно отсекаем все пораженное заразой.
– Как это? – не понял я.
– Если ребенок рождается больным, уродливым или выказывает отчетливые признаки слабоумия, мы не позволяем ему вырасти. Младенцу отказывают в материнском молоке, он слабеет и в положенное богами время умирает. Избавляемся мы и от стариков, чье тело изуродовано годами, или от неспособных позаботиться о себе, когда их разум приходит в упадок. Правда, устранение стариков происходит в основном по доброй воле и во имя процветания всего народа. Я сам, например, когда почувствую, что энергия моих чувств станет убывать, попрощаюсь с близкими и навсегда уйду в Священный Дом.
– По-моему, это уж слишком, – пробормотал я.
– Скажи, а не кажется ли тебе излишеством обычай выпалывать сорняки и обрезать в саду сухие безжизненные ветви?
– Ну...
– Ты восхищаешься результатом, но находишь предосудительными средства, – иронически усмехнулся мой собеседник. – Значит, тебе не нравится, что мы предпочитаем не плодить никчемные существа, а избавляться от них, дабы они не отягощали соплеменников. Ты считаешь ужасным, что мы позволяем неполноценным людям умирать? А скажи-ка мне, юный моралист, осуждаешь ли ты также и наш отказ плодить ублюдков?
– Ублюдков?
– В прошлом к нам неоднократно вторгались миштеки и ольмеки, а не так давно и мешикатль, не говоря уж о том, что на нашу территорию постоянно проникают представители различных мелких племен, однако мы никогда не смешивались ни с кем из них. Хотя чужеземцы посещают нашу страну и даже живут среди нас, мы никогда не допустим, чтобы их кровь разбавила нашу.
– По-моему, это вообще неосуществимо, – сказал я. – Человеческая природа такова, что невозможно добиться, чтобы между чужаками и вашими соплеменниками никогда не возникало плотских связей.
– Все мы люди, – согласился мой собеседник. – Случается, что наши мужчины делят ложе с иноземками, да и женщины наши не без греха. Даже среди народа Туч попадаются такие, которые попросту торгуют своим телом. Но любой наш соплеменник, принявший чужака в качестве мужа или жены, с этого момента перестает считаться принадлежащим к своему народу. Это одна причина того, что такие браки очень редки, но есть и другая. Сможешь сам догадаться?
Я отрицательно покачал головой.
– Вот ты путешествовал и видел другие народы. Теперь посмотри на наших мужчин. Посмотри на наших женщин. Скажи, разве могут они где-то за пределами наших земель найти себе достойную пару?
Я оставил этот вопрос без ответа, поскольку все и так было уже ясно.
Разумеется, мне не раз доводилось встречать подлинную красоту и среди представителей других народов. Моя грациозная сестра Тцитци была мешикатль, величественная госпожа Толлана принадлежала к племени текпанеков, а миловидный Коцатль – к аколхуа. С другой стороны, нельзя сказать, чтобы абсолютно все сапотеки поражали своим совершенством. Однако не приходилось отрицать, что лица и фигуры большинства представителей этого племени были настолько красивы, что все прочие народы по сравнению с ними казались плодом ранних, неудачных опытов богов по созданию человека.
Я сам, например, выделялся среди мешикатль на редкость высоким ростом и развитой мускулатурой, однако у сапотеков почти все мужчины были такими. Что же до женщин, то почти все они, будучи щедро одарены по части манящих выпуклостей и изгибов, обладали одновременно и стройностью ивы. А их лица – с безупречными носами, сочными, словно созданными для поцелуев губами и безупречной, почти прозрачной кожей – казались ликами оживших богинь.
И мужчины, и женщины держались с достоинством, двигались грациозно и изъяснялись на своем тягучем лучи нежными мелодичными голосами. Очаровательные детишки сапотеков отличались добронравием. Я даже отчасти радовался тому, что не могу взглянуть на себя со стороны и сравнить с местными жителями, поскольку все другие чужеземцы (в большинстве своем миштеки) выглядели рядом с ними если и не сущими уродами, то людьми не слишком привлекательными.
Впрочем, заверения толмача Красной Реки насчет того, что его народ якобы сам по себе возник из окутывающих горные вершины туч, такой же прекрасный и совершенный, как цветок сердца, я воспринял не без скептицизма. Мне никогда не доводилось слышать, чтобы какой-либо народ придумал себе столь недостоверную историю. Все племена на свете откуда-то пришли, а как же иначе? Однако, как следует присмотревшись, я и сам убедился в том, что сапотеки действительно всячески сторонятся чужеземцев, держатся по отношению к ним с высокомерным отчуждением и стараются сохранять чистоту крови и породы, ставя это превыше всего. Откуда бы ни взялся народ Туч, ныне эти люди явно считали себя избранными. И пожалуй, у них имелись к тому основания, ибо еще никогда в жизни мне не доводилось видеть, чтобы в одном месте собралось столько мужчин и женщин, достойных восхищения. Аййо, женщин, которых просто невозможно не возжелать!
По заведенному у нас порядку, ваше преосвященство, господин писец только что прочел мне самый конец предыдущей записи, чтобы напомнить, на чем мы остановились. Осмелюсь ли я предположить, что ваше преосвященство присоединится к нам сегодня, дабы послушать, как я восхищался красотой женщин народа Туч?
Нет?
Вы полагаете, что такой рассказ не будет для вас интересен или познавателен, вот как? Но позвольте все-таки сообщить вашему преосвященству одну удивительную вещь. Даже не знаю, как назвать то, что произошло со мной в тот раз. Возможно, это даже было своего рода извращение, только представьте: я не желал ни одной из тех женщин, которых мог получить в Цаачиле, именно потому, что мог их получить.
А ведь они были восхитительно соблазнительны и, несомненно, искусны в своем деле – Пожиратель Крови не вылезал из постели все то время, пока мы там находились, но меня отталкивала сама доступность этих женщин. Мне хотелось добиться не продажной любви, а подлинной симпатии одной из красавиц народа Туч, которую не отпугнул бы чужак. Таким образом, то, что я мог получить, меня не манило, а то, что манило, было мне недоступно. В результате я так и не вступил ни с кем из них в близкие отношения и, следовательно, поделиться с вашим преосвященством своими интимными впечатлениями не могу.
Вместо этого позвольте рассказать вам о самой земле Уаксьякак. Страна эта представляет собой хаотическое нагромождение горных кряжей, хребтов и утесов, высящихся один над другим и наползающих друг на друга. Сапотеки, чувствовавшие себя в безопасности под защитой этих природных укреплений, редко решались выходить за их пределы и неохотно допускали кого-либо к себе. Соседи с давних времен прозвали их затворниками.
Однако юй-тлатоани Мотекусома Первый, вознамерившись расширить влияние Мешико дальше на юг, предпочел дипломатии силу. В начале того года, когда я родился, он вторгся в Уаксьякак и, перебив множество народу и учинив страшный разгром, захватил столицу сапотеков. Он потребовал беспрепятственного прохода через их земли для наших почтека и, конечно, обложил народ Туч данью в пользу Союза Трех. Однако, поскольку поддерживать постоянную связь с отдаленной и находящейся в горах страной было трудно, едва только Мотекусома со своей армией отбыл домой, оставив в Цаачиле гарнизон для сбора дани, сапотеки мигом подняли восстание, перебили чужеземцев и вернулись к прежнему образу жизни. Никакой дани мешикатль от них так и не дождались.
Казалось бы, восстание сапотеков должно было повлечь за собой новые, еще более опустошительные вторжения Мешико, ведь Мотекусому не напрасно прозвали Гневным Владыкой, однако этому помешали два обстоятельства. Во-первых, сапотекам хватило ума сдержать свое обещание и не препятствовать свободному посещению нашими купцами их земель, а во-вторых, Мотекусома умер в том же году, не успев наказать своевольный народ. Его преемник Ашаякатль прекрасно понимал, как сложно победить и удержать в покорности такую далекую страну, и потому армий туда больше не посылал. Естественно, что особой любви между двумя народами не было, однако они целых двадцать лет до моего первого путешествия да и еще несколько лет после жили мирно и торговали друг с другом.
Все основные религиозные церемонии у сапотеков проводились в Уаксьякаке, а самым любимым их городом считался древний Льиобаан, находящийся не так далеко к востоку от Цаачилы. Однажды старик Красная Река пригласил нас с Коцатлем совершить туда прогулку, в то время как Пожиратель Крови остался, чтобы провести время в ауйаникали, доме удовольствий. Слово «Льиобаан» обозначает Святой Дом, однако мешикатль прозвали его Миктлан, поскольку многие из побывавших там моих соотечественников верили, что именно в этом городе находится вход в темный и мрачный загробный мир.
Сам город очень красив и для такого древнего поселения находится в прекрасном состоянии. В нем множество храмов, состоящих из многочисленных помещений. Кстати, именно там я видел самый большой в своей жизни зал, крышу которого при этом не поддерживал целый лес колонн. Стены всех храмов как внутри,– так и снаружи были украшены замысловатыми переплетающимися узорами, глубоко высеченными в камне и выложенными мозаикой из белого известняка. Вряд ли стоит объяснять вашему преосвященству, что многочисленные храмы Святого Дома являлись свидетельством поклонения народа Туч (в этом он не отличался от мешикатль, да и от вас, христиан, тоже) целому сонму божеств. Среди них были богиня девственности Беу, бог-ягуар Бизйо, богиня рассвета Тангу Йу и неведомо сколько еще всевозможных покровителей. Но в отличие от нас, мешикатль, народ Туч подобно христианам верил, что все эти божества подчиняются одному Верховному Владыке, который сотворил весь мир и теперь им управляет. Как ваши ангелы, святые и не помню кто там у вас еще есть, эти второстепенные боги сапотеков не могли бы не только творить чудеса и откликаться на молитвы, но и вообще существовать, не будь на то воли Единого Творца. Сапотеки называли его Уицйе Тао, Всемогущее Дыхание.
Строгие величественные храмы составляли лишь верхний уровень Льиобаана и были воздвигнуты над зевами природных пещер, над лабиринтом подземных туннелей, невесть сколько веков служивших сапотекам излюбленным местом захоронений. Тела умерших представителей знати, высших жрецов и прославленных воинов всегда доставляли в этот город, чтобы с соблюдением надлежащих обрядов захоронить в богато украшенных и обставленных помещениях непосредственно под святилищами. Ниже находились места для погребения простонародья, конца же этим катакомбам, по словам Красной Реки, не ведал никто. Они уходили под землю на бесконечные долгие прогоны, пересекаясь и выводя к подземным залам, где с потолков свисали каменные фестоны, из пола вырастали каменные пьедесталы, а стены украшали каменные же, природного происхождения, занавеси и драпировки – то прекрасные, словно застывшие водопады, то пугающие, подобно воображаемым вратам Миктлана на росписях и рельефах мешикатль.
– В Святой Дом доставляют не только мертвых, – заявил старик. – Помнишь, я говорил тебе, что, когда почувствую, будто жизнь моя потеряла смысл, сам приду сюда, чтобы навсегда исчезнуть.
По его словам выходило, что любой сапотек, мужчина или женщина, знатный или простолюдин, больной, увечный, отягощенный страданием или печалью, а то и просто уставший от жизни, мог заявить жрецам Льиобаана о своем желании быть погребенным заживо. Такого человека, вручив ему только факел из сосновой щепы, впускали в одну из пещер и закрывали за ним вход. Несчастный блуждал по катакомбам, пока не гас его факел или пока он сам не лишался сил. Иногда даже по воле случая он попадал в одну из каверн, где покоился кто-то из его предков. Там он останавливался и спокойно ждал, когда дух покинет уже подготовившееся к кончине тело.
Меня несколько удивляло, что в Льиобаане святыни не возносились к небу на высоких пирамидах, а строились прямо на земле. Когда я поинтересовался, почему сапотеки так делают, старик пояснил:
– Древние возводили здания на прочной основе, чтобы они могли выдерживать цьюйю.
Этого слова я раньше не слышал, но уже в следующий миг мы с Коцатлем познали его значение на себе. Создавалось впечатление, будто старик специально пробудил явление к жизни, чтобы объяснить слово.
– Тлалолини, – пробормотал Коцатль. Голос его дрожал, как, впрочем, тряслось и все вокруг нас.
– А надо вам сказать, что на языке науатлъ это природное явление называется тлалолини, сапотеки именуют его цьюйю, а испанцы землетрясением. Дома, на Шалтокане, я тоже сталкивался с этим проявлением стихии, но там оно ощущалось скорее как легкая качка: говорили, что таким образом наш остров устраивается поудобнее на неровном дне озера. Святой же Дом швыряло из стороны в сторону, словно гора была утлым суденышком, пляшущим на волнах. Как и на озере в сильную качку, меня замутило. С угла одного из ближайших зданий свалились и покатились по земле несколько камней.
– Древние строили прочно, – промолвил Красная Река, указывая на них, – но в нашей стране редкая неделя обходится без землетрясения, слабого или сильного. Поэтому мы предпочитаем не возводить высокие строения. Хижина из жердей под соломенной крышей будет трястись вместе с землей, а если и развалится, то вряд ли погребет под обломками хозяев. К тому же ее ничего не стоит выстроить заново.
Я лишь кивнул, ибо мне было так тошно, что я боялся открывать рот. Старик понимающе ухмыльнулся.
– Это подействовало на твой живот, да? Ручаюсь, что землетрясение повлияло и на другой твой орган.
Так оно и было. Мой тепули по непонятной причине возбудился и напрягся так, что мне стало больно.
– Никто не знает, в чем тут дело, – сказал Красная Река, – но цьюйю оказывает подобное влияние на всех животных, а на людей – в особенности. Бывает, что мужчины и женщины возбуждаются настолько, что, не в силах сдержаться, начинают совокупляться прилюдно. Сильная дрожь земли даже маленьких мальчиков доводит до извержения семени, а девочки, никогда не знавшие мужчины, к полному своему изумлению, испытывают те же ощущения, какие бывают при соитии у взрослых женщин. Порой задолго до того, как почва приходит в движение, собаки и койоты начинают скулить или выть, а птицы встревоженно срываются с гнезд и мечутся в воздухе. По поведению животных мы научились определять, когда следует ждать по-настоящему опасного землетрясения. Добытчики камня покидают карьеры и перебираются в безопасные мест а, знать выходит из каменных дворцов под открытое небо, жрецы оставляют свои храмы. Впрочем, даже несмотря на предупреждения, по-настоящему сильные толчки все равно влекут за собой жертвы и разрушения.
С другой стороны, нельзя не признать, что цьюйю дает больше жизней, чем отнимает. По истечении трех четвертей года после любой серьезной встряски всего за несколько дней рождается великое множество детишек.
Поскольку мой член так и норовил выскочить из набедренной повязки, я сразу принял эти слова на веру и позавидовал Пожирателю Крови, который вытворял в тот день такое, что навсегда оставил по себе память в том ауйаникали. Окажись я во время землетрясения на людной городской улице, я, возможно, поставил бы под угрозу мир между нашими народами, набросившись на первую попавшуюся женщину.
Да, понимаю, это не то, о чем стоит распространяться. Однако, мне кажется, я мог бы высказать вашему преосвященству свои соображения по поводу того, почему у животных сотрясение земли вызывает лишь страх, а у людей еще и пробуждает вожделение.
Когда наш отряд, в самом начале того долгого путешествия, впервые разбил лагерь под открытым небом, я ощутил на себе пугающее воздействие тьмы и пустоты, а потом на меня накатила тяга к соитию. Точно так же все мы – и разумные существа, и низшие животные, – сталкиваясь с чем-то неведомым и неподвластным нам, естественно, испытываем страх. Но низшие существа при этом не задумываются о смерти, ибо просто-напросто не понимают, во всяком случае в той же степени, что и мы, что это такое. Другое дело – люди. Мужчина может стойко встретить достойную смерть на поле боя или на жертвенном алтаре. Женщина может не менее достойно рискнуть жизнью при рождении ребенка. Но мы не способны отважно встретить смерть, приходящую равнодушно, словно чьи-то пальцы просто гасят фитиль лампы.
Больше всего мы страшимся бессмысленной, случайной гибели, и в тот миг, когда к нам подступает страх смерти, в нас непроизвольно пробуждается потребность в том, что способствует зарождению жизни. Что-то в недрах нашего сознания вопиет: «Ауилема! Совокупись! Пусть это не спасет твою жизнь, но может быть, поможет заронить в этот мир другую!» И потому тепули мужчин возбуждаются, а тепили женщин раскрываются и начинают сочиться влагой...
Впрочем, это всего лишь мое собственное предположение. Однако у вас, ваше преосвященство, и у вас, почтенные братья, еще будет возможность его подтвердить или опровергнуть. Этот остров, на котором стоит город Теночтитлан-Мехико, расположен на еще менее устойчивом, чем Шалтокан, илистом донном ложе, и его то и дело сотрясают толчки, порой очень сильные. Рано или поздно вы и сами ощутите конвульсивное сотрясение земли, вот тогда и посмотрите, как откликнутся на него ваши сокровенные органы.
По правде сказать, для столь долгой задержки в Цаачиле и ее окрестностях у нас не было никакой веской причины. Нам просто хотелось отдохнуть в столь приятном месте, прежде чем снова пуститься в долгий и трудный путь. Пожиратель Крови, невзирая на седину, похоже, вознамерился не оставить без внимания ни одну из доступных местных красоток, я же ограничился осмотром достопримечательностей и даже не вел торговых переговоров. Последнее, однако, объяснялось просто: самого ценного местного товара, здешней изумительной краски, у сапотеков тогда на продажу не было.
Вы называете эту краску кошениль и, наверное, знаете, что ее получают из насекомых, именуемых ночетцтли. Эти насекомые в огромных количествах размножаются на плантациях нопали, особого вида кактусов, которыми они и питаются. Когда насекомые (это случается в определенное время года) достигают зрелости, их сметают с кактусов в мешки и умерщвляют, опуская в кипяток, подвешивая в парилке или запекая на солнце. Затем их трупы подсушивают, получается что-то вроде сморщенных семян, и продают на вес. В зависимости от того, каким из трех способов насекомые были убиты, они после измельчения дают три вида ярких красителей – гиацинтовый, пурпурный и светло-карминовый. Никаким другим способом такую красивую краску не получить. Так вот, как выяснилось, в тот год весь урожай насекомых был целиком закуплен купцом из Мешико, побывавшим здесь до меня. Это оказался мой знакомый, помните – тот самый, с которым мы разговорились еще в стране Шочимилько. Так что мне рассчитывать на краску уже не приходилось, ибо насекомых, как вы понимаете, торопить бесполезно.
Вспомнив, что этот торговец рассказывал мне про, на редкость стойкую, пурпурную краску, вроде бы как-то связанную с улитками и народом, именующим себя «бродягами», я стал расспрашивать об этом и Красную Реку, и его знакомых, в том числе и торговцев, но все они, похоже, просто не понимали, о каких таких улитках и «бродягах» речь. Так и вышло, что за время пребывания в Цаачиле я совершил всего одну торговую сделку, причем не из тех, какие в обычае у прижимистых почтека.
Старик Красная Река устроил мне аудиенцию у Коси Йюела, бишосу Цаа, то есть у Чтимого Глашатая народа Туч, и правитель этот любезно согласился показать гостю свой дворец, отличавшийся роскошным убранством. Больше всего меня заинтересовали две драгоценности: во-первых, Пела Ксила, супруга бишосу, она была из тех женщин, при одном взгляде на которых у любого мужчины текут слюнки. Но о том, чтобы заполучить эту красавицу, не приходилось и мечтать, так что тут мне пришлось ограничиться обрядом целования земли. Однако, увидев другую вещь – удивительной работы гобелен из перьев, – я твердо вознамерился его заполучить.
– Вообще-то он был изготовлен одним из твоих соотечественников, – заметил хозяин покоев, похоже, несколько раздосадованный тем, что я не свожу глаз с изделия мастера из Мешико, вместо того чтобы любоваться причудливыми драпировками тронного зала, которые приобрели свой замысловатый узор с помощью особого способа окраски. Их сначала завязывали узлами, потом красили и развязывали, после чего красили заново, и так повторялось несколько раз.
– Позволь мне высказать догадку, мой господин, – промолвил я, кивнув на гобелен. – Его изготовил путник по имени Чимальи.
Коси Йюела улыбнулся:
– Ты прав. Он пробыл в здешних краях некоторое время, делая наброски мозаик Льиобаана. Потом выяснилось, что художнику нечем платить за постой, и он предложил хозяину постоялого двора этот гобелен. Тот его взял, хотя и весьма неохотно, а потом пришел с жалобой ко мне. Я возместил ему убыток, оставив гобелен у себя. Полагаю, что художник еще может вернуться за своим творением.
– Не сомневаюсь, мой господин, – сказал я, – ибо мы с Чимальи знакомы с детства. А поскольку я, скорее всего, увижусь с ним раньше, чем ты, позволь мне погасить его долг и забрать гобелен себе.
– Это было бы весьма любезно с твоей стороны, – ответил бишосу. – Как по отношению к нам, так и к твоему другу.
– Ну, я только рад буду отблагодарить оказавшего мне гостеприимство Чтимого Глашатая. Что же до художника (тут я вспомнил, как в детстве вел перепуганного Чимальи домой с тыквой на голове), то мне не впервой выручать друга, когда у него возникают затруднения.
Должно быть, Чимальи неплохо проводил время на постоялом дворе, во всяком случае мне пришлось выложить немало медных пластинок. Правда, гобелен, несомненно, стоил в десять, если не в двадцать раз дороже. А нынче, наверное, цена его и вовсе невероятно возросла, ибо все наши изделия из перьев были уничтожены, а новых больше не создается. Мастера в большинстве своем погибли, а у немногих выживших отпало всякое желание творить красоту. Так что, возможно, вы, ваше преосвященство, никогда не видели и не увидите ни одной из этих переливающихся картин.
Такая работа была намного труднее и кропотливее живописи, ваяния или изготовления ювелирных изделий, да и времени на нее уходило гораздо больше. Сначала художник натягивал на деревянную раму тончайший хлопок и легчайшими мазками наносил на ткань общие очертания того, что намеревался изобразить. Потом все пространство заполнялось окрашенными перьями, причем одним только их мягким ворсом, поскольку стволы перьев предварительно удалялись. Многие тысячи перышек прикреплялись друг к другу с помощью раствора оли, куда их осторожно макали. Некоторые так называемые «художники» ленились и просто брали белые перья, которые потом раскрашивали в нужные цвета и подравнивали в соответствии со своим замыслом. Но истинный творец использовал только натурально окрашенные перья, тщательно отбирая из огромного многообразия нужные оттенки. Он никогда ничего не подравнивал, но изначально использовал перья разной формы, большие или маленькие, прямые или нет, в зависимости от того, что требовалось изобразить на картине. Я говорю «большие», но на подобных гобеленах редко попадалось перо больше лепестка фиалки, а самое маленькое бывало размером с человеческую ресницу. Художнику приходилось искать, сравнивать и тщательно отбирать перья из многочисленных запасов, а запасов этих обычно бывало столько, что они вполне могли заполнить всю комнату, где мы с вами сейчас находимся.
Я не знаю, почему на сей раз Чимальи отказался от красок, но он предпочел естественные цвета и с трудной задачей изображения уголка дикой природы справился блистательно. На залитой солнечным светом лесной полянке лежал, отдыхая среди цветов, бабочек и птиц, ягуар. Каждая птица на гобелене была сделана из ее собственных перьев, хотя на изображение одной сойки, например, наверняка ушли самые крохотные голубые перышки нескольких сотен настоящих соек. Зелень была не просто нагромождением зеленых перьев: были видны каждая отдельно взятая травинка и каждый листочек. Я насчитал свыше тридцати крохотных перышек, составлявших всего лишь одну маленькую коричнево-желтую бабочку. Подпись Чимальи была единственной частью картины, выполненной в одном цвете, без всяких оттенков – пурпурными перьями попугая ара, – а отпечаток ладони оказался на удивление миниатюрным, в два с лишним раза меньше настоящего.
Я отнес гобелен в свои комнаты, вручил его Коцатлю и велел оставить одну лишь пурпурную руку. Когда мальчик соскреб с холста все остальные перышки, я вывалил эту груду на кусок ткани, завязал ее узлом и отнес его обратно во дворец. Правитель на сей раз отсутствовал, но меня приняла его супруга. Я оставил ей этот набитый перьями сверток со словами:
– Моя госпожа, если художник Чимальи вернется раньше, чем я его встречу, будь добра, отдай ему этот узел в залог того, что и все остальные его долги будут оплачены мною таким же образом.
Единственный путь к югу из Цаачилы шел через горный хребет Семпуюла, и нам не оставалось ничего другого, как двинуться к перевалу. Если вам, ваше высокопреосвященство, не доводилось взбираться в горы, мне трудно объяснить, что такое высокогорная тропа. Никакие слова не способны передать ощущения, которые при этом испытывает путник: постоянное напряжение мускулов; изматывающая усталость; боль от множества царапин и ссадин; пыль и песок, липнущие к беспрерывно льющемуся поту; головокружение от высоты, от неутолимой жажды, вызванной палящим зноем, и от необходимости постоянно быть начеку. Сердце при этом то и дело замирает, ведь ноги постоянно скользят, и камни осыпаются чуть ли не на каждом шагу. Но вот наконец вершина позади, однако теперь путнику предстоит не менее долгий и опасный спуск. А за этой горой уже маячит следующая, на которую тоже придется карабкаться, и все начинается с начала.
Правда, в горах имелась всего одна-единственная тропа, так что мы, по крайней мере, не рисковали заблудиться. Однако не думаю, что даже ловкие сухопарые сапотеки, привыкшие жить среди гор, ходили там с удовольствием. Тропа эта была не слишком ровной и прочной, а местами и вовсе пролегала через завалы каменных обломков или россыпи гальки, перекатывавшейся под сандалиями и грозившей осыпаться в любое мгновение. Кое-где путь проходил через расщелины или овраги с разрушающимися стенами и множеством всяческих осколков на дне. Бывало, что подниматься нам приходилось по вырубленной в скале узенькой винтовой лестнице, на каждой ступеньке которой умещались лишь пальцы ног, так что идти приходилось на цыпочках. А иной раз мы двигались по наклонному уступу, тянувшемуся вдоль нависавшей с одной стороны отвесной скалы, которая, казалось, так и норовила столкнуть нас вниз.
Многие из этих гор были настолько высокими, что на них не росло ничего, кроме лишайника да угнездившихся в щелях ползучих сорняков. Здесь к тому же не имелось даже почвы, в которую деревья или хотя бы кусты могли пустить корни.
Эрозия настолько разъела эти вершины, что, бывало, мы карабкались по обнаженным ребрам земного скелета. На такой высоте нам не хватало воздуха, и мы жадно хватали его ртами, силясь набрать полную грудь.
Дни стояли еще теплые, слишком теплые для столь напряженного похода, зато ночи на такой высоте оказывались невероятно холодными, так что мы замерзали до самых костей. Разумеется, будь это возможно, мы предпочли бы двигаться ночами, согреваясь на ходу, под тяжестью своих тюков, а днем отдыхать, но, к сожалению, очень рискованно путешествовать в этих горах в темноте, можно запросто сломать ногу, а то и шею.
За все это время нам только дважды попадались поселения людей. Деревушку Шалопан населяло племя гуаве, отличавшееся угрюмым, неприветливым нравом. Они приняли нас без тени радушия и запросили за ночлег непомерную плату, однако пришлось согласиться. Еду предложили просто отвратительную: жирную похлебку из почек и сала опоссума, но, с другой стороны, это позволило сберечь наши собственные, неуклонно уменьшавшиеся запасы провизии. Вонючие хижины, куда нас разместили на ночлег, кишели паразитами, но, по крайней мере, защищали от пронизывавшего ночного ветра. В другой деревне, Неджапа, мы встретили гораздо более радушный прием: нас разместили со всеми удобствами, хорошо накормили да еще и дали в дорогу яиц. К сожалению, жили в этом селении чинантеки, подверженные, как я уже говорил, болезни, которую вы называете «пегой». Мы знали, что заразиться можно, только переспав с их недужными женщинами, а такого искушения ни у кого из нас не возникло, но одного лишь вида этих несчастных, покрытых синими пятнами и прыщами, было достаточно, чтобы почувствовать зуд.
Руководствуясь имевшейся у меня примитивной картой, мы старались, чтобы ночные привалы приходились на лощины между горами. Обычно нам удавалось найти там хотя бы тоненький ручеек и поросль мексиканского салата, болотной капусты или еще какой-нибудь съедобной зелени. Однако важнее было другое: в низине рабам не приходилось тратить полночи на то, чтобы добыть трением огонь, тогда как на высоте, где воздух разрежен, высечь искру, чтобы воспламенить трут и разжечь костер, было очень трудно. Однако поскольку никто из нас, кроме Пожирателя Крови, никогда не проходил этим путем раньше, а запомнить все бесконечные подъемы и спуски не мог и он, частенько случалось, что темнота заставала нас врасплох – на подъеме или на спуске со склона очередной горы.
В одну из таких ночей Пожиратель Крови заявил:
– Мне надоело трескать собачатину и бобы, к тому же, учтите, у нас осталось всего три собаки. Это страна ягуаров. Вот что, Микстли, мы с тобой сегодня не ляжем спать и попытаемся добыть одного.
Он рыскал по лесу вокруг нашего лагеря, пока не нашел трухлявую, пустую внутри деревяшку, от которой отломил кусок длиной примерно с предплечье. Подняв шкуру одной из маленьких собачонок, тушку которой Десятый в тот момент варил на костре, Пожиратель Крови натянул эту шкуру над одним концом полого полена, обвязав ее бечевкой, словно делал примитивный барабан. Затем старый воин проткнул в натянутой собачьей шкуре дыру, через которую пропустил длинную тонкую полоску сыромятной кожи и покрепче завязал, чтобы она не проскользнула сквозь шкуру. Теперь эта кожаная струна оказалась внутри барабана, куда Пожиратель Крови и запустил с другого, открытого конца свою ручищу. Он начал водить мозолистым пальцем вверх-вниз по полоске кожи, а собачья шкура усиливала скрежещущий звук, делая его похожим на ворчание ягуара.
– Если поблизости есть хоть один огромный кот, – сказал старый солдат, – природное любопытство приведет его к нашему костру. Но он подберется осторожно, с подветренной стороны, и будет наблюдать издалека. Поэтому мы сами направимся ему навстречу, найдем в лесу укромное место и устроим засаду. Ты, Микстли будешь извлекать пальцами звуки из этого чурбана, а я спрячусь на расстоянии надежного броска копья. Дымок от костра, приносимый ветром, не позволит ягуару почувствовать наш запах, а твоя музыка возбудит в нем любопытство, которое и заставит зверя выйти прямо на нас.
Мне не особенно хотелось стать приманкой для ягуара, однако я внимательно изучил манок Пожирателя Крови и научился изображать урчание, рык и короткие всхрапы ягуара. Поужинав, Коцатль и рабы завернулись в одеяла, а мы с Пожирателем Крови отправились на ночную охоту.
Когда костер превратился в далекий мерцающий огонек, но мы еще продолжали улавливать ноздрями слабый запах дыма, Пожиратель Крови указал на прогалину, за которой находилась пещера наподобие одного из входов в катакомбы Святого Дома. Он, пригибаясь к земле, скрылся из виду, а я, усевшись на валун, запустил руку в полость своего манка и принялся извлекать из него ворчание, урчание и рык.
Звуки настолько походили на те, что издает в действительности этот огромный кот, когда подкрадывается, что у меня, хоть я и знал, каково их происхождение, по коже забегали мурашки.
В голову невольно лезли всякие байки, слышанные от опытных охотников: будто бы ягуару нет нужды подкрадываться к своей жертве вплотную, потому что одно лишь его дыхание парализует ее и делает беспомощной даже на расстоянии. Уверяли, якобы охотнику необходимо иметь под рукой не меньше четырех стрел, ибо ягуар способен не только увернуться от выстрела, но и имеет обыкновение, дабы оскорбить стрелка, схватить его стрелу зубами и разжевать в щепки. Следовательно, охотник должен как можно быстрее выпустить четыре стрелы подряд, в надежде на то, что хоть одна из них попадет в цель. На пятую стрелу времени у человека уже не останется, ибо дыхание хищника лишит его воли.
Я попытался отвлечься от этих мыслей, разнообразя извлекаемые из манка звуки, и мне показалось, что все эти стоны, мурлыканье и урчание получаются у меня неплохо. После одного особенно удачного рыка я даже выпустил из руки струну, призадумавшись, не сделать ли из этого манка новый музыкальный инструмент для каких-нибудь церемоний, тем паче что у меня есть возможность прославиться в качестве единственного исполнителя.
Но этим мечтам положил конец донесшийся до моего слуха другой рык. Настоящий. Я похолодел от страха. В нос мне ударил своеобразный, отдающий мочой запах, и, несмотря на слабое зрение, я заметил, что позади и слева от меня во тьме скользит еще более темная, чем окружающая ночь, тень. Из тьмы вновь послышался рык – погромче и с вопросительной ноткой. Из последних сил я стал водить непослушным пальцем по струне, надеясь, что издаю приветственное урчание. А что мне еще оставалось?
Потом во мраке зажглись два холодных желтых огонька, а мою щеку неожиданно обдало резким ветром. Я уже было решил, что настал мой смертный час. Но в этот миг желтые огоньки погасли, а тьма огласилась истошным воем – такой могла бы издать женщина, чью грудь вскрыла на алтаре неловкая рука неопытного жреца. Оборвавшись, вой сменился бульканьем и хрипом; при этом вокруг стоял страшный треск: раненый ягуар явно ломал все окрестные кусты.
– Прости, что мне пришлось подпустить его так близко, – произнес совсем рядом со мной Пожиратель Крови. – Но чтобы наверняка поразить цель, мне нужно было видеть блеск глаз ягуара.
– Ты уверен, что это был ягуар? – спросил я, ибо в моих ушах все еще звучал этот ужасный, совершенно человеческий крик, и я боялся, что мы случайно убили бродившую в темноте женщину.
Но тут треск прекратился, и Пожиратель Крови торжествующе произнес:
– Прямо в легкое. Совсем недурно для броска наугад. – Потом, видимо склонившись над мертвым хищником, он пробормотал какое-то проклятие.
У меня просто упало сердце: наверняка сейчас Пожиратель Крови признается, что по ошибке пронзил копьем какую-нибудь несчастную, заблудившуюся в ночном лесу женщину, покрытую язвами и синими пятнами. Но вместо этого он сказал:
– Иди сюда, помоги мне оттащить зверя в лагерь.
Я так и сделал и пришел к выводу, что если это и была женщина, то весила она не меньше меня самого и имела задние лапы, как у кота.
Разумеется, страшный вой разбудил весь лагерь, и все выскочили из-под своих одеял. Мы с Пожирателем Крови положили добычу возле костра, и я наконец смог толком ее рассмотреть. То действительно был большой кот, но не пятнистый.
– Вот что значит долго не охотиться, – ворчливо промолвил старый вояка. – Видимо, я совсем разучился делать манки: вместо ягуара попался кугуар, горный лев.
– Какая разница! – Я, как и он, запыхался и говорил с трудом. – Мясо есть мясо, а из шкуры выйдет хороший плащ.
Понятное дело, в ту ночь никто в лагере больше не спал. Мы с Пожирателем Крови отдыхали и гордо задирали носы, наслаждаясь всеобщим восхищением: я не уставал нахваливать его отвагу и меткость, а он – мои терпение и выдержку. Тем временем рабы содрали с хищника шкуру и принялись разделывать тушу на небольшие куски, чтобы их можно было нести. Коцатль приготовил для всех сытную маисовую атоли, решив по случаю удачной охоты побаловать нас еще и лакомством. Достав яйца, которыми мы разжились в деревушке Неджапа, он проткнул скорлупу каждого из них прутиком, перемешал желток и белок и быстро разогрел яйца на горячих углях. Мы с удовольствием высосали сквозь дырочки вкусное теплое содержимое.
На следующих двух или трех ночных привалах мы лакомились довольно жилистым, но чрезвычайно вкусным кошачьим мясом. Пожиратель Крови отдал шкуру кугуара самому рослому и сильному рабу, Десятому, велев тому носить ее как накидку и постоянно мять руками. Все бы ничего, но мы не потрудились втереть в мездру шкуры толченую дубовую кору, и вскоре она начала так гадко вонять, что мы велели Десятому держаться от остальных на изрядном расстоянии. Кроме того, поскольку во время путешествия по горам нужны не только ноги, но и руки, Десятому не часто выпадала возможность по-настоящему мять шкуру. От солнца она заскорузла и задубела, так что бедняга мог бы с равным успехом носить на спине доску. Однако Пожиратель Крови не разрешал рабу избавиться от вонючей ноши, утверждая, что изготовит из нее щит, так что злосчастная шкура проделала с нами весь путь через горный хребет Семпуюла.
Я рад, господа писцы, что сеньор епископ Сумаррага не почтил нас сегодня своим присутствием, ибо намерен поведать об одном событии из числа тех, каковые его преосвященство считает низменными и греховными: он бы наверняка снова побагровел от негодования. По правде говоря, хотя с той ночи минуло уже сорок лет, мне, стоит лишь о ней вспомнить, сразу становится не по себе. Я, несомненно, умолчал бы об этом событии, не будь оно столь важным для правильного понимания множества иных, более существенных.
Когда наша колонна из четырнадцати человек наконец перевалила через последние отроги Семпуюлы, мы снова оказались на землях сапотеков, неподалеку от большого города, расположенного на берегу широкой реки. Теперь вы именуете его Вилья-де-Гвадалахар, но в те времена город, река и все земли вокруг него назывались на языке лучи Лайу Бицйу, Край Бога-Ягуара. Однако поскольку то был оживленный перекресток нескольких торговых путей, многие местные жители говорили также и на науатлъ. Поэтому у города было и второе название, данное ему путешественниками из Мешико, – Теуантепек, или просто Холм Ягуара. Уж не знаю, кому взбрело в голову назвать холмом широкую полноводную реку и прилегающую к ней плоскую равнину, но, похоже, кроме меня, никто не замечал этого несоответствия.
Город находился на расстоянии всего пяти долгих прогонов от того места, где река впадала в великий Южный океан, что, естественно, привлекало жившие по соседству племена. Туда переселялись цогуэ, нешито, реже – гуаве и даже некоторые миштеки. Улицы Теуантепека поражали разнообразием лиц, оттенков кожи, одежд, а также акцентов и наречий. Правда, преобладал там все же народ Туч, так что большинство встречных отличались той же красотой и грациозностью, что и в Цаачиле.
В день прибытия, когда наш маленький отряд устало, но бодро ковылял по натянутому над рекой канатному мосту, Пожиратель Крови осипшим от усталости и дорожной пыли голосом произнес:
– Там дальше, в Теуантепеке, есть превосходные постоялые дворы.
– Бог с ними, с превосходными, уже нет сил идти, – откликнулся я. – Мы остановимся на первом попавшемся.
И в результате, не послушавшись старого вояку, мы, измотанные, изголодавшиеся, оборванные, грязные и вонючие, как жрецы, действительно ввалились в дверь первой попавшейся гостиницы на самом берегу реки.
Казалось бы, мелочь, но именно эта мелочь положила начало длинной цепи событий, прошедших через все последующие дни и дороги моей жизни, связав мою судьбу с судьбой Цьяньи и судьбами многих других людей, в том числе и столкнув меня с человеком, который так навсегда и останется для меня безымянным.
Так послушайте же, братья, с чего все это началось.
Когда все мы, включая рабов, вымылись, побывали в парилке, ополоснулись снова и переоделись в чистое, нам подали еду. Рабы ужинали в сумерках снаружи, на заднем дворе, а мне, Коцатлю и Пожирателю Крови накрыли в освещенной факелами, устланной циновками внутренней комнате. Мы жадно поглощали свежие лакомства приморского города: сырых устриц, розовых вареных креветок и здоровенную запеченную красную рыбину.
Утолив первый голод, я обратил внимание на красоту прислуживавшей за столом женщины и сразу вспомнил, что истосковался не только по свежей вкусной еде. К тому же я приметил кое-что необычное. Содержатель постоялого двора, толстый коротышка с жирной кожей, был явно из переселенцев, а женщина, которой он отдавал отрывистые приказания, несомненно, принадлежала к Бен Цаа: высокая и гибкая, с кожей, светившейся словно янтарь, по красоте не уступавшая Пела Ксила, супруге правителя сапотеков. Я просто не мог себе представить, чтобы она была женой хозяина. И поскольку эта красавица вряд ли была рождена рабыней или продана в рабство в собственной стране, я предположил, что какое-то злосчастье вынудило ее наняться на работу к грубому трактирщику.
Годы на редкость снисходительны к женщинам народа Туч, так что определить на глаз возраст любой из них, а уж тем паче такой красивой и грациозной, как эта служанка, – дело непростое. Знай я тогда, что у нее уже есть дочь моего возраста, наверное, вряд ли стал бы с ней заговаривать. Впрочем, скорее всего, я воздержался бы от этого в любом случае, не сопровождайся наша трапеза, с легкой руки Пожирателя Крови, обильными возлияниями. В голове у меня зашумело, и когда красавица подошла к нам в очередной раз, я поднял на нее глаза и спросил:
– Как так вышло, что женщина Бен Цаа работает на неотесанного чужака?
Она быстро огляделась по сторонам и, убедившись, что хозяина поблизости нет, опустилась на колени, прошептав мне на ухо вместо ответа вопрос, причем такой, который я меньше всего ожидал от нее услышать:
– Не желает ли молодой господин почтека женщину на ночь?
Должно быть, я от удивления вытаращил глаза, потому что щеки ее покраснели, как лепестки бархатцев, и красавица потупила взгляд.
– У хозяина найдется для тебя маатиме, но самая обычная, таких полно повсюду, до самого побережья. Позволь мне, молодой господин, вместо этого предложить себя. Меня зовут Джай Беле, что по-вашему означает Огненный Цветок.
Должно быть, я все еще продолжал таращиться на нее в изумлении, ибо служанка, не отводя взора, сказала:
– Может, я тоже со временем стану маатиме, продающей себя за деньги, но пока до этого еще не дошло. Сегодня я впервые с того дня, как умер мой муж, предлагаю себя мужчине, тем более чужеземцу...
Ее смущение и искренность настолько меня тронули, что я, заикаясь, пробормотал:
– Я... был бы... очень рад...
Джай Беле снова торопливо огляделась по сторонам.
– Не говори ничего хозяину. Он отбирает у своих женщин большую часть денег, получаемых с постояльцев, и меня могут побить, если узнают, что я договорилась с тобой сама. Когда стемнеет, я буду дожидаться снаружи. Мы отправимся ко мне домой.
В это время в помещение с суровым и важным видом вошел хозяин, и она, собрав тарелки, удалилась. Пожиратель Крови, слышавший наш разговор, посмотрел на меня искоса и иронически заметил:
– За такие слова, да от такой женщины, не жалко и боба какао. Но я готов оторвать себе яйцо, если это не вранье!
Тем временем хозяин постоялого двора, улыбаясь и довольно потирая жирные руки, подошел к нам и поинтересовался, не желаем ли мы получить что-нибудь сладенькое еще и в постель. Я отказался, а вот Пожиратель Крови, посмотрев на меня, с усмешкой заявил:
– Ну что ж, клянусь всеми богами, я попробую твое угощение. Подашь двойную порцию, чтобы и другу хватило. – Он ткнул в меня пальцем. – Пришлешь обеих женщин ко мне в комнату. Да смотри выбери самых лакомых, какие только у тебя есть.
– Господин будет доволен. Желаю ему приятного аппетита, – пробормотал с масленой улыбкой трактирщик и торопливо ушел.
Пожиратель Крови воззрился на меня с раздражением.
– Вижу, что ты, дурачок, вконец разомлел от счастья. Да это же обычная уловка, какими пользуются женщины определенного сорта. Ручаюсь, что, заявившись к ней домой, ты застанешь там также и ее мужа, а вдобавок еще парочку здоровенных рыбаков, очень довольных тем, что на их крючок попалась этакая рыбка. Они ограбят тебя и разделают, как тортилью.
– Было бы жаль, если бы наше путешествие так нелепо оборвалось в Теуантепеке, – робко заметил Коцатль.
Но я ни в какую не желал никого слушать. Мне так хотелось верить, что эта женщина – как раз та, о какой я мечтал, но не смог найти в Цаачиле, – вовсе не продажная, a, наоборот, целомудренная, хотя бы в каком-то смысле. Пусть даже, как она намекнула, я стану первым из ее платных любовников, но ведь все равно же первым! Правда, несмотря на то что я почти потерял голову от выпивки и вожделения, у меня все-таки хватило ума, когда мы встретились у гостиницы, первым делом спросить:
– А почему ты выбрала именно меня?
– Потому что ты молод. И наверняка пока еще почти не имел дела с распутными женщинами, которые успели бы тебя испортить. И еще ты хорош собой. Конечно, не так красив, как мой муж, но вполне мог бы сойти за одного из Бен Цаа. Кроме того, ты человек состоятельный, который может позволить себе заплатить за удовольствие.
Некоторое время мы шли молча, а потом она уточнила:
– Ты ведь заплатишь мне, да?
– Конечно, – хрипло ответил я.
Язык мой распух от октли, а тепули набух от предвкушения.
– С кого-то же мне надо начинать, – заявила женщина спокойно и рассудительно. – Я рада, что начну именно с тебя, и очень хотела бы, чтобы и все другие оказались такими, как ты. Я бедная вдова, воспитывающая двух дочерей: по положению мы почти равны рабам, и моим девочкам никогда не найти приличных мужей из народа Туч. Знай я заранее, что уготовано им судьбой, так, наверное, перестала бы кормить малышек своим молоком, чтобы они никогда не выросли. Но теперь уже поздно. Чтобы выжить, я должна научиться торговать собой, да и девочкам со временем придется учиться тому же.
– Муж совсем ничего тебе не оставил? – не без труда удалось выговорить мне.
Джай Беле махнула рукой и печально сказала:
– Когда-то этот постоялый двор принадлежал нам. Но мой муж тяготился скучной жизнью трактирщика и постоянно отправлялся на поиски приключений – в надежде разбогатеть и избавиться от опостылевшего занятия. Он добывал порой удивительные диковины, но ничего по-настоящему ценного так и не нашел, а мы тем временем все глубже увязали в долгах. Путешествия – дорогое удовольствие, а выгоды они не приносили. Ну а чтобы раздобыть средства на свой последний поход, на который он возлагал огромные надежды, муж заложил постоялый двор.
Она пожала плечами.
– Но обратно он так и не вернулся. Сгинул, как человек, завлеченный в трясину обманными огоньками болотного духа Кстабаи. Это было четыре года назад.
– И постоялый двор достался тому торговцу, который давал твоему мужу средства под залог. Этому жирному коротышке! – пробормотал я.
– Да. Его зовут Вайай, он из народа цогуэ. Но это еще полбеды. Дело в том, что долг моего мужа оказался таким огромным, что даже стоимость постоялого двора его не покрыла. Наш бишосу – человек добрый и справедливый, но он признал требования Вайайя законными и не мог вынести другого решения, кроме как обязать меня отработать долг. Хорошо еще, что не тронули моих девочек. Они зарабатывают чем умеют – шитьем, вышиванием, стиркой, – но большинство людей, которые могут заплатить за такую работу, тоже имеют дочерей или собственных рабов, так что много этим не выручишь. А мне приходится трудиться с рассвета до заката бесплатно.
– И давно ты гнешь спину на этого Вайайя?
Она вздохнула:
– Почему-то наш долг никак не уменьшается. Я пошла бы даже на то, чтобы, пересилив отвращение, расплатиться с ним своим собственным телом, но он евнух.
Я хмыкнул, скорчив удивленную гримасу.
– Раньше Вайай был жрецом кого-то из богов своего племени и, как это делают многие из них, приведя себя в экстаз с помощью дурманящих грибов, отхватил свое мужское достоинство, чтобы возложить его на алтарь. Правда, парень тут же пожалел о содеянном, да так горько, что сложил с себя сан. Но не пропал, потому как к тому времени уже скопил – не иначе как отначил из подношений верующих – достаточно средств, чтобы заняться торговлей.
Я снова хмыкнул.
– Мы с дочками живем просто, но с каждым днем становится все труднее. Так что, если нам вообще суждено выжить... – Она распрямила плечи. – Я объяснила девочкам, чем мы должны будем заниматься. Но только на словах, а теперь покажу на своем примере. Вот мы и пришли.
Джай Беле провела меня через завешенную дерюгой дверь в хлипкую, сделанную из связанных жердей хижину, и мы оказались в единственной комнатушке с утрамбованным земляным полом, убого обставленной и освещенной одной лишь фитильной лампой, заправленной рыбьим жиром. Я разглядел только покрытый стеганым одеялом топчан, слабо светившиеся угли жаровни да несколько предметов женской одежды, висевших на стволах молодых деревьев, образовывавших стены хижины.
– Мои дочки, – сказала хозяйка, указав на двух девушек, стоявших прислонившись спиной к стене.
Я ожидал увидеть двух маленьких чумазых девчушек, которые со страхом уставятся на приведенного матерью в дом незнакомца, но оказалось, что одна из дочек примерно моих лет, а ростом не уступает матери, с которой схожа и лицом, и фигурой. Другая девушка, тоже красавица, была года на три моложе. Обе уставились на меня с любопытством. Я, мягко говоря, был удивлен, но исполнил перед ними залихватский жест целования земли и чуть-чуть не грохнулся оземь, хорошо что младшая успела меня подхватить.
Она невольно хихикнула, и я тоже засмеялся в ответ, но тут же замер в растерянности. Я уже говорил, что возраст женщины из племени сапотеков определить не просто, этой девушке было всего лет семнадцать, не больше, но ее черные как смоль волосы расцвечивала, подобно молнии, пронзившей полночь, седая прядь, зачесанная назад.
– Когда она еще ползала на четвереньках, ее, вот сюда, укусил скорпион, – пояснила, заметив мой взгляд, Джай Беле. – Бедняжка тогда чуть не умерла и хоть потом и поправилась, но волосы в месте укуса так и растут седыми.
– Она... они обе такие же красивые, как и ты, – учтиво пробормотал я.
Но, должно быть, хозяйка заметила, как я ужаснулся, поняв, что эта женщина годится мне в матери. Во всяком случае, она бросила на меня обеспокоенный, чуть ли не испуганный взгляд и сказала:
– Нет, пожалуйста, даже не думай о том, чтобы взять одну из них вместо меня.
После этого Джай Беле стащила блузу через голову и моментально покраснела, да так сильно, что краска залила даже ее обнаженную грудь.
– Пожалуйста, молодой господин! Я ведь предлагала только себя. Дочкам пока еще рано...
Видимо, приняв мое замешательство за сомнение, она быстро сбросила на пол юбку и нижнее белье и теперь стояла передо мной и своими дочерями обнаженная.
Я нерешительно посмотрел на них: глаза у обеих расширились, наверняка девочки были потрясены не меньше моего. Но Джай Беле, похоже, вообразила, что я сравниваю образцы имеющегося в наличии товара.
– Пожалуйста, – взмолилась она. – Не трогай их. Лучше возьми меня.
С этими словами женщина увлекла меня, слишком ошеломленного, чтобы сопротивляться, за собой на топчан, задрала накидку и потянула за мою набедренную повязку.
– Хозяин гостиницы потребовал бы за маатиме пять бобов какао, из которых два оставил бы себе, – задыхаясь, произнесла она, – поэтому я прошу только три. Разве это не справедливая цена?
Ответить я не мог, поскольку растерялся невероятно. Только представьте: мы оба голые, девушки таращатся на нас так, словно не в силах оторвать от этого зрелища глаз, а их мать пытается завалить меня на себя. Вероятно, девушки знали, как выглядит тело их матери, и, возможно, даже видели возбужденный мужской член, но едва ли когда-нибудь становились свидетельницами совокупления.
– Женщина! – вскричал я, хоть и был пьян. – Здесь же твои дочери! Вели им уйти или хотя бы погаси лампу...
– Пусть видят! – почти выкрикнула она. – Пусть знают, чем им предстоит заниматься!
Лицо Джай Беле было мокрым от слез, и до меня наконец дошло, что она была вовсе не такая уж распутная, как пыталась изобразить. Я скривился, резко взмахнул рукой, и правильно понявшие мой жест девушки с испуганным видом выбежали за дверь-занавеску. Но Джай Беле, словно не заметив этого и упиваясь своим унижением, крикнула снова:
– Пусть увидят, что им предстоит делать!
– Ты хочешь, чтобы и другие это увидели, женщина? – прорычал я. – Пусть тогда смотрят как следует!
Вместо того чтобы распластаться поверх нее, я перевернулся на спину и, приподняв, посадил ее сверху, нанизав на свой тепули. Джай Беле вздрогнула, но тут же обмякла и прильнула ко мне, хотя слезы ее продолжали капать на мою обнаженную грудь. Короче говоря, все произошло быстро и страстно. Она, несомненно, ощутила в себе излившуюся струю, но не отпрянула, как сделала бы всякая другая продажная женщина.
К тому времени собственное тело Джай Беле уже хотело удовлетворения, и я думаю, что, останься ее дочери в комнате, она не обратила бы внимания на то, какое впечатление производят на них наши телодвижения. Дойдя до высшей точки наслаждения, Джай Беле откинулась назад: ее набухшие соски торчали, длинные волосы мели мои ноги, а рот открылся в мяукающем стоне – подобные звуки издает котенок ягуара. Потом она снова рухнула на мою грудь, обмякнув так, что ее можно было бы принять за мертвую, когда бы не прерывистое дыхание.
Спустя некоторое время я пришел в себя, а поскольку за время соития несколько протрезвел, то, повернувшись, приметил рядом, с другой стороны, еще одну голову. Огромные, широко раскрытые карие глаза за роскошными темными ресницами и очаровательное лицо одной из дочерей. Не знаю уж когда, но девушка вернулась в дом и теперь, опустившись на колени рядом с топчаном, внимательно меня рассматривала. Я накинул одеяло, прикрыв наготу – и свою, и ее все еще неподвижной матери.
– Ну шишаскарти... – произнесла дочка шепотом. Потом, увидев, что я не понимаю, она тихонько заговорила, виновато хихикая, на ломаном науатлъ: – Мы подсматривали сквозь щели в стене.
Я застонал от стыда и смущения: воспоминания об этом обжигают меня до сих пор.
Но тут девушка серьезно сказала:
– Я всегда думала, что это плохо. Но ваши лица были хорошие, вроде как довольные...
– Ничего плохого в этом нет, – рассудительным шепотом ответил я, хотя, как вы понимаете, настроение у меня было отнюдь не философское. – Просто гораздо лучше, когда ты занимаешься этим с человеком, которого любишь. И не на людях.
Девушка хотела было сказать что-то еще, но неожиданно ее желудок заурчал, да так громко, что заглушил слова. С пристыженным видом она отодвинулась, пытаясь притвориться, будто ничего не произошло.
Я воскликнул:
– Малышка, ты голодна?
– Малышка?! – Она обиженно тряхнула головой. – Да я почти твоя ровесница, чего, судя по тебе, вполне достаточно для... сам знаешь для чего. Нашел малышку!
Я растормошил ее сонную мать и спросил:
– Джай, когда твои дочери последний раз ели?
Она зашевелилась и покорно ответила:
– Мне разрешено кормиться объедками на постоялом дворе, но уносить с собой много не позволяют.
– И ты попросила всего три боба какао! – сказал я сердито.
Честно говоря, мне впору было самому запросить плату за публичное выступление или за выполнение роли наставника молодежи, но я нашарил свою отброшенную в сторону набедренную повязку и вытащил кошелек, который хранил зашитым в нее.
– Держи, – сказал я девушке и насыпал ей в ладони двадцать или тридцать бобов. – Сходите с сестрой купите еды. И растопки для очага. Берите все, что хотите, и столько, сколько сможете принести.
Она посмотрела на меня так, будто я наполнил ее ладони изумрудами. Затем порывисто наклонилась, поцеловала меня в щеку, вскочила и выбежала из дома. Джай Беле приподнялась на локте и посмотрела мне в лицо.
– Ты добр к нам, хотя я вела себя не лучшим образом. Пожалуйста, позволь мне быть нежнее к тебе сейчас.
– Ты дала мне то, что я пришел купить, – был мой ответ. – Я вовсе не пытаюсь купить твою любовь.
– Но я хочу подарить ее, – настаивала Джай Беле.
И она начала оказывать мне внимание способом, который народ Туч считает допустимым только среди своих.
Способ прекрасный, особенно если все действительно делается с любовью... и без свидетелей! К тому же Джай Беле была настолько привлекательна, что ни один мужчина не мог пресытиться ее ласками. Однако к тому времени, когда вернулись девушки, нагруженные съестными припасами – здоровенной ощипанной птицей, корзиной с овощами и многим другим, – мы уже встали и оделись. Весело щебеча, сестренки принялись разводить огонь, и младшая учтиво попросила мать и меня отобедать с ними.
Джай Беле сказала девушкам, что мы оба поели в гостинице. И добавила, что сейчас она проводит гостя обратно и найдет себе какое-нибудь дело, чтобы заняться им в оставшееся до рассвета время. Женщина пояснила дочкам, что если ляжет, то непременно проспит рассвет. Я пожелал девушкам доброй ночи, и мы оставили их, насколько я понял, наедине с первой приличной трапезой за последние четыре года. Когда мы шли обратно рука в руке по улицам и проулкам, казавшимся мне темнее, чем раньше, я все думал об изголодавшихся девушках, об их овдовевшей и впавшей в отчаяние матери, о жадном кредиторе цогуэ... А потом неожиданно для себя спросил:
– А не продашь ли ты мне свой дом, Джай Беле?
– Что? – Женщина настолько удивилась, что наши руки разъединились. – Эту развалюху? Зачем она тебе?
– Разумеется, чтобы перестроить ее во что-нибудь получше. Если я продолжу заниматься торговлей, то наверняка стану бывать здесь снова и снова, а останавливаться в собственном доме уж всяко лучше, чем на переполненном постоялом дворе.
Моя довольно неуклюжая ложь рассмешила Джай Беле, однако она приняла игру и, сделав вид, будто поверила, спросила:
– А сами-то мы, в таком случае, где будем жить?
– В каком-нибудь более приличном месте. Я готов заплатить за то, чтобы вы могли жить по-человечески. И чтобы ни тебе, ни дочкам не пришлось торговать собой.
– Да ты хоть представляешь, во что это тебе обойдется?
– Думаю, да. И вот что, давай уладим это дело прямо сейчас. Вот и гостиница. Пожалуйста, зажги свет в той комнате, где мы обедали. И принеси письменные принадлежности – бумага и мел подойдут. Да, кстати, а где спальня этого жирного евнуха? Да не дрожи ты так, я не спятил. Во всяком случае, не больше, чем обычно.
Неуверенно улыбнувшись, она пошла выполнять мое поручение, а я сам тем временем, прихватив лампу, заявился прямиком в спальню трактирщика и разбудил его, как следует пнув по жирному заду.
– Вставай и пойдем со мной, – заявил я, когда Вайай вскочил, брызжа слюной от ярости и ничего не соображая спросонья. – Дело есть.
– Что за дела посреди ночи? Ты пьян. Уходи!
Мне пришлось основательно его встряхнуть и объяснить, что я трезв, как никогда, после чего трактирщик, которого я подталкивал в спину, натягивая на ходу накидку, поплелся-таки в комнату, где Джай Беле уже зажгла для нас свет. Когда я полувтолкнул, полувтащил жирного коротышку в помещение, женщина бочком попыталась ускользнуть, но я ее задержал.
– Нет, останься. Это касается нас троих. Толстяк, принеси-ка все бумаги, относящиеся к праву владения этим постоялым двором и долгу, который оставил прежний хозяин. Я намерен выкупить залог.
Оба уставились на меня почти одинаково изумленно, но Вайай опомнился первым и, еще пуще брызжа слюной, заорал:
– И ради этого ты поднял меня с постели посреди ночи? Хочешь купить мою гостиницу, самонадеянный щенок? Иди лучше, проспись. Я не собираюсь ее продавать.
– Продавать или не продавать можно собственность, а заведение пока не твое. Ты всего лишь держатель залога. Получишь долг с процентами, и все твои права на этом кончатся. А ну пошевеливайся!
По правде сказать, я использовал преимущество внезапности и взял трактирщика нахрапом, пока он спросонья еще не очухался. Но к тому времени, когда мы занялись колонками точек и флажков, обозначавших цифры, к хозяину уже вернулись хватка и хитрость, отличавшие этого человека в бытность его и жрецом, и менялой.
Мои господа, я не стану утомлять вас подробностями наших переговоров. Напомню лишь, что навык работы с цифрами я имел и в ведении счетов разбирался.
Выяснилось, что покойный путешественник и вправду взял в долг, как товарами, так и наличностью, солидную сумму, однако выкуп залога не потребовал бы чрезмерных расходов, когда бы ростовщик не использовал хитроумный способ начисления процентов на проценты. Всех цифр, какие там фигурировали, я не помню, а потому изложу вам дело в упрощенном виде. Предположим, если я одолжу кому-то сотню бобов какао на месяц с условием уплатить по истечении этого срока сто десять бобов, то за два месяца он вернет мне уже сто двадцать бобов, за три – сто тридцать, и так далее... А вот Вайай придумал гораздо хитрее: проценты за следующий месяц он начислял исходя не из основной суммы долга, а с учетом процентов за предыдущий. В результате, например, к концу второго месяца ему были должны уже не сто двадцать, а сто двадцать один боб. Эта разница могла бы показаться пустяковой, но она увеличивается с каждым месяцем, так что за длительный срок сумма получилась существенная.
Я потребовал сделать перерасчет с самого начала, с того момента, когда Вайай дал кредит под залог гостиницы.
– Аййа! – заверещал он, наверное, так же громко, как когда в бытность свою жрецом очнулся после навеянного грибами дурмана и понял, что натворил.
Но когда я предложил передать это дело на рассмотрение бишосу Теуантепека, он стиснул зубы и произвел полный перерасчет, причем под моим пристальным наблюдением. Было много других деталей, которые можно было оспорить, такие как расходы на содержание гостиницы и прибыль, полученную хитрецом за те четыре года, пока он ею управлял. Но наконец, когда уже наступило утро, мы пришли к соглашению относительно общей суммы, которая причиталась Вайайю, и я согласился выплатить ее в виде золотой пыли, обрезков меди и бобов какао. Но перед этим я сказал:
– Ты упустил одну маленькую деталь. Я должен тебе за размещение своего каравана.
– Ах, да! – оживился жирный старый мошенник. – Как благородно с твоей стороны, что ты сам об этом напомнил.
И прибавил к сумме выкупа плату за постой.
– И еще одна мелочь, – добавил я, сделав вид, будто только что вспомнил.
– Да?
Его рука с мелом замерла.
– Вычти жалованье, причитающееся женщине по имени Джай Беле за четыре года.
– Что?
Оба воззрились на меня: он – в изумлении, она – в восхищении.
– Жалованье захотела? – глумливо произнес толстяк. – Эта женщина была отдана мне как тлакотли...
– Если бы твои подсчеты были верны, ей не пришлось бы становиться рабыней. Подумай сам: не обмани ты бишосу, он присудил бы тебе разве что долю в этом постоялом дворе. А ты, мошенник, не только обманом завладел чужой собственностью, но и поработил свободную женщину. Это преступление.
– Хорошо, хорошо. Дай-ка я сосчитаю. Два боба какао в день...
– Это жалованье рабыни. А ты пользовался услугами бывшей владелицы этой гостиницы. Безусловно, она имеет право на жалованье свободной женщины, которое составит... двадцать бобов в день.
Услышав это, Вайай схватился за волосы и завыл.
– Ты чужак, – добавил я, – в Теуантепеке тебя едва терпят, а она как-никак из Бен Цаа. Если мы отправимся к правителю...
Он немедленно прекратил скулить и принялся судорожно писать, поливая бумагу потом. Но когда подсчитал все, взвыл еще пуще:
– Более двадцати девяти тысяч! Да столько бобов нет на всех кустах какао во всех Жарких Землях!
– А ты пересчитай все в перьях золотого порошка, – посоветовал я. – Глядишь, будет не так страшно.
– Разве? – проворчал он, следуя моей рекомендации. – Да ведь если я соглашусь выплатить ей это жалованье, у меня после всей этой сделки не останется даже на набедренную повязку. Если я вычту эту сумму, то получится, что ты заплатишь мне меньше половины изначальной ссуды!
Тут его голос сорвался на визг, а пот лил с негодяя так, словно он плавился.
– Правильно, – сказал я. – Это сходится с моими собственными подсчетами. В каком виде желаешь получить плату? Все золотом? Или медью?
Я потянулся к своей торбе.
– Это вымогательство! – возмутился Вайай. – Настоящий грабеж!
В моей котомке нашелся также и маленький обсидиановый нож, острие которого я и приставил к одутловатой физиономии мошенника, где-то между вторым и третьим подбородком.
– Слова правильные, – холодно произнес я, – но относятся они к тебе. Ты обманом завладел имуществом беззащитной вдовы и целых четыре года пользовался ее дармовым трудом, а она тем временем впала в полнейшую нищету. Цифры у тебя на руках, подсчеты ты делал сам, так что спорить тут не о чем. Я заплачу тебе сумму, которую ты наконец насчитал...
– Разорение! – заорал он. – Опустошение!
– Ты дашь мне расписку, подтверждающую, что полученная плата отныне и навсегда аннулирует все твои притязания на находившуюся в залоге собственность этой женщины. А потом на моих глазах порвешь старую закладную, подписанную ее покойным мужем. После чего заберешь свои пожитки и уберешься отсюда.
– А если я откажусь? – прохрипел Вайай, предприняв последнюю попытку сопротивления.
– Дело твое. Но тогда я, под угрозой вот этого самого ножа, отведу тебя к бишосу. За воровство и мошенничество тебя приговорят к удушению петлей, скрытой под цветочной гирляндой, ну а уж за порабощение свободной женщины... Я не местный и не знаю, какие пытки здесь в ходу.
Мерзавец тяжело осел и окончательно признал поражение.
– Убери нож. Давай рассчитываться. А ты принеси чистой бумаги! – рявкнул он Джай Беле, но тут же поморщился и сбавил тон: – Пожалуйста, моя госпожа, принеси бумагу, краски и камышинку для письма.
Разложив тряпицу, я отсчитал нужное количество набитых золотом перьев и медных пластинок, после чего в моей торбе почти ничего не осталось, и сказал:
– Напиши расписку на мое имя. На здешнем наречии меня зовут Цаа Найацу.
– Подходящее имя для злодея-погубителя, – проворчал он, выводя на бумаге символы. И, клянусь, орошая ее слезами.
Почувствовав на своем плече руку Джай Беле, я поднял на нее глаза. Женщина провела весь день в трудах, а теперь еще к этому добавилась и бессонная (не говоря уж обо всем прочем) ночь, но сейчас держала голову высоко. Ее прекрасные глаза сияли, и все лицо светилось.
– Это не займет много времени, – сказал я. – Сходи-ка ты пока за дочками. Пора им возвращаться домой.
Когда мои спутники проснулись и пришли на завтрак, Коцатль выглядел отдохнувшим и бодрым, а вот Пожиратель Крови – несколько уставшим. На завтрак он потребовал одни сырые яйца, а обслуживавшей его женщине велел:
– Позови мне вашего хозяина. Я ему должен десять бобов какао. – После чего он усмехнулся и добавил: – Распутник и транжира, вот кто я такой. В моем-то возрасте...
Она улыбнулась.
– Ты ничего не должен, мой господин. Развлечение за счет заведения.
Она ушла, а Пожиратель Крови ошеломленно вытаращился ей вслед:
– Что за чудеса? Ни один постоялый двор не предоставляет такие услуги бесплатно.
– Может, все-таки чудеса бывают, а, старый ворчун? Помнится, кто-то уверял, что меня ограбят, но я, как видишь, цел.
– По-моему, тут просто все с ума посходили – и ты, и она. Но здешний хозяин...
– С прошлой ночи эта женщина и есть хозяйка гостиницы.
Пожиратель Крови едва не поперхнулся. А второй раз он чуть не поперхнулся, когда завтрак ему принесла очаровательная юная девушка моих лет, а чашку с пенистым шоколадом подала еще более юная особа с серебристой, похожей на росчерк молнии прядью в угольно-черных волосах.
– Да что такое здесь случилось? – недоумевал Пожиратель Крови. – Мы заснули в задрипанной дыре, принадлежащей жирному ублюдку...
– И за ночь, – подхватил не менее изумленный Коцатль, – Микстли превратил ее в храм, полный богинь.
Наша компания осталась в гостинице на вторую ночь, и когда все стихло, Джай Беле проскользнула в мою комнату. Лучившаяся новообретенным счастьем, она казалась еще прекрасней, а наши объятия, на сей раз не связанные ни с нуждой, ни с отчаянием, ничем не отличались от акта истинной и взаимной любви.
Когда я и мои спутники ранним утром следующего дня взвалили на плечи свои тюки, все три хозяйки по очереди – и Джай Беле, и обе ее дочери – покрыли мое лицо влажными от слез поцелуями, сопровождая их словами сердечной благодарности. И я долго еще оглядывался, пока постоялый двор не пропал окончательно из виду, затерявшись среди множества других строений.
Я понятия не имел, когда смогу вернуться в эти края, но твердо знал, что заронил в стране сапотеков такие семена, что никогда уже не буду для этих людей, как и они для меня, чужим. Но вот чего я тогда не знал и чего даже не мог представить, так это того, какие удивительные плоды, плоды радости и горя, обретения и потерь, произрастут впоследствии из этих семян. Немало времени прошло до того дня, как мне довелось отведать первый из этих плодов, еще больше до того, как все они достигли зрелости, одного же из них я та и не вкусил целиком, добравшись только до горькой сердцевины.
Как вы знаете, почтенные братья, землю, именуемую ныне Новой Испанией, с обеих сторон омывает великое море, которое простирается от побережья до горизонта. Поскольку оба морских побережья лежат почти прямо к западу и: востоку от Теночтитлана, мы, мешикатль, называем их Boсточным и Западным океанами. Но вблизи Теуантепека caм массив земли изгибается к востоку, и там эти воды называются Северным и Южным океанами, разделенными небольшой полоской суши узеньким перешейком. Правда, слово «узенький» в данном случае не означает, что человек может стоять между океанами и плевать в тот, в который ему заблагорассудится. В самом узком месте ширина перешейка составит примерно пятьдесят долгих прогонов, что соответствует десяти дням пути. Правда, пути не особо утомительного, ибо он пролегает по равнине.
Однако в тот раз мы не пересекали перешеек от одного побережья к другому, а двигались на восток, через долины, невесть за что прозванные Холмом Ягуара. Южный океан при этом все время находился не так уж и далеко, по правую руку от нас, хотя с тропы виден не был. Близость моря сказывалась в том, что над нашими головами чаще парили чайки, чем стервятники. Если не считать царившего в этих низинах гнетущего зноя, наш путь был легким, даже однообразным. Смотреть, кроме пожухлой травы да чахлого серого кустарника, было не на что, зато не встречалось и препятствий. Свежую дичь – кроликов, броненосцев и игуан – удавалось добывать без труда, а погода вполне подходила для ночных стоянок. Поэтому мы ни разу не заночевали ни в одной из деревень племени миксе, по землям которого проходили.
У меня были все основания спешить к цели нашего путешествия, землям майя, где я собирался наконец начать обменивать наши товары на более ценные, чтобы сбыть их потом в Теночтитлане. Конечно, мои партнеры знали, что я потратился в стране сапотеков, но я не посвящал их в подробности и не сообщал, сколько чего израсходовал. До сих пор мне удалось совершить, да и то уже давно, только одну выгодную сделку: продать раба Четвертого его же собственной родне. Две сделки, заключенные после этого – покупка гобелена Чимальи ради сладкой мести и выкуп постоялого двора в порыве благородства, – обогащения явно не сулили. Неудивительно, что меня не слишком тянуло распространяться на сей счет: пока я отнюдь не показал себя настоящим, ловким и сообразительным, почтека.
После нескольких дней быстрого, легкого пути по серовато-коричневым равнинам мы увидели, как слева от нас начинает подниматься бледная голубизна гор. По мере приближения горы вздымались все выше, одновременно меняя цвет с голубоватого на темно-зеленый. Скоро дорога снова пошла на подъем, но на сей раз уже сквозь густую поросль пиний, кедров и можжевельника. Нам стали попадаться кресты, издавна почитавшиеся как священные символы некоторыми народами дальнего юга.
Да, мои господа, с виду их крест практически ничем не отличался от вашего, христианского. Как и ваш, этот крест чуть длиннее в высоту, чем в ширину; единственное различие заключалось в том, что верхушка и боковины его имели по концам утолщение, вроде листа клевера. Эти народы чтили крест, ибо полагали, что в нем зримо воплощалось мироустройство: четыре стороны света и центр. Всякий раз, встретив в безлюдной местности крест высотой до пояса, мы знали, что он не требует: «Поклонитесь!», но призывает нас: «Возрадуйтесь!», ибо помимо всего прочего означает, что где-то рядом есть источник свежей пресной воды.
Горы вздымались все выше и круче, пока не стали совсем уж труднопреодолимыми. Но мы к тому времени были опытными скалолазами, которых ничего не пугало, если не считать того, что вместо обычной для таких высот прохлады нам пришлось столкнуться с лютой стужей. Хотя мы и забрели далеко на юг, стояла середина зимы, и в тот год бог Тацитль, покровитель самых коротких дней в году, отнесся к нам исключительно сурово.
Мы натянули всю одежду, какая только у нас была, а ноги под сандалиями обмотали тряпками, однако колючие обсидиановые ветра продували нас насквозь, а на самых высоких участках еще швыряли нам в лица жесткий, кусачий снег. Хорошо еще, что по пути то и дело попадались пинии: мы собирали смолу, вываривали ее, чтобы она не была такой едкой, и получали клейкую черную окситль, водоотталкивающую и прекрасно защищавшую от холода. Потом мы раздевались донага, обмазывали все тело окситль и снова закутывались в свои одежки. Из-за этой смолы наши тела и лица, за исключением участков вокруг глаз и губ, были черны, как у слепого бога Итцколикуи.
Путь наш пролегал через страну чиапа. Когда мы начали натыкаться на их разбросанные здесь и там горные селения, оказалось, что местные жители взирают на нас не без некоторого удивления, ибо сами чиапа не используют черный окситль. Обычным средством защиты от холода у них служит жир ягуара, кугуара или тапира. Другое дело, что эти люди от природы были едва ли не такими же темными, как мы, вымазавшись смолой. Конечно, кожа их не была совсем уж черной, но имела самый темный оттенок какао, какой мне случалось видеть среди племен Сего Мира. Согласно их собственному преданию, предки чиапа явились откуда-то с далекого юга, и цвет их кожи, похоже, подтверждал эту легенду. Видимо, чиапа унаследовали его от давних пращуров, которых опаляло куда более жаркое солнце.
Мы сами дорого заплатили бы за то, чтобы нас хотя бы коснулись несущие живительное тепло лучи, но об этом даже не приходилось мечтать. Когда наш путь пролегал по укрытым от ветра низинам, мы просто в отупении брели вперед, поеживаясь от холода, но на перевалах, проходивших по расщелинам, нам приходилось сталкиваться с резким, пробиравшим до костей ветром. Если же перевала как такового не было и нам приходилось карабкаться до самого гребня, то там, наверху, вдобавок к жгучему ветру мы еще то утопали в снегу, то скользили по раскисающей под ногами слякоти. Нелегко приходилось всем, но раба Десятого помимо всех этих бед еще и поразил какой-то недуг.
Он ни на что не жаловался и никогда не отставал, поэтому мы даже не подозревали, что он плохо себя чувствует, пока однажды утром бедолага, словно получив в спину толчок тяжеленной длани, не упал на колени под тяжестью своего вьюка.
Не желая поддаваться слабости, он попытался подняться, но не смог и рухнул ничком, растянувшись во весь рост. Бросившись к нему, мы развязали лямки, освободили Десятого от тяжести вьюка, перевернули на спину, и тут выяснилось, что у него жар. Да такой сильный, что окситль, которым было смазано все его тело, превратился в сухую корку. Коцатль заботливо спросил раба, что именно у него болит. Тот отвечал, что голова его словно расколота ударом макуауитля, тело как будто в огне, а каждый сустав ломит, но в остальном с ним все в порядке.
Я поинтересовался, не ел ли он что-нибудь необычное и не укусила ли его какая-либо ядовитая тварь, но в ответ услышал, что питался Десятый вместе со всеми нами, а единственным, кто его укусил, был всего-навсего безобидный кролик. Восемь дней назад Десятый попытался поймать зверька, чтобы сделать посытнее нашу вечернюю похлебку, и совсем было уже его сцапал, но тот тяпнул охотника за руку и вырвался на свободу. Раб показал мне отметину от укуса, но тут же откатился от меня, и его вырвало.
И мне, и Коцатлю, и Пожирателю Крови было особенно жаль, что это несчастье приключилось именно с Десятым – самым неутомимым, бодрым, жизнерадостным и безотказным из всех наших рабов. Он храбро вел себя в истории с разбойниками, всегда сам вызывался на самую трудную работу, был наиболее сильным среди носильщиков, не считая верзилы Четвертого (после того как последнего выкупили родные, Десятый нес самый тяжелый вьюк). Я уж молчу о вонючей заскорузлой шкуре, которую Пожиратель Крови ни в какую не хотел выбрасывать.
Мы устроили привал и отдыхали до тех пор, пока Десятый сам, первым, не поднялся на ноги. Я потрогал его лоб: лихорадка, похоже, отступила.
– Слушай, – промолвил я, присматриваясь к темно-коричневому лицу раба, – до меня только сейчас дошло. Ты ведь здешний, верно? Чиапа?
– Да, хозяин, – ответил он слабым голосом. – Я родом из нашей столицы, города Чиапан. Вот почему мне хочется попасть туда поскорее. Я надеюсь, что вы будете так добры, что продадите меня родным.
С этими словами он взвалил тюк на плечи, закрепил на лбу лямку, и мы все продолжили путь. К вечеру, однако, беднягу стало шатать так сильно, что на него жалко было смотреть. Несмотря на это, Десятый старался выдерживать темп и отказывался от всех предложений сделать привал или облегчить его ношу. Он ни в какую не соглашался снять тюк, пока мы не нашли укрытую от ветра и помеченную указывавшим на близость родника крестом долину, где и разбили лагерь.
– Мы уже давненько не охотились, да и собаки все съедены, – сказал Пожиратель Крови. – А между тем Десятому необходима питательная свежая пища, а не пустые бобы да кашица атоли. Пусть-ка Третий и Шестой займутся высеканием огня: глядишь, разожгут костер как раз к тому времени, когда я что-нибудь добуду.
Найдя гибкий зеленый ивовый прут, он согнул его в петлю, привязал к ней кусок протертой почти до дыр ткани и с этим подобием сачка отправился попытать счастья к ручью. Вернулся старый воин довольно скоро и со словами: «Они были такими вялыми от холода, что и Коцатль сумел бы их поймать» – вывалил целую кучу серебристых рыбешек. Каждая, правда, была не длиннее пяди и не толще пальца, но зато их было так много, что вполне хватило бы наполнить котел. Другое дело, что я усомнился, стоит ли вообще варить эту рыбешку в нашем котле, о чем и не преминул сообщить Пожирателю Крови.
Тот жестом отмел мои возражения.
– Ну мелочь, и что с того? Пусть некрасивая, зато вкусная.
– Это не настоящая рыба! – пожаловался Коцатль. – У каждой рыбины по четыре глаза!
– Да, это непростые рыбешки, очень хитрые. Скользят по самой поверхности воды и одновременно высматривают верхней парой глаз насекомых, а нижней – всяких донных рачков. Удивительная жизнеспособность! Надеюсь, они поделятся ею с нашим беднягой Десятым.
Однако, похоже, ужин из свежей рыбы только отнял у нашего больного сон, который был ему так необходим. Я сам просыпался той ночью несколько раз и слышал, как он беспокойно ворочался, кашлял, сплевывал и бессвязно бормотал. Пару раз мне удалось разобрать какое-то странное слово – «бинкицака» или что-то в этом роде.
Утром я отвел Пожирателя Крови в сторонку и поинтересовался, не знает ли он, что это может означать.
– Это как раз одно из немногих иностранных слов, которые я знаю, – сказал он гордо, словно оказывая тем самым чужому наречию великую честь. – Бинкицака – это полулюди-полуживотные, обитающие высоко в горах. Мне рассказывали, что так называются безобразные и злобные отпрыски женщин, имевших противоестественные сношения с ягуарами, обезьянами или другим зверьем. Если вдруг в ясную погоду в горах слышится что-то похожее на гром, считается, что это бинкицака вытворяют свои каверзы. Наверняка на самом деле это просто грохот оползней или камнепадов, но ты же знаешь, насколько невежественны здешние варвары. А почему ты спросил? Слышал странные звуки?
– Нет, просто это слово выкрикивал Десятый во сне. Бредил, наверное. Боюсь, он болен серьезней, чем мы предполагали.
Так что в этот день мы, невзирая на протесты больного, отобрали у него весь груз и распределили между собой, оставив Десятому только львиную шкуру. Без ноши он шел бойко, не отставая, однако я видел, что время от времени беднягу пробирал озноб и он судорожно пытался замотать старую, стоявшую колом шкуру поверх всех тех одежд, в которые уже был закутан. Потом озноб отпускал Десятого, сменяясь лихорадочным жаром, и тогда он распахивал одежду, подставляя грудь холодному горному воздуху. Дыхание больного сопровождалось хриплым бульканьем, а во время частых приступов кашля он отхаркивал вонючую мокроту. Между тем мы взобрались на очередную гору, но, оказавшись на вершине, неожиданно обнаружили, что дальше пути нет. Мы находились на краю огромного, простиравшегося так далеко на юг и на север, что края его терялись из виду, каньона с самыми крутыми стенами, какие мне приходилось видеть. Создавалось впечатление, будто какой-то разъяренный бог, размахнувшись изо всей своей божественной силы, обрушил с неба на горы свой макуауитль. То было захватывающее дух зрелище – впечатляюще прекрасное и одновременно пугающее. Хотя на вершине, где мы стояли, дул холодный ветер, в каньон он, очевидно, не проникал, ибо ближние, почти отвесные скалы казались покрытыми ковром из цветов. На самом деле то были цветущие деревья, кустарники и горные луга. Сверху, с такого расстояния, далекая река выглядела серебристой нитью.
Не отважившись на головокружительный спуск навстречу всему этому великолепию, мы двинулись по ободу каньона на юг. Постепенно тропинка пошла под уклон и вечером вывела нас к той самой серебристой нити, оказавшейся полноводной, в добрых сто человеческих шагов шириной рекой. Впоследствии я узнал, что это была Сачьяпа – самая широкая, глубокая и быстрая река Сего Мира. Да и каньон, прорезанный сквозь горы Чиапа, является единственным в своем роде: он имеет пять долгих прогонов в длину, а в самом глубоком месте – почти половину долгого прогона в глубину.
По прошествии некоторого времени мы спустились на плато, где ветер был не столь резок, а воздух куда теплее, и добрались до убогой деревеньки, никак не соответствовавшей своему звучному названию Тоцтлан. Из угощения нам смогли предложить лишь вареную сову, такую гадость, что меня и сейчас мутит при одном только воспоминании. Зато в Тоцтлане имелась хижина, достаточно большая, чтобы мы все впервые за несколько ночей смогли заночевать под крышей, а среди местных жителей нашелся знахарь.
– Я всего лишь травник, – виновато сказал он на ломаном науатлъ, осмотрев Десятого. – В моих силах было лишь дать больному снадобье для прочистки желудка. Но завтра вы доберетесь до Чиапана и там найдете много известных «прощупывателей пульса».
Я понятия не имел, кто такие эти «прощупыватели» и чем они, собственно говоря, известны, но мне оставалось лишь надеяться, что от них будет больше толку, чем от деревенского травника. До Чиапана Десятый не дошел: ноги его подкосились, и дальше нам пришлось по очереди тащить беднягу на той самой кугуаровой шкуре, которую он так долго нес. Все это время больной корчился в судорогах и в перерывах между приступами кашля жаловался на то, что несколько бинкицака оседлали его грудь и не дают дышать.
– А одна из этих тварей вдобавок еще и гложет меня, – простонал он. – Видите?
Десятый протянул руку, показывая то самое место, куда его тяпнул безобидный кролик, но крохотная ранка почему-то за прошедшее время не только не затянулась, но превратилась в нагноившуюся язву. Мы, разумеется, пытались объяснить страдальцу, что никто на нем не сидит, а дышится ему тяжело из-за того, что в горах разреженный воздух. Нам и самим было трудновато дышать, поэтому приходилось часто меняться. Тащить носилки долго ни у кого не было сил.
Чиапан, о котором так много говорилось, с виду ничуть не походил не только на столицу, но вообще на город: всего лишь очередная, расположенная на берегу притока реки Сачьяпы деревня, разве что малость побольше прочих. Правда, здесь помимо обычных лачуг из жердей имелись несколько бревенчатых строений и даже осыпающиеся остатки двух старых пирамид.
Наш маленький отряд вступил в Чиапан, шатаясь от усталости и призывая целителя. Доброжелательный прохожий, с сочувствием отнесшийся к нашим настойчивым призывам, остановился и, едва бросив взгляд на Десятого, воскликнул: «Макобу!» Затем он выкрикнул на своем языке что-то такое, отчего двое или трое других прохожих мигом сорвались с места, а сам, жестом поманив нас за собой, рысцой устремился к жилищу лекаря, который, как мы поняли по другим жестам, немного владел языком науатлъ.
К тому времени, когда мы туда добрались, нас уже сопровождала целая толпа возбужденно тараторивших местных жителей. По-видимому, у чиапа в отличие от мешикатль совершенно не было индивидуальных имен: они, как и вы, испанцы, использовали родовое имя, остающееся неизменным у всех поколений одной и той же семьи. Раб, которого мы прозвали Десятым, происходил из семьи Макобу из Чиапана; прохожий, узнав его, сообщил другим, а уж те поспешили оповестить близких о нежданном возвращении пропавшего родича.
К сожалению, Десятый был сейчас не в состоянии узнать хоть кого-нибудь из других членов семьи Макобу, которые окружили нас, а лекарь (хотя явно довольный тем, что у его двери собралась такая шумная толпа) не мог запустить внутрь всех желающих. Когда мы четверо положили больного на земляной пол, немолодой целитель приказал, чтобы в хижине не осталось никого, кроме его самого, старой карги – его жены, являвшейся одновременно и его помощницей, самого недужного и меня. Мне он намеревался в процессе лечения объяснить, в чем оно заключается. Представившись как целитель Мааш, он на ломаном науатлъ изложил мне суть своего лечебного метода.
Держа в руке запястье Десятого (он же Макобу), лекарь одно за другим выкрикивал имена божеств, как добрых, так и злых, почитаемых в стране чиапа. Он объяснил мне, что якобы сердце больного при упоминании имени того бога, который наслал на него недуг, начинает биться сильнее, пульс учащается, и становится ясно, какому богу необходимо принести жертву, чтобы снять порчу. Ну а заодно и какие снадобья использовать для лечения.
Представьте картину: Десятый, исхудавший, с закрытыми глазами, неподвижно лежал навзничь на шкуре кугуара, в то время как старый целитель держал больного за запястье, наклонившись над ним и выкрикивая тому в ухо:
– Какал, светлый бог!
После паузы, необходимой, чтобы проверить пульс, следовало:
– Титик, темный бог!
Кого только целитель не называл: тут были и Антун, бог жизни, и Хачьяком, бог могущества, и Tea, богиня любви, и множество других богов и богинь чиапа, имен которых я не запомнил. Однако в конце концов абсолютно измотанный старик выпрямился и, признавая неудачу, сказал:
– Пульс настолько слаб, что я не смог заметить, чтобы он откликнулся на какое-либо имя.
И тут Десятый, не открывая глаз, прохрипел:
– Меня укусил бинкицака.
– Вот оно что! – воскликнул, приободрившись, лекарь Мааш. – Мне и в голову не приходило, что это кто-то из низших духов. А ведь верно, вот и рана. След укуса.
– Прошу прощения, господин целитель, – осмелился подать голос я. – Это был никакой не бинкицака. Его укусил кролик.
Врач поднял голову и посмотрел на меня с презрением.
– Молодой человек, я держал больного за запястье, когда он произнес слово «бинкицака», и мне ли не распознать, как изменился при этом пульс. Женщина!
Я удивленно моргнул, но целитель, как оказалось, обращался к своей жене. Они поговорили на своем языке, после чего лекарь объяснил мне, что у него возникла необходимость посоветоваться со специалистом по низшим духам, так что он посылает жену за лекарем Каме.
Старуха торопливо вышла из хижины, расталкивая локтями столпившихся вокруг зевак, любопытно вытягивавших шеи, и очень скоро к нам присоединился еще один пожилой «прощупыватель пульса». Целители Каме и Мааш совещались и что-то бормотали, потом по очереди держали вялую руку Десятого за запястье, громко выкрикивая ему в ухо: «Бинкицака!», снова обменивались мнениями. Наконец они согласно кивнули друг другу, и лекарь Каме отдал очередное распоряжение старухе. Она снова поспешно удалилась, а целитель Мааш, обращаясь ко мне, сказал:
– Бинкицака по своей природе наполовину звери, а потому не понимают смысла ритуалов, и умилостивить такую тварь жертвоприношением невозможно. А поскольку случай не терпит отлагательства, мы с моим товарищем по ремеслу решились на крайнюю меру – выжигание недуга. Мы послали за Плитой Солнца, самым священным сокровищем нашего народа.
Жена целителя вернулась в сопровождении двух мужчин, которые несли квадратную каменную плиту, на первый взгляд самую обычную. Но потом я увидел, что сверху на ней имелась жадеитовая инкрустация в форме креста. Да, изображение было очень похоже на ваш христианский символ.
Крест делил камень на четыре части, в каждой из которых было просверлено сквозное отверстие со вставленным в него куском чипилотль, то есть кварца. Но обратите внимание, мои господа, это очень важно для понимания дальнейшего: каждый из этих кристаллов был отшлифован и отполирован так, что с обеих сторон над каждым сквозным отверстием выступала гладкая выпуклость в форме закругленной морской раковины.
Пока двое мужчин держали Плиту Солнца над обессиленным больным, старуха палкой проделала в соломенной крыше несколько дыр, впустив в помещение солнечные лучи, один из которых упал прямо на страдальца. Два лекаря подтянули шкуру кугуара, чтобы придать ей нужное положение относительно луча и Плиты Солнца, после чего произошло нечто необыкновенное. Я подался вперед, чтобы рассмотреть все получше. Следуя указаниям целителей, два человека, державшие тяжелую каменную плиту, наклонили ее так, чтобы солнце светило сквозь один из вставленных в отверстия кристаллов, и направили круглое светящееся пятнышко на руку больного, прямо на язву. Потом, перемещая камень взад-вперед, но удерживая при этом луч в кристалле, они добились такой силы света, что круглое пятно превратилось в крохотную яркую точку, нацеленную прямо на болячку. Два целителя удерживали неподвижно вялую руку, а два их помощника – на одном месте точку света, и – хотите верьте, хотите нет – над безобразной язвой вдруг поднялась струйка дыма. В следующий момент послышалось шипение и появился почти неразличимый в столь ярком свете язычок пламени. Лекари принялись шевелить рукой больного таким образом, чтобы сотворенное солнцем пламя гуляло по всей язве.
Потом один из них что-то промолвил, и люди, державшие камень, вынесли его из хижины. Старуха начала метлой поправлять солому на кровле, а лекарь Мааш сделал мне знак наклониться и посмотреть. Язва полностью и чисто прижглась, как будто это было сделано с помощью раскаленного медного прута. Я поздравил двух лекарей – искренне, поскольку ничего подобного никогда раньше не видел. И порадовался, что Десятый, видимо, не почувствовал боли, поскольку за все время процедуры не издал ни звука. Однако причина оказалась в другом.
– Как ни печально, но наши усилия были напрасны, – пояснил лекарь Мааш. – Больной умер. Возможно, мы спасли бы его, скажи ты нам вовремя про бинкицака, тогда не пришлось бы тратить столько времени на обращение к богам. – Тон его, это чувствовалось даже несмотря на то, что он плохо говорил на науатлъ, был в высшей степени язвительным. – Все вы одинаковы, когда требуется лечение: упрямо умалчиваете о самых важных симптомах. Считаете, что врач должен сперва догадаться о недуге, а уж потом лечить его, а то, мол, и платить ему не за что.
– Я буду рад заплатить за твое лечение, господин целитель, – промолвил я с не меньшей язвительностью, – только будь уж так добр, скажи мне, что же ты вылечил?
Наш обмен любезностями прервала маленькая сморщенная темнокожая женщина, которая, проскользнув в хижину, робко произнесла что-то на местном языке. Лекарь Мааш раздраженно перевел:
– Она предлагает заплатить за лечение сама, если ты согласишься продать ей тело вместо того, чтобы его съесть, как вы, мешикатль, обычно делаете с умершими рабами. Эта женщина – его мать.
Я скрипнул зубами и сказал:
– Пожалуйста, объясни ей, что мы, мешикатль, никогда такого не делаем. И я бесплатно отдам ей тело ее сына. Мне очень жаль, что мы не могли вернуть его родным живым.
Когда мои слова были переведены, удрученное горем лицо женщины слегка прояснилось. Потом она задала еще один вопрос.
– По нашему обычаю, – объяснил целитель, – покойника принято хоронить на том ложе, на котором он умер. Мать хотела бы купить у тебя эту вонючую шкуру горного льва.
– Она и так принадлежит ей, – зачем-то солгал я. – Это ее сын убил кугуара.
И тут я заставил целителя отработать вознаграждение: ему пришлось переводить мой подробнейший рассказ об охоте, вполне правдивый, если не считать одной маленькой детали – вместо Пожирателя Крови главным героем этой истории я сделал умершего раба, представив дело таким образом, будто Десятый отважно спас мне жизнь, рискуя своей собственной. К концу рассказа лицо бедной женщины светилось материнской гордостью.
Она сказала что-то еще, и по-прежнему пребывавший в дурном настроении лекарь перевел:
– Эта женщина говорит, что если ее сын был так предан молодому господину, то наверняка и ты сам хороший и достойный человек. Макобу перед тобой в вечном долгу.
Тут мать позвала еще четырех человек, поджидавших снаружи, скорее всего родственников Макобу, и они унесли Десятого на проклятой шкуре, от которой ему не суждено было избавиться даже после смерти. Я покинул хижину вслед за ними и обнаружил, что мои друзья подслушивали наш разговор. Коцатль шмыгал носом, а Пожиратель Крови саркастически заметил:
– Слов нет, все это было весьма благородно. Но не приходило ли тебе в голову, мой добрый молодой господин, что эта наша так называемая торговая экспедиция пока приносит ее участникам одни лишь убытки вместо прибыли?
– Мы только что приобрели друзей, – ответил я.
И это была правда. Семья Макобу, кстати весьма многочисленная, настояла на том, чтобы мы были их гостями во время нашего пребывания в Чиапане, и не скупилась на гостеприимство и похвалы. Чего бы мы ни пожелали, все предоставлялось нам бесплатно, как бесплатно отдал я родственникам тело умершего раба. Я думаю, что Пожиратель Крови, приняв ванну и хорошенько перекусив, первым делом попросил, чтобы ему оказала внимание одна из симпатичных кузин Десятого. Ко мне, во всяком случае, приставили весьма услужливую миловидную девушку. Но я в отличие от старого вояки попросил, чтобы Макобу нашли мне какого-нибудь жителя Чиапана, хорошо владеющего науатлъ. А когда такого человека привели, первое, о чем я спросил его, было:
– Скажи, а можно ли использовать кварцевые кристаллы вроде тех, что вставлены в Плиту Солнца, для разведения огня? Вместо того, чтобы добывать его трением?
– Ну конечно, – сказал он, удивившись моему вопросу. – Мы всегда использовали кристаллы именно для этой цели. Я не имею в виду те, что находятся в Плите Солнца, они служат исключительно для церемониальных целей. Может быть, ты заметил, что там они величиной с кулак? Прозрачные кристаллы такого размера встречаются в природе настолько редко, что жрецы, понятное дело, забирают их себе и объявляют священными. Но для разжигания огня годится любой осколок, нужно лишь придать ему надлежащую форму и отполировать. – С этими словами чиапа полез под накидку и достал из пояса своей набедренной повязки кристалл точно такой же формы, похожий на выпуклую с обеих сторон морскую раковину, но величиной не превышавший ноготь большого пальца. – Вряд ли стоит говорить, молодой господин, что разжечь огонь при помощи такого кристалла можно, только когда бог Какал направляет сквозь него свой солнечный луч. Но даже ночью у кристалла есть второе применение – можно пристально рассматривать сквозь него мелкие предметы. Хочешь попробовать?
Он объяснил мне, что кристалл следует поместить на нужном расстоянии между глазом и рассматриваемым предметом (им служила вышивка на кайме моей накидки), и я чуть было не подскочил, когда узор перед моими глазами увеличился, да настолько, что мне не составляло труда различать отдельные окрашенные нити.
– И откуда вы берете эти штуковины? – спросил я, стараясь, чтобы мой голос не звучал слишком уж заинтересованно.
– Кварца в наших горах сколько угодно, – откровенно признался чиапа. – Если кому-то посчастливится наткнуться на хороший прозрачный кусочек, он приберегает его, а потом привозит сюда, в Чиапан. Здесь живет семья Ксибалба, и только они знают секрет превращения грубого камня в эти полезные кристаллы и передают его из поколения в поколение.
– О, это не особо важный секрет, – сказал нынешний мастер Ксибалба. – Не то что знание магии или умение прорицать будущее.
Я пришел к нему в сопровождении переводчика, который нас и познакомил. Похоже, знаток зажигательных кристаллов действительно не видел в своем ремесле ничего особенного.
– Тут главное знать, как придать камню соответствующие изгибы, а потом просто запастись терпением, чтобы шлифовать да полировать каждый кристалл именно таким образом.
Я постарался сказать как можно равнодушней:
– Странно, что у нас в Теночтитлане никто из ремесленников до сих пор не догадался этим заняться.
На это переводчик заметил, что вряд ли кто-нибудь из мешикатль видел раньше Плиту Солнца, а потом перевел следующее замечание мастера Ксибалбы:
– Я сказал, молодой господин, что изготовление кристаллов – это не такой уж важный секрет, но вовсе не говорил, что этим может заняться кто угодно. Скопировать такой кристалл не так-то просто. Нужно, к примеру, знать, как правильно держать камень при огранке. Первым этому научился не кто иной, как мой давний предок Ксибалба.
Мастер произнес это с гордостью, и стало понятно, что пусть этот человек и не считает свое ремесло особенно важным, но фамильного секрета он не раскроет никому, кроме своих потомков. Это меня полностью устраивало: пусть Ксибалба остаются единственными хранителями тайны изготовления кристаллов, а я закуплю их в достаточном количестве.
И словно бы между прочим, не выказывая особого интереса, я пробормотал:
– Хм, думаю... Да, пожалуй, я мог бы продать некоторое количество этих забавных диковинок в Теночтитлане или в Тескоко. Вряд ли они, конечно, могут хоть на что-то сгодиться... разве что писцам, имеющим дело со сложными, мелкими деталями словесных символов...
Когда мои слова перевели мастеру, его глаза лукаво блеснули.
– Ну и сколько этих «забавных диковинок» может понадобиться молодому господину, не уверенному в том, что они хоть на что-то сгодятся?
Я тоже ухмыльнулся и отбросил притворство.
– Это зависит от того, сколько ты сможешь их предложить и за какую цену.
– Вот посмотри, это весь запас рабочего материала, которым я на сегодня располагаю.
Он махнул рукой, указывая на стену своей мастерской, от пола до потолка сплошь состоявшую из полок, на которых были разложены завернутые в хлопковые тряпицы необработанные кристаллы кварца. Все они от природы имели шестигранную форму, но различались по величине – от сустава пальца и до небольшого маисового початка.
– Теперь взгляни, сколько я заплатил за весь этот материал, – продолжил ремесленник, подавая мне бумагу с многочисленными столбцами цифр и символов. – Пока я производил в уме вычисления, он добавил: – Из этих запасов я могу изготовить шесть раз по двадцать обработанных кристаллов различных размеров.
– И сколько времени на это уйдет? – осведомился я.
– Один месяц.
– Всего двадцать дней? А я-то думал, что столько потребуется на обработку одного кристалла.
– Мы, Ксибалба, совершенствовали свое мастерство не одну вязанку лет. Кроме того, мне помогают семеро сыновей-подмастерьев. У меня есть еще и пять дочерей, но женщинам запрещено прикасаться к необработанным камням.
– Шесть раз по двадцать кристаллов, – вслух размышлял я. Кстати, такая система счета применялась только в провинции. – И сколько бы ты запросил за работу?
– Ты ведь уже видел цифру, – сказал он, указав на бумагу.
– Наверное, я что-то не так понял, – в недоумении обратился я к переводчику. – Разве он не сказал, что эту сумму сам заплатил за необработанные камни?
Переводчик кивнул, и я вновь сказал мастеру:
– Но в этом нет никакого смысла. Даже уличный торговец тортильями просит за выпечку больше, чем сам заплатил за маис.
И ремесленник, и переводчик в ответ лишь снисходительно улыбнулись и покачали головами.
– Мастер Ксибалба, – не унимался я, – я не против того, чтобы поторговаться, но не собираюсь воровать. Честно скажу, я готов заплатить тебе в восемь раз больше первоначальной цены, буду рад заплатить вшестеро больше и счастлив – заплатить вчетверо.
– Увы, мне придется тебе отказать.
– Во имя всех ваших богов, но почему?
– Ты был другом Макобу. Стало быть, ты – друг всех чиапа, в том числе и Ксибалба. И пожалуйста, не возражай. Иди, спокойно отдыхай, гости у нас в свое удовольствие, а я пока займусь делом. Возвращайся через месяц, обработанные кристаллы будут тебя ждать.
– Получается, что мы уже нажили целое состояние?! – возликовал Пожиратель Крови, вертя в руках образчик кристалла, который подарил мне мастер. – Дальше нам и идти-то незачем. Клянусь великим Уицилопочтли, дома ты сможешь продать эти штуковины за любую цену, какую запросишь!
– Очень может быть, – сказал я. – Но кристаллы нужно ждать еще месяц, а у нас полно товаров, которые можно тем временем продать. К тому же я обязательно хочу побывать в стране майя, у меня там есть и другой интерес помимо торговли.
– Может быть, кожа у здешних женщин и темная, – проворчал он, – но во многом другом они превосходят любых красоток майя.
– Старый развратник, неужели у тебя на уме одни только женщины?
– Ну пожалуйста, давайте пойдем дальше! – взмолился Коцатль, которого вопрос о женщинах не волновал вовсе. – Нельзя же проделать такой дальний путь и не увидеть джунгли.
– Не только женщины, – возразил мне Пожиратель Крови. – Еще и еда. Эти Макобу кормят нас на славу. А не забывай, что, потеряв Десятого, мы лишились и нашего единственного умелого повара.
– Давай, Коцатль, двинем дальше вдвоем, – предложил я. – Пусть этот ленивый старикашка, если ему угодно, остается здесь и ест от пуза.
Пожиратель Крови поворчал еще некоторое время, но я прекрасно знал, что его страсть к путешествиям ничуть не уступает всем прочим аппетитам. Вскоре старый воин отправился на рынок за вещами, которые, по его мнению, должны были понадобиться нам в джунглях. Я же тем временем еще раз сходил к мастеру Ксибалбе и предложил ему выбрать что-нибудь из наших товаров в задаток или в залог. Он снова вспомнил своих многочисленных отпрысков и с удовольствием выбрал для них соответствующее количество накидок, набедренных повязок, блуз и юбок. Такой выбор порадовал и меня, ибо эти товары занимали больше всего места, так что, избавившись от них, мы смогли освободить от вьюков сразу двух рабов. Я без труда продал обоих прямо в Чиапане, и их новые хозяева заплатили мне золотым порошком.
– А теперь давай снова сходим к этому лекарю, – сказал Пожиратель Крови. – Я-то сам давно защищен против змеиных укусов, но вот вам с мальчонкой это не помешает.
– Спасибо за заботу, – ответил я, – но только здешнему целителю Маашу нельзя доверить и лечение прыща на заднице.
Но старик не отставал.
– Джунгли просто кишат ядовитыми змеями. Вот наступишь на одну, так мигом пожалеешь, что поленился заглянуть в хижину лекаря Мааша. – Он начал загибать пальцы: – Есть желтая змея чин, коралловая змея науяка...
Коцатль побледнел, и я вспомнил, как один старый торговец в Теночтитлане рассказывал, что его однажды укусила в джунглях науяка. Чтобы спастись от смерти, ему пришлось собственноручно отрубить себе ступню.
Так что мы с Коцатлем все-таки отправились к целителю Маашу. Он показал нам по одному клыку каждой из ядовитых змей, не только тех, о которых упомянул Пожиратель Крови, но и еще трех или четырех. Каждым зубом он до крови по очереди кольнул наши языки.
– Во всех этих клыках, – пояснил целитель, – остались крохотные засохшие капельки яда. Не бойтесь, от них у вас возникнет легкая сыпь. Но она за несколько дней пройдет, а вот защита против укусов всех существующих на свете змей останется. Правда, тут есть одна тонкость. – Он ухмыльнулся. – С этого момента ваши собственные зубы станут такими же ядовитыми, как зубы змеи. Так что, если вздумаете кусаться, будьте осторожны.
Итак, мы покинули Чиапан, с трудом освободившись от настойчивого гостеприимства Макобу (особенно нас не хотели отпускать молодые кузины Десятого, о которых я уже упоминал), поклявшись, что в скором времени вернемся обратно и снова будем их гостями. Чтобы продолжить путь на восток, нам предстояло преодолеть еще один горный кряж, но к тому времени бог Тацитль уже сменил гнев на милость. Потеплело, установилась обычная для этих краев погода, и подъем, хотя и завел нас на такие вершины, где даже не рос лес, оказался не столь уж и трудным. За подъемом последовал довольно крутой спуск – от покрытых одними лишайниками скал вниз, туда, где начинались деревья. Сначала мы вступили в резко пахнувший хвоей лес, состоявший из сосен, кедров и кустов можжевельника. Но когда мы спустились пониже, эти деревья начали сменяться другими, в том числе и такими, каких я никогда прежде не видел. Лес становился все гуще, и все чаще и чаще стволы оплетали всевозможные лианы.
Я сразу понял, что в джунглях мое плохое зрение не помеха, ибо больших расстояний там просто не существовало. Невероятной формы деревья, губчатые грибы, плесень, плющ – все находилось в непосредственной близости, теснилось и обступало нас со всех сторон, почти не давая дышать. Балдахин листвы над головой походил на сплошной покров из зеленых облаков, под сенью которого даже в полдень царил зеленый сумрак. Все растущее здесь, даже лепестки цветов, сочилось чем-то теплым, влажным и клейким. Несмотря на сухой сезон, сам воздух джунглей был густым, влажным, и казалось, будто мы дышим туманом. Джунгли источали пряные, мускусные и гнилостные запахи перезревших плодов. Бурно разросшаяся поросль уходила корнями в толстый слой перегноя.
С верхушек деревьев до нас доносились вопли обезьян-ревунов и обезьян-пауков, а также трескучие крики возмущенных нашим вторжением попугаев; а вокруг, словно стрелы с разноцветным оперением, мелькали многочисленные яркие птахи. Воздух был полон ярких колибри размером не больше бабочки и причудливо окрашенных бабочек величиной с летучих мышей. В подлеске и в траве у нас под ногами что-то беспрерывно шуршало и шелестело: какие-то мелкие существа при нашем приближении торопливо убегали или уползали прочь. Возможно, среди них имелись и смертельно опасные змеи, но в большинстве своем то были безобидные ящерки итцан, бегавшие на задних лапах, древесные лягушки и пятнистые игуаны с гребнями на спине. Маленькие зверьки с лоснящимся коричневым мехом, они называются джалеб, выскакивали прямо из-под ног, а потом замирали и таращились на нас похожими на бусинки глазами. Появление людей пугало и более крупных и не таких симпатичных обитателей джунглей – громоздкого тапира, лохматую капибару, муравьеда, чьи лапы вооружены внушительными когтями, и даже аллигаторов и кайманов – этих грозных хищников стоит бояться лишь в воде, когда переходишь вброд речушки.
Для подавляющего большинства здешних обитателей мы представляли куда большую угрозу, чем они для нас. За время, проведенное в джунглях, мы благодаря метким выстрелам Пожирателя Крови постоянно ели свежее мясо джалеб, игуанов, капибар и тапиров. Вы спрашиваете, мои господа, съедобны ли эти звери? О, вполне. Мясо джалеб неотличимо от мяса опоссума, у игуаны оно белое и слоистое, словно у морского рака, которого вы называете омаром, капибара на вкус напоминает нежнейшую крольчатину, а мясо тапира очень похоже на свинину.
Единственным большим зверем, которого нам приходилось опасаться, был ягуар. В этих южных джунглях огромных кошек столько же, сколько во всех прочих землях, вместе взятых. Конечно, только очень старый или больной ягуар, голодный и не способный охотиться на более ловких существ, напал бы на взрослого человека. Но маленький Коцатль вполне мог показаться коту подходящей добычей, так что мы никогда не разрешали мальчику далеко от нас уходить. А когда мы гуськом шли через джунгли, Пожиратель Крови заставлял нас держать копья вертикально, наконечниками вверх, ибо излюбленный способ охоты ягуаров заключается в том, чтобы, развалившись на ветке, лениво дожидаться, пока внизу не появится ни о чем не подозревающая добыча.
В Чиапане Пожиратель Крови приобрел для нас два вида специальных приспособлений, без которых в джунглях просто не выжить. Во-первых, легкие, тонкие противомоскитные сетки, которыми мы частенько прикрывались не только по ночам, но и во время дневных переходов, настолько многочисленны и назойливы были летающие вокруг насекомые. Другой совершенно незаменимой вещью оказались подвесные койки под названием гише – сетки из тонкой веревки, сплетенные в форме бобового стручка; такую кровать можно было подвесить между двумя любыми соседними деревьями. Гише гораздо удобнее обычного тюфяка, и с того времени я непременно брал ее с собой во все путешествия, если путь пролегал по местности, где росли деревья.
Эти подвесные койки делали нас недоступными для большинства змей, а противомоскитные сетки защищали от кровососущих летучих мышей, скорпионов и прочих кусачих паразитов. Но вездесущих муравьев ничто не могло остановить. Используя растяжки подвесных коек как мосты, они перебирались к нам и проникали под сетки. Если кому-нибудь из вас, почтенные братья, захочется узнать, насколько болезненно кусаются обитающие в джунглях огненные муравьи, подержите один из кристаллов мастера Ксибалбы, когда на него падает солнечный луч, над своей кожей.
Но попадались и твари пострашнее муравьев. Однажды утром я проснулся с ощущением какой-то тяжести на груди и, осторожно подняв голову, увидел там покрытую густой черной шерстью лапу размером вдвое толще моей ладони.
«Неужели это обезьяна? – подумал я в полусне. – Не иначе какая-то новая разновидность, больше человека». Но потом до меня дошло, что это вовсе не мохнатая обезьянья лапа, а здоровенный паук-птицеед, от серповидных челюстей которого меня отделяет лишь тонкая ткань противомоскитной сетки.
Ни разу в жизни я не вскакивал утром с такой живостью и не выбирался из-под покрывал с такой быстротой. Одним прыжком я оказался возле потухшего лагерного костра, издав вопль, от которого все остальные почти так же стремительно вскочили на ноги.
Но далеко не все в джунглях опасно или ядовито. Для путешественника, принимающего разумные меры предосторожности, джунгли могут быть гостеприимными и красивыми. Они изобилуют дичью и съедобными растениями: зачастую даже пугающие с виду губчатые наросты оказывались приятными на вкус. Есть там одна лиана в руку толщиной, которая покрыта коркой и выглядит сухой, словно обожженная глина. Но если от нее отрезать кусок, то увидишь, что внутри она пористая, как пчелиные соты, а в этих сотах скапливается прохладная, свежая, чистая вода. Что же касается красоты джунглей, то все многообразие их красок просто невозможно описать. Скажу лишь, что только цветов там тысячи, и среди этого множества я не припомню и двух одинаковых.
Наиболее красивыми из всех встречавшихся нам птиц были, безусловно, разнообразные виды кецаль с яркими хохолками и красочными хвостами. Правда, самую величественную и прекрасную на свете птицу – кецаль тото, чьи изумрудно-зеленые перья на хвосте имеют длину в половину человеческого роста, нам доводилось увидеть нечасто, да и то мельком. Эта птица гордится своим великолепным оперением не меньше, чем те знатные люди, которые украшают ее перьями свои головные уборы. Так, во всяком случае, рассказывала мне одна девушка из народа майя, звали ее Икс Йкоки. По ее словам, кецаль тото строит шарообразное гнездо, единственное из всех птичьих гнезд, где имеются два отверстия, так что птица может залезть в гнездо с одной стороны и вылезти с другой, не имея надобности разворачиваться внутри, рискуя сломать одно из своих дивных хвостовых перьев. А еще, опять же если верить Икс Йкоки, когда кецаль тото лакомится фруктами, она поедает их, не расположившись удобно на ветке, но на лету, чтобы капающий сок, не дай бог, не запятнал ее роскошное оперение.
Раз уж я упомянул эту девушку, Икс Йкоки, то заодно замечу, что она, как и все прочие обитавшие там человеческие существа, мало что добавляла к красоте джунглей. Согласно преданиям майя, они некогда создали цивилизацию столь богатую, могущественную и блистательную, что мы, мешикатль, даже отдаленно не могли с ними соперничать, и сохранившиеся руины их древних городов подтверждают правдивость таких рассказов. Существовали также свидетельства того, что майя переняли свои знания и умения непосредственно от несравненных тольтеков, прежде чем великий народ Мастеров ушел в неизвестность. С одной стороны, майя почитают тех же самых богов, что и тольтеки, которых, кстати, позднее признали и в Мешико: благородного Пернатого Змея, Кукулькана, коего мы называем Кецалькоатль, или, например, бога дождя (у нас он носит имя Тлалок, а у них – Чак).
И в этом путешествии, и в последующих я видел немало заброшенных городов майя и не могу не признать, что в пору своего расцвета города эти наверняка производили потрясающее впечатление. На их опустевших площадях и в безлюдных дворах до сих пор можно увидеть достойные восхищения статуи, резные каменные панели, богато орнаментированные фасады домов и даже фрески, краски которых не потускнели за вязанки вязанок лет, миновавшие со времени их создания. Особенно поразили меня дверные и оконные проемы стрельчатой и арочной формы, совершенно неизвестные в нашем зодчестве.
Упорный и вдохновенный труд многих поколений художников и ремесленников майя создал эти полные великолепия и чудес города, но ныне все они заброшены и забыты. Развалины не сохранили никаких следов разрушительного вражеского вторжения или какой-либо природной катастрофы, но тем не менее тысячи жителей по неизвестной причине покинули их все до единого. Потомки же майя настолько невежественны и лишены интереса к собственной истории, что не потрудились даже создать правдоподобную легенду, в которой попытались бы объяснить, почему их предки покинули эти города, бросив дворцы и храмы посреди бурно разрастающихся джунглей. Нынешние майя совершенно не в состоянии объяснить, почему они, потомки и наследники творцов всего этого великолепия, ютятся в убогих деревеньках и строят шалаши из травы на окраинах поселений своих славных предков.
Обширная страна майя, некогда управлявшаяся из единого центра, столицы под названием Майяпан, давно распалась на отдельные, почти не связанные друг с другом области. Я со своими спутниками путешествовал по самой, пожалуй, интересной из таких областей – краю роскошных джунглей, именовавшемуся Тамоан Чан, что значит Край Туманов, простирающемуся далеко на восток от рубежей Чиапа. Севернее (там я побывал позднее) находится большой, вдающийся в Северный океан полуостров, к берегу которого и причалили ваши первые испанские корабли.
По мне, так одного взгляда на те негостеприимные бесплодные земли было вполне достаточно, чтобы уплыть домой на всех парусах и больше сюда не возвращаться.
Они, однако, не только не уплыли, но и дали этой стране свое имя, еще более нелепое, чем название Коровий Рог для города Куаунауака или Тортилья для той местности, что раньше звалась Тлашкала.
Когда те, первые испанцы высадились на сушу и спросили: «Как называется это место?», жители, никогда раньше не встречавшие испанцев и сроду не слышавшие их языка, естественно, ответили: «Йектетан», что означает лишь: «Я тебя не понимаю». Но ваши мореплаватели приняли это за название полуострова, переиначили его малость на свой манер, и боюсь, что теперь эта местность уже всегда будет именоваться Юкатан. Однако мне едва ли стоит над этим смеяться, ибо первоначальное название Юлуумиль Кутц, что значит Край Изобилия, ничуть не менее нелепо, ибо большая часть полуострова бесплодна и непригодна для проживания людей.
Точно так же, как ныне страна их разделена на отдельные области, так и сами майя представляют собой уже не единый народ с единой столицей и правителем, но множество враждующих друг с другом племен, возглавляемых мелкими вождями. Все они относятся к соседям-сородичам с неприязнью и пренебрежением, однако при этом настолько лишены энергии и воли и пребывают в такой апатии, что нисколько не тяготятся своим нынешним существованием, которое их предки сочли бы невероятно убогим. Зато каждое из этих ничтожных племен утверждает, будто ему одному принадлежит священное право на наследие великого имени майя. А вот по моему глубокому убеждению, древние майя с презрением отреклись бы от таких потомков.
И то сказать: эти неотесанные невежды не знают даже подлинных имен городов, созданных их великими предками, и называют их кому как заблагорассудится. В одном из древних городов, например, хоть он и задушен джунглями, еще сохранились высокая пирамида, дворец с башенками и многочисленные храмы. Так только представьте, эти простаки без затей называют его Паленке, то есть словом, которым на их языке обозначается любое святилище. В другом заброшенном городе прекрасные галереи еще не полностью поглощены вездесущими лианами и ползучими растениями, так что на их стенах сохранились искусные фрески, изображающие сцены сражений, дворцовых церемоний и тому подобное. А потомки этих самых воинов и придворных, когда их спрашивают об этом удивительном городе, лишь равнодушно пожимают плечами и называют его Бонампак, что означает всего-навсего Раскрашенные Стены. На полуострове Юлуумиль Кутц сохранился город, почти не затронутый разрушением. Он заслуживает названия Обители Рукотворной Красы, ибо не может не восхищать изысканностью и утонченностью зодчества, однако местные жители называют его Юксмаль, что значит Трижды Построенный.
Еще один поразительный город расположен глубоко в джунглях, на вершине холма, господствующего над широкой рекой. Я насчитал в нем несколько сотен фундаментов колоссальных строений, сложенных из внушительных блоков зеленого гранита; мне кажется, то был величайший и самый блистательный из всех древних городов майя. Но ничтожные отпрыски великих предков, обитающие поблизости, именуют его просто Яксчилан, то есть Зеленые Камни. О, я готов признать, что некоторые из этих племен – особенно шию, что живут на севере, – и по сей день проявляют некоторую любознательность и жизнеспособность, искренне сожалея об утраченном величии. У них сохраняется наследственное разделение на свободных людей (знатных и простолюдинов) и рабов, они помнят кое-что из познаний предков. Их мудрецы сведущи в арифметике и ведут календарь, в этом племени немало умелых целителей и костоправов. Они бережно сохраняют обширные библиотеки, состоящие из книг, написанных их предками, правда при этом так мало знают о своей собственной истории, что поневоле усомнишься в том, что даже самые образованные их жрецы хоть раз заглядывали в эти старые книги.
Но даже у древних, цивилизованных и культурных майя был ряд обычаев, которые современным людям покажутся по меньшей мере странными. И можно лишь сожалеть о том, что их потомки, вместо того чтобы сохранить достойные восхищения знания, навыки и умения своих предков, предпочли соблюдать эти нелепые традиции. В первую очередь всякого путешественника (и я не стал исключением) удивляет более чем своеобразное представление майя о человеческой красоте.
Судя по старинным картинам и рельефам, майя всегда гордились своими крючковатыми, на манер ястребиных клювов, носами и скошенными подбородками; мало того, они всячески старались усилить собственное сходство с хищными птицами. Только представьте: майя, как древние, так и нынешние, намеренно, с самого рождения, деформировали черепа своих детей. Ко лбу младенца привязывали плоскую доску, которая оставалась там первые несколько лет жизни. Когда ее наконец снимали, лоб у ребенка был скошен так же круто, как и подбородок, делая и без того своеобразной формы нос еще более похожим на клюв.
Но это еще не все. Мальчик или девочка майя, даже будучи обнаженными, всегда носили вокруг головы повязку, с которой свисал, болтаясь между глаз, глиняный шарик. Делалось это для развития косоглазия, каковое майя, где бы они ни обитали и к каким бы слоям общества ни принадлежали, всегда считали одним из важнейших признаков подлинной красоты. У некоторых их мужчин и женщин глаза косят так сильно, что создается впечатление, будто лишь возвышающийся посередине наподобие утеса нос не позволяет им слиться воедино. Я уже говорил, что джунгли края Тамоан Чан полны дивных красот, но это едва ли относится к обитающим там людям.
Я, пожалуй, вообще не стал бы упоминать об этих женщинах с их птичьими лицами, если бы мне, когда мы остановились в деревеньке Тцотци, не показалось, что одна девушка майя не сводит с меня глаз. Решив, что она влюбилась в меня с первого взгляда, я представился девушке, переведя свое имя, Темная Туча, на их язык, то есть назвавшись Эк Мюйаль. В ответ эта особа смущенно пролепетала, что ее зовут Икс Йкоки, или Вечерняя Звезда. Только оказавшись совсем рядом, я понял, что меня подвела близорукость: обнаружив, как сильно эта девушка косит, я сообразил, что на самом деле она вовсе не смотрела в мою сторону, так что влюбленность, скорее всего, была лишь плодом моего воображения. Даже когда мы стояли лицом к лицу, взгляд девушки, похоже, мог быть с равной вероятностью обращен на дерево за моей спиной, на ее собственные босые ступни или на то и другое одновременно. Это несколько обескуражило меня, но, движимый любопытством, я постарался убедить Икс Йкоки провести со мной ночь. Не скажу, чтобы испытал какое-то извращенное вожделение, предположив, будто у девушки с косыми глазами что-нибудь еще тоже может быть устроено как-нибудь по-особенному. Любопытство носило несколько иной характер: меня уже давно занимал вопрос, каково это – иметь дело с женщиной (неважно, с какой именно) на подвесной койке? Рад сообщить, что это оказалось не только вполне возможным, но даже восхитительным. Я так увлекся, что лишь когда мы, обессиленные, отстранились друг от друга и лежали в сетке, которую раскачали движениями своих тел, вдруг вспомнил, что в порыве страсти несколько раз укусил девушку, причем один раз даже до крови. А ведь целитель Мааш предупреждал, что после его прививки наши зубы стали ядовитыми, как у змей. Я так расстроился, что до утра не мог заснуть, терзаемый угрызениями совести и дурными предчувствиями. Я боялся, что Икс Йкоки сейчас забьется в конвульсиях или что она медленно окоченеет рядом со мной. Я предавался угрюмым размышлениям насчет того, какое наказание предусмотрено местными законами за убийство. Но Икс Йкоки в отличие от меня всю ночь безмятежно посапывала своим большим носом, а когда поутру соскочила с подвесной койки, ее косые глаза светились от удовольствия.
Я, разумеется, обрадовался, что не убил девушку, но, с другой стороны, и обеспокоился. Если старый «прощупыватель пульса», утверждая, будто наши зубы стали ядовитыми, как у змей, всего лишь следовал одному из дурацких суеверий своего народа, то весьма вероятно, что ни мы с Коцатлем, ни Пожиратель Крови не имели никакой защиты от змеиных укусов. Я поделился своей тревогой со спутниками, и с тех пор мы, пробираясь сквозь джунгли, гораздо внимательнее следили за тем, куда ставили ноги и за что хватались руками.
Несколько позже мне довелось-таки встретиться с одним из целителей майя, прославившимся своим умением врачевать глазные недуги. А ведь надежда поправить зрение и была одной из важнейших причин, по которой я вообще затеял это дальнее путешествие. Звали целителя Ах Чель, и он происходил из племени чоксиль. Я посчитал это добрым знаком, ибо чоксиль означает народ Летучих Мышей, а летучие мыши, как всем известно, славятся способностью видеть в темноте. Целитель Ах Чель обладал также двумя достоинствами, внушавшими мне доверие: говорил на вполне вразумительном науатлъ и сам не был косоглазым. Боюсь, что вряд ли бы решился доверить свое зрение косоглазому врачевателю.
Этот лекарь не прощупывал пульса, не призывал богов, не произносил заклинаний и не творил никаких колдовских обрядов. Начал он прямо с того, что закапал мне в глаза по несколько капель сока травы камопальксилуитль, чтобы зрачки расширились и он мог получше их разглядеть. Пока мы дожидались, когда снадобье подействует, я, наверное, чтобы заглушить собственное волнение, без умолку болтал, рассказав ему в том числе и о мошеннике Мааше, а также о том, как заболел и умер Десятый.
– Кроличья лихорадка! – уверенно заявил целитель Ах Чель. – Радуйтесь, что больше никто из вас не касался того больного кролика. Лихорадка не убивает сама по себе, но ослабляет заразившегося ею человека настолько, что он уже не в силах противостоять другому недугу, который наполняет легкие больного густой жидкостью. Твой раб, возможно, и выжил бы, если бы вы вовремя спустили его с гор в низину, где воздух не разреженный, но густой и насыщенный. А теперь давай посмотрим тебя.
Достав прозрачный кристалл, несомненно одно из изделий мастера Ксибалбы, целитель пристально всмотрелся в каждый мой глаз, после чего сел и решительно заявил:
– Молодой Эк Мюйаль, с твоими глазами все в порядке...
– Ничего себе в порядке! – воскликнул я, с горечью решив, что опять нарвался на такого же невежду и пройдоху, как лекарь Мааш. – По-твоему, если я вижу не дальше, чем на расстоянии протянутой руки, то это совершенно нормально?
– Говоря «все в порядке», я имел в виду, что ты не страдаешь никакой глазной болезнью, которую можно было бы лечить.
Я выругался на манер Пожирателя Крови, отчего, думаю, у великого бога Уицилопочтли зачесались срамные места. Лекарь, однако, жестом велел мне не богохульствовать, а послушать его.
– Ты видишь вещи смазанными из-за формы твоих глаз, но тут уж ничего не поделаешь. Необычной формы глазное яблоко искажает зрение таким же образом, как вот этот необычной формы кристалл. Помести его между глазом и цветком, и ты ясно увидишь цветок. Но если будешь разглядывать через кристалл сад вдалеке, он покажется тебе размытым цветным пятном.
– Значит, – печально сказал я, – мне не приходится надеяться ни на какие снадобья?
– Мне очень жаль, но они тебе не помогут. Будь у тебя заболевание, которое мы называем черной мушкой, я мог бы, так сказать, «отмыть» твои глаза с помощью целебных настоев. Дефект, именуемый «белой вуалью», можно устранить с помощью ножа, и это если и не восстановит зрение до идеального состояния, то значительно его улучшит. Но не существует никакого средства, позволяющего изменить форму или размер глазного яблока, не разрушив его вовсе. И мы вряд ли когда-нибудь научимся врачевать такие недуги, во всяком случае надежды на это у нас не больше, чем на то, чтобы выведать тайну места, куда уходят старые аллигаторы.
– Значит, мне придется прожить всю жизнь, щурясь, подобно кроту? – уныло пробормотал я.
– Ну, – промолвил целитель, похоже, отнюдь не сочувствуя моей жалости к себе, – ты можешь прожить остаток дней, благодаря богов за то, что не подцепил вдобавок к своему недостатку также «мошку», «вуаль» или еще какую-нибудь гадость и не ослеп вовсе. За свою жизнь ты сможешь увидеть многих, кого постигла именно такая участь. – Он помолчал, давая мне осмыслить его слова, а затем едко заключил: – А вот они увидеть тебя не смогут.
Вердикт целителя поверг меня в такое уныние, что до самого конца нашего пребывания в Тамоан Чан я находился в подавленном состоянии и, боюсь, досаждал этим своим спутникам. Когда проводник из племени покомам, что обитает в дальних восточных джунглях, повел нас полюбоваться тамошними чудесными озерами, я взирал на эти природные красоты так холодно, словно Чак, бог дождя майя, создал их исключительно ради того, чтобы мне досадить. А ведь там было на что посмотреть: объединенные под общим названием Цискао примерно шесть десятков водоемов разного размера – от маленьких прудов до настоящих озер; хотя в них вроде бы не впадает не только рек, но даже ручьев, но водоемы эти никогда не пересыхают в сухой сезон и никогда не выходят из берегов в сезон дождей. Но самое удивительное, что вода во всех них разного цвета.
Когда мы поднялись на возвышенность, откуда открывался вид на шесть или семь таких озер одновременно, наш проводник горделиво сказал:
– Смотри, молодой путешественник Эк Мюйаль. Вот это озеро темное, зеленовато-голубое, а вон то – цвета бирюзы, третье – ярко-зеленое, словно изумруд, четвертое имеет тускло-зеленый цвет жадеита, а следующее – бледно-голубое, как зимнее небо...
Я пробурчал:
– Да хоть красное, как кровь, толку-то что?
Однако озера и впрямь были чудесны, просто я взирал и на них, и на все прочее сквозь мрак собственного отчаяния.
Правда, некоторое время я лелеял надежду исправить дело с помощью зажигательного кристалла мастера Ксибалбы. Мне казалось, что с его помощью, если только правильно держать кристалл, можно зрительно приблизить и лучше рассмотреть отдаленные объекты. Я держал кварц на расстоянии длины руки и пытался разглядеть сквозь него стоявшие в отдалении деревья, но они выглядели еще более размытыми, чем когда я смотрел на них невооруженным глазом. Неудивительно, что эти неудачные опыты лишь усугубляли мое уныние.
Я держался угрюмо и неприветливо даже с теми состоятельными майя, которые покупали наши дорогостоящие товары, но, к счастью, поскольку они пользовались спросом, местные богатеи больше интересовались покупками, чем поведением купца. Когда речь заходила об оплате, я бесцеремонно отказывался принимать шкуры ягуаров, оцелотов и других животных, равно как и перья тукана или арара, однако вожделенные золотой песок и медные слитки в стране майя были редкостью. Поэтому мне пришлось объявить, что наши товары – ткани, одежда, украшения, безделушки, притирания и благовония – будут обмениваться только на перья кецаль тото.
Вообще-то по закону любой охотник-птицелов, добывший, эти изумрудно-зеленые перья длиной в ногу, был обязан под угрозой смерти немедленно подарить их своему племенному вождю, который использовал их либо как личное украшение, либо для расчетов с другими вождями майя и более могущественными правителями иных народов. Но на самом деле (думаю, это можно не объяснять) птицеловы отдавали своим вождям лишь часть этих редчайших перьев, а остальное оставляли для собственного обогащения. А поскольку я решительно отказывался принимать в уплату что-либо, кроме оперения кецаль тото, то покупатели, у которых этих перьев вроде бы и быть-то не могло, где-то их находили.
По мере того как мы избавлялись от наших товаров, я постепенно распродавал и рабов, которые их несли. В этой стране лентяев даже среди знати было немного людей, которым нашлось к чему приставить рабов, да и мало кто имел возможность их содержать. Однако каждый вождь племени считал, что чем больше у него рабов, тем выше его положение над прочими, и потому стремился обзавестись толпой совершенно бесполезных и лишь опустошающих его кладовые невольников. Благодаря этому суетному тщеславию мне удалось выгодно, за золотой порошок, продать по паре своих рабов вождям племен чоксиль, куиче и чельталь, так что назад, в страну чиапа со мной отправились лишь двое. Один тащил большой, но почти невесомый тюк перьев, а ноша другого состояла из тех немногих товаров, которые мы пока не распродали.
Верный своему обещанию, мастер Ксибалба выполнил работу в срок, и ко времени нашего возвращения в Чиапан нас уже дожидалось сто двадцать семь кристаллов различного размера, за которые я благодаря продаже рабов смог, как и обещал, заплатить ему чистым золотым порошком. Пока ремесленник бережно заворачивал каждый кристалл по отдельности в хлопок и складывал их все вместе в ткань, чтобы получился аккуратный узел, я через переводчика обратился к нему с вопросом:
– Мастер Ксибалба, эти кристаллы заставляют предмет, на который смотришь, выглядеть больше. А удавалось ли тебе сделать такой кристалл, который уменьшал бы предметы?
– Конечно, – ответил он с улыбкой. – Такими вещами забавы ради занимался еще мой предок, да и я тоже этим баловался.
Тогда я поведал мастеру о своем слабом зрении и добавил, что, по мнению целителя майя, причиной тому особое устройство моего глазного яблока, сходного по форме с увеличительным кристаллом. Я объяснил Ксибалбе свою задумку: если я невооруженным глазом вижу мир, как через увеличительный кристалл, то не попробовать ли мне взять уменьшительный?..
Мастер посмотрел на меня с интересом, потер подбородок, хмыкнул и удалился в глубь своей мастерской. Вернулся он, неся деревянный поднос с мелкими ячейками, в каждой из которых находилось по кристаллу. Они были разной формы, некоторые даже походили на миниатюрные пирамиды.
– Я держу их только как диковинки, – объяснил Ксибалба. – Пользы в этих камнях никакой, но некоторые из них обладают удивительными свойствами. Этот, например. – Он поднял маленький трехгранный брусочек. – Это не кварц, но прозрачный вид известняка. Подержи его на солнце и увидишь, что он отбрасывает свет на твою ладонь.
Я так и сделал, уже отчасти приготовившись, что сейчас вздрогну от ожога. Вместо этого я вскрикнул от удивления. Солнечный луч, пройдя сквозь кристалл, разукрасил мою ладонь крохотным подобием разноцветной радуги, которую можно увидеть в небе после дождя.
– Но ведь тебе нужны не игрушки, – сказал ремесленник. – Вот, держи.
И он дал мне кристалл, обе поверхности которого были вогнутыми: камень походил на два блюда, скрепленных днищами.
Я поднял его над вышитой каймой своей накидки, и ширина узора съежилась наполовину. Я поднял голову и, все еще держа кристалл перед собой, посмотрел на мастера. Черты его лица, до сих пор размытые, внезапно обрели четкость, хотя само лицо сделалось настолько маленьким, словно Ксибалба вмиг перенесся на ту сторону площади.
– Вот так диво! – изумленно воскликнул я, положив кристалл и потирая глаза. – Я видел тебя... но очень далеко.
– А, значит, этот уменьшает слишком сильно. Они все действуют по-разному. Попробуй другой... вот.
Этот кристалл был вогнут только с одной стороны, тогда как другая поверхность была идеально ровной. Я осторожно поднял его.
– Вижу, – произнес я так, словно возносил благодарственную молитву самому благодетельному из богов. – Я могу видеть далеко и близко. Немного мешают крапинки и какая-то рябь, но в остальном я вижу так же ясно и четко, как когда был ребенком. Мастер Ксибалба, ты сделал то, что оказалось не под силу прославленным целителям майя. Ты вернул мне зрение!
– А мы-то хороши, – пробормотал мастер, похоже потрясенный не меньше меня. – Ведь долгие вязанки лет мы думали, что от этих штуковин нет никакого толку. Ну и ну... – Затем он заговорил деловито и решительно: – Стало быть, для этого требуется особый кристалл – плоский с одной стороны и вогнутый с другой. Но не можешь же ты ходить повсюду, держа эту штуковину перед собой, как сейчас. Это все равно что постоянно пялиться в замочную скважину. Попробуй поднести его совсем близко к глазу.
Я так и сделал, но тут же вскрикнул:
– Больно, как будто мой глаз вытягивают из глазницы!
– Значит, опять попался слишком сильный кристалл. К тому же ты говорил о точках и ряби. Стало быть, нужно поискать камень, в котором меньше изъянов, чем в самом тончайшем кварце. – Он улыбнулся и потер руки. – Благодаря тебе у меня, первого в долгой череде поколений мастеров Ксибалба, появилась по-настоящему новая задача. Приходи завтра.
Хотя меня просто переполняло волнение, я, однако, ничего не сказал своим спутникам, ибо слишком боялся, что и этот опыт провалится, а мои надежды вновь окажутся тщетными. Мы снова остановились у Макобу, где с превеликими удобствами и к немалому удовольствию двух уже упоминавшихся кузин прожили шесть или семь дней. Все это время я ходил к Ксибалбе по нескольку раз в день: мастер скрупулезно трудился над самым точным кристаллом, какой ему когда-либо случалось изготовить.
Он раздобыл удивительно прозрачный топаз и вознамерился превратить его в диск такого размера, чтобы он прикрывал мой глаз от брови до скулы. Снаружи диск должен был оставаться плоским, что же до его толщины и кривизны вогнутой внутренней стороны, то здесь определить нужные величины можно было лишь опытным путем. Мастер стачивал камень совсем по чуть-чуть, раз за разом прилаживая кристалл к глазу и вновь всматриваясь в него.
– Я буду делать камень все тоньше и мало-помалу увеличивать дугу кривой, – пояснил он, – пока мы не добьемся, чтобы кристалл уменьшал именно настолько, насколько тебе требуется. Тут важно не пропустить момент. Ведь если я сточу чуть больше, кристалл будет испорчен.
Вот почему я возвращался к нему в мастерскую вновь и вновь. Когда один мой глаз наливался кровью от напряжения, я менял его на другой, и так до бесконечности. Но наконец, к моей невыразимой радости, наступил великий день, когда я, приложив кристалл сначала к одному, а потом к другому глазу, смог сказать, что вижу с его помощью просто великолепно. Все вокруг, от книги, которую я держал в руке, и до деревьев возле самого горизонта, предстало моему взору четко и ясно. Я был вне себя от восторга, да и мастер Ксибалба испытывал почти такое же воодушевление, раздуваясь от гордости за свое невиданное творение.
Напоследок отполировав кристалл влажной пастой из какой-то красной глины, он вставил его в прочное медное кольцо с короткой рукояткой, держась за которую я мог подносить кристалл к любому глазу, на свое усмотрение. Рукоятка крепилась к кожаному ремешку, так что у меня теперь имелась возможность постоянно носить это бесценное приспособление на шее и не бояться его потерять. Вернувшись в дом Макобу, я поначалу никому его не показал, поджидая случая по-настоящему удивить Коцатля и Пожирателя Крови.
После ужина, когда уже темнело, мы вместе с хозяйкой дома, матерью покойного Десятого, и несколькими ее родичами сидели во дворике перед их хижиной. Взрослые мужчины курили. Должен сказать, что у чиапа покуитль не в ходу. Вместо этого они используют пикфетль и набитый пахучими травами глиняный кувшин, в котором проделано несколько отверстий. Содержимое кувшина поджигают и раскуривают через вставляемые в отверстия с разных сторон камышинки.
– Вон идет красивая девушка, – пробормотал Пожиратель Крови, указывая своей камышинкой в сторону улицы.
Без кристалла я едва мог различить бледные контуры какой-то фигуры, движущейся в сумерках, но сейчас заявил:
– Хотите, я подробно опишу вам ее?
– Что? – буркнул старый солдат, приподняв бровь, и в насмешку вспомнил мое прежнее прозвище. – Хорошо, Связанный Туманом, ну-ка опиши нам красавицу!
Я приложил кристалл к левому глазу и даже в слабом вечернем свете увидел девушку ясно и отчетливо. А потом подробнейшим образом перечислил решительно все подробности, которые смог рассмотреть: ее телосложение, цвет кожи, длину волос, форму голых лодыжек и босых ступней. Я описал не только правильные черты действительно красивого лица, но даже так называемый «гончарный» узор вышивки, украшавшей ее блузу.
– На волосы, – заключил я, – эта красотка накинула тонкую вуаль, а под нее поместила несколько живых светлячков. Необычное, но очаровательное украшение.
Физиономии моих товарищей вытянулись от изумления, и я, не сдержавшись, расхохотался.
Поскольку у меня не было возможности рассматривать предметы одновременно обоими глазами, тому, что я видел, недоставало глубины и объемности. Тем не менее я снова мог видеть почти так же отчетливо, как в детстве, и меня это вполне устраивало. Могу добавить, что топаз имел бледно-желтый оттенок, поэтому, глядя сквозь него, я даже в пасмурные дни видел все словно бы в солнечном свете, так что окружающий мир представлялся мне еще более приятным, чем всем остальным. Правда, посмотревшись в зеркало, я обнаружил, что меня самого кристалл красивее не делал, поскольку прикрытый им глаз казался гораздо меньше другого. Кроме того, поскольку поначалу я постоянно держал кристалл в левой руке, в то время как правая была занята, меня одно время сильно мучили головные боли. Но стоило мне приучиться прикладывать топаз по очереди то к одному, то к другому глазу, как боль мигом прошла.
Я понимаю, почтенные писцы, что вас, должно быть, забавляет, как много внимания уделяю я приспособлению, в котором, с вашей точки зрения, нет ничего необычного. Но другой такой инструмент я увидел лишь много лет спустя, когда впервые встретился с самыми первыми испанцами, прибывшими в наш край. Один из братьев-монахов, сопровождавших генерал-капитана Кортеса, носил сразу два таких кристалла, по одному для каждого глаза; их удерживал кожаный ремешок, который был обвязан вокруг его головы.
Но мне и мастеру Ксибалбе это казалось тогда неслыханным изобретением. И представьте, этот замечательный мастер отказался взять какую-либо плату не только за свой труд, но даже за топаз, который наверняка сам по себе стоил немало. Ксибалба объяснил, что одно то, что он стал первым создателем столь удивительной и замечательной вещи, уже являлось для него высокой наградой. Поскольку уговорить мастера принять хоть что-нибудь кроме заранее оговоренной платы за кристаллы кварца так и не удалось, я оставил у семьи Макобу немало перьев кецаль тото, чтобы они передали их ему после моего отъезда, когда отказаться уже будет невозможно. Я отдал ему тогда столько перьев, что мастер Ксибалба, наверное, стал самым богатым человеком в Чиапане, но он, по моему мнению, вполне этого заслуживал.
Ведь той ночью я видел звезды!
Естественно, что от моего уныния не осталось и следа. Воспрянув духом, я заявил своим товарищам:
– Теперь, когда ко мне вернулось зрение, я хотел бы увидеть океан.
Случившаяся перемена настолько их обрадовала, что возражений не последовало, и, покинув Чиапан, мы направились не на запад, а на юг, где вынуждены были перебираться через очередное нагромождение гор, даже не совсем гор, а дремлющих вулканов. Однако нам удалось миновать их без приключений и добраться до одной из приморских Жарких Земель. Земля эта, населенная народом маме, представляет собой плоскую равнину, а тамошние жители занимаются главным образом выращиванием хлопка и добычей соли, которые потом меняют на другие товары. Хлопок возделывают на плодородной полосе сдобренного перегноем суглинка, пролегающей между скалистым предгорьем и песчаным побережьем. В тот раз мы попали туда в разгар зимы и потому не приметили там ничего особенного. А вот позднее я посещал Шоконочко в самый жаркий сезон, когда на полях столько огромных коробочек хлопка, что даже зеленые стебли, на которых они растут, не видны, и вся местность, несмотря на палящее солнце, кажется покрытой толстым снежным одеялом.
Соль здесь добывают круглый год: окружают насыпью мелкие лагуны вдоль побережья, дожидаются, когда вода высохнет, а потом собирают осадок, который, чтобы отделить соль от песка, приходится просеивать сквозь сито. Соль, которая тоже бела, как снег, отличить от песка совсем нетрудно, ибо все пляжи Шоконочко состоят не столько из настоящего песка, сколько из тускло-черных пыли и пепла, выбрасываемых не столь уж далекими вулканами. Даже пена прибоя в этом южном море не белая, но имеет грязно-серый оттенок, поскольку волны бесконечно взбивают и перемешивают темный песок.
Поскольку и сбор хлопка, и добыча соли – занятия нудные и утомительные, маме охотно заплатили нам немало золотого порошка за двух последних рабов, а заодно купили и те немногие товары, которые у нас еще оставались. Таким образом, мне, Коцатлю и Пожирателя Крови пришлось нести только свои дорожные котомки, маленький сверток с кристаллами и громоздкий, но не тяжелый тюк с перьями – груз, прямо скажем, необременительный. К счастью, за весь обратный путь нам ни разу не пришлось столкнуться с разбойниками. Возможно, мы не привлекли их внимания потому, что совершенно не походили на караван почтека, но не исключено, и что все промышлявшие в тех краях разбоем уже прознали, какова была участь шайки, попытавшейся нас ограбить.
На север мы двигались без помех, по равнинной местности, оставляя слева от себя полосу пенистого прибоя да спокойные лагуны, а справа высокие горы. Погода держалась теплая, так что мы лишь дважды остановились на ночлег в деревнях – в селении Пиджиджиа, что в земле маме, и в селении Тонала, где обитало племя миксе. Мы соблазнились возможностью как следует вымыться и отведать приморских яств: сырых черепашьих яиц, тушеного черепашьего мяса, вареных креветок, сырых или приготовленных на пару устриц всех видов и даже вареной мякоти чудища под названием йейемичи, которое, как мне сказали, является самой большой рыбой в мире. Могу добавить, что и самой вкусной. В конце концов мы свернули на запад и вновь оказались на перешейке Теуантепек, но в город с тем же названием на сей раз заходить не стали, поскольку повстречали одного торговца, со слов которого выходило, что если взять малость левее, то можно перевалить через горы Семпуюла намного более легким путем. Конечно, мне бы хотелось снова повидать прелестную Джай Беле, а заодно, кстати, и навести справки насчет таинственного устричного пурпура, но только после столь дальних и долгих странствий меня гораздо сильнее тянуло домой. А поскольку я знал, что и моим спутникам тоже не терпится вернуться поскорее, мы решили свернуть туда, куда предлагал торговец. У этого пути имелось и другое достоинство: он пролегал по той части края Уаксьякак, где мы еще не бывали. На прежнюю дорогу мы вернулись, лишь добравшись до столицы сапотеков – города Цаачилы.
Так же как некоторые дни месяца считаются благоприятными для отправления в торговую экспедицию, есть и такие, которые наиболее подходят для возвращения. Чтобы точно подгадать время, мы, приближаясь к дому, задержались и даже провели, бездельничая, лишний денек в приятном горном городке Куаунауаке. Ну а после того, как с последнего подъема открылся вид на озера и остров Теночтитлан, я все время останавливался, чтобы полюбоваться на них через кристалл. Поскольку смотреть приходилось одним глазом, это лишало панораму города объемности, но от представшего мне зрелища все равно захватывало дух. Белые здания и роскошные дворцы поблескивали в лучах весеннего солнца, сады на их крышах радовали взор яркими красками, над очагами и алтарями поднимались струйки голубоватого дыма, в мягком воздухе почти неподвижно парили стяги из перьев, и над всем этим господствовала массивная, увенчанная двумя храмами-близнецами Великая Пирамида.
С гордостью и волнением мы наконец перешли дамбу Койоакана и в отмеченный благоприятным предзнаменованием День Первого Дома месяца Великого Пробуждения года Девятого Ножа вступили в великую столицу. Мы отсутствовали сто сорок два дня, то есть более семи месяцев по нашему календарю, пережили множество приключений, повидали немало диковинных мест и народов, но от души радовались своему возвращению в средоточие могущества и величия мешикатль, в Сердце Сего Мира.
Независимо от того, сколь успешным было путешествие того или иного почтека, торжественное вступление в город купеческих караванов посреди бела дня считалось бахвальством и находилось под запретом. Но любой почтека и без того знал, что при возвращении лучше проявить скромность. Далеко не все в Теночтитлане понимали, что благополучие Мешико во многом зависело от бесстрашных странствующих купцов. Простые люди завидовали их богатству, а многие представители знати предпочитали видеть источник процветания страны не в мирной торговле, а в войне, приносившей добычу и дававшей возможность облагать другие народы данью. Поэтому каждый возвращавшийся домой почтека при входе в город одевался как можно проще, появлялся под покровом сумерек, да и нагруженные сокровищами носильщики старались следовать за ним поодиночке, дабы не привлекать внимания. Дома купцов тоже не отличались внешней роскошью, хотя по коробам и ларям у многих из них были припрятаны богатства, на которые вполне можно было построить дворец, способный соперничать с резиденцией самого юй-тлатоани. Так или иначе, нам троим не было никакой необходимости входить в Теночтитлан тайком: без носильщиков, в запыленной износившейся одежде, всего лишь с парой тюков на закорках, мы едва ли могли привлечь к себе чье-то завистливое внимание, да и направлялись мы не в собственный дом, а на постоялый двор.
На следующее утро, приняв подряд несколько ванн и основательно отмокнув в парилке, я облачился в свое лучшее платье и явился во дворец Чтимого Глашатая Ауицотля. Поскольку дворцовый управляющий меня знал, ждать аудиенции долго не пришлось. Я поцеловал землю перед Ауицотлем, но вот от того, чтобы посмотреть в кристалл и разглядеть его получше, воздержался, побоявшись, что владыке может не понравиться, если его будут, бесцеремонно рассматривать этаким манером. А сердить этого человека, способного быть столь же свирепым, как и скалившийся над его головой гризли, мне вовсе не хотелось.
– Мы приятно удивлены, увидев, что ты вернулся целым и невредимым, почтека Микстли, – грубовато поприветствовал он меня. – Значит, твоя экспедиция увенчалась успехом?
– Полагаю, Чтимый Глашатай, она оказалась прибыльной, – ответил я. – Когда старейшины почтека оценят мой груз, ты сможешь судить об этом по причитающейся твоей казне доле. А пока, мой господин, я надеюсь, что ты сочтешь заслуживающей интереса эту хронику.
С этими словами я вручил одному из его придворных истрепавшиеся в пути листы с отчетом о путешествии. Там содержалось по большей части то, о чем я рассказал вам, почтенные братья, правда, столь несущественные детали, как встречи с женщинами, были опущены, а вот местность, где мне довелось побывать, наоборот, описывалась во всех подробностях. Ко всем описаниям прилагались нарисованные мною по пути карты.
Ауицотль поблагодарил меня:
– Мы и наш Изрекающий Совет изучим это самым внимательным образом.
– На тот случай, если некоторые из твоих советников вдруг окажутся стары и слабы зрением, владыка Глашатай, могу предложить полезную новинку, – сказал я, вручая ему один из кристаллов. – Некоторое количество таких диковинок я привез для продажи, но самый лучший и большой кристалл дозвольте мне преподнести в дар юй-тлатоани.
На владыку это, похоже, не произвело особого впечатления, пока я не попросил разрешения подойти и показать ему, как именно этот подарок можно использовать для более подробного и внимательного ознакомления с письмами или документами. Ну а потом, подойдя к окну с клочком бумаги, я продемонстрировал, как с помощью этого же кристалла можно добыть огонь. Правитель пришел в восторг и удостоил меня множества похвал.
Много позднее мне рассказали, что Ауицотль брал свой зажигательный камень в каждый военный поход, которых он совершил множество. Однако больше всего он любил развлекаться с кристаллом в мирное время. Чтимый Глашатай запомнился подданным своим вспыльчивым и жестоким нравом, так что капризного самодура у нас до сих пор называют ауицотлем. Но видимо, этому тирану была свойственна еще и детская проказливость. Частенько, ведя беседу с кем-нибудь из своих величавых степенных мудрецов, он увлекал собеседника к окну и незаметно наводил с помощью зажигательного камня световой луч на какую-нибудь не защищенную одеждой часть его тела. А когда старый мудрец подскакивал с резвостью молодого кролика, Чтимый Глашатай хохотал до упаду.
Из дворца я вернулся в гостиницу за Коцатлем и Пожирателем Крови, которые к тому времени уже вымылись и переоделись. Мы отнесли два тюка наших товаров в Дом Почтека, где были немедленно препровождены к тем самым трем старейшинам, которые помогали мне собираться в путешествие. Пока разносили сдобренный соком магнолии шоколад, Коцатль развернул первый тюк – тот, что побольше.
– Аййо! – промолвил один из старцев. – Да у тебя, я вижу, одних перьев наберется на целое состояние. Вот что тебе надо сделать: сперва добейся, чтобы богатейшие представители знати принялись наперебой предлагать за эти перья золотой порошок, и взвинти цену до предела, а уж потом сообщи Чтимому Глашатаю, что у тебя имеется столь ценный товар. Он заплатит сколько угодно из простого самолюбия, лишь бы подчеркнуть свое превосходство.
– Как посоветуете, мои господа, – согласился я и сделал Коцатлю знак развязать узел поменьше.
– Гм-гм! – сказал второй старец.
– Да, похоже, что тут ты дал маху, – вздохнул третий. Он меланхолично повертел между пальцами два или три кристалла.
– Форма, конечно, хороша, огранка и шлифовка выше всяких похвал, но, увы, это не драгоценные камни. Даже не самоцветы. Всего лишь кусочки кварца – камня, еще более распространенного, чем жадеит, но в отличие от последнего не имеющего никакого символического или церемониального значения.
Коцатль не выдержал и хихикнул, не удержался от ухмылки и Пожиратель Крови. Улыбнулся и я, предвкушая развлечение. И точно: стоило мне показать старейшинам, для чего годятся эти кристаллы, как почтенные купцы пришли в возбуждение.
– Невероятно! – промолвил один из них. – Ты доставил в Теночтитлан нечто совершенно новое и небывалое!
– Где ты их раздобыл? – поинтересовался другой, но тут же поправился: – Нет-нет, даже и не думай отвечать. Прости, что спросил. Уникальное сокровище должно принадлежать одному только первооткрывателю.
– Самые крупные кристаллы мы предложим наиболее знатным вельможам... – заговорил третий.
Я перебил его, объяснив, что полезные свойства камней не зависят от их размера, но опытный торговец только отмахнулся:
– Это не имеет значения. Каждый пипилтин захочет иметь кристалл того размера, какой сочтет подобающим своему рангу и самомнению. Я предлагаю тебе продавать камни на вес, причем для начала запроси в золоте в восемь раз больше. Не сомневайся, пипилтин будут похваляться друг перед другом богатством и щедростью, так что ты не прогадаешь.
– Но, мои господа, – изумленно воскликнул я, – не мог же я всего за один поход заработать больше золота, чем вешу сам! Получается, что, даже заплатив все, что полагается Змею-Женщине и вашему почтенному сообществу, мы трое, поделив оставшуюся выручку, займем место среди самых богатых людей Теночтитлана.
– А тебя это не устраивает?
– Не то чтобы не устраивает, – запинаясь пробормотал я, – просто мне это кажется не совсем правильным. Такая баснословная выгода – и всего от одной торговой экспедиции! Причем от продажи, как вы верно заметили, самого обычного кварца, который можно поставлять на рынок в любых количествах. А я действительно могу обеспечить зажигательными кристаллами всех жителей во владениях Союза Трех.
– Возможность такая у тебя, может быть, и есть, – строго заметил один из старейшин, – но, если у тебя имеется еще и здравый смысл, ты не станешь этого делать. Ты сам сказал, что первым обладателем магического камня уже стал Чтимый Глашатай. А это значит, что сто двадцать шесть оставшихся кристаллов могут достаться только ста двадцати шести представителям самой высшей знати. Будь уверен, сынок, вельможи стали бы яростно торговаться за право заполучить эти штуковины, даже будь они сделаны из глины. Впоследствии ты сможешь совершить новое путешествие и доставить очередную партию диковин, но их количество всегда должно быть ограниченным.
Коцатль светился радостью, а Пожиратель Крови чуть ли не млел от счастья.
– Пожалуй, ты прав, – промолвил я, – богатство нам вовсе не помешает.
– Тем паче, – заметил другой старейшина, – что возможность потратить некую его часть представится вам незамедлительно. – Ты упомянул о том, что придется заплатить установленные доли в казну Теночтитлана и нашему богу Йакатекутли. Но известно ли тебе, что по традиции каждый вернувшийся домой почтека, если, конечно, он вернулся с достойной прибылью, устраивает пир для всех остальных купцов, находящихся в это время в городе?
Я покосился на своих спутников и, когда те без колебаний кивнули, сказал:
– Я с большим удовольствием последую этому славному обычаю, мои господа, но я человек новый и мало сведущ в том, как это делается...
– Мы будем рады тебе помочь, – заявил тот же самый старейшина. – Давай назначим празднество на послезавтра. И проведем его в этом здании, благо здесь есть все необходимое. Мы позаботимся о еде, закусках, музыкантах, танцовщицах и женщинах для особых услуг и, само собой, проследим, чтобы все уважаемые почтека получили приглашения. Ты и твои друзья, со своей стороны, можете пригласить всех, кого сочтете нужным. Ну а пышным будет этот пир или скромным, – добавил старец, лукаво склонив голову набок, – зависит от твоего вкуса и от твоей щедрости.
Я снова переглянулся с друзьями, а потом с воодушевлением заявил:
– Почтенные господа, я хотел бы попросить вас, чтобы все на этом пиру было только самое лучшее, а уж за ценой я не постою. Хочу, чтобы этот пир запомнился надолго.
Да уж, господа писцы, мне, во всяком случае, он запомнился навсегда.
И хозяева, и гости были разодеты на славу. Сделавшись полноправными (и удачливыми) почтека, я, Коцатль и Пожиратель Крови обрели право носить определенный набор золотых украшений и изделий из драгоценных камней, указывающий на наше новое положение. Однако мы не стали этим злоупотреблять. Я, например, ограничился золотой застежкой для накидки, подаренной мне давным-давно госпожой Толланой, да маленьким изумрудом в ноздре. Зато уж саму накидку я надел из лучшего хлопка, с богатой вышивкой, а к ней – сандалии из кожи аллигатора, со шнуровкой до колена. Мои длинные, отросшие за время странствий волосы были собраны на затылке плетеным ремешком из красной кожи.
Во внутреннем дворе здания, над огромным ложем из углей, шипели, жарясь на вертелах, туши трех оленей, и все, что подавалось в тот день, выглядело отменно и было превосходно на вкус. Звучала музыка – приятная, но не слишком громкая. Красивые женщины оживляли пир, прохаживаясь среди гостей, и время от времени то одна, то другая из них исполняла грациозный танец.
К нам троим в тот вечер приставили трех специальных рабов, и когда те не подкладывали на тарелки яства и не подливали в бокалы напитки, они обмахивали нас огромными опахалами из перьев. Мы познакомились с другими купцами и выслушали множество рассказов об их походах, приключениях и приобретениях. Пожиратель Крови пригласил на пир четверых или пятерых своих старых приятелей-воинов и вскоре вместе с ними основательно напился. Мы с Коцатлем никого в Теночтитлане не знали и от себя лично не приглашали, однако среди гостей неожиданно оказался и мой старый знакомый.
– Крот, ты не перестаешь меня удивлять, – прозвучал вдруг чей-то голос.
Я, повернувшись, увидел сморщенного, согбенного, почти беззубого старика с кожей цвета бобов какао, того самого, который не раз появлялся невесть откуда в наиболее важные моменты моей жизни. Правда, на этот торжественный пир он заявился не в столь неряшливом виде, как обычно. Во всяком случае, поверх набедренной повязки он еще надел и накидку.
– Называть меня Кротом больше нет причин, – отозвался я, приглядываясь к старику сквозь топаз и невольно отмечая в его облике нечто... очень знакомое, кого-то он мне напоминал.
– Как тебя ни встречу, – с едкой ухмылкой заметил старик, – ты обязательно уже не тот, кем был раньше. То школяр, то писец, то помилованный преступник, то награжденный за героизм воин. А теперь еще и процветающий купец, задающий пир на весь мир.
– Между прочим, – ответил я, – это ты надоумил меня отправиться путешествовать. А что это ты так улыбаешься, разве я не могу отметить успех своего предприятия, устроив пиршество?
– Успех твоего предприятия? – насмешливо переспросил он. – Может, скажешь, и все предыдущие достижения были исключительно твоими собственными? Тебе никто не помогал? Ты обходился своими силами?
– Почему это никто? – промолвил я. – Здесь присутствуют мои добрые друзья и партнеры по этому путешествию...
– Так-то оно так. Но разве могло бы это путешествие вообще осуществиться, не получи ты тогда так неожиданно щедрый подарок?
– Это правда, – согласился я. – И я, разумеется, намерен отблагодарить дарителя и выделить долю...
– Поздно. Она умерла.
– Она? – недоумевающе повторил я, ибо считал своим благодетелем Несауальпилли. – Кого ты имеешь в виду, старик?
– Твою покойную сестру, – сказал он. – Этот таинственный подарок был завещан тебе Тцитцитлини.
Я покачал головой.
– Ты что-то путаешь, моя сестра действительно мертва. Но она умерла задолго до того, как я получил упомянутый дар, не говоря уж о том, что у нее никогда не было такого богатства.
– Владыка Красная Цапля, наместник Шалтокана, – продолжал старик, не обращая внимания на мои слова, – также умер, пока ты странствовал на юге. Но перед смертью он призвал к своему одру жреца богини Тласольтеотль и сделал такое поразительное признание, что его не смогли сохранить в тайне. Несомненно, некоторые из присутствующих здесь влиятельных людей слышали эту историю, хотя учтивость не позволяет им говорить об этом с тобой.
– Какую историю? Какое признание? Да и о чем вообще речь?
– О том, что Красная Цапля скрыл злодеяние, совершенное его покойным сыном Пактли в отношении твоей сестры.
– Ну, – хмыкнул я, – как раз в этом особой тайны для меня не было. Тебе ли не знать, что я отомстил ему за убийство сестры.
– Отомстить-то ты отомстил. Да вот только Пактли не убивал Тцитцитлини.
Я отшатнулся, как от удара, и в изумлении разинул рот.
– Господин Весельчак подверг ее мучительным пыткам и изувечил, но Тцитци не суждено было умереть от этих мучений. А потом Пактли, при попустительстве своего отца и, по крайней мере, с молчаливого согласия родителей девушки, тайно увез ее с острова. В этом Красная Цапля признался жрецу Пожирательницы Скверны, и, когда жрец сделал это его признание достоянием гласности, весь Шалтокан пришел в негодование. Должен с прискорбием сообщить, что тело твоего отца нашли на дне карьера, куда он, по всей видимости, в отчаянии спрыгнул. Ну а твоя матушка, та попросту трусливо сбежала с Шалтокана. Куда, к счастью для нее, никто не знает. Вот, собственно говоря, и все новости, – заключил он, делая вид, будто собирается уйти. – Можешь веселиться дальше.
– Постой! – воскликнул я, удержав старика за край накидки. – А ну-ка остановись, ходячая тьма Миктлана. Выкладывай, что же стало с Тцитцитлини? И каким образом она могла преподнести мне такой дар?
– Она завещала тебе всю сумму, которую получила (а Ауицотль заплатил ей немало), когда продала себя в здешний зверинец. Поскольку кто она и откуда, несчастная никому не рассказывала, в народе ее знали как женщину-тапира...
Наверное, не сжимай я в тот миг плечо старика, мне бы не устоять на ногах. Пиршественный зал исчез, и перед глазами, словно я заглянул в туннель памяти, предстали сначала столь любимая мной изящная, грациозная Тцитцитлини, а потом жалкое, уродливое, увечное существо, которое я видел в зверинце. Я вспомнил, как меня выворачивало от отвращения, а из единственного глаза чудовищного человеческого обрубка падала единственная слеза.
Собственный голос зазвучал в моих ушах глухо, как будто я действительно стоял в длинном туннеле:
– Так ты все знал! Гнусный старикашка, тебе было обо всем известно еще до признания Красной Цапли! Знал, и привел меня к ней, и поминал при Тцитци женщину, с ложа которой я только что встал, и нарочно спросил, не хочу ли я...
Я задохнулся, ибо при одном лишь воспоминании об этом меня едва не вырвало снова.
– Хорошо, что ты смог увидеть сестру в последний раз, – отозвался старик со вздохом. – Вскоре после этого она умерла. На мой взгляд, смерть для Тцитци стала благом, хотя Ауицотль был очень раздосадован, поскольку сильно на нее потратился.
Я опомнился, обнаружив, что яростно трясу этого человека и бессвязно выкрикиваю:
– Я ни за что не стал бы есть мясо тапира в джунглях, если бы мне раньше сказали! Но ты-то знал все, с самого начала! Откуда? Отвечай немедленно!
Но вместо ответа старик мягко сказал:
– Считалось, что женщина-тапир не может передвигаться, ибо превратилась в массу раздувшейся плоти. Но она каким-то образом перевернулась и упала ничком, придавив свой уродливый нос, отчего не смогла дышать и умерла от удушья.
– Ну а теперь проваливай отсюда, проклятый вестник зла! – вскричал я, вне себя от горя и ярости. – Убирайся обратно в Миктлан, где тебе самое место!
И я устремился в толпу гостей, с трудом разбирая его бормотание:
– Хранители зверинца по-прежнему утверждают, что женщина-тапир не могла умереть без посторонней помощи. Она была достаточно молода и могла бы жить в той клетке еще много, много лет...
Я нашел Пожирателя Крови и, бесцеремонно прервав его разговор с приятелями, сказал:
– Мне срочно нужно оружие. У тебя есть при себе кинжал?
Он пошарил под накидкой и, икнув, спросил:
– А зачем это тебе понадобился кинжал? Оленину резать?
– Нет, – ответил я. – Хочу кое-кого убить.
– Попойка только началась, а ты уже готов на смертоубийство? – Пожиратель Крови достал короткий обсидиановый клинок и прищурился, чтобы получше меня разглядеть. – Я знаю того, кого ты собрался убить?
– Нет. Это один мерзкий старикашка. Весь такой коричневый и сморщенный, как боб какао. Никто по нем не заплачет. – И я протянул руку. – Ну же, давай!
– Никто не заплачет?! – воскликнул Пожиратель Крови, отдернув руку с ножом. – Да ты хоть понимаешь, что собрался прирезать самого юй-тлатоани Тескоко? Микстли, ты, должно быть, пьян, как сорок кроликов из поговорки.
– Кто-то из нас точно пьян! – рявкнул я. – Кончай болтать и давай сюда клинок!
– Как бы не так. Видел я твоего коричневого старикашку и сразу его узнал. – Пожиратель Крови убрал нож обратно. – Он оказал нам честь своим присутствием, хоть и пришел тайно, в маскарадном костюме. Каково бы ни было твое горе, подлинное или мнимое, сынок, я не допущу, чтобы ты...
– Маскарад? – пробормотал я. – Правитель Тескоко?
Слова Пожирателя Крови несколько остудили мой порыв.
– Наверное, кроме нас, воинов, ходивших с ним в походы, никто об этом и не догадывается, – сказал один из ветеранов, гостей Пожирателя Крови. – Несауальпилли любит разгуливать в обличье простого человека, чтобы быть ближе к своим подданным и увидеть то, чего не разглядишь с высоты трона. А среди тех, кто знает об этом, не принято показывать, что они в курсе дела.
– Да у вас тут у всех ум за разум зашел от пьянства, – проворчал я. – Можно подумать, будто мне не случалось видеть Несауальпилли. Что-что, а уж зубы-то у него все на месте.
– Всего и дела-то – зачернить пару-тройку зубов несколькими мазками окситль, – усмехнулся Пожиратель Крови и в очередной раз икнул. – Кстати, с помощью того же окситль можно избороздить лицо поддельными морщинами. Темный оттенок коже придает масло грецкого ореха. Ну а тому, что все его тело выглядит сморщенным и иссохшим, а руки шишковатыми, как у древнего старца, Чтимый Глашатай обязан своему особому таланту перевоплощения.
– Это точно, Несауальпилли такой способный актер, что ему нет даже особой нужды в маскировке, – сказал другой солдат. – Стоит ему одеться попроще да извозиться в пыли, и он уже выглядит совершенно другим человеком. – Тут вояка, следуя примеру Пожирателя Крови, икнул и предложил: – Если тебе приспичило сегодня вечером непременно убить Чтимого Глашатая Тескоко, так чего мелочиться, займись заодно и Ауицотлем! Сей Мир будет у тебя в долгу...
Я отошел от пьяной компании в самых смятенных чувствах: горе и ярость остались, но теперь к ним добавилась еще и досада из-за того, что я выставил себя полным дураком.
Решив наконец, что разумнее будет не бросаться на Несауальпилли (или таинственного чародея, или бога зла) с ножом, а получить у него ответы на множество терзавших меня вопросов, я вновь принялся искать старика, но совершенно безуспешно. Он исчез, но вместе с ним у меня бесследно исчезло и какое бы то ни было желание пировать и веселиться дальше. Тихонько ускользнув из Дома Почтека, я вернулся в гостиницу и принялся укладывать в котомку то самое необходимое, без чего не обойтись в путешествии. Маленькая фигурка богини любви Хочикецаль, когда-то принадлежавшая Тцитци, сама оказалась в моей руке, но рука тут же отдернулась, как будто фигурка была раскалена докрасна. Я не стал класть ее в мешок.
– Я увидел, как ты уходишь, и отправился за тобой, – прозвучал с порога голос Коцатля. – Что случилось?
– Нет у меня настроения распинаться о том, что случилось, тем паче что, кажется, об этом знает каждый досужий сплетник.
– Можно, я пойду с тобой?
– Нет.
Лицо мальчика вытянулось, и я торопливо сказал:
– Послушай, мне необходимо побыть некоторое время одному, чтобы попробовать во всем разобраться. Не переживай зря, ты ведь остаешься не беззащитным, лишенным хозяина рабом (помнишь, ты раньше этого боялся?) и не жалким бедняком. Ты теперь состоятельный человек и сам себе господин. Как только старейшины разберутся с нашей выручкой, ты получишь свою долю. А что касается моей доли, то ее, вместе со всеми пожитками, я хочу пока доверить твоему попечению. Можно?
– Конечно, Микстли.
– Пожиратель Крови собирается съехать из казарм. Можете построить дом на двоих, хотя средств у вас хватит и каждому на свое собственное жилье. Ты можешь продолжить учебу, заняться каким-нибудь ремеслом или завести дело. А обо мне не грусти, я ведь не навсегда ухожу. Вот когда-нибудь я вернусь, и, если к тому времени у тебя и у нашего старого защитника еще не угаснет интерес к странствиям, отправимся вместе в новое путешествие.
– Когда-нибудь, – грустно повторил за мной Коцатль, но потом расправил плечи. – Ладно, чего зря говорить. Но раз уж ты так неожиданно уходишь, можно, я хотя бы помогу тебе собраться?
– Да, можно. В заплечном мешке и в кошельке, который зашит в мою набедренную повязку, я понесу всякие мелкие ценности, предназначенные для дорожных расходов. Однако на тот случай, если мне встретится нечто небывалое, не помешает иметь при себе и золото. Но золотой порошок надо спрятать так, чтобы разбойникам, пусть даже я попаду им в лапы, было непросто его найти.
Коцатль подумал немного и сказал:
– Некоторые путешественники выплавляют из порошка маленькие слитки и прячут их в прямую кишку.
– Нет уж, эту уловку знает каждый грабитель. Я думаю, лучше использовать волосы, благо они у меня длинные. Видишь, Коцатль, я высыпал порошок из перьев на эту тряпицу. Сделай из нее аккуратный пакетик, и давай придумаем способ запрятать его где-нибудь у меня на загривке, под волосами.
Пока я собирал свою торбу, Коцатль тщательно складывал ткань снова и снова. Пакетик получился небольшой, размером с его ладошку, но оказался настолько тяжелым, что поднять его мальчик мог только двумя руками. Я сел и склонил голову, а Коцатль стал прилаживать пакет мне на загривок.
– Сейчас... чтобы не свалился... – бормотал он. – Надо подумать...
В конце концов мальчик привязал к каждому концу пакета бечеву, которую пропустил позади моих ушей, и скрыл все под повязкой, похожей на налобную лямку носильщика. Такие повязки, чтобы волосы не падали на глаза, носят многие путники.
– Все, порядок, – заявил наконец Коцатль. – Пакет закреплен надежно и совершенно не виден. Конечно, ветер может растрепать волосы, но тогда просто сделай из своей накидки капюшон. Понял?
– Да. Спасибо, Коцатль. – Я немного помолчал и быстро, поскольку у меня не было желания задерживаться, добавил: – И до свидания. До встречи!
Я ни капли не боялся Рыдающей Женщины или иных злобных тварей, которые рыщут в ночи, подстерегая неосторожных путников. Напротив, при воспоминании о Ночном Ветре (или о незнакомце в запыленной одежде, так часто встречавшемся мне в ночные часы) я сердито фыркал.
Я снова вышел из города по дороге, ведущей через южную дамбу на Койоакан. Когда я проходил мимо цитадели Акачинанко, часовые немало удивились, увидев одинокого путника, шагавшего по дороге посреди ночи. Но поскольку я был богато одет и не походил на вора или беглого раба, задерживать меня они не стали, а, задав несколько вопросов, дабы убедиться, что я не пьян и отдаю себе отчет в своих действиях, пропустили.
Свернув затем налево, на Мешикалчинко, я миновал этот спящий городок и, нигде не останавливаясь, шел дальше на восток всю ночь. С рассветом на дороге стали попадаться и другие путники; они осторожно здоровались и при этом удивленно на меня поглядывали. Тут до меня дошло, что человек в дорогом праздничном платье, с изумрудом в носу, в выходных сандалиях со шнуровкой по колено и драгоценной застежкой на плече, но с повязкой на лбу и с котомкой странствующего торговца на спине действительно производит странное впечатление. Пришлось убрать украшения в торбу, а накидку, чтобы спрятать вышивку, вывернуть наизнанку. Пакет на загривке поначалу раздражал меня, но в конце концов я привык к нему и снимал, только когда ложился спать или купался.
В то утро я упорно шел на восток, навстречу восходящему солнцу, не ощущая ни усталости, ни потребности в сне, а в голове моей царила сумятица мыслей и воспоминаний. (Вы никогда не замечали, мои господа, что горе вызывает у нас сонмы воспоминаний о счастливых временах, в сравнении с которыми нынешнее плачевное положение кажется еще более мучительным?) Весь тот день я в основном вновь брел по той самой тропе вдоль южного берега озера Тескоко, по которой вместе с победоносной армией Несауальпилли возвращался из похода в Тлашкалу. Но спустя некоторое время дорога эта отклонилась от берега озера, и я оказался в краю, где никогда прежде не бывал.
Я странствовал более полутора лет и побывал во многих новых землях, пока не попал наконец туда, куда мне и было нужно. Причем все это время, господа писцы, я пребывал в таком душевном расстройстве, что едва ли осознавал, что видел и что делал. Думаю, не запади мне тогда в память многие слова из бытующих в тех краях языков, я не смог бы толком восстановить впоследствии даже общий маршрут, которым следовал. Но некоторые события запечатлелись-таки в моих воспоминаниях, поскольку выделялись из обыденной каждодневной жизни, подобно тому как возвышаются над равниной конусы вулканов.
Я предпринял рискованное путешествие в Куаутлашкалан, край Орлиных Утесов, где уже побывал однажды в составе армии завоевателей. Разумеется, узнай тамошние жители, что я мешикатль, мне бы оттуда не вернуться. А умирать в Тлашкале, скажу я вам, радости мало, ибо в тех краях бытует просто смехотворное суеверие. В той стране полагают, что людей знатных блаженство ожидает и после смерти, а вот простому человеку ни на что подобное рассчитывать не приходится. Якобы благородные дамы и господа, сбросив телесную оболочку, воплощаются в плавающие по небу облака, в птиц в сияющем оперении или в сказочной красоты драгоценные камни, тогда как умерших простолюдинов ждет участь навозных жуков, крыс или вонючих скунсов.
Так или иначе, я не умер в Тлашкале, ибо не был разоблачен как мешикатль. Хотя мы издавна воевали с тлашкалтеками, но внешне ничем друг от друга не отличаемся, да и язык у нас общий, а подражать местному выговору я научился очень быстро. Собственно говоря, навлечь на меня подозрение могло лишь одно: я, молодой здоровый мужчина, не имел никаких видимых ран и увечий. То памятное сражение уменьшило число взрослых, но не старых тлашкалтеков примерно в десять раз. Правда, уже подрастало новое поколение юношей. Они росли со жгучей ненавистью к Мешико и твердым намерением отомстить. Взросление этого поколения совпало с появлением ваших соотечественников, испанцев, поэтому во что в конце концов вылилась ненависть жителей Тлашкалы к нам, вы прекрасно знаете.
Но тогда до всех этих великих событий было еще далеко, и я бесцельно и беспечно блуждал по Тлашкале. И даже то, что я был одним из немногих взрослых, не пострадавших на войне мужчин, особых хлопот мне не доставляло. Если не считать повышенного внимания со стороны многочисленных местных вдовушек, которым надоело спать в одиночестве в своих холодных постелях.
Оттуда я двинулся на юг к городу Чолула, столице земель тья-нья, пожалуй, последнему крупному поселению народа Земли. Нет никаких сомнений, что миштеки, как называли этот народ все, кроме их самих, некогда создали и сохранили на зависть остальным просто удивительную культуру. Например, в Чолуле я видел очень древние сооружения, украшенные мозаикой, подобной тончайшей вышивке. Судя по всему, именно эти здания и послужили образцами для храмов, возводившихся сапотеками в Святом Доме народа Туч.
В Чолуле есть также гора, на вершине которой в ту пору красовался посвященный Кецалькоатлю величественный храм, весьма искусно украшенный цветными рельефными изображениями Пернатого Змея.
Вы, испанцы, сровняли этот храм с землей, но, по всей видимости, все-таки надеетесь почерпнуть кое-что от святости этого места, ибо, как я слышал, собираетесь возвести там христианскую церковь. В связи с чем позвольте заметить, что тамошняя храмовая гора – вовсе даже не гора, а пирамида, рукотворный холм, сделанный из великого множества обожженных на солнце кирпичей. Кирпичей этих, надо думать, там больше, чем шерстинок на шкурах целого стада оленей, а поскольку сложена пирамида была в незапамятные времена, над кирпичами давно образовался слой почвы и они заросли травой. Возможно, это самая древняя пирамида в здешних краях и уж совершенно точно самая большая из всех когда-либо построенных. Да, с виду это теперь самая обычная гора, склоны которой поросли деревьями и кустами, так что смотреться на ней ваша церковь, возможно, будет и неплохо, но, мне кажется, вашему Господу Богу не слишком понравится, что его святилище высится на пирамиде, воздвигнутой в честь языческого бога.
Столицей миштеков управлял не один человек, но двое, равных по могуществу. Их называли Тлакуафач – Владыка Высокого и Тлачиак – Владыка Низменного. Это подразумевало четкое разграничение духовной и мирской власти, но на деле это разграничение было не столь уж четким. Мне рассказывали, что вожди эти зачастую не ладили, а порой и откровенно враждовали между собой, но как раз тогда они, по крайней мере временно, объединились, затеяв какую-то мелкую распрю с Тлашкалой. Что послужило предметом того спора, я уж не помню, но вскоре в город прибыло специально отправленное для его разрешения посольство из четырех знатных тлашкалтеков.
Однако Владыка Высокого и Владыка Низменного не только отказались от переговоров и не приняли миссию, но и приказали дворцовой страже, изувечив посланников, вытолкать их из города древками копий. Четверым знатным тлашкалтекам ободрали с лиц кожу, после чего они, окровавленные и стенающие, побрели обратно. Лица их представляли собой сырое мясо, клочья кожи свисали на грудь, и, я полагаю, все мухи Чолулы последовали за ними из города на север. Я не сомневался, что за таким страшным оскорблением, скорее всего, последует война, а поскольку вовсе не горел желанием защищать чужой город, решил поспешно покинуть Чолулу. Путь мой лежал дальше, на восток.
Перейдя очередную невидимую границу, я оказался в стране тотонаков. Целые сутки я провел в деревушке, на постоялом дворе, из окон которого открывался вид на могучий вулкан под названием Килалтепетль, Звездная Гора. Мне доставляло немалое удовольствие с помощью топазового кристалла рассматривать из утопавшей в зелени деревеньки далекую заснеженную и окутанную облаками вершину.
Килалтепетль – самая высокая гора Сего Мира, настолько высокая, что всю ее верхнюю треть, за исключением того времени, когда происходят извержения и на склоны ее изливается багровая лава, покрывают вечные снега. Мне рассказывали, что когда испанские моряки подплывают к нашему берегу, то первым делом они видят издали снежную белизну вершины днем и красное ее свечение – ночью. Килалтепетль стара как мир, но и по сей день ни один человек, хоть местный житель, хоть испанец, не поднимался на ее вершину. А найдись такой смельчак, его, скорее всего, смели бы оттуда проплывающие над самой горной вершиной звезды.
Пройдя всю страну тотонаков, я вышел к побережью Восточного океана, к живописной бухте Чалчиуакуекан, что означает Место, Изобилующее Красотами. Я упоминаю об этом только в связи с одним маленьким совпадением, о котором мне, конечно, в ту пору ничего не могло быть известно. Прошли годы, опять наступила весна, и уже другие люди впервые увидели эту бухту. Они приплыли на корабле, сошли на берег, объявив его владением испанского короля, водрузили там деревянный крест и флаг цвета крови и золота и назвали это место Веракрус[24].
Здесь океанское побережье было гораздо красивее и приветливее, чем в Шоконочко. Пляжи покрывала не смесь черных осколков застывшей лавы, пыли и пепла, а настоящий мелкий песок белого, желтого и даже кораллово-розового цвета. Океан тут был не зелено-черным, стонущим и бурлящим, а прозрачным, светящимся бирюзовой голубизной, мягким и шепчущим. Он выбрасывал на берег лишь шелестящую пену белого прибоя, а дно его понижалось очень плавно: я мог забрести в воду так далеко, что берег скрывался из виду, а глубина между тем доходила мне всего лишь до пояса. Поначалу я думал, что иду почти прямо на юг, но, оказывается, побережье на самом деле изгибалось огромной дугой, и я сам не заметил, как свернул сначала на юго-восток, потом строго на восток и в конечном итоге отправился на северо-восток. Таким образом, как я уже упоминал ранее, океан, который мы в Теночтитлане называем Восточным, правильнее было бы именовать Северным.
Конечно, будь это побережье сплошной линией окаймленных пальмами пляжей, мне бы, наверное, поднадоела их однообразная красота, однако на долгом пути не раз попадались также и реки, настолько полноводные, что, для того чтобы переправиться на тот берег, приходилось дожидаться появления паромщика или рыбака на выдолбленном из древесного ствола каноэ. Кое-где сухой песок под моими ногами становился влажным, потом – мокрым, а там и вовсе сменялся кишащими насекомыми топями, где вместо приветливых пальм маячили сучковатые мангровые деревья, приподнимавшиеся над трясиной на узловатых, словно старческие ноги, корнях. Пройти через эти болота было невозможно. Так что мне приходилось либо разыскивать рыбачье суденышко, чтобы обогнуть заболоченный участок морем, либо, наоборот, делать огромный крюк, обходя опасный участок пути посуше.
Помнится, однажды ночью я здорово испугался. Мне пришлось в тот раз заночевать на краю болота, а какая уж на болоте растопка, так что костерок мне удалось разложить совсем плохонький, дававший очень мало света. И вдруг, подняв глаза, я увидел в темноте среди мангровых зарослей другой костер, гораздо более яркий. Только вот пламя его имело очень необычный цвет – голубой.
«Ксабай!» – сразу подумал я, поскольку слышал немало историй о призрачной женщине, блуждающей в этих краях, завернувшись в причудливое святящееся одеяние. Если верить этим рассказам, приблизившийся к Ксабай мужчина видит перед собой обворожительную женскую фигуру, на которую наброшена одна лишь только накидка с низко надвинутым капюшоном, скрывающим лицо. Он, естественно, старается ее поймать, а женщина кокетливо отступает до тех пор, пока не заманит беднягу в зыбучие пески, откуда выбраться невозможно. Пески засасывают обреченного, и в самый последний момент Ксабай наконец откидывает капюшон, открывая взору умирающего вместо лица злорадно ухмыляющийся череп.
С помощью кристалла я некоторое время наблюдал за этим мерцающим в отдалении голубым пламенем и, хотя по коже у меня бегали мурашки, в конце концов рассудил так: «Видно, пока она там маячит, мне все равно не уснуть, так почему бы не подойти и не попробовать разглядеть Ксабай получше? Зная об опасности, я наверняка сумею сдержаться и не забрести в зыбучие пески».
Держа наготове обсидиановый нож, я, пригнувшись, направился к тому месту, где переплетались деревья и ползучие растения, и нырнул в самую чащу. Голубой огонек призывно манил к себе. Прежде чем сделать шаг, мне приходилось пробовать почву перед собой ногой. К счастью, я лишь промок до колен да изорвал о сучья накидку, но не провалился в омут и не утонул в трясине. Самое удивительное, что чем ближе я подходил к таинственному огню, тем сильнее чувствовал какой-то мерзостный запах. Конечно, болото с его стоячей водой, гниющими растениями и заплесневевшими поганками отнюдь не источает нежные ароматы, но со стороны огня тянуло уж совершенно жуткой тухлятиной.
«Интересно, какой дурак станет преследовать даже самую красивую Ксабай, если она так смердит?» – подумал я, однако продолжил путь и в конце концов подобрался к источнику света. Так вот, то была вовсе не женщина и никакой не призрак, а странный костер без дыма – голубоватое пламя по пояс высотой, выходившее прямо из земли. Не знаю уж, кто его разжег, но, очевидно, огонь подпитывался ядовитым рудничным газом, просачивавшимся сквозь расщелину. Так вот откуда взялись рассказы про Ксабай!
Может быть, кто-то, идя на такой огонь, и сгинул в топях, но сам по себе он совершенно безвреден. Я так и не смог выяснить, почему зловонный воздух горит, а обычный – нет. Но впоследствии мне не раз попадалось это голубое пламя, и всегда от него пахло просто ужасно. Так вот, тогда я как следует осмотрелся, и мне удалось обнаружить еще одно вещество, столь же необычное, как и воспламеняющийся воздух. Возле факела Ксабай я ступил в какую-то липкую жижу и перепугался, подумав, что вляпался-таки в зыбучие пески. Однако лужа эта меня не затянула: я благополучно выбрался из нее и прихватил с собой пригоршню незнакомого вещества, чтобы рассмотреть его при свете костра.
Оно было черным, как окситль, получаемый нами из сосновой смолы, но гораздо более вязким. Когда я поднес ладонь поближе к огню, тягучая капля упала в костер: пламя стало ярче, и языки его взметнулись высоко. Довольный этим неожиданным открытием, я подкормил костер, вылив туда всю пригоршню, и он ярко горел всю ночь, не требуя дополнительно ни ветвей, ни щепок. С тех пор, если мне приходилось остановиться на ночлег вблизи болота, я отправлялся на поиски не сухого валежника, а сочившейся из земли черной грязи, которая всегда делала костер жарче, а свет его ярче, чем любое из масел, какими мы обычно заправляем светильники.
Это открытие я сделал на земле народа, который мешикатль называют ольмеками – по той простой причине, что большую часть оли получают именно от них. Сам этот народ подразделяется на различные племена – коацакоатли, коатликамак, капилко и другие, – но сходство между ними весьма велико. Каждый взрослый мужчина там ходит, ссутулившись под бременем своего имени, а все женщины и дети непрерывно жуют.
Вы удивлены, господа писцы? Сейчас поясню.
В этой стране ольмеков есть два удивительных дерева: если на их стволах сделать надрез, они сочатся соком, несколько затвердевающим на воздухе. Из первого дерева получают оли, который мы используем в жидком виде в качестве клея, а из затвердевшего оли изготавливают мячи для игры тлачтли. Сок другого дерева дает более мягкую, сладковатую на вкус жевательную смолу, известную под названием циктли. Кроме как на жвачку, эта смола ни на что не пригодна. Я имею в виду, что ее только жуют, а не едят, а когда циктли теряет свой аромат и упругость, выплевывают. И кладут в рот другой кусочек, чтобы снова и снова жевать. Причем в стране ольмеков этим занимаются только женщины и дети, для взрослых мужчин столь «женственная» привычка неприемлема. Но я благодарю богов за то, что эта привычка не распространилась в других местах, ибо она делает женщин племени ольмеков, во всех остальных отношениях вполне привлекательных, похожими на вялых, безмозглых, тупомордых ламантинов, беспрерывно жующих водоросли.
Мужчинам не положено жевать циктли, но они придумали себе другое развлечение, которое я нахожу не менее идиотским. Когда-то давно ольмеки начали носить таблички со своими именами. На груди каждого мужчины красовалась подвеска из того материала, который он мог себе позволить, от ракушек до золота, а на табличке были начертаны символы его имени, которые все могли прочесть. Таким образом два совершенно незнакомых человека, встретившись впервые, получали возможность обращаться друг к другу по именам. Небольшое, но все же удобство, к тому же побуждающее к вежливости.
Однако постепенно этот обычай все большее и больше усовершенствовался. На висюльке стали обозначать не только имя, но и профессию, занимаемое положение, ранг или титул, если человек служил или принадлежал к знати, ну а затем пришла очередь дополнительных табличек – с именами родителей, бабушек, дедушек и даже более отдаленных предков. Все эти таблички и символы, изготовленные из золота, серебра и других самых дорогих материалов, какие только мог себе позволить их владелец, дополнялись клубками перепутавшихся лент, указывавших на семейное положение, а также наличие или отсутствие детей и внуков. Но и этим дело не исчерпывалось: каждый ольмек вдобавок носил всевозможные знаки отличия, свидетельствовавшие о его участии в походах и о совершенных им воинских подвигах, с перечислением мест всех этих походов. Короче говоря, каждый взрослый ольмек был с ног до головы увешан всяческой мишурой, отображавшей его происхождение и весь жизненный путь. Бедняга сгибался в три погибели под тяжестью драгоценных металлов, самоцветов, перьев, лент, раковин и кораллов, таская на себе ответы на все возможные вопросы.
Однако, несмотря настоль причудливые обычаи, ольмеки отнюдь не дураки, способные лишь выдаивать сок из деревьев. Их справедливо почитают умелыми мастерами и знатоками искусств, унаследованных от славных предков. В разбросанных здесь и там покинутых древних городах ольмеков сохранились реликвии, до сих пор поражающие воображение. На меня особое впечатление произвели исполинские статуи, высеченные из застывшей лавы. Все они по шею или по подбородок вросли в землю, остались одни лишь головы со строгими, угрюмыми лицами, но и они свидетельствуют о высоком мастерстве скульпторов. На всех каменных головах красуются шлемы, очень похожие на головные уборы из кожи, которые наши игроки в тлачтли надевают для защиты. Мне кажется, гигантские статуи изображают богов, которые и подарили людям эту игру. Во всяком случае, это точно не люди, потому что любая из этих голов, не говоря уж о сокрытых под землей чудовищных телах, настолько огромна, что вряд ли уместится внутри человеческого жилища.
А еще в этом древнем городе сохранилось множество каменных фризов с высеченными на них обнаженными мужскими фигурами (порой совершенно обнаженными и... очень мужественными!). На всех изображениях нагие мужчины танцуют и пьют, из чего можно сделать вывод, что древние ольмеки любили повеселиться. Встречаются там и тщательно отделанные жадеитовые фигурки весьма изысканной формы, но тут трудно сказать, древние они или нет, ибо ольмеки унаследовали многие умения своих предков.
В местности под названием Капилько красиво раскинулась на длинной узкой косе, омываемой с одной стороны бледно-голубым океаном, а с другой – бледно-зеленой лагуной, столица ольмеков – город Шикаланко. Там мне довелось встретить кузнеца по имени Такстем, который изготовлял из олова удивительных птичек и рыбок: размером они были не больше фаланги пальца, причем каждое крохотное крылышко или чешуйка были попеременно отделаны золотом и серебром. Впоследствии я привез некоторые из его работ в Теночтитлан, и несколько предметов сохранилось до прихода испанцев. Так вот, ваши соотечественники пришли в восторг; они уверяли, что ни один золотых или серебряных дел мастер в их мире, который они называли Старым Светом, никогда не достигал подобного совершенства.
Я продолжил идти по побережью и обогнул полуостров, где жили майя, – Юлуумиль Кутц. Эту унылую местность я уже описал раньше, так что не буду повторяться. Скажу лишь, что там мне запомнились три города: Кампече на западном побережье, Тихоо – на северном, и Четумаль – на восточном.
К тому времени я странствовал уже более года, так что дальнейший маршрут выбрал с таким расчетом, чтобы потихоньку возвращаться домой. Из Четумаля я двинулся в глубь материка, строго на запад, собираясь пересечь полуостров. У меня имелся достаточный запас атоли, шоколада и прочих съестных припасов, а также некоторое количество воды. Как я уже говорил, местность эта засушливая, а климат там настолько скверный и непостоянный, что даже сезон дождей каждый год бывает в разное время. Мое путешествие пришлось на начало того месяца, который у вас называется июлем, а у майя, будучи восемнадцатым в их календаре, именуется камку, что значит «гремящий». Но не подумайте, что он приносит с собой ливни и грозы, просто земля высыхает настолько, что начинает с грохотом и шумом съеживаться и трескаться.
Наверное, то лето выдалось еще более знойным, чем обычно, потому что оно подарило мне удивительное и, как оказалось впоследствии, ценное открытие. Однажды я подошел к маленькому озерцу, которое, похоже, было наполнено той самой черной грязью, что так хорошо горела. Однако когда я бросил в озеро камень, он не погрузился в жидкость, а стал подпрыгивать на поверхности, как будто озеро было сделано из застывшего оли. Я нерешительно поставил ногу на черную поверхность и обнаружил, что она лишь слегка прогибается под тяжестью моего тела. Это был чапопотли – материал, подобный затвердевшей смоле, но только черный. В расплавленном виде им замазывали трещины в стенах, а еще он использовался для изготовления ярко горящих факелов и как водоотталкивающая краска, а также входил в состав различных целебных снадобий. Вещество было мне знакомо, но целое озеро, заполненное им, я увидел впервые в жизни.
Я расположился на берегу, чтобы перекусить и подумать, на что может сгодиться находка, и пока я там сидел, жар гремящего месяца (а надо сказать, что треск и грохот слышались почти беспрерывно) расколол и озеро чапопотли. Его поверхность во всех направлениях пошла тонкими, словно паутина, трещинами. Потом чапопотли стал дробиться на неровные, с зубчатыми краями черные глыбы, из-под которых через проломы и щели были видны непонятные коричнево-черные загогулины, возможно ветви и сучья давно погребенного дерева.
Я поздравил себя с тем, что не полез на середину озера: оно вполне могло изувечить меня, сотрясаясь в конвульсиях. Но когда я поел, любопытство все-таки пересилило осторожность. Теперь поверхность озера уже не представляла собой ровное гладкое поле, но была изрыта трещинами и усеяна искореженными обломками черной корки. Однако вроде бы все уже закончилось, признаков нового катаклизма не наблюдалось, а мне не терпелось как следует рассмотреть, что же изверглось наружу. Осторожно огибая черные глыбы и перешагивая через осколки, я подошел поближе и понял: то, что я издали принял за сучья, на самом деле было костями.
Они давно утратили свою первоначальную белизну, но особое сходство с ветвями деревьев им придавали огромные размеры. Я поневоле вспомнил рассказы о том, что некогда нашу землю населяли гиганты. Однако, присмотревшись как следует, я, хотя и смог различить ребро и бедренную кость, пришел к выводу, что этот остов принадлежал не человеку-великану, но некоему гигантскому чудовищу. Скорее всего, некогда, в незапамятные времена, когда чапопотли еще был жидким, чудовище забрело в это озеро, где его и засосала, словно трясина, вязкая жидкость, которая по прошествии веков затвердела.
Еще две обнаруженные мною кости (во всяком случае, мне поначалу показалось, что это кости) были просто невероятного размера: каждая длиной с меня и толщиной с одного конца с мое бедро. Круглые в сечении, обе они постепенно сужались до толщины большого пальца и оказались бы еще длиннее, будь они прямыми, а не изогнутыми, представлявшими собой как бы неполную спираль. Эти изогнутые штуковины насквозь пропитались чапопотли, в котором были погребены, и приобрели коричнево-черный цвет. Некоторое время я таращился на находки в растерянности, а потом опустился на колени и ножом поскреб поверхность одной из них, пока из-под темного слоя не проступила светящаяся полоска тускло-жемчужного цвета. Судя по всему, эти изогнутые «кости» представляли собой не что иное, как длинные искривленные зубы наподобие кабаньих клыков. Может, в ловушку угодил вепрь? Наверняка в эпоху гигантов и дикие свиньи были им под стать.
Я внимательно рассматривал неожиданную находку. Мне случалось видеть различные украшения, сделанные из зубов медведей и акул и из клыков обычных кабанов: они стоили столько же, сколько золотые изделия того же веса, но в качестве поделочного материала мелкие зубы не шли ни в какое сравнение с тем, что нашел я. Интересно, что смог бы изготовить из моей находки одаренный мастер вроде покойного Тлатли?
Местность вокруг была безлюдна, что и неудивительно: кто захочет жить на голой, лишенной растительности равнине? Так что на первую деревушку я набрел, лишь перебравшись в несколько более приветливую землю Капилько. Обитавшие в этом ничем не примечательном поселении ольмеки все поголовно занимались добычей смолы, но поскольку сейчас был не сезон, то они дружно бездельничали. Поэтому четверо самых крепких мужчин охотно согласились поработать у меня носильщиками. Запросили они немного, однако, узнав, куда я собираюсь их вести, впали в панику и едва не отказались. По их словам, Черное озеро было местом священным, опасным и, вообще, разумные люди держались от него подальше. Мне пришлось прибегнуть к проверенному средству борьбы с суевериями и страхами – увеличить плату. Когда мы добрались до места и я указал на бивни, носильщики подхватили их (каждый зуб тащили два человека) и поспешили убраться восвояси как можно скорее.
Я заставил их идти обратно через Капилько к берегу океана и вывел к столичному городу Шикаланко, где направился прямиком в мастерскую кузнеца Такстема. Когда носильщики, сгорбившись, шатаясь и опасно кренясь под весом моей находки, вошли наконец во двор, кузнец встретил нас без малейшего восторга.
– Зачем ты притащил сюда эти ветки? – удивленно спросил мастер. – Я не резчик по дереву.
Я рассказал ему о своей находке, добавив, что, по моему мнению, обнаружил редкий поделочный материал. Такстем дотронулся до того места, где я соскреб темный слой: я увидел, как рука его дрогнула и, задержавшись, стала любовно поглаживать диковинку. Глаза ремесленника заблестели.
Отпустив с благодарностью носильщиков, которым я заплатил чуть больше, чем обещал, я сказал мастеру Такстему, что хотел бы заказать ему работу по кости, но не очень представляю, что из этого материала может получиться.
– Мне нужны резные поделки, чтобы потом продать их в Теночтитлане. Какие именно – не знаю, так что полностью полагаюсь на твое мастерство. Распиливай эти зубы, как сочтешь нужным. Думаю, из крупных обрезков можно вырезать фигурки богов и богинь, которых чтут в Мешико, а те, что поменьше, пойдут на покуитль, гребни, украшенные орнаментами рукоятки кинжалов, в общем, что-нибудь в этом роде. Даже из самых крохотных кусочков можно изготовить что-нибудь – например, резные костяные палочки, какие некоторые племена вставляют в губу. Но смотри сам, мастер Такстем, я всецело полагаюсь на твой вкус и твое чутье.
– На своем веку мне еще не доводилось работать со столь удивительным материалом, – торжественным тоном произнес ремесленник. – Он, похоже, предоставляет творцу огромные возможности, но и требует высокого мастерства. Поэтому, прежде чем отделить первый фрагмент и опробовать, как он поведет себя при встрече с инструментами, мне нужно хорошенько подумать. – Он помолчал и чуть ли не с вызовом продолжил: – Вот что я тебе скажу, молодой господин Желтый Глаз: к своей работе я всегда предъявлял самые высокие требования, а уж такой удивительный материал вообще грех загубить. Так что имей в виду: это работа не на день и даже не на месяц.
– Конечно нет, – согласился я. – Скажи ты другое, я забрал бы свою добычу и ушел. Не спеши, работай, как считаешь нужным: я все равно пока не знаю, когда снова попаду в Шикаланко. Что же касается оплаты...
– Может быть, с мой стороны это глупо, но я счел бы самой высокой оплатой твое обещание поставить будущих покупателей этих вещей в известность, кто именно их изготовил.
– Я восхищаюсь твоей честностью и бескорыстием, мастер Такстем, но всякий труд должен быть оплачен. Если не хочешь сам называть цену, то я предлагаю тебе следующее: оставь себе двенадцатую часть веса – хоть готовых изделий, хоть необработанного сырья. По твоему выбору.
– Необычайно щедрая доля, – промолвил мастер, склоняя голову в знак согласия. – Даже будь я закоренелым рвачом, мне все равно не пришло бы в голову заломить такую цену.
– И не беспокойся, – добавил я, – покупатели для твоих работ будут отбираться так же тщательно, как ты отбираешь свои инструменты. Это будут люди, достойные твоих изделий, и я обязательно скажу каждому из них, что полюбившаяся ему вещь изготовлена мастером Такстемом из Шикаланко.
Хотя погода на полуострове Юлуумиль была сухой, в Капилько стоял сезон дождей – далеко не самое походящее время для того, чтобы пробираться через похожие на джунгли заросли Жарких Земель. Поэтому я предпочел держаться морского побережья и двигался прямо на запад, пока не добрался до узкого перешейка Теуантепека. Там, на самом перекрестке торговых путей, связывающих юг с севером, находился город Коацакоалькос, который вы теперь переименовали в Эспириту-Санту, или город Святого Духа. Я рассудил, что, поскольку перешеек не горист и не слишком зарос лесами, путь через него даже под дождем будет не таким уж трудным. Зато по ту сторону перешейка меня ждут гостеприимный постоялый двор и прелестная Джай Беле. Я остановлюсь у радушной хозяйки, хорошенько отдохну и прекрасно проведу время, а потом отправлюсь обратно в Теночтитлан.
Поэтому от Коацакоалькоса я пошел на юг – то сам по себе, то прибиваясь к караванам почтека или отдельным торговцам. Народу в обоих направлениях двигалось немало, но однажды я оказался в полном одиночестве на безлюдном участке дороги. Еще издали я заметил впереди, под раскидистым деревом, четверых оборванцев. Увидев меня, они поднялись на ноги и не спеша направились навстречу. Заподозрив, что передо мной разбойники, я положил руку на рукоять обсидианового ножа и продолжил путь. Убегать было поздно, и мне оставалось лишь надеяться, что это не грабители и мы разойдемся мирно.
Но четверо оборванцев даже не попытались выдать себя за безобидных путников, желающих разделить обед с таким же странником. Они окружили меня плотным кольцом, не скрывая своих намерений.
Когда я очнулся, то понял, что лежу совершенно раздетый на одном стеганом одеяле, а другое прикрывает мою наготу. Судя по всему, я находился в полупустой хижине, ничем не освещенной, если не считать дневного света, просачивавшегося сквозь щели в стенах. У моего ложа на коленях стоял средних лет мужчина, в котором я, услышав его первые слова, сразу угадал лекаря.
– Больной просыпается, – сказал он кому-то, находившемуся у него за спиной. – Это хорошо. Я уж боялся, что ему не очнуться.
– Значит, он будет жить? – спросил женский голос.
– Ну, по крайней мере теперь, когда больной пришел в себя, я могу начать лечить его. Парню повезло, что ты вовремя его обнаружила: еще чуть-чуть, и было бы поздно.
– Честно говоря, мы поначалу не хотели связываться: он выглядел ужасно. Но, присмотревшись, сквозь всю эту кровь и грязь узнали в нем Цаа Найацу.
Мне это имя показалось неправильным. Собственно говоря, в тот момент я почему-то не мог вспомнить, как именно меня зовут, но сомневался, что звуки моего имени могут быть столь мелодичными.
Голова моя просто раскалывалась от боли, а все тело представляло собой сплошную рану. Я почти ничего не помнил, однако уже достаточно пришел в себя, чтобы сообразить: мне так плохо не потому, что я болен; со мной произошло что-то другое. Очень хотелось спросить, где я нахожусь и как я сюда попал, но голос отказывался мне повиноваться.
– Уж не знаю, что это за грабители, – сказал целитель, обращаясь к женщине, которую я не мог видеть, – но они явно собирались его убить. И не окажись у парня на голове той плотной повязки, его череп раскололся бы, как тыква. Но и без того его мозг испытал сильнейшее сотрясение, отсюда и обильное кровотечение из носа. Вот сейчас, когда он открыл глаза, посмотри – один зрачок больше другого.
Девушка наклонилась через плечо врача и устремила взгляд на мое лицо. Как плохо я ни соображал, но все-таки заметил, что она очень красива и что в ее угольно-черных волосах выделяется зачесанная назад белая прядь. У меня возникло смутное ощущение, что я уже где-то видел эту прядь раньше, да и соломенная кровля над головой вдруг показалась мне необъяснимо знакомой.
– Зрачки действительно разные, – сказала девушка. – Это плохой признак?
– Именно так, – ответил лекарь. – Это признак того, что с головой у больного не все ладно. Так что мы должны заботиться не только о заживлении ран, но и о том, чтобы мозг его был избавлен от напряжения или возбуждения. Пусть лежит в тепле и в полумраке. Всякий раз, когда больной проснется, корми его бульоном и давай мое снадобье, но ни в коем случае не позволяй садиться и постарайся заставить его молчать.
«Вот уж глупость: запрещать мне говорить, когда у меня и так нет на это сил», – хотел было сказать я, но тут в хижине внезапно потемнело, и мне показалось, что я стремительно падаю в мрачную бездну.
Впоследствии я узнал, что пролежал там много дней и ночей, лишь изредка ненадолго приходя в сознание, по большей же части пребывая в беспамятстве – настолько глубоком, что у целителя были все основания опасаться за мою жизнь.
Самому мне запомнилось, что, когда я пробуждался, возле моей постели неизменно находилась девушка. Иногда был еще и целитель, но она – всегда. Девушка бережно вкладывала мне в рот ложку с теплым вкусным бульоном или с горьким лекарством, а порой мыла губкой те части моего тела, до которых могла добраться, или втирала в синяки и кровоподтеки целебную мазь. Лицо ее – красивое, участливое, с сочувственной улыбкой – всегда было одним и тем же, но вот серебристая прядка (уж не знаю, было ли это на самом деле или просто казалось мне в бреду) то появлялась, то исчезала.
Должно быть, я долго находился между жизнью и смертью, но мой тонали оказался таким, что я все-таки выжил. Ибо пришел день, когда я проснулся с несколько просветленным сознанием, поднял глаза на странно знакомую крышу, присмотрелся к склонившемуся надо мной лицу девушки, отметил запавшую в память белую прядь и с трудом прохрипел:
– Теуантепек.
– Йаа! – воскликнула красавица, и на ее устах расцвела улыбка. Усталая улыбка, которой предшествовали долгие дни и ночи, полные забот и тревог. Я хотел было задать девушке вопрос, но она приложила свой прохладный палец к моим губам. – Молчи. Лекарь не велел тебе говорить, пока не окрепнешь. – На науатлъ она говорила неуверенно, но, кажется, я слышал в этой хижине и более сбивчивую речь. – Вот поправишься, тогда и объяснишь, что с тобой приключилось. А пока я сама расскажу тебе то немногое, что знаем мы.
Как оказалось, девушка кормила на заднем дворе домашнюю птицу, когда увидела какой-то странный шатающийся призрак, приближающийся не со стороны торговой дороги, но с севера, с прилегающих к реке пустошей. В первый момент ей захотелось удрать в гостиницу и закрыть за собой дверь, приставив к ней все тяжелое, что подвернется под руку, но страх приковал ее к месту, а когда видение приблизилось, оказалось, что это не призрак, а нагой, грязный, окровавленный мужчина. И самое странное, что что-то в его облике показалось девушке знакомым. Должно быть, даже едва живой, я из последних сил тащился к запечатлевшемуся в подсознании постоялому двору. Лицо мое было разбито, подбородок залит кровью, все еще сочившейся из ноздрей, тело покрывали бесчисленные ссадины и царапины от колючек, а также синяки и кровоподтеки – следы как падений, так и ударов, всего вместе. Босые ноги были сбиты в кровь, грязь и мелкие камешки пристали к ним словно бы взамен содравшейся кожи. Но даже в таком виде девушка признала во мне благодетеля своей семьи, и меня перенесли в дом. Не на постоялый двор, где больному невозможно было обеспечить тишину и спокойствие, а в крытую соломой хижину со стенами из скрепленных жердей. Оказывается, к тому времени их гостиница стала оживленным процветающим заведением, где вечно толкалось множество почтека из Мешико. Этим, кстати, объяснялось, почему девушка стала лучше говорить на науатлъ.
– Так что мы перенесли тебя в наш старый дом, где могли спокойно ухаживать за тобой. Тут уж больного точно никто не потревожит. К тому же хижина эта, если ты помнишь, твоя: ты ее купил. – Я хотел вмешаться, но девушка знаком велела мне молчать и продолжила: – Похоже, на тебя напали разбойники, ибо при тебе не оказалось ни одежды, ни пожитков.
Внезапно ощутив тревогу, я с мучительным усилием поднял болевшую, едва повиновавшуюся мне руку и стал шарить на груди, пока не нащупал висевший там на ремешке кристалл топаза, после чего вздохнул с облегчением. Надо думать, грабители, при всей своей жадности, не увидели в камушке никакой ценности, да и побоялись забрать его, приняв по своему невежеству за магический амулет.
– Да, это все, что на тебе было, – сказала девушка, наблюдая за моим движением. – Висюлька и еще какой-то маленький, но тяжелый сверток.
Она сунула руку под одеяло и извлекла матерчатый пакет со шнурками.
– Открой это, – с трудом прохрипел я. Голос с непривычки плохо мне повиновался.
– Молчи! – велела девушка, однако послушалась и осторожно, слой за слоем, стала разворачивать тряпицу.
Когда она развернула последний слой, то слежавшийся и несколько слипшийся от пота золотой порошок засверкал так ярко, словно в хижине зажгли светильник. Золотистые огоньки заплясали, отражаясь в глазах хозяйки.
– Мы всегда считали, что ты очень богат, – пробормотала она и, подумав, добавила: – Но первым делом ты потянулся за той висюлькой, что у тебя на груди. Выходит, она для тебя важнее золота?
Я не знал, удастся ли мне, не прибегая к словам, на которые все еще не хватало сил, объяснить ей, в чем тут дело, однако, напрягшись, поднес кристалл к глазу и посмотрел на девушку сквозь него. Я разглядывал ее до тех пор, пока рука могла удерживать кристалл, ибо она была очень красива. Красивее, чем казалась мне раньше. Я уже вспомнил, что видел ее прежде, хотя имя красавицы по-прежнему от меня ускользало. Серебристая прядь в волосах, несомненно, привлекала взгляд, однако красота девушки и без того была способна пленить мужское сердце. Ее длинные ресницы походили на крылышки самой крохотной черной колибри, а брови имели изгиб распростертых крыльев парящей морской чайки. И губы ее тоже, подобно крыльям, изгибались к уголкам, а маленькая ямочка на щеке создавала впечатление, что девушка вот-вот засмеется. Она и правда вскоре улыбнулась: наверняка красавицу позабавила моя изумленная физиономия. Улыбка, осветившая лицо девушки, засияла гораздо ярче моего золота. Не сомневаюсь, что если бы хижина была полна самыми несчастными людьми – скорбными плакальщиками или угрюмыми жрецами, – даже их лица просветлели бы при виде такой улыбки.
Топаз выпал у меня из руки, рука упала на постель, да и сам я выпал из действительности, но на сей раз провалился не в мрачное забытье, а в целительный сон. Потом мне рассказали, что я так и спал с улыбкой на лице.
Разумеется, я не мог не радоваться тому, что мне удалось вернуться в Теуантепек и познакомиться, а точнее, возобновить знакомство с этой прекрасной девушкой, но, с другой стороны, я жалел, что не мог явиться к ней здоровым и сильным, во всеоружии обаяния удачливого молодого купца. Увы, вместо этого красавице приходилось ухаживать за обессиленным, вялым человеком, вдобавок еще и покрытым струпьями, порезами и царапинами. Я по-прежнему был слишком слаб, чтобы есть самостоятельно, да и положенные мне целебные снадобья мог принимать только из ее рук. А главное, чтобы от меня не смердело, я вынужден был смириться с тем, чтобы хозяйка мыла меня целиком.
– Так не годится, – возражал я. – Девушка не должна мыть обнаженного взрослого мужчину.
– Мы и раньше видели тебя обнаженным, – спокойно ответила она, – не говоря уж о том, что ты, надо думать, прошел нагим половину перешейка. И вообще, – глаза ее лукаво блеснули, – разве девушка не может восхищаться телом красивого молодого человека да еще и таким длинным?
Наверняка в этот момент все мое длинное тело покраснело от смущения. Хорошо еще, что слабость (правду говорят, что нет худа без добра) не позволяла определенной части этого тела реагировать на прикосновения красавицы так, как это случилось бы, будь я здоров. А то еще девушка, не дай бог, сбежала бы от меня.
Пожалуй, с того самого времени, когда мы с Тцитцитлини предавались далеким от действительности мечтаниям, я не задумывался о серьезных вещах вроде женитьбы и семейной жизни. Теперь, однако, я ничуть не сомневался, что более желанной невесты, чем эта красавица из Теуантепека, мне не найти. Ушиб головы все еще давал о себе знать, так что мысли в ней теснились весьма сумбурные и путаные; правда, из недр памяти все-таки всплыло воспоминание о том, что сапотеки редко вступают в браки с чужаками, поскольку их соплеменники относятся к таким союзам с осуждением, так что решившиеся связать свою судьбу с иноземцами превращаются в изгоев.
Тем не менее, когда лекарь наконец позволил мне разговаривать сколько вздумается, я первым делом попытался вести речи, которые, по моему разумению, могли добавить юноше привлекательности в глазах молодой девушки. Хотя, с точки зрения народа Туч, я был всего-навсего презренным мешикатль, причем находившимся далеко не в самой лучшей форме, это ничуть не мешало мне просто из кожи вон лезть, пуская в ход все чары и льстивые уловки, какие я только мог придумать. Слова признательности перемежались восторженными заявлениями о том, что хозяйка хижины столь же красива, сколь и добра, и такого рода комплиментов прозвучало великое множество. Однако, на все лады восхваляя ее достоинства, я не забыл вроде бы между делом упомянуть о значительном состоянии, которое успел нажить в столь молодом возрасте, и рассказать о том, что в дальнейшем собираюсь его преумножить, а также дал ясно понять, что девушка, которая выйдет за меня замуж, никогда не будет нуждаться. Правда, у меня не хватило решимости открыто предложить красавице руку и сердце, однако некоторые мои вопросы и замечания содержали в себе недвусмысленный намек. Например, однажды я сказал:
– Просто удивительно, что такая красивая девушка, как ты, еще не замужем. В чем тут причина?
Она улыбнулась и ответила что-то вроде того, что, мол, ни один мужчина еще не пленил ее настолько, чтобы ради него ей захотелось отказаться от свободы.
– Но уж ухажеров-то у тебя, конечно, полным-полно, – заметил я в другой раз.
– О да, ухажеров хватает. Одно плохо: здешние молодые люди, как мне кажется, интересуются не столько мною, сколько возможностью заполучить долю в постоялом дворе, который приносит немалую прибыль.
– Ну, – не успокаивался я, – если местные юноши такие корыстные, то уж среди постояльцев гостиницы наверняка встречаются подходящие женихи.
– Ну, сами-то они, конечно, считают себя подходящими. Но ты ведь знаешь, что большинство почтека – люди в возрасте, они староваты для меня да к тому же иноземцы. Вдобавок, какие бы знаки внимания ни оказывали мне эти люди, я подозреваю, что у каждого из них дома уже есть жена. А у некоторых и не одна, и не только дома, а во многих селениях, через которые они ездят по торговым делам.
Я набрался смелости и заявил:
– Я не старый. И никакой жены у меня нигде нет, а если когда-нибудь будет, то одна-единственная на всю жизнь.
Девушка посмотрела на меня долгим взглядом и, помолчав, сказала:
– Наверное, тебе надо было жениться на Джай Беле. Моей матери.
Повторяю: мое сознание и память еще не восстановились тогда в полной мере. До этого момента я, видимо, либо путал эту девушку с ее матерью, либо вообще забыл о последней. Ну надо же: я совершенно забыл о том, что совокуплялся с ее матерью, причем (йаййа, о стыд и позор!) в присутствии этой девушки. Могу себе представить, что она обо мне подумала: наверняка сочла меня похотливым развратником, способным одновременно спать с матерью и ухаживать за дочерью. В растерянности и страшном смущении я только и смог, что пробормотать:
– Жениться на Джай Беле? Но насколько я помню... по возрасту она мне самому годится в матери...
В ответ девушка снова смерила меня долгим взглядом. Больше я ничего говорить не стал, а сделал вид, будто засыпаю.
Я повторяю, господа писцы, что мое сознание находилось после полученной травмы в плачевном состоянии и восстанавливалось чрезвычайно медленно. Это, пожалуй, может послужить единственным оправданием тем опрометчивым необдуманным фразам, которые я тогда произносил. Самую серьезную оплошность, повлекшую за собой роковые последствия, я допустил однажды утром, сказав совершенно без всякой задней мысли:
– Никак в толк не возьму, как это у тебя получается?!
– Что получается? – спросила хозяйка все с той же жизнерадостной улыбкой.
– Ну, иногда у тебя на голове отчетливо видна белая прядь, а иногда, как, например, сегодня, ее нет.
Девушка непроизвольно поднесла ладонь к лицу, на котором впервые за все время отразилось беспокойство. В то утро я увидел, как весело приподнятые крылышки уголков ее рта опустились. Она застыла неподвижно, глядя на меня. Думаю, что на моем лице отражалось одно лишь недоумение, судить же о ее чувствах я не берусь. Однако когда девушка заговорила, голос ее слегка дрожал.
– Я Бью Рибе, – промолвила она и умолкла, словно ожидая с моей стороны какой-то реакции. – На нашем языке это имя означает Ждущая Луна.
Она опять замолчала, и я искренне заметил:
– Прекрасное имя. Идеально тебе подходит.
Очевидно, девушка надеялась услышать что-то еще.
– Спасибо, – сказала она одновременно сердито и обиженно. – Что же до белой прядки, то она в волосах у Цьяньи, моей младшей сестры.
Потрясение лишило меня дара речи: я вдруг вспомнил, что у хозяйки постоялого двора действительно было две дочери. Все ясно: за время моего отсутствия младшая подросла, и теперь они со старшей выглядели почти близнецами. А ведь точно, у младшей сестры имелась отметина, полученная (сейчас мне вспомнилось и это) еще в младенчестве, малышку тогда укусил скорпион.
До сих пор я (вот ведь глупец!) не понимал, что за мною попеременно ухаживали две одинаково красивые сестры. Я не только принимал двух девушек за одну, но и, поскольку в голове моей все перепуталось, ухитрился в эту «одну» влюбиться, забыв не только о том, что их две, но и о том, что в свое время был любовником их матери. Задержись я в тот раз в Теуантепеке чуть дольше, я бы вполне мог стать со временем отчимом обеих красоток. Но самое ужасное, что во время своего медленного выздоровления я, не видя различия, с искренней страстью ухаживал за обеими девицами, которые вполне могли стать моими падчерицами.
Мне стало невыносимо стыдно, я пожалел, что не умер на пустошах перешейка, что очнулся от беспамятства, в котором так долго пребывал. Теперь мне оставалось лишь прятать глаза и молчать. Точно так же поступала и Бью Рибе. Она ухаживала за мной с прежней заботой, но упорно отводила взгляд, а когда пришло время, молча удалилась. В тот день она навещала меня еще несколько раз – кормила, давала лекарства, – но оставалась при этом молчаливой и сдержанной.
На следующий день настала очередь младшей сестры. Я узнал ее по белой пряди и сказал:
– Доброе утро, Цьянья!
О вчерашней оплошности я предпочел не вспоминать, в глубине души надеясь, что девушки сочтут мой неуместный вопрос просто неудачной шуткой: якобы на самом деле я знал, что их две сестры. Однако Цьянья и Бью Рибе наверняка уже обсудили между собой случившееся, так что мои уловки едва ли достигли цели. Я с напускной непринужденностью болтал всякую чепуху, девушка же поглядывала на меня искоса, причем, как мне показалось, скорее с любопытством, нежели с обидой или осуждением. А может быть, я просто истолковал, как мне больше нравилось, загадочную улыбку, свойственную обеим сестрам.
Улыбка эта несколько утешила меня, однако, увы, мои оплошности и беды на этом не кончились, ибо новые откровения принесли новые огорчения. Я решил поинтересоваться:
– А что, ваша матушка, пока вы ухаживали за мной, все время занималась постоялым двором? Мне кажется, что Джай Беле могла бы выбрать момент, чтобы заглянуть...
– Наша мать умерла, – прервала меня Цьянья, и лицо ее моментально омрачилось.
– Что? – воскликнул я. – Когда? Почему?
– Да с тех пор минуло уже больше года. Мама умерла в этой самой хижине, куда перебралась, чтобы разрешиться от бремени. В гостинице, среди постояльцев, это неудобно.
– Разрешиться от бремени?
– Ну да, она вынашивала ребенка.
– Что? Джай Беле родила ребенка?
Цьянья посмотрела на меня с участием.
– Целитель сказал, что тебе сейчас нельзя волноваться. Вот окрепнешь, тогда...
– Да низвергнут меня боги в Миктлан! – сорвавшись, воскликнул я так яростно, что сам себе удивился. – Это ведь мой ребенок, разве не так?
– Ну... – Она тяжело вздохнула. – Ты оказался единственным мужчиной, с которым мама была близка после смерти отца. Я уверена, что она умела предохраняться, ибо очень страдала еще при моем появлении на свет, и лекарь предупредил маму, что следующие роды могут стоить ей жизни, так что лучше, если я буду у нее последним ребенком. Поэтому мне и дали такое имя. Но... с тех пор миновало много лет, и матушка, наверное, решила, что уже не способна к зачатию. Так или иначе, – Цьянья сцепила пальцы, – она забеременела от чужака из Мешико, а ты сам знаешь, как относится к этому народ Туч. Вот почему мама не обращалась за помощью ни к лекарям, ни к повивальным бабкам Бен Цаа.
– Получается, что она умерла из-за отсутствия ухода! – негодующе воскликнул я. – Из-за вашего упрямства и ваших глупых предрассудков! Неужели никто из местных знахарей не согласился бы ей помочь?
– Может, кто-нибудь бы и согласился, не знаю, но мама ни к кому из наших не обращалась. Открылась она только одному молодому путешественнику. Этот мешикатль прожил у нас в гостинице около месяца, проявил к ней участие и, когда матушка доверилась ему, отнесся к ней с сочувствием и пониманием, словно сам был женщиной. Он сказал, что посещал калмекак, где преподавались основы лекарского искусства, и, когда пришло время родов, вызвался ей помочь...
– Что это за помощь, если женщина умерла? – воскликнул я, мысленно проклиная неумеху, влезшего не в свое дело.
Цьянья пожала плечами.
– Ее ведь предупреждали об опасности. Схватки были долгими, а роды невероятно тяжелыми. Мама потеряла очень много крови, и, пока мешикатль пытался остановить кровотечение, младенец задохнулся, обмотавшись пуповиной.
– Значит, оба умерли? – в ужасе воскликнул я.
– Прости. Ты сам настоял на том, чтобы я тебе все рассказала. Надеюсь, тебе не станет хуже?
– Провалиться мне в Миктлан! – снова выругался я. – А скажи хотя бы... это был мальчик или девочка?
– Мальчик. Мама хотела... если все пройдет удачно... назвать младенца Цаа Найацу, в твою честь. Но, увы, до этого дело так и не дошло.
– Мальчик. Мой сын, – простонал я, заскрипев зубами.
– Пожалуйста, постарайся успокоиться, Цаа, – сказала она, впервые обратившись ко мне с фамильярностью, от которой потеплело на сердце, и сочувственным тоном добавила: – Винить тут некого. Сомневаюсь, чтобы даже лучшие наши целители смогли бы сделать для мамы больше, чем этот добрый странник. Как я уже говорила, у нее открылось очень сильное кровотечение. Мы потом несколько раз мыли и оттирали хижину, но кое-где следы крови все равно остались. Видишь?
Цьянья отдернула на двери занавеску, впустив сноп света, и я действительно увидел на косяке так и не отмывшееся пятно крови. А точнее, отпечаток окровавленной ладони.
Как ни странно, но после того потрясения я не впал снова в беспамятство, а продолжил поправляться. Память моя восстанавливалась, тело крепло и обретало силу. Бью Рибе и Цьянья по очереди продолжали ухаживать за мной, а я теперь изо всех сил старался не сказать ничего такого, что могло бы быть истолковано как ухаживание. Честно говоря, меня очень удивляло, что сестры посвящали столько времени и сил выхаживанию человека, из-за которого умерла их мать. И уж конечно, теперь мне и в голову не приходило попытаться завоевать одну из них, хотя я по-прежнему был без ума от обеих. Все-таки как ни крути, я был отцом их, пусть и недолго прожившего, сводного брата, какие уж тут ухаживания...
И вот наступил день, когда я почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы пуститься в путь. Лекарь после осмотра объявил, что силы мои полностью восстановились, однако настаивал, чтобы я приучал глаза к полноценному дневному свету постепенно, день за днем совершая все более длительные прогулки. Бью Рибе предположила, что мне будет удобнее перебраться в гостиницу, где как раз освободилась комната. Я согласился, и Цьянья принесла мне одежду их покойного отца. В первый раз за невесть сколько дней я снова прикрыл чресла набедренной повязкой и набросил на плечи накидку. А вот принесенные сандалии оказались малы, и мне пришлось дать Цьянье щепотку золотого порошка, чтобы она сбегала на рынок и купила мне обувь по ноге. И вот наконец я нетвердым шагом, ибо сил у меня было куда меньше, чем казалось, покинул ту достопамятную хижину.
Догадаться, почему этот постоялый двор стал излюбленным местом остановки почтека и прочих странников, было совсем нетрудно: любой нормальный мужчина получал удовольствие от одного лишь общества очаровательных трактирщиц. Однако их гостиница была недурна и сама по себе: просторная, чистая, с хорошей кухней и внимательной, любезной прислугой. Девушки очень старались всячески улучшить свое заведение, однако очень важна была и благожелательная, уютная атмосфера, порожденная не сознательными усилиями, а их веселым, добродушным нравом. Тяжелая, нудная и грязная работа лежала на плечах слуг, каковых здесь имелось в достатке, а потому девушки, на чью долю оставалось общее руководство, всегда были прекрасно одеты, причем, чтобы еще усилить свое сходство, носили одежду гармонирующих цветов. Поначалу меня задевало, что постояльцы шутили и заигрывали с юными хозяйками постоялого двора, но потом я даже порадовался тому, что все почтека были настолько заняты флиртом, что не замечали (в отличие от меня) одной удивительной особенности одежды сестер.
– Где вы раздобыли эти блузки? – спросил я девушек потихоньку, чтобы не слышали другие торговцы и путешественники.
– На рынке, – ответила Бью Рибе. – Правда, купили мы их белыми, а отделали сами.
«Отделка» представляла собой проходивший по подолу и по кайме вдоль квадратного выреза на шее узор, который мы называем горшечным, а ваши зодчие, вроде бы знакомые с чем-то похожим, именуют «прямоугольным греческим орнаментом». Не знаю уж, что значит «греческий», но могу сказать, что узор этот был не вышивкой, а рисунком, нанесенным на ткань яркой переливающейся пурпурной краской.
– А где вы взяли такую краску? – словно между делом поинтересовался я.
– А, краска, – вступила в разговор Цьянья. – Миленькая, правда? Среди матушкиных вещей мы нашли маленький кожаный мешочек: вроде бы она получила его от отца, перед тем как тот отправился в свое последнее путешествие. Краски как раз хватило на две блузки, другого применения мы ей просто не нашли. – Она поколебалась и неуверенно спросила: – А по-твоему, Цаа, мы поступили легкомысленно?
– Что ты! – воскликнул я. – Все правильно: красивая краска должна добавлять красоты нарядным вещам, а они – украшать красавиц. Я другое хотел спросить: эти блузки уже стирались?
Вопрос удивил девушек.
– Ну конечно, и не один раз.
– Значит, краска не линяет? И не выцветает?
– Нет, это очень хорошая краска, – сказала Бью Рибе и тут наконец рассказала мне то, что я столь деликатно пытался выведать: – Хорошая-то хорошая, но, можно сказать, именно из-за нее мы лишились отца. Он отправился туда, где ее добывают, чтобы закупить большую партию и сделать на этом состояние, да так и не вернулся.
– С той поры прошел уже не один год, – заметил я. – Вы, наверное, были тогда еще слишком маленькими, чтобы запомнить, куда лежал его путь. Да и упоминал ли он об этом?
– Подожди-ка, – пробормотала девушка и, силясь вспомнить, сдвинула брови. – Конечно, мы специально не запоминали... но вроде бы отец говорил что-то о юго-западе... о побережье и скалах, о которые с грохотом разбиваются океанские валы...
– Там живет племя отшельников, именующее себя «бродягами», – подхватила Цьянья. – Помнишь, сестричка, он еще обещал принести красивых ракушек, чтобы сделать нам бусы?
– А не могли бы вы отвести меня в те места?
– Чего тут отводить? – пожала плечами старшая сестра, неопределенно махнув рукой в сторону запада. – Скалистое побережье, насколько мне известно, находится только там.
– Побережье длинное, скал много, а «бродяги» наверняка тщательно охраняют источник пурпура. Заметьте, с тех пор как пропал ваш отец, ни один купец не привозил на рынок такого товара. Девушки, пожалуйста, сходите со мной! Вдруг по дороге вы еще что-нибудь вспомните? Меня интересует любая мелочь!
– Сходить, конечно, можно, – ответила младшая сестра. – Но не забывай, Цаа, нам нужно еще и заниматься хозяйством.
– Но ведь я довольно долго болел, и все это время вы по очереди ухаживали за мной. И одновременно управляли постоялым двором. Конечно, вам обеим бросать хозяйство нельзя, но одна-то вполне может отлучиться.
Они неуверенно переглянулись, но я настаивал:
– Подумайте: мы пойдем по следам вашего отца, доведем до конца дело, которое он начал. На этой пурпурной краске можно сделать целое состояние.
Девушки колебались. Я потянулся к ближайшему горшку с растениями, сорвал два побега – один короткий, другой длинный – и зажал оба в кулаке.
– Вот, выбирайте. Та, что вытащит короткий прутик, отправится со мной в путешествие и поможет заработать состояние, которое мы поделим на троих.
Поддавшись моим уговорам, обе девушки одновременно протянули руки и взяли по прутику. С того дня, мои господа, миновало уже сорок лет, но я и сейчас не могу сказать, кто из нас троих тогда выиграл, а кто проиграл. Так или иначе, Цьянья вытянула короткий прутик. Всего лишь прутик, однако, как выяснилось впоследствии, наши судьбы с этого самого момента повернулись совершенно по-новому.
Пока девушки готовились в дорогу: сушили пиноли и мололи шоколадную смесь, я отправился на местный рынок, чтобы закупить все, что необходимо для путешествия. В лавке оружейника я перепробовал весь его товар и наконец остановил выбор на макуауитль и коротком копье, которые подошли мне больше прочих.
– Молодой господин готовится к встрече с опасностью? – поинтересовался хозяин лавки.
– Я собираюсь в землю чонталтинов, – ответил я. – Слышал о такой?
– Аййа, как не слышать! Страшное место, оно находится выше по побережью. Народ там живет такой, что хуже некуда. Чонталтинами их зовут на науатлъ. По-нашему они именуются цью, но смысл тот же: «бродяги». Насколько мне известно, это самое убогое и дикое из всех племен гуаве. Они не задерживаются долго на одном месте, вот почему их так прозвали. Мы не трогаем цью, поскольку они скитаются маленькими группами и по таким землям, которые все равно ни на что путное не годятся.
– Как-то раз мне довелось заночевать в деревеньке гуаве, – сказал я. – Не больно гостеприимный народ.
– Ну, если ты провел среди них ночь и проснулся живым, то тебе повезло встретиться с самым миролюбивым и великодушным племенем «бродяг». Цью с побережья, будь уверен, такого гостеприимства тебе не окажут. То есть встретить-то тебя они могут очень даже радушно – даже слишком радушно. Дело в том, что питаться «бродягам» приходится в основном рыбой, и она им порядком поднадоела. Так что для них нет большей радости, чем зажарить и съесть случайного путника.
Звучало это угрожающе, однако я не дрогнул и стал расспрашивать оружейника, как лучше всего добраться до обиталища этих дикарей.
– Самый короткий путь лежит прямо на юго-запад, но тогда тебе придется подниматься на горы. Так что лучше по реке – сначала на юг к океану, а потом – вдоль побережья на запад. Знаешь, вот что: поезжай-ка ты в порт Нозибе и найми там лодочника, он мигом доставит тебя к «бродягам» морем.
Мы с Цьяньей последовали этому совету. Конечно, я должен был позаботиться о своей спутнице и выбрать маршрут полегче, хотя, как оказалось впоследствии, девушка вовсе не была неженкой. Во всяком случае, она ни разу не жаловалась – ни на плохую погоду, ни на то, что нам приходилось питаться всухомятку и устраивать привалы под открытым небом, в пустынном краю, среди диких зверей.
Начало нашего путешествия оказалось легким и даже приятным: за один день мы добрались по ровной местности, вдоль берега реки, до порта Нозибе. Это название означает «Соленый», сам же порт представлял собой всего лишь скопище прибрежных навесов из пальмовых листьев, под которыми рыбаки могли посидеть в тени. Весь берег был покрыт растянутыми для просушки или починки сетями и усеян вытащенными на песок каноэ.
Я нашел рыбака, который не слишком охотно признался, что ему случалось бывать на побережье цью: он покупал у тамошних жителей рыбу и даже выучил несколько слов на их языке.
– Но они и со мной-то не особо приветливы, – предостерег он, – а уж чужаку вроде тебя опасно даже приближаться к их берегу.
Лишь услышав про щедрую оплату, рыбак согласился отвезти нас вдоль побережья в те края и даже выступить в качестве переводчика, если, конечно, «бродяги» вообще захотят со мной разговаривать. Тем временем Цьянья нашла свободное место под пальмовым навесом, разложила на мягком песке прихваченные нами из гостиницы одеяла, и мы провели ночь порознь, в целомудренном отдалении друг от друга.
Лодка отплыла на рассвете. Рыбак держался недалеко от берега и угрюмо молчал, в то время как мы с Цьяньей весело болтали, обсуждая открывающиеся с моря виды. Полоски пляжа походили на припорошенное серебро, щедро рассыпанное между лазурным морем и изумрудными кокосовыми пальмами, с которых то и дело взлетали стайки рубиновых и золотистых птиц. Однако по мере продвижения на запад яркий светлый песок постепенно темнел, превращаясь в серый, а потом и в черный, и вот уже за зелеными пальмами замаячили конусы вулканов. По словам Цьяньи выходило, что извержения и землетрясения в этих краях – обычное дело.
Ближе к полудню лодочник наконец нарушил свое молчание.
– Вон там, – он махнул веслом, – деревенька цью, куда я раньше заходил. – На отлогом берегу, покрытом серым песком, и впрямь виднелось скопище хижин. – Ну что, причаливаем?
– Нет! – воскликнула Цьянья. Девушка неожиданно заволновалась. – Помнишь, Цаа, ты говорил, что тебя интересуют любые мелочи? Как я могла забыть раньше? Отец упоминал гору, которая входит в воду! Вот она!
– Где?
Девушка указала вперед: действительно, прямо по курсу лодки, примерно в одном долгом прогоне за деревней цью, черные пески неожиданно обрывались у внушительного скального выступа. Подобно черной стене, он перегораживал пляж и уходил далеко в море. Даже с такого расстояния я через свой кристалл видел, как морские волны, разбиваясь о подножие гряды из чудовищных валунов и каменных обломков, вздымаются и вскипают белой пеной.
– Видишь те огромные камни, которые выбросила гора? – спросила Цьянья. – Это и есть то место, где добывают пурпур! Туда-то нам и надо.
– Девочка моя, это мне туда надо, – поправил я ее. – Ты останешься здесь, на берегу.
– Вот уж не советую оставлять девушку в этой деревне, – мрачно заметил лодочник.
Показав ему макуауитль, я провел пальцем по острейшей обсидиановой грани и сказал:
– Ты высадишь девушку на берег и объяснишь здешним жителям, что приставать к ней нельзя и что мы вернемся за ней до темноты. А мы с тобой отправимся к той горе, что входит в воду.
Лодочник поворчал, уверяя, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет, но повернул через полосу прибоя к берегу. Видимо, все мужчины цью были в море, ибо навстречу нам из прибрежных лачуг высыпали одни женщины. Жалкие, грязные существа: босые, выше пояса голые, одетые в одни лишь рваные юбки. Слова лодочника они выслушали угрюмо, и хотя взгляды, которые бросали эти дикарки на высадившуюся на берег миловидную, хорошо одетую девушку, трудно было назвать приветливыми, нападать на нее явно никто не собирался. Разумеется, мне вовсе не хотелось оставлять Цьянью в таком подозрительном месте, но это было все-таки безопаснее, чем брать ее с собой.
Когда мы с лодочником снова отплыли от берега, даже мне, хоть я и совершенно не разбирался в морском деле, стало ясно, что высадиться на склон горы с моря невозможно. Подступы к главному хребту преграждала россыпь валунов и обломков, иные из которых не уступали размерами небольшим дворцам Теночтитлана, а между ними неистово бурлили и пенились океанские волны. Они накатывали на утесы, взметнувшись на невероятную высоту, зависали там, обрушивались вниз с таким ревом, словно все громы Тлалока грянули разом, и снова откатывались, образуя водовороты столь мощные, что сотрясали даже прибрежные скалы высотой с дом.
Казалось, что повсюду здесь море, сталкиваясь со скалами, впадает в буйную ярость, так что лодочник с большим трудом отыскал место к востоку от горы, где все-таки смог меня высадить. Он показал себя умелым моряком, поэтому, когда мы, вытащив каноэ на песок вне пределов досягаемости неистового прибоя, откашлялись и выплюнули всю соленую воду, которой нахлебались, я от души поздравил его:
– Ты так отважно укротил злобное море, тебе ли бояться этих презренных цью?
Рыбак, похоже, малость приободрился: во всяком случае, он взял мое копье и последовал за мной по песку к перегораживавшей побережье скале. С суши она выглядела не такой отвесной. Найдя относительно пологий склон, мы взобрались на кряж, откуда смогли увидеть простирающийся по ту сторону западный участок побережья. Однако туда мы не пошли, а двинулись налево, в сторону моря, и постепенно оказались на вдающемся мысом в воду утесе; внизу бесновались среди исполинских валунов яростные волны. Я добрался до того места, о котором говорил отец Цьяньи, но казалось маловероятным, чтобы здесь можно было найти драгоценную пурпурную краску или хрупких улиток.
Зато я вскоре обнаружил группу из пятерых человек, которые двигались по гребню со стороны океана, явно направляясь к нам. Я решил, что это жрецы цью, ибо они были столь же грязными, что и наши, да и волосы у них были такие же всклоченные и немытые, как у жрецов мешикатль. Правда, в отличие от последних на них красовались не просто нестиранные накидки, а рваные, гнилые звериные шкуры, вонь от которых намного опережала эту компанию. Вид у всех пятерых был весьма недружелюбный, а затем шедший впереди неприветливо выкрикнул что-то на своем языке.
– Быстро объясни им, – велел я лодочнику, – что мне нужна пурпурная краска, за которую я заплачу золотом.
Но он не успел перевести, поскольку один из этих людей проворчал:
– Обойдемся без толмача. Я сам прилично говорю на лучи. Я жрец Тиат Ндик, бога моря, здесь его владения. Вы умрете, поскольку вторглись в святилище.
Стараясь говорить на лучи как можно проще и понятнее, я стал втолковывать жрецу, что ни за что не ступил бы на священные камни, будь у меня возможность достать краску где-нибудь в другом месте. Я попросил его отнестись к моему поступку со снисхождением, обдумать выгоды, которые сулит им мое появление. Проявленное мною смирение, похоже, несколько смягчило сердце жреца, хотя четверо его товарищей продолжали таращиться на меня с весьма свирепым видом. Во всяком случае, его следующая угроза была не столь прямолинейной.
– Уходи отсюда, Желтый Глаз, и может быть, ты останешься жив.
Я попытался растолковать жрецу, что все равно уже вторгся во владения бога моря, так нельзя ли мне задержаться здесь чуть подольше, чтобы заодно обменять свое золото на его пурпур? Но на это мне было сказано, что пурпур является святыней морского бога и не продается ни за какую цену.
– Уходи немедленно, и может быть, ты останешься жив, – снова повторил жрец.
– Хорошо, я уйду. Но не удовлетворишь ли ты сначала мое любопытство? Какое отношение к пурпурной краске имеют улитки?
Но он явно не знал этого слова и обратился за переводом к дрожавшему от страха лодочнику.
– А, ндик диок, – сказал жрец, поняв.
Он помедлил, потом повернулся и сделал мне знак следовать за ним. Лодочник и четверо остальных цью остались на хребте, а мы с главным жрецом стали медленно спускаться к морю. Спуск был трудным, и вздымавшиеся вокруг грохочущие волны все чаще обдавали нас холодными брызгами. Однако в конце концов жрец привел меня к замкнутой в кольцо массивных валунов и утесов лагуне, где, несмотря на царившее снаружи буйство, волнение лишь едва ощущалось.
– Это священная лагуна Тиат Ндик, – пояснил жрец. – Место, где бог моря позволяет нам услышать его голос.
– Его голос? – переспросил я. – Ты имеешь в виду шум океана?
– Его голос, – настойчиво повторил жрец. – Если хочешь услышать, нужно опустить голову в воду.
Не отрывая от него глаз и на всякий случай держа макуауитль наготове, я встал на колени и опустил голову, погрузив одно ухо в воду. Поначалу в нем отдавался лишь стук моего сердца, но потом – сначала тихо, но постепенно становясь все громче – до моего слуха стал доноситься и другой звук. Как будто кто-то свистел под водой – хотя всем известно, что это невозможно, – причем мелодия была сложной, и этот кто-то насвистывал ее гораздо более искусно, чем любой земной музыкант. Даже сейчас, по прошествии стольких лет, я не могу сравнить эту мелодию ни с каким другим звуком, который мне когда-либо доводилось слышать. Впоследствии мне пришло в голову, что это, должно быть, ветер, гулявший по трещинам и расщелинам в скалах, издавал звуки, которые искажались и казались под водой трелями. Но в тот момент я готов был принять на веру слова жреца о голосе морского бога.
Тем временем он обошел озерцо со всех сторон, что-то там высматривая, потом наклонился, погрузил руку по плечо в воду, пошарил по дну и раскрыл передо мной ладонь со словами:
– Ндик диок.
Рискну предположить, что существо, которое я увидел, находится в некотором родстве со знакомой каждому сухопутной улиткой, но отец Цьяньи явно поторопился, пообещав дочкам бусы из ракушек. Этот скользкий слизняк не имел ни домика, ни створок, ни какого-либо подобия панциря.
Тем временем жрец наклонился над слизняком и сильно подул на него. Видимо, существу это пришлось не по нраву, ибо оно выделило на ладонь жреца небольшое пятнышко бледно-желтой жидкости. Жрец бережно вернул морскую улитку на подводный камень и сунул мне под нос запачканную ею ладонь. Я невольно отпрянул, ибо выделения моллюска испускали зловоние, но тут же с удивлением заметил, что пятнышко на ладони меняет цвет. Из бледно-желтого оно сделалось сначала желто-зеленым, потом зеленовато-голубым, после чего приобрело сине-красный цвет, который, темнея и густея, превратился в переливчатый пурпур. Ухмыльнувшись, жрец вытер руку о мою накидку. Яркое пятно все еще продолжало отвратительно вонять, но я уже понял, что это краска, которая никогда не выцветает и не смывается. Затем жрец жестом велел мне следовать за ним, и мы принялись карабкаться вверх по скалам. По пути мой проводник, заменяя недостающие слова жестами, объяснил мне все насчет ндик диок.
Как оказалось, народ цью собирал улиток и заставлял их выделять пурпур лишь дважды в год, по священным праздникам, которые устраивались не в определенные дни, но тогда, когда на это указывали какие-то мудреные пророчества и знамения. Хотя на подводных камнях налипли тысячи морских улиток, каждая из них выделяла лишь малюсенькую капельку красящего вещества, так что в праздники людям приходилось отыскивать моллюсков среди бушующих волн и даже нырять за ними в водовороты, чтобы потом собрать все их выделения на мотки хлопковой пряжи или в кожаные мешочки. К улиткам здесь относились бережно, их требовалось сохранить в целости, дабы они могли дать пурпур и к следующему празднику. А вот люди ценились тут меньше. Два раза в год, при совершении каждого из этих обрядов, гибло по четверо-пятеро ныряльщиков: кого засасывали в глубины океанские водовороты, а кого бешеные волны, вышвырнув, разбивали о скалы.
– Но раз уж вы все равно идете на такие жертвы, что гибнут люди, почему ты упорно отказываешься получить от ндик диок прибыль? – Я несколько раз повторил свой вопрос и наконец добился того, что жрец понял.
Снова поманив за собой, он привел меня во влажный прохладный грот и горделиво объявил:
– Наш бог моря, чей голос ты слышал. Тиат Ндик.
Моему взору предстала статуя, весьма примитивная, ибо представляла собой грубое нагромождение круглых камней: валун обозначал нижнюю часть туловища, камень поменьше – грудь, а самый маленький – голову. Но вся эта, с позволения сказать, скульптура была окрашена в светящийся пурпур. А вокруг Тиат Ндика были разложены мешочки, полные краски, и мотки окрашенной ею пряжи. Эта пещера скрывала в себе просто бесценные сокровища.
Когда мы снова взобрались на гряду, раскаленный докрасна диск Тонатиу уже спустился к западному горизонту и погружался во вскипающий паром облаков океан. Потом диск исчез, и на какой-то миг мы увидели, как Тонатиу на самом краю мира осветил море изумрудно-зеленой вспышкой. Впрочем, это зрелище ни на миг не прервало разглагольствований жреца о том, что подношения в виде пурпурной краски необыкновенно важны для цью, ибо, если они не умилостивят морского бога, Тиат Ндик не станет посылать рыбу в их сети.
Я попытался возразить:
– Но послушай, получается, что в обмен на все эти жертвоприношения и дары ваш бог моря позволяет цью лишь влачить жалкое существование, питаясь одной рыбой. Позволь мне доставить ваш пурпур на рынок, и я принесу вам столько золота, что вы сможете купить целый город. Город в какой-нибудь прекрасной местности, где полным-полно куда лучшей снеди, чем рыба, а также рабов, которые будут вам служить.
Жрец, однако, был непреклонен:
– Пурпур не продается. Бог не простит нам кощунства. – Он помолчал и добавил: – Кроме того, Желтый Глаз, мы не всегда едим одну только рыбу.
И жрец с улыбкой указал мне на берег, где вокруг костра стояли четверо его помощников. А над костром, насаженные на мое собственное копье, жарились два человеческих бедра. Лодочника нигде не было видно, и мне потребовалась вся сила воли, чтобы не выдать того, какой ужас охватил меня при этом зрелище.
Вынув из складок набедренной повязки пакет с золотым порошком, я кинул его на землю – между собой и главным жрецом.
– Разворачивай пакет бережно, – сказал я, – иначе все золото унесет ветром.
Когда служитель морского бога опустился на колени и принялся осторожно разворачивать ткань, я продолжил:
– Если бы ты позволил мне нагрузить пурпуром лодку, я пригнал бы ее обратно, почти полную золота. Что же до этого пакета, то я предлагаю его тебе лишь за ту краску, какую смогу унести в руках.
К этому времени жрец развернул ткань, и золотой порошок засверкал в лучах заходящего солнца. Четверо помощников сгрудись позади жреца, глядя на золото с алчным блеском в глазах. Главный жрец нежно просеял золотой порошок сквозь пальцы, взвесил пакет на ладони и, не глядя на меня, произнес:
– Это золото ты отдашь за пурпур. А сколько ты выложишь за девушку?
– За какую девушку? – спросил я, и сердце мое упало.
– Да за ту, что стоит у тебя за спиной.
Я торопливо оглянулся и увидел несчастную, перепуганную Цьянью, а позади нее – шестерых или семерых мужчин цью. Впрочем, они не столько караулили девушку, сколько вытягивали шеи, чтобы рассмотреть золото в руках служителя бога.
Жрец все еще бережно перекладывал пакетик из одной руки в другую, когда я занес макуауитль и стремительным ударом отсек ему обе кисти. Вместе с пакетом они упали на землю.
Остолбеневший жрец в ужасе уставился на хлеставшую из обрубков рук кровь.
Все цью мгновенно метнулись вперед, то ли на помощь своему вождю, то ли за рассыпавшимся золотом, а я не теряя времени схватил Цьянью за руку и бросился бежать сначала вдоль хребта, а потом вниз, по его восточному склону. Как только мы пропали из поля зрения цью, я резко метнулся влево, чтобы укрыться среди огромных, выше нашего роста, камней. Расчет был на то, что цью наверняка решат: беглецы поспешат к своему каноэ, чтобы ускользнуть морем. Может, так нам и следовало бы поступить, но гребец из меня не ахти, так что рыбаки наверняка перехватили бы нас без особого труда.
Я не ошибся: очень скоро мимо нас, именно в том направлении, как я и думал, с криками пробежали несколько дикарей.
– Теперь вверх! – скомандовал я девушке, и она, не задавая лишних вопросов, стала карабкаться вслед за мной по каменистому склону.
Мы укрывались в расщелинах и за валунами, чтобы преследователи не заметили нас снизу. Ближе к гребню росли кусты и деревья, среди которых можно было затеряться, но до этого зеленого укрытия было еще далеко, и я очень боялся, что нас выдадут птицы. Казалось, что каждое наше движение вспугивает целую стаю крикливых морских чаек, пеликанов или бакланов.
Но тут я заметил, что птицы, причем не только морские, но и сухопутные – вроде длиннохвостых попугаев, голубей или скальных крапивников, – взлетают не только там, где мы лезем, но по всему склону; мало того, они с тревожными криками вьются над гребнем. Еще более удивительным было внезапное появление животных, ведущих ночной образ жизни: броненосцы, игуаны, змеи выползали из своих укрытий и, подобно нам, явно спешили вверх по склону. Да что там змеи: нас двумя прыжками обогнал оцелот, не обративший на людей ни малейшего внимания, а откуда-то сверху, хотя до наступления темноты было еще далеко, донеся заунывный вой койота. Ну а когда прямо у меня перед носом из какой-то трещины выпорхнула стайка летучих мышей, стало ясно, что приближается очередное землетрясение, они ведь постоянно случаются на здешнем побережье.
– Быстрее! – крикнул я девушке. – Давай туда, откуда вылетели мыши. Там должна быть пещера. Ныряй в нее!
Если бы не летучие мыши, мы бы, наверное, и не заметили лаза, хотя он и оказался достаточно широк: мы с Цьяньей втиснулись в него бок о бок. Углубляться в пещеру мы не стали, хотя, думаю, она была большая: мышей из нее вылетело великое множество, а снизу, откуда-то из темных глубин, поднимался сильный, резкий запах их гуано. Едва мы нырнули в эту нору, как снаружи все стихло. Птицы улетели, звери позабивались в щели. Даже беспрестанно стрекочущие цикады и те умолкли. Первый толчок землетрясения оказался резким, но тоже беззвучным.
– Цьюйю, – испуганно прошептала Цьянья, и я покрепче прижал ее к себе.
Потом откуда-то издалека, из глубины суши, послышался низкий протяжный рокот. Это один из цепи тянувшихся вдоль побережья вулканов пробудился, и его извержение оказалось столь бурным, что сотрясало землю до самого моря.
Второй, третий и все остальные (я потерял им счет) толчки происходили со все меньшими перерывами, так что вскоре они слились в непрерывные судороги: земля качалась, плясала и становилась на дыбы. Нас трясло и швыряло так, словно мы находились внутри полого бревна, отданного на волю бурного стремительного потока, а несмолкающий шум был настолько оглушительным, как если бы нас угораздило забраться внутрь чудовищного барабана, в который исступленно колотил обезумевший жрец. На самом деле шум этот объяснялся тем, что от нашей горы откалывались куски, добавляя новые валуны и обломки к уже усеивавшим мелководье.
Я невольно подумал, не грозит ли нам с Цьяньей участь оказаться среди этих обломков (не зря ведь летучие мыши предпочли покинуть пещеру), но выбираться наружу было еще страшнее, и мы непроизвольно втиснулись глубже. На долю мгновения катившийся с вершины валун перекрыл лаз, погрузив нас во мрак, но, к счастью, вход не завалило: после следующего толчка огромный камень покатился дальше. Мы снова увидели свет, правда заодно с ним появилось и облако пыли, заставившей нас задыхаться и кашлять.
Но еще больший страх я испытал, услышав приглушенный гром изнутри горы. Теперь стало ясно, почему осторожные твари покинули свою огромную пещеру: ее купол с ужасающим грохотом распался на куски и провалился в исполинскую пропасть. Туннель накренился, мы стали неумолимо сползать прямо в бушевавшие недра земли. Я крепко обхватил Цьянью руками и ногами, надеясь, когда мы попадем в камнепад, хоть как-то защитить ее своим телом.
Однако наш туннель удержался, а толчки постепенно пошли на убыль. Мало-помалу земля успокоилась, шумы стихли, и теперь снаружи доносился лишь шелест маленьких камешков, осыпавшихся по склону вслед за уже скатившимися крупными камнями. Я пошевелился, намереваясь высунуть голову наружу и посмотреть, что осталось от горы, но Цьянья удержала меня.
– Еще рано, – предупредила девушка. – Толчки часто возобновляются. К тому же очень может быть, что какой-нибудь обломок скалы все еще колеблется прямо над нами и рухнет вниз при малейшем движении. Подожди немного.
Разумеется, то была разумная осторожность, но впоследствии девушка призналась, что удерживала меня тогда не только по этой причине. Я уже упоминал о том, как воздействует землетрясение на поведение и чувства людей. Понятно, что прижимавшаяся ко мне всем телом Цьянья ощущала, как напрягся мой тепули, а я сквозь разделявшую нас тонкую ткань одежды чувствовал ее набухшие соски.
– О нет, Цаа, мы не должны... – пролепетала она. – Не надо, Цаа, пожалуйста, ты ведь был возлюбленным моей матери... И отцом моего младшего брата... Нам с тобой нельзя... – И хотя дыхание девушки участилось, она продолжала повторять это снова и снова до тех пор, пока не догадалась наконец уже совсем задыхающимся голосом сказать: – Но ты так рисковал собой, спасая меня от этих дикарей...
Больше слов не было – одно лишь тяжелое дыхание, постепенно сменившееся стонами удовольствия.
Как ни странно, но у землетрясения тоже есть свои плюсы: например, если девственницу во время него лишают невинности, то она обязательно получает удовольствие, что в остальных случаях бывает далеко не всегда. Цьянья испытала тогда такое наслаждение, что не отпустила меня, заставив повторить все еще два раза, причем мое возбуждение было столь сильным, что я даже не выходил из нее в промежутках между этими совокуплениями. Разумеется, каждый раз, извергнув семя, мой тепули терял твердость, но как только это случалось, в лоне Цьяньи вокруг него мигом сжималось какое-то колечко мускулов, причем сопровождалось это такой нежной дрожью, что мой член прямо в ее теле набухал снова.
Мы могли бы продолжать и дальше, но проникавший снаружи в наш туннель свет вдруг приобрел тусклый красновато-серый оттенок, и мне захотелось, пока не стемнело окончательно, взглянуть, как там снаружи обстоит дело. Поэтому мы разъединились и поднялись. Солнце уже давно село, но вулкан или землетрясение взметнули облако пыли настолько высоко в небо, что оно все еще ловило лучи Тонатиу, исходившие из Миктлана, или где там он к тому времени находился. Из-за этого небо было не темно-синего цвета, а светилось красным и даже окрасило багрянцем белую прядку в волосах Цьяньи. Света этого оказалось достаточно, чтобы мы могли оглядеться.
Засыпанный камнями прибрежный участок заметно расширился, и волны вскипали теперь вокруг с еще большей яростью. В склоне горы зиял чудовищный провал.
– Может быть, – предположил я вслух, – обвал погубил наших преследователей, а то и всю их деревню? Хорошо бы, а не то они обвинят в этом бедствии нас и станут преследовать еще более ожесточенно.
– Обвинят нас? – воскликнула Цьянья. – Но при чем здесь мы?
– Я осквернил святилище их верховного бога, так что цью запросто могут счесть землетрясение проявлением его гнева. Возможно, так оно и было, – добавил я после недолгого размышления, но тут же вернулся к практическим вопросам: – Но если мы останемся и переночуем в нашем укрытии, а потом еще до рассвета отправимся в дорогу, то, думаю, нас никто не перехватит. А когда мы перевалим через горы и вернемся в Теуантепек...
– Ты думаешь, мы вернемся, Цаа? Но у нас нет никаких припасов и воды тоже...
– У меня есть макуауитль. И мне доводилось покорять горы покруче тех, что отделяют нас от Теуантепека. А когда мы вернемся... Цьянья, ты выйдешь за меня замуж?
Может быть, мое предложение и показалось ей неожиданным, но девушка явно не имела ничего против, поскольку сказала:
– Мне кажется, я знала ответ на этот вопрос задолго до того, как ты его задал. Может быть, это нескромно с моей стороны, но я уверена, что в том, что сегодня случилось, виновато не только цьюйю...
На что я ответил ей вполне искренно:
– Знаешь, я так благодарен цьюйю за то, что это стало возможным. Я давно хотел тебя, Цьянья.
– Вот и прекрасно! – воскликнула она и радостно раскинула руки, собираясь меня обнять.
Я, однако, в ответ покачал головой, и улыбка девушки потускнела.
– Ты для меня настоящее сокровище, просто подарок судьбы, – промолвил я. – Но вот насчет меня этого сказать нельзя. – Цьянья хотела было что-то возразить, но я снова покачал головой. – Если ты выйдешь за меня замуж, то тебя отвергнут твои прекрасные соплеменники – народ Туч. Это немалая жертва.
– Поверишь ли ты, Цаа, если я скажу, что ты стоишь такой жертвы? – спросила она после недолгого размышления.
– Нет, – ответил я. – Мне лучше знать, чего я стою.
Девушка кивнула, как будто ожидала такого ответа.
– Тогда я могу сказать лишь одно: я люблю человека по имени Цаа Найацу больше, чем своих соплеменников.
– Но почему, Цьянья?
– Кажется, я полюбила тебя с тех пор, как... но давай не будем говорить о том, что было. Скажу лишь, что люблю тебя сегодня и буду любить завтра. Вчерашний день миновал, тогда как сегодняшний продолжается, а завтрашний еще может наступить. И в каждый из новых наступивших дней я буду повторять, что люблю тебя. Можешь ты поверить в это, Цаа? Можешь сказать мне в ответ то же самое?
Я улыбнулся ей.
– Могу и обязательно скажу. Я люблю тебя, Цьянья.
В ответ девушка тоже улыбнулась и не без лукавства заявила:
– Ах, Цаа, таков уж наш с тобой тонали, а от него, как известно, не уйдешь. Смотри! – И она жестом указала сначала на свою грудь, а потом на мою.
Когда мы с Цьяньей сблизились, краска, которой запятнал меня жрец, была еще влажной, и теперь у нас обоих красовалось на одежде по одинаковому пурпурному пятну – у нее на блузке и у меня на накидке.
Я рассмеялся, а потом не без раскаяния сказал:
– Надо же, Цьянья, я давно влюблен в тебя, а теперь даже собрался стать твоим мужем, но до сих пор не удосужился поинтересоваться, что же значит твое имя?
Когда девушка ответила, я сперва счел это шуткой и поверил ей лишь после пылких уверений.
Как вы, наверное, уже поняли, мои господа, имена, принятые у всех племен и народов нашей земли, обязательно обозначают какие-то понятия, подчас довольно сложные. Взять хотя бы мое собственное имя – Темная Туча – или любое из тех, что я уже упоминал, – Сама Утонченность, Пожиратель Крови, Дар Богов, Вооруженный Скорпион и так далее. Поэтому мне трудно было поверить, что девушка может носить имя, состоящее всего из одного, самого простого и распространенного слова – слова «всегда».
Именно это и обозначало имя моей возлюбленной. Цьянья. Всегда.
IHS S.C.C.M.
Его Священному Императорскому Католическому Величеству императору дону Карлосу, нашему королю и повелителю
Всемогущему и наиславнейшему предводителю нашему и монарху из города Мехико, столицы Новой Испании, в день Святого Проспера, в год от Рождества Христова одна тысяча пятьсот тридцатый, шлем мы наш нижайший поклон.
При сем, великий государь, прилагается, как обычно, запись последних словесных излияний пребывающего под нашим кровом ацтека, в коих, как уже повелось, мало vis[25], но избыток vomitus[26]. Из самого последнего письма Вашего Величества явствует, что наш, суверен все еще находит эту историю достаточно занимательной и заслуживающей того, чтобы пятеро добрых христиан продолжали день за днем не только выслушивать ее, но и записывать слово в слово. В связи с этим мы предполагаем, что Вашему Высокочтимому Величеству, возможно, будет небезынтересно узнать о благополучном возвращении миссионеров из ордена доминиканцев, коих мы направляли в южную область, именуемую Оаксака, для подтверждения или опровержения рассказа нашего ацтека о том, что тамошние индейцы издавна, хотя и под причудливым именем Всемогущее Дыхание, почитают Господа Нашего Вседержителя и, кроме того, используют крест в качестве священного символа.
Брат Бернардино Минайа и сопутствовавшие ему братья-миссионеры доложили, что они видели в этой местности множество на первый взгляд действительно христианских крестов – во всяком случае, крестов той формы, которые в геральдике называются croix botonee[27], – однако они не служат никакой религиозной цели, а представляют собой лишь знаки, коими, из сугубо практических соображений, отмечаются там источники пресной воды. Соответственно, викарий Вашего Величества склонен рассматривать эти кресты с августинианским скептицизмом. По нашему мнению, государь, сие есть не более чем проявление злокозненного коварства Врага Рода Человеческого. Очевидно, что, предвидя наше прибытие в Новую Испанию, дьявол поспешил обучить некоторое количество этих язычников нечестивому подобию христианских верований и обрядов, снабдив их псевдосвященными предметами в надежде запутать и ввести нас в заблуждение, когда мы явимся, дабы одарить сих дикарей светом Истинной Веры.
Кроме того, насколько смогли понять братья-доминиканцы, испытывавшие серьезные затруднения с тамошним языком, Всемогущим Дыханием индейцы именуют не Бога, а верховного чародея, или, как сказал бы наш хронист, жреца, властвующего над подземными криптами описанного в предыдущей части рассказа города Льиобаана, который считался у туземцев Святым Домом. Братья, предупрежденные нами о совершавшихся там многочисленных языческих погребениях и греховных жертвоприношениях – самоубийствах добровольцев, – заставили индейцев допустить их в подземелья.
Как Тесей, осмелившийся вступить в лабиринт Дедала, они разматывали позади себя нить, продвигаясь при свете факелов по извилистым туннелям через мрачные пещеры. Их преследовал зловонный запах разложившейся плоти; они ступали по костям бесчисленных скелетов. К сожалению и в отличие от Тесея, добрые братья скоро утратили мужество. Когда им стали встречаться гигантские, объевшиеся трупами крысы, змеи и прочие паразиты, их решимость сменилась ужасом и они устремились наружу едва ли не в беспорядочном бегстве.
Оказавшись наверху, братья, несмотря на все мольбы и стенания индейцев, повелели завалить и замуровать входы в туннели, дабы навсегда захлопнуть и скрыть от людских глаз эту, как выразился брат Бернардино, «заднюю дверь в Преисподнюю». Позволю себе заметить, что сие вполне оправданное деяние, кое следовало бы предпринять уже давно, напоминает нам о святой Екатерине Сиенской, молившейся о том, чтобы ее непорочное тело распростерлось над Бездной, дабы ни один из бедных грешников более не был туда низвергнут. Вместе с тем мы сожалеем о том, что, возможно, так никогда и не узнаем, сколько же там было в действительности этих подземных каверн, равно как и не доберемся до сокровищ, которые наверняка брали с собой в последний путь знатные язычники. Но пуще всего мы опасаемся, что это совершенное в порыве чувств действие доминиканцев едва ли способствовало укреплению доверия тамошних индейцев к нашей Святой Церкви, равно как и любви их к нам самим, несущим свет Христианства заблудшим душам.
Мало того, мы вынуждены с прискорбием сообщить Вашему Величеству, что и наши соотечественники испанцы также не испытывают к нам особой любви. Думаю, что служащие Королевского Совета по делам Индий уже не раз получали жалобы на наше «вмешательство в мирские дела». Господу ведомо, что жалобщики сии, в первую очередь землевладельцы, в имениях которых трудится значительное количество индейцев, обыгрывают наше имя, непочтительно именуя нас «епископ Сурриаго»[28]. А все лишь потому, государь, что мы осмелились осудить с кафедры бытующий в Новой Испании обычай непосильным трудом буквально доводить работающих у них индейцев до смерти. «Ну и что такого? – заявляют эти господа. – Ничего страшного: в здешних краях по-прежнему приходится по пятнадцать краснокожих на одного белого. Так почему бы не изменить это соотношение в нашу пользу, тем более если заодно несчастные туземцы еще и выполнят какую-нибудь полезную работу?»
Испанцы, придерживающиеся такой точки зрения, подводят под свои рассуждения религиозную основу, videlicet[29]: коль скоро мы, христиане, избавили этих дикарей от поклонения дьяволу и, следовательно, от неизбежной погибели и даровали им надежду на спасение души, то индейцы пребывают в вечном долгу перед своими избавителями. Капеллан Вашего Величества не может отрицать того, что в этом аргументе наличествует логика, но мы тем не менее полагаем, что долг индейцев перед нами отнюдь не включает обязанности умирать без надобности и по произволу (от побоев, клеймения, голода и тому подобного), а уж тем паче – обязанности умирать раньше, чем они будут крещены и полностью утвердятся в Истинной Вере.
Поскольку перепись населения Новой Испании все еще не закончена, а результаты ее не упорядочены, мы можем предложить Вашему Величеству лишь примерные цифры численности туземцев в прошлом и настоящем. Имеются веские основания полагать, что ранее в пределах того края, каковой ныне является Новой Испанией, проживало примерно шесть миллионов краснокожих. Сражения Конкисты, безусловно, значительно сократили их количество. К тому же за последние девять лет еще около двух с половиной миллионов индейцев, пребывавших под испанским владычеством, умерло от различных болезней. Сколько жизней уже унесли и продолжают уносить недуги в еще не завоеванных нами регионах, ведомо одному Творцу.
Очевидно, Нашему Господу угодно было сделать краснокожую расу особенно уязвимой для некоторых заболеваний, которые, по всей видимости, до сих пор не имели распространения в здешних землях. Тогда как иные хвори были известны здесь и ранее (что не удивительно, принимая во внимание присущую язычникам склонность к распутству), то бубонная чума, холера, корь, оспа и некоторые другие болезни прежде, видимо, обходили этот край стороной. Трудно сказать, случайно ли совпали моровые поветрия с покорением сей земли христианами, либо же они представляют собой страдания, ниспосланные язычникам Господом, дабы очистить их души от скверны, но индейцы страдают от этих болезней несравненно сильнее, чем европейцы.
Так или иначе, но все это прискорбное множество смертей проистекло, во всяком случае, по естественным причинам, попущением Господним, и исправить свершившееся не в нашей воле и власти. Другое дело, что мы полагаем своим священным долгом призвать наших соотечественников положить конец намеренному истреблению краснокожих. Поскольку Ваше Величество помимо сана епископа Мексики и апостолического инквизитора даровал нам еще должность протектора (защитника) индейцев, то мы будем действовать сообразно обязательствам, налагаемым оным титулом, пусть даже сему будут неизбежно сопутствовать происки жалобщиков и недоброжелателей из числа наших соотечественников.
Испанцы, использующие туземцев как дешевую и легко расходуемую рабочую силу, не должны забывать о своей главной, первостепенной заботе – спасении их заблудших душ. Наш успех в этом благородном деле умаляется со смертью каждого индейца, не успевшего приобщиться к христианской вере. Если подобная безвременная кончина постигнет слишком многих туземцев, пострадает доброе имя Святой Церкви. Кроме того, если все эти индейцы умрут, то кто будет тогда строить наши соборы, храмы, часовни, мужские и женские монастыри, подворья, усыпальницы и прочие христианские сооружения? Кто, спрашиваю я, составит основную массу наших прихожан? Кто будет трудиться, платить подати и вносить десятину на содержание слуг Господних в Новой Испании?
Да сохранит Господь Ваше Наиславнейшее Величество, истинного ревнителя и поборника благочестия, дабы наш монарх, к Вящей Славе Его, мог благополучно пользоваться плодами неустанных своих трудов.
Епископ Мексики Хуан де Сумаррага
(подписано собственноручно).
SEPTIMA PARS[30]
Стало быть, ваше преосвященство сегодня присоединится к нам, чтобы послушать о моей семейной жизни?
Мне кажется, вы найдете этот рассказ не столь изобилующим происшествиями, как истории, касающиеся бурного периода моего возмужания, однако, хочу надеяться, и не столь задевающим ваши чувства. Хотя я и должен с сожалением сообщить, что сама церемония моей свадьбы была омрачена штормом и грозой, но зато могу добавить, что, к счастью, большая часть последовавшей за этим семейной жизни оказалась солнечной и безмятежной. Только, пожалуйста, не подумайте, что она была скучной или монотонной. Напротив, живя с Цьяньей, я испытал множество приключений, и само ее существование наполняло каждый мой день радостным волнением. К тому же в годы, последовавшие за нашим бракосочетанием, жизнь в Мешико, находившемся на вершине своего могущества, была необычайно бурной, и мне довелось лично участвовать в событиях, которые, как я теперь понимаю, были не столь уж и значимыми, но в ту пору и нам с женой, и большинству наших соотечественников представлялись великими и судьбоносными. Пусть наши победы и радости не были эпохальными и не повлекли за собой выдающихся последствий, но ведь, в конце концов, именно из них и складывалась наша жизнь.
Кроме того, простому человеку могло показаться важным то, что не имело значения ни для кого другого, например, интимная сторона брака. Помню, еще в самом начале нашей совместной жизни я спросил Цьянью, как ей удается сжимать колечко мускулов в своей промежности, делая наш акт любви столь возбуждающим. Она, покраснев от удовольствия и смущения, тихонько ответила:
– С тем же успехом ты мог бы спросить, как мне удается моргать или дышать. Это получается само собой, когда у меня возникает желание. А разве у всех других женщин иначе?
– Я не имел дела со всеми другими женщинами, а теперь, когда я заполучил лучшую из них, остальные меня совершенно не волнуют.
Но ваше преосвященство, разумеется, не интересуют подобные тривиальные детали. Думаю, что лучше всего я мог бы объяснить вам, какой была моя супруга, сравнив ее с растением, которое мы называем метль, хотя, конечно, это растение не настолько красиво, как Цьянья и оно не умеет любить, говорить или смеяться.
Метль, ваше преосвященство, это зеленое или голубое растение высотой с человека – красивое, полезное, нужное и растущее повсюду. Вы называете его агавой. Так вот, длинные, изогнутые листья агавы можно, нарезав, разложить так, чтобы они перекрывали друг друга, и получится прекрасная водонепроницаемая кровля. Те же самые листья, если размолоть их, отжать и высушить, дают бумагу, а если разделить на волокна – материал, из которого делают нити и веревки и плетут канаты. Из волокон агавы можно изготовить грубую, но зато прочную ткань. Острые шипы, окаймляющие каждый лист, служат иголками, булавками и гвоздями, а наши жрецы применяли их еще и для умерщвления плоти.
Молодые побеги, растущие возле самой земли, имеют нежную, очень вкусную мякоть и идут на приготовление сластей, а высушенные листья являются превосходным – экономным и не дающим дыма – топливом. Мало того, сгорев, они оставляют белый пепел, которым отбеливают бумагу и который применяют при изготовлении мыла. Если срезать центральные листья агавы и удалить из них сердцевину, то в выемке постепенно накопится прозрачный сок. Он вкусный и питательный, но пригоден не только для питья. Наши женщины втирают его в кожу, чтобы избавиться от морщин, сыпи и пятен, а мужчины дают ему перебродить и получают пьянящий напиток октли или, как называете его вы, пульке. Ну а детишки просто обожают сваренный из этого сока сироп – густой и сладкий, как мед.
Короче говоря, агава сторицей воздает тому, кто выращивает ее и за ней ухаживает, именно в этом и заключается смысл сравнения с ней моей несравненной Цьяньи. Моя жена была хороша не в каком-то одном смысле, а решительно во всех отношениях, во всех своих делах и поступках, причем касавшихся не только меня. Хотя мне, конечно, доставалось все самое лучшее, я ни разу не встретил человека, который бы не любил ее, не ценил и не восхищался ею. Имя Цьянья означает «всегда», но она была еще и всем.
Простите, я понимаю, что не должен занимать драгоценное время вашего преосвященства своими сентиментальными воспоминаниями, так что позвольте мне вернуться к рассказу и изложить события в том порядке, в каком они происходили.
Ускользнув от жестоких цью и уцелев во время землетрясения, мы отправились в Теуантепек сушей, что заняло у нас семь дней. Погубило ли землетрясение дикарей, или они, наоборот, решили, будто землетрясение погубило нас, это мне неизвестно. Во всяком случае, за нами никто не гнался, и при переходе через горы мы страдали только от жажды и голода. Зажигательного кристалла я лишился еще на перешейке, когда на меня напали грабители, а поскольку голод был не так силен, чтобы заставить нас есть сырое мясо, мы с Цьяньей питались дикими плодами, ягодами и птичьими яйцами. Все это было съедобно в сыром виде и, кроме того, содержало достаточное количество влаги, чтобы мы могли насытиться ею в переходах между редкими горными источниками. По ночам мы устраивали ложе из сухих листьев и спали, прижавшись друг к другу ради тепла и иных взаимных удовольствий.
Когда нам удалось-таки добраться до Теуантепека, мы, надо полагать, малость отощали и уж совершенно точно выглядели оборванцами. Одежда наша истрепалась, сандалии износились о камни, ноги были сбиты и стерты.
Когда мы, усталые и радостные, доковыляли до постоялого двора, навстречу нам выскочила Бью Рибе. Лицо ее выражало одновременно сочувствие, раздражение и облегчение.
– Я уж думала, что вы пропали, как наш отец, и никогда не вернетесь! – сказала она, радостно, хотя и несколько укоризненно улыбаясь, а затем пылко обняла сначала сестру, а потом и меня. – С того самого момента, когда вы скрылись из виду, на душе у меня было неспокойно, вся эта затея показалась мне дурацкой и опасной... – Вдруг Бью Рибе запнулась, внимательно вглядевшись в нас обоих, и я во второй раз в жизни увидел, как опали крылышки ее улыбчивых губ. Она осторожно провела рукой по лицу и повторила: – Дурацкой... и опасной...
Ее глаза, рассматривавшие сестру, расширились, а затем вспыхнули недобрым огнем, когда Бью Рибе перевела взгляд на меня.
Хотя я прожил немало лет и знал многих женщин, но до сих пор не пойму, как одна из них может мгновенно и точно определить, что другая была близка с мужчиной и перешла ту грань, за которой девушка превращается в женщину. Ждущая Луна оглядела сестру с изумлением и досадой, а меня с гневом и негодованием.
– Мы собираемся пожениться, – поспешно сказал я.
– И просим твоего благословения, – добавила Цьянья. – В конце концов, ты – глава семьи.
– Могла бы вспомнить об этом и раньше! – произнесла старшая сестра сдавленным голосом. – До того, как ты... как вы... – Туту нее, похоже, перехватило дыхание. Теперь глаза Бью Рибе просто метали молнии. – Нет, надо же... не просто с каким-то там иноземцем, но с похотливым мешикатль, совокупляющимся со всеми без разбору. Не окажись ты у него под рукой, Цьянья, – ее голос зазвучал еще более громко и злобно, – он, скорее всего, раздобыл бы вонючую самку цью, чтобы насадить ее на свой длинный, ненасытный...
– Бью! – выдохнула Цьянья. – Я никогда не слышала от тебя таких слов. Опомнись! Я понимаю, это выглядит неожиданно, но, уверяю тебя, мы с Цаа любим друг друга.
– Да уж, действительно неожиданно! Ты уверена, что он тебя любит? – неистово воскликнула Ждущая Луна, после чего обратила свою ярость на меня. – А ты сам-то в этом уверен? Ты ведь еще не распробовал всех до последней женщин в нашей семье!
– Бью! – снова взмолилась Цьянья.
Я попытался пошутить, чтобы успокоить девушку, но получилось это у меня довольно неуклюже, так что, боюсь, вышло только хуже.
– Бью, я ведь не такой знатный и богатый, чтобы иметь нескольких жен.
Тут Цьянья бросила на меня взгляд почти такой же разгневанный, как у ее сестрицы, и я попытался выкрутиться:
– Цьянья станет моей женой, а тебя, Бью, я счел бы за честь назвать сестрой.
– Вот и прекрасно, братец. Можешь назвать, я тебе разрешаю. Но с одним условием – немедленно убраться куда глаза глядят. Убирайся прочь и забирай с собой... свою... свою избранницу. Благодаря тебе у нее нет здесь больше ни чести, ни доброго имени, ни дома. Ни один жрец Бен Цаа не сочетает вас браком.
– Мы знаем это, – сказал я, старясь придать голосу твердость. – Для совершения брачного обряда мы отправимся в Теночтитлан. Но церемония не будет ни тайной, ни постыдной. Нас поженит один из верховных жрецов двора юй-тлатоани Мешико. Да, твоя сестра выбрала иноземца, это правда, но отнюдь не никчемного бродягу. И она выйдет за меня замуж, дашь ты ей свое благословение или нет.
Последовала долгая напряженная пауза. Слезы струились по почти одинаково прекрасным и почти одинаково расстроенным лицам девушек. По моему же струился пот. Мы трое стояли подобно углам треугольника, связанные невидимыми, натянувшимися до предела ремнями. Казалось, вот-вот что-то лопнет, но тут Бью ослабила напряжение. Ее взор погас, плечи поникли, и девушка сказала:
– Прошу прощения. Пожалуйста, извини меня, сестра Цьянья. И ты тоже, брат Цаа. Конечно, я дам вам свое благословение и от всей души пожелаю счастья. Извините меня за необдуманные слова, которые невольно сорвались с языка... – Тут она попыталась рассмеяться над собой, но смех оборвался на середине. – Вы правы, это все так неожиданно. Не каждый день я теряю... любимую сестру. А сейчас заходите в дом. Помойтесь, поешьте и отдохните с дороги.
С того самого дня Ждущая Луна возненавидела меня смертной ненавистью.
Мы с Цьяньей пробыли в гостинице еще дней десять, но все это время сохраняли между собой дистанцию. Она, как и раньше, ночевала в комнате с сестрой, а я жил в своей собственной, и мы старались не показывать свои чувства на людях. Пока мы приходили в себя после неудачного путешествия, Бью, похоже, пыталась оправиться от потрясения, которое испытала после нашего возвращения. Она помогала Цьянье сложить то немногое, что моя невеста собиралась взять с собой в Мешико.
Поскольку я остался без единого боба какао, мне пришлось взять у девушек взаймы некоторую сумму на дорожные расходы, а также чтобы заплатить осиротевшей семье несчастного лодочника из Нозибе. О гибели рыбака я сообщил бишосу Теуантепека, который заверил, что непременно уведомит о последней дикарской выходке презренных цью гуаве владыку Коси Йюелу.
Признаться, Бью удивила меня, устроив в последний день праздничный пир, какой могла бы устроить, соберись ее сестра замуж за своего соплеменника. На пир этот пригласили всех постояльцев гостиницы и многих горожан. Она специально наняла музыкантов, а танцоры в великолепных костюмах исполняли генда лица – традиционный танец народа Туч, символизировавший «дух родства».
Так или иначе, добрые отношения между сестрами и между Бью и мной вроде бы восстановились, и на следующее утро мы простились тепло, с объятиями и поцелуями.
Взвалив на спины дорожные торбы, мы с моей невестой отправились не прямиком к Теночтитлану, а на север, через равнинный перешеек, то есть пошли тем путем, которым я пришел в Теуантепек. Поскольку теперь мне надо было думать не только о себе, я особенно остерегался промышлявших на дорогах разбойников. Держа макуауитль наготове, я внимательно озирал окрестности, присматриваясь к любому месту, способному послужить укрытием для злоумышленников.
Мы прошли не более одного долгого прогона, когда Цьянья с простодушным волнением и восторгом вдруг воскликнула:
– Подумать только, мне ведь еще никогда в жизни не приходилось уходить так далеко!
От этих незамысловатых слов сердцу моему вдруг стало тесно в груди, а чувства нахлынули с еще большей силой. Она отважилась уйти в неизвестность, всецело доверившись моему попечению. Я засиял от гордости, мысленно благодаря свой и ее тонали за то, что они свели нас воедино. Все остальные люди в моей жизни принадлежали прошлым дням и годам, но любовь к Цьянье была совсем свежей, и наша близость еще не приобрела налета обыденности.
– Я даже представить себе не могла, – восклицала она, раскинув руки, – что вокруг может быть столько ровной земли! Какой простор!
Подобные восторги у девушки вызвала самая обычная, в общем-то довольно унылого вида равнина, но неподдельное восхищение Цьяньи не могло оставить равнодушным и меня. Я радовался возможности знакомить ее с тем, что казалось мне совершенно заурядным, но очаровывало ее своей новизной, да и самому мне, честно говоря, благодаря Цьянье удавалось взглянуть на привычные вещи несколько по-иному.
– Ты только посмотри на этот куст, Цаа. Он же живой! Как и мы, он понимает, что происходит вокруг, и боится, бедняжка. Видишь? Когда я дотрагиваюсь до его веточки, он складывает все свои листья, плотно закрывает цветки и выпускает колючки. Только что зубы не скалит.
Так могла бы радоваться миру юная богиня, рожденная матерью всех богов Тетеоинан и только что снизошедшая с небес, чтобы познакомиться с землей. Цьянью приводили в изумление и восторг мельчайшие детали мироздания... она удивлялась даже мне и самой себе. Живость натуры Цьяньи и ее невероятная жизнерадостность напоминали лучи волшебного света, что постоянно играют внутри изумруда. Меня не переставало поражать ее совершенно неожиданное отношение к самым, казалось бы, обычным вещам.
– Нет, мы не будем раздеваться, чтобы заняться любовью, – заявила моя невеста, когда мы впервые остановились на ночлег. – Только в одежде, как тогда, в горах.
Я, естественно, попытался возразить, но она стояла на своем.
– Позволь мне приберечь свою наготу до первой брачной ночи. Раз уж я не смогу после свадьбы подарить тебе невинность, так пусть хоть это придаст нашей супружеской близости новизну.
Я повторяю, ваше преосвященство, что подробный рассказ о нашей совместной жизни вряд ли может кого-то заинтересовать, ибо она была богата не столько событиями, сколько чувствами, а чувства, такие как любовь или счастье, передать словами намного сложнее, чем описать какие-нибудь происшествия. Могу лишь сказать, что, когда мы поженились, мне было двадцать три года, а моей возлюбленной – двадцать, однако возникшее между нами чувство оказалось не только пылким, что естественно для такого возраста, но и стойким. Во всяком случае, со временем наша взаимная любовь не угасла, но обрела новую глубину и силу. Почему так произошло? Трудно сказать.
Правда, теперь, когда я вспоминаю минувшее, мне кажется, что в тот далекий день, в самом начале нашего пути, Цьянья нашла очень верные слова, определяющие ее сущность.
Помню, увидев в траве одну из смешных длинноногих птиц-скороходов (такая птица встретилась ей впервые в жизни), она задумчиво промолвила:
– Почему, интересно, эта птица предпочитает землю небу? Я, будь у меня крылья, никогда бы этого не сделала. А ты, Цаа?
Аййа, дух ее действительно обладал крыльями, и эта окрыленность передавалась и мне. С самого начала мы стали не только любовниками, но и друзьями, делившими поровну радости и тяготы предстоявшего нам долгого приключения. Мы любили приключения и любили друг друга. Ни один мужчина и женщина не могли бы, наверное, просить у богов большего, чем они дали нам с Цьяньей. Я мог, пожалуй, желать только одного: исполнения обещания, содержавшегося в ее имени: чтобы это продолжалось всегда.
На второй день мы нагнали направлявшийся на север отряд купцов-сапотеков. Их носильщики были нагружены панцирями черепах. Товар это предназначался для ольмеков: их ремесленники, распарив панцири и придав им различную форму, изготовляли из них украшения или использовали этот материал для инкрустации. Торговцы радушно пригласили нас присоединиться к их компании. Хотя вдвоем мы проделали бы весь путь быстрее, но с караваном было безопаснее. Поэтому мы приняли их предложение и дошли вместе до городка Коацакоалькоса, лежавшего на перекрестье торговых путей.
И вот, едва мы вступили на рыночную площадь и Цьянья принялась радостно порхать среди разложенных на лотках и земле товаров, как прямо над моим ухом взревел до боли знакомый голос:
– Так ты, оказывается, жив? Выходит, мы зря придушили тех разбойников!
– Пожиратель Крови! – радостно вскричал я. – О, и Коцатль тоже тут! Что это вы забрели в такую даль?
– Да так, – ответил старый воин усталым голосом, – скука, знаешь ли, замучила.
– Врет, – выдал товарища Коцатль, превратившийся за время моего отсутствия из мальчика в нескладного голенастого подростка. – Мы беспокоились о тебе.
– Ничего мы не беспокоились, а просто скучали! – стоял на своем Пожиратель Крови. – Я даже распорядился выстроить тебе в Теночтитлане дом, но надзирать за каменщиками и штукатурами – это занятие не для меня. Тем паче что строители и сами не раз давали понять, что без моих подсказок работа у них пойдет куда как более споро. Кстати, и Коцатлю после стольких приключений учеба показалась не слишком увлекательной. Вот мы с парнишкой и решили найти тебя и выяснить, что ты поделывал эти два года.
– Мы и понятия не имели, где тебя искать, – подхватил Коцатль, – да случай помог. На здешнем рынке мы наткнулись на четверых малых, пытавшихся продать кое-какие ценные вещи, среди которых мы узнали твою застежку.
– Откуда у них твои вещички, эти пройдохи вразумительно объяснить не смогли, – продолжил Пожиратель Крови, – поэтому я отволок их прямиком в суд. Грабителей допросили с пристрастием, признали виновными и удушили цветочной петлей. Как теперь выяснилось, не совсем справедливо. Впрочем, они так и так заслужили казнь, наверняка на их совести много преступлений. Короче говоря, держи: вот твои застежка и зажигательный кристалл.
– Ну вы и молодцы! – восхитился я. – А разбойникам поделом: они напали на меня, избили, ограбили, а потом бросили, сочтя мертвым.
– Мы тоже боялись, что ты умер, но не теряли надежды, – сказал Коцатль. – А поскольку других дел у нас все равно не было, обшаривали здешнее побережье вдоль и поперек. Ну а сам-то ты, Микстли, что делал?
– Тоже шастал по побережью, – ответил я. – Искал сокровища, как обычно.
– Нашел? – пробурчал Пожиратель Крови.
– Ну, я нашел себе жену.
– Жену! – Он отхаркался и сплюнул. – А мы-то боялись, что ты всего лишь умер.
– Все тот же неисправимый старый брюзга! – Я рассмеялся. – Но погоди, посмотрим, что ты запоешь, когда ее увидишь...
Я огляделся, позвал Цьянью, и она тут же явилась, царственная, как Пела Ксила или госпожа Толлана, но несравненно более красивая. За то время, что я беседовал с друзьями, она успела обзавестись новой блузкой, юбкой и сандалиями, переодеться в обновки и украсить свою белую прядь радужным переливающимся жуком, которого мы называем «живым самоцветом». Полагаю, я и сам уставился на нее с не меньшим восхищением, чем оба моих друга.
– Правильно ты назвал меня старым брюзгой, Микстли, – признал старик. – Аййо, девушка из народа Туч – это воистину бесценное сокровище!
– Я узнал тебя, госпожа, – галантно обратился к девушке Коцатль. – Ты была юной богиней в том храме, который маскировался под постоялый двор.
Я познакомил своих друзей с Цьяньей, которым она явно пришлась по душе, а потом сказал:
– Как удачно, что мы встретились, я ведь собирался по пути зайти в Шикаланко, где меня поджидает еще одно сокровище. Думаю, вчетвером мы сможем донести его сами, не нанимая носильщиков.
И мы все неспешно отправились дальше – в путешествие по стране, где мужчины ходят, согнувшись под тяжестью своих имен, а женщины поголовно, словно ламантины, жуют жвачку. И наконец прибыли в мастерскую мастера Такстема, который показал нам, что ему удалось сделать из гигантских зубов. Поскольку я уже знал кое-что о качестве материала, с которым сам же и поручил ему работать, мое потрясение при виде того, что вышло из рук мастера, было не столь велико, как у Коцатля и Пожирателя Крови. Как я и просил, Такстем сделал фигурки почитаемых в Мешико богов и богинь разной величины, а также резные рукоятки кинжалов и гребни. Но кроме того, мастер, уже по собственной инициативе, выточил черепа величиной с настоящие черепа детей, украсив их искусно выгравированными сценами из старых легенд, сделал удивительные шкатулочки с тщательно пригнанными крышками и флакончики для благовоний копали с затычками все из того же материала. Еще там были красивые медальоны и застежки для накидок, свистки и броши в форме крохотных ягуаров и сов, цветов и кроликов, а также изысканное фигурки обнаженных женщин.
Работа была столь тонкой, что рассмотреть как следует иные детали оказалось возможным только с помощью моего приближающего кристалла. Это относилось, например, к тепили на фигурке обнаженной девушки размером не больше шипа агавы. Следуя полученным от меня указаниям, Такстем не потратил впустую ни одного кусочка или осколочка, все пошло в дело: на серьги для ушей и носа, на браслеты для щиколоток и запястьев и, наконец, на элегантные зубочистки и палочки для чистки ушей. И все эти предметы, большие и маленькие, отсвечивали желтоватой молочной спелостью, словно были вырезаны из луны и светились внутренним светом. Касаться их было так же приятно, как и на них смотреть: их поверхность художник сделал столь же гладкой, как кожа на груди Цьяньи. Как и ее кожа, эти вещи, казалось, манили: «Коснись меня, приласкай меня...»
– Ты обещал, молодой господин Желтый Глаз, что мои изделия достанутся только тем, кто их достоин, – сказал Такстем. – Так позволь же мне сделать первый выбор самому.
С этими словами он наклонился, поцеловал землю перед Цьяньей и, выпрямившись, повесил ей на шею изысканную волнистую цепочку, состоявшую из сотен звеньев. Наверняка, чтобы вырезать их из твердого цельного костяного массива, он потратил уйму времени. Цьянья вся просияла и промолвила:
– Мастер Такстем оказывает мне великую честь. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из смертных мог быть достоин таких чудесных вещей. Их следовало бы приберечь для ваших богов.
– А по-моему, – возразил мастер, – красивая молодая девушка с молнией в волосах и именем, означающем на языке лучи «всегда», больше похожа на настоящую богиню, чем каменные изваяния.
Мы с Такстемом поделили между собой все изделия согласно уговору, после чего разложили мою долю по четырем сверткам. В виде поделок груз был уже далеко не таким громоздким, как исходный материал, так что мы вчетвером должны были без особого труда доставить его домой, не прибегая к помощи носильщиков. Первым делом мы отнесли свои сокровища в ближайшую гостиницу, где привели себя в порядок, подкрепились и остались на ночь.
На следующий день я выбрал из наших новых приобретений один предмет – ножны для маленького ножа, на которых был выгравирован Кецалькоатль, уплывающий в море на сплетенном из змей плоту, и пока Коцатль с Пожирателем Крови показывали моей невесте достопримечательности города, облачился в лучшее платье и, направившись во дворец, испросил аудиенции у тамошнего правителя, табаскуба. Не знаю уж, почему вы, испанцы, положили его титул в основу названия целой страны, назвав Табаско большую часть бывших земель ольмеков.
Владыка принял меня достаточно любезно. Как и большинство представителей других народов, он вряд ли питал к Мешико особую любовь. Однако его страна жила за счет торговли, а наши торговцы были самыми многочисленными и богатыми.
– Владыка табаскуба, – сказал я, – один из твоих умельцев, мастер по имени Такстем, изготовил партию редкостных изделий, которые я рассчитываю продать с большой выгодой. Однако, по моему разумению, первый образец нового товара должен быть преподнесен правителю этой земли. Так что позволь мне подарить тебе вот это от имени Чтимого Глашатая Мешико, Ауицотля из Теночтитлана.
– Ну что же, дар щедрый, да и жест весьма продуманный, – промолвил он, рассматривая ножны с нескрываемым восхищением. – До чего же искусная работа! В жизни не видел ничего подобного.
В качестве ответного подарка табаскуба дал мне маленькое перо золотого порошка для мастера Такстема и короб с покрытыми золотом не только для красоты, но и для пущей сохранности удивительными обитателями моря (морской звездой, веткой коралла и морскими коньками), попросив передать эту диковину от его имени Чтимому Глашатаю Ауицотлю. Из дворца я вышел с приятным чувством: кажется, я поспособствовал, пусть и совсем чуть-чуть, налаживанию добрососедских отношений между ольмеками и мешикатль.
Разумеется, я не преминул упомянуть об этом, когда сразу по прибытии в Сердце Сего Мира предстал пред очами Ауицотля. Я надеялся, что подарок поможет мне умилостивить Чтимого Глашатая: мне так хотелось, чтобы он позволил совершить наш с Цьяньей брачный обряд одному из главных придворных жрецов. Однако Ауицотль лишь бросил на меня сердитый взгляд, прорычав:
– Как ты смеешь просить нас о подобной милости, в то время как дерзко ослушался наших прямых указаний?
– Я? Ослушался? Но каких указаний, мой господин? – спросил я с искренним недоумением.
– Когда ты доставил нам отчет о своем первом путешествии на юг, я предупредил тебя, что вскоре ты нам понадобишься для последующего обсуждения твоего донесения. А ты вдруг взял и исчез, тем самым лишив Мешико возможности развязать столь нужную и полезную войну. Сначала ты пропадаешь неведомо куда, а потом, заявившись через два года, смеешь просить у нас покровительства в связи с предстоящей свадьбой.
– Чтимый Глашатай, – промолвил я, все еще пребывая в растерянности, – поверь, я никогда не позволил бы себе уйти вопреки приказу своего владыки. Я тогда, должно быть, чего-то не понял. Да признаться, я и до сих пор не понимаю, о какой упущенной возможности идет речь и о какой войне ты толкуешь.
– Из твоего письменного отчета следовало, – прорычал правитель еще более грозно, – что ваш караван подвергся нападению разбойников-миштеков. А мы, да будет тебе известно, никогда не позволяли разбойникам безнаказанно грабить наших почтека. – По правде сказать, у меня сложилось впечатление, что на меня юй-тлатоани гневался значительно больше, чем на разбойников. – Останься ты на месте, чтобы выступить с жалобой, у нас появился бы хороший повод послать против этих миштеков войска. Но при отсутствии жалобщика...
Я с должным смирением и покорностью пробормотал подобающие извинения, но тут же добавил:
– Мой господин, невелика честь взять верх над жалкими миштеками, да они и не обладают ничем таким, ради чего их стоило бы побеждать. Однако на сей раз я вернулся из чужих краев с новостями о народе, у которого имеются сокровища, ради которых можно затеять поход, не говоря уж о том, что они заслуживают наказания, ибо обошлись со мной весьма грубо и непочтительно.
– Кто посмел обидеть нашего купца? И какими такими сокровищами это племя обладает? Ну-ка выкладывай! Возможно, тебе и удастся оправдать себя в наших глазах.
Я рассказал правителю о своем путешествии на морское побережье, о том, что там, на вдающихся в море скалах, обитает дикая и злонравная ветвь племени гуаве, именующаяся чонталтин, или цью, или попросту «бродяги». Я поведал Чтимому Глашатаю, что только этому племени известно, когда и куда следует нырять за морскими улитками, которые, хотя и весьма неприглядны с виду, выделяют поразительную темно-пурпурную краску, которая никогда не выцветает и не меняет цвет. Я упомянул о том, что такой уникальный товар будет поистине бесценным, а потом рассказал владыке, как мой проводник-сапотек был зверски убит «бродягами» и как мы с Цьяньей едва избежали подобной участи. Мой рассказ привел Ауицотля в такое возбуждение, что он вскочил со своего медвежьего трона и принялся мерить шагами зал.
– Да, – сказал он, хищно ухмыльнувшись. – Столь гнусное преступление, направленное против одного из наших почтека, вполне оправдало бы карательный поход, а один только пурпур с лихвой возместит все расходы. Но стоит ли нам довольствоваться укрощением одного лишь жалкого племени гуаве? В той стране наверняка немало и других сокровищ, достойных того, чтобы они стали нашими. Не так давно, при моем отце, Теночтитлан уже заставлял покоряться себе этих гордых сапотеков.
– Осмелюсь напомнить Чтимому Глашатаю, – торопливо промолвил я, – что его почтенному отцу Мотекусоме не удалось удержать завоеванную страну в покорности прежде всего в силу ее отдаленности. Для покорения сапотеков Мешико пришлось бы содержать там постоянные гарнизоны, а как в таком случае снабжать находящихся столь далеко наших воинов? Даже если бы нам удалось установить и поддерживать свою власть над этой страной, расходы намного превзошли бы возможные выгоды.
– Похоже, – проворчал Ауицотль, – у тебя всегда найдутся доводы против достойной войны...
– Не всегда, мой господин. Но в данном случае я бы предложил заручиться поддержкой сапотеков в качестве союзников. Они посчитают для себя большой честью выступить против гуаве бок о бок с мешикатль. А потом можно обложить побежденных данью, лучше всего в виде их драгоценного пурпура, но не в нашу пользу, а в пользу правителя земли Уаксьякак господина Коси Йюела.
– Что за вздор? Ты предлагаешь мне затеять войну, сражаться, победить, а потом отказаться от плодов победы?!
– О Чтимый Глашатай, выслушай меня. Одержав победу, ты заключишь договор, обязав Уаксьякак продавать пурпурную краску только нашим купцам. Таким образом выиграют оба народа, ибо, разумеется, наши почтека будут потом перепродавать краситель намного дороже. А сапотеки гораздо прочней, чем силой, окажутся привязанными к нам выгодной торговлей и тем, что вместе с нами ходили в поход против общего неприятеля.
Правитель все еще хмурился, но мои слова заставили его призадуматься.
– Хм, и то сказать: выступив в союзе с нами один раз, они смогут сделать это и в другой, ив третий... – Он одарил меня почти одобрительным взглядом. – Эта мысль кажется мне здравой. Решено: как только наши прорицатели выберут благоприятный день, мы отдадим приказ о выступлении. Ну что ж, текуиуа Микстли, готовься принять воинов под командование.
– Но, мой господин, я собрался жениться!
– Ксокуиуи! – выругался правитель. – Жениться тебе никто не запрещает, но солдат, а уж тем паче командир должен всегда быть готов откликнуться на призыв своего вождя. И не забывай, что именно ты – наш живой предлог для того, чтобы развязать войну.
– Владыка Глашатай, в моем присутствии не будет никакой нужды. Предлог для вторжения уже готов.
И я поведал Ауицотлю о том, как сообщил о злодеянии «бродяг» правителю Теуантепека, а через него – и бишосу того края.
– Поверь мне, сапотеки вовсе не питают любви к дикарям гуаве, самовольно поселившимся на ничейной земле. Они не станут препятствовать продвижению армии Мешико, и тебе вряд ли придется уговаривать Коси Йюела присоединиться к тебе, чтобы наказать злодеев. – Помолчав, я смиренно добавил: – Надеюсь, мой господин, что, осмелившись заранее поспособствовать решению вопросов, касающихся вождей, народов и армий, я поступил правильно.
На некоторое время в зале воцарилась тишина: было слышно лишь, как Ауицотль барабанит толстыми пальцами по скамье, обитой, как я подозревал, человеческой колеей. Наконец он сказал:
– Мы слышали, что твоя нареченная невеста отличается несравненной красотой. Хорошо. Нельзя требовать от человека, который уже сослужил своему народу немаловажную службу, чтобы он поставил радости войны выше наслаждения красотой. Твоя брачная церемония пройдет здесь, во дворце, в недавно украшенном нами заново зале, и совершит обряд придворный жрец... думаю, тут больше подойдет жрец богини любви Хочикецаль, а не бога войны Уицилопочтли. На церемонии будет присутствовать вся наша свита, а ты можешь пригласить своих товарищей почтека, своих друзей, в общем, всех, кого захочешь. Посоветуйся с дворцовыми прорицателями: они сверятся со знамениями и выберут для свадьбы самый благоприятный день. Ну а ты тем временем прогуляйся со своей невестой по городу: подыщите подходящее место – незанятое или участок земли, который можно купить, – для вашего будущего дома. Это станет вам свадебным подарком от Ауицотля.
Наконец наступил день свадьбы. В назначенное время я с волнением приблизился ко входу в заполненный гостями зал и, прислушиваясь к людскому гомону, задержался в дверях, оглядев помещение и всех собравшихся через топаз. И вдруг от удивления выронил кристалл. Я уже успел разглядеть среди нового убранства просторного помещения настенные росписи, которые узнал бы, даже не будь они помечены личным знаком художника. Но сейчас заметил среди разряженных гостей, знатных придворных и состоятельных простолюдинов рослого молодого человека. Хотя в данный момент он стоял ко мне спиной, я узнал в нем старого знакомого – Йей-Эекатль Покуфа-Чимальи.
Я шел сквозь плотную толпу: кое-кто беседовал, потягивая напитки из золотых чаш; другие, главным образом знатные придворные дамы, уже преклонили колени или сидели вокруг бесчисленных скатертей с золотыми вышивками, расстеленных поверх напольных циновок. Многие тянулись навстречу жениху, чтобы с улыбкой похлопать меня по плечу или тронуть за руку, на меня просто сыпались поздравления и добрые пожелания. Я, однако, как предписывала традиция, не откликаясь на знаки внимания, проследовал в переднюю часть помещения – там была расстелена самая великолепная скатерть, вокруг которой меня поджидали особо почетные гости, среди которых были юй-тлатоани Ауицотль и жрец богини Хочикецаль. Едва они поприветствовали меня, как зазвучала тихая музыка: это в дело вступили исполнители из Дома Песнопений.
Сначала мне предстояло пройти обряд посвящения: уважаемые люди должны были признать меня взрослым мужчиной. Я попросил оказать мне эту честь троих старейшин почтека, каковые и находились здесь же, на возвышении. Но поскольку на скатерти теснились блюда с горячим тамалтин и кувшины с крепким октли, а купцам, как предписывала традиция, сразу по завершении посвящения надлежало удалиться, они уже успели угоститься, да так основательно, что теперь, повалившись на пол, спали.
Когда шум в зале стих и слышна была лишь тихая музыка, Ауицотль, жрец и я встали рядом. Вы, может быть, думаете, что жрец богини по имени Хочикецаль должен отличаться от прочих большей чистоплотностью, но в действительности он был столь же неряшлив, грязен и непривлекателен, как и любой другой. И, как и всякий другой жрец, он воспользовался случаем, донельзя затянув произнесенную им речь, посвятив ее в основном ловушкам брака и почти не упомянув о его удовольствиях. Но наконец он удалился, и тогда, обращаясь к трем опьяневшим и сентиментально улыбавшимся старикам, сидевшим у его ног, заговорил Ауицотль. Он высказался кратко и по делу:
– Уважаемые почтека, ваш товарищ хочет взять себе жену. Взгляните на кселолони, который я вам даю. Это знак того, что Чикоме-Ксочитль Тлилектик-Микстли желает отделить себя от дней своей безмятежной юности. Так примите же его и сделайте этого юношу полноправным взрослым мужчиной.
Один из троих (тот, с которого в свое время сняли скальп) принял кселолони, представлявший собой маленький домашний топорик. Будь я рядовым членом общины, мне полагался бы простой кремневый инструмент с деревянной рукоятью, но у этого топорище было серебряным, а лезвие из жадеита. Старик осторожно потрогал острый камень, громко рыгнул и произнес:
– Мы, владыка Глашатай, как и все присутствующие, слышали о желании молодого Тлилектика-Микстли пользоваться всеми правами и нести все обязанности, налагаемые положением взрослого мужа. Поскольку твоя воля, как и его желание, именно таковы, то и быть по сему.
И с пьяным рвением старец взмахнул топориком, да так, что едва не отсек своему товарищу единственную ногу. Потом все трое встали и, прихватив с собой символическое орудие посвящения, удалились из зала. При этом купцов шатало из стороны в сторону, а одноногий старик подпрыгивал, опираясь на плечи своих товарищей.
Не успели старейшины почтека выйти из зала, как раздался шум, возвестивший о прибытии Цьяньи. Собравшиеся перед дворцом горожане громко восклицали:
– Счастливая невеста! Благословенная невеста!
Все процедуры были прекрасно рассчитаны по времени, ибо она появилась, как и подобало, как раз на закате солнца. Пиршественный зал, во время предыдущей церемонии постепенно погружавшийся в сумрак, начал заполняться золотистым светом – это слуги, один за другим, стали зажигать сосновые факелы, углами выступавшие из расписанных стен. Когда зал был полностью освещен, в него в сопровождении двух придворных служительниц вступила Цьянья.
Один раз в жизни, в день своей свадьбы, каждой нашей женщине разрешалось украсить себя, используя все ухищрения, обычно допустимые лишь для маатиме и ауаними: выкрасить волосы, осветлить кожу, покрасить в красный цвет губы. Но Цьянье не было никакой нужды в подобных уловках, так что она ими не воспользовалась. На невесте красовались простая блузка и юбка девственно-бледного желтого цвета, а перья, украшавшие, согласно традиции, ее предплечья и икры, тоже были черными, прекрасно гармонируя с угольной чернотой ее длинных струящихся волос, в которых, словно молния в ночи, сверкала серебристая прядка.
Под приглушенное восхищенное бормотание гостей две женщины провели Цьянью сквозь толпу, и мы оказались друг перед другом. Как того и требовала традиция, невеста выглядела смущенной и оробевшей, а я торжествующим. Жрец принял у помощника и вручил нам два ритуальных предмета – золотые, на золотых же цепях, полые шарики, внутри которых тлел благовонный копали. Подняв свой шарик за цепь, я помахал им вокруг Цьяньи, так что ее окружило облачко голубоватого ароматного дымка. Потом я слегка пригнулся, а невеста привстала на цыпочки, чтобы проделать то же самое со мной. Затем жрец забрал обе курильницы, велев нам сесть рядышком.
В этот момент из толпы должны были выступить наши родственники и друзья с подарками. Родственников, во всяком случае в Теночтитлане, у нас не было, а потому вперед вышли только Пожиратель Крови, Коцатль и представители Дома Почтека. Они все по очереди поцеловали землю и разложили перед нами разнообразные подарки. Цьянье предназначались блузки, юбки, шали и тому подобное, все самого лучшего качества. Для меня также приготовили прекрасные одеяния, но к ним прилагалось еще и достойное вооружение: превосходный макуауитль, кинжал, связка стрел.
Когда дарители удалились, Ауицотль и одна из сопровождавших Цьянью знатных женщин по очереди произнесли нараспев традиционные отеческое и материнское напутствия жениху и невесте. В частности, Ауицотль пожелал, чтобы крик Птицы Зари – папан – всегда заставал меня не нежащимся в постели, но уже занимающимся делами, а посажёная мать Цьяньи столь же монотонно продекламировала полный перечень обязанностей супруги, не упустив ничего, не исключая, как мне показалось, и своего любимого рецепта приготовления тамалтин.
Едва женщина умолкла, к нам, словно это было сигналом, приблизился слуга с блюдом дымящихся колобков из маиса с мясом.
Он поставил их перед нами, и по жесту жреца мы с Цьяньей стали руками кормить друг друга тамали: если вы никогда этого не пробовали, могу вас заверить – дело не из легких. У меня залоснился подбородок, а у моей невесты – нос, но, так или иначе, мы оба вкусили по кусочку ритуального яства. А жрец тем временем завел очередную длинную, вызубренную наизусть речь, пересказывать содержание которой я не стану, дабы не утомлять слушателей. Закончив говорить, он наклонился, подхватил уголок моей накидки и уголок блузки Цьяньи и связал их вместе.
Все: с этого момента мы стали мужем и женой.
Музыка внезапно зазвучала ликующе громко, и толпа разразилась радостными возгласами: наконец-то торжественное напряжение церемониала сменилось беззаботным весельем. Слуги сновали по залу, только и успевая подавать все новые и новые блюда с тамалтин да кувшины с октли. По традиции гостям подобало есть и пить до тех пор, пока факелы на стенах не выгорят полностью или пока мужчины не перепьются до бесчувствия, так что женщинам и рабам придется тащить их домой. В отличие от гостей мы с Цьяньей пили умеренно, а потом нас незаметно (во всяком случае, все делали вид, что этого не замечают) повели в покои, выделенные нам на верхнем этаже дворца. И вот тут-то я нарушил обычай.
– Извини, дорогая, я ненадолго покину тебя, – шепнул я на ушко молодой жене и спустился с возвышения в зал.
Чтимый Глашатай и жрец, с аппетитом жевавшие угощение, воззрились на меня в недоумении. Честно говоря, в жизни мне не раз доводилось навлекать на себя ненависть разных людей, но я никогда не утруждался тем, чтобы запоминать их или пересчитывать. Но в ту ночь в этом зале находился мой смертельный, заклятый враг, уже обагривший руки кровью. Чимальи искалечил и убил нескольких близких мне людей, а его следующей жертвой, прежде чем он доберется до меня, наверняка должна была стать Цьянья. Явившись на нашу свадьбу, Чимальи открыто бросил мне вызов, так что в ответ следовало предпринять что-то, дабы покончить с этой постоянной угрозой моему счастью.
Я принялся искать своего врага, петляя среди пирующих гостей: те при моем приближении удивленно умолкали. Даже музыканты перестали играть, а когда я, найдя-таки Чимальи, выбил из его рук поднесенный к губам золоченый кубок, все ахнули. Звякнув, кубок отлетел от стены, которую художник сам же и расписал.
– Не пей слишком много, – нарочито четко и громко, чтобы слышали все, проговорил я. – Поутру тебе потребуется свежая голова. На рассвете, Чимальи, в лесу на склоне Чапультепека. Нас будет только двое, оружие можешь взять по своему усмотрению. Биться станем насмерть.
Он бросил на меня взгляд, в котором смешались презрение, злоба и некоторое удивление, а затем оглянулся на своих оторвавшихся от еды и питья соседей. Если бы я бросил ему этот вызов один на один, Чимальи наверняка попытался бы выговорить более выгодные для себя условия, а то и просто уклонился бы от поединка. Но я нанес ему оскорбление в присутствии всего двора Чтимого Глашатая, так что выхода у Чимальи не было. Художник пожал плечами, потом взял чей-то кубок с октли, поднял его, словно в насмешливом приветствии, и так же отчетливо, как и я, ответил:
– Хорошо. На рассвете на склоне Чапультепека. Бьемся насмерть.
Затем он осушил чашу, встал и вышел из зала.
Когда я вернулся на помост, толпа за моей спиной снова загомонила, но уже приглушенно и встревоженно. Вид у Цьяньи был невероятно озадаченный, однако, надо отдать ей должное, жена не задала мне ни одного вопроса и даже не вздумала посетовать на то, что я испортил столь радостную церемонию.
А вот жрец бросил на меня хмурый взгляд и завел:
– Это весьма дурное начало семейной жизни, молодой...
– Помолчи! – рявкнул Чтимый Глашатай, и жрец моментально закрыл рот. Ауицотль повернулся ко мне и сквозь зубы процедил: – Похоже, столь неожиданное превращение из юноши в зрелого мужа и супруга помутило твой рассудок.
– Нет, мой господин, – ответил я. – С рассудком у меня все в порядке. Но есть веская причина...
– Да неужели? – оборвал меня владыка, так и не повысив голос, что было страшнее, чем если бы он затопал на меня ногами. – Причина для того, чтобы устроить скандал на собственной свадьбе? Причина испортить церемонию, которую я лично устроил для тебя, как для собственного сына? Причина для того, чтобы напасть на почтенного гостя, нашего придворного?
– Прошу прощения, если обидел моего господина, – смиренно промолвил я, но тут же упрямо добавил: – Полагаю, Чтимый Глашатай был бы обо мне еще более низкого мнения, сделай я вид, будто не замечаю врага, насмехающегося надо мной самим своим присутствием.
– Твои враги – это твое дело. Но ты оскорбил нашего придворного художника. Ты угрожаешь убить его. А ведь ему – ну-ка посмотри туда – осталось разрисовать еще целую стену этого зала.
– Он вполне еще может завершить свою работу, владыка Глашатай, – сказал я. – Когда мы в детстве вместе занимались в Доме Созидания Силы, Чимальи проявлял куда большие успехи в боевых искусствах, чем я.
– Значит, вместо того чтобы лишиться нашего придворного художника, мы потеряем советника, по наущению и жалобе которого мы готовимся вторгнуться в чужую страну? – продолжил правитель все тем же пугающе ровным голосом. – Предупреждаю тебя, а предупреждением юй-тлатоани, прозванного Водяным Чудовищем, пренебрегать не стоит: если кто-то из вас, высоко ценимый нами художник Чимальи или столь же высоко ценимый советник Микстли, погибнет, то вина за это печальное событие ляжет на пославшего вызов. И он поплатится за это, даже если будет мертв.
И очень медленно, так, чтобы я непременно понял его правильно, Ауицотль перевел мрачный взгляд на мою молодую жену.
– Мы должны молиться, Цаа, – тихонько промолвила она, когда мы остались наедине.
– Я буду молиться, – прозвучал мой искренний пылкий ответ.
В наших покоях имелась вся необходимая обстановка, за исключением кровати, которую молодоженам предоставляли только на четвертый день после церемонии. Первые же дни и ночи нам подобало блюсти пост, воздерживаясь как от чревоугодия, так и от прочих плотских радостей, и вознося молитвы различным богам, дабы они даровали нам счастье в семейной жизни.
Но я мысленно молился совсем о другом. Я просил всех богов на свете только о том, чтобы мы с Цьяньей пережили завтрашний день. С опасностью мне не раз доводилось сталкиваться и раньше, но никогда прежде я не оказывался в столь безвыходном положении. Если даже благодаря отваге, везению или просто своему тонали мне удастся победить Чимальи, то что дальше? Мне останется лишь вернуться во дворец и принять казнь или сбежать, но в таком случае кара, обещанная Ауицотлем, постигнет мою жену. А если, что более вероятно, Чимальи, куда лучше владеющий оружием, убьет меня и правитель уже не сможет меня покарать, то его гнев опять же обрушится на Цьянью. Иными словами, каким бы ни оказался исход завтрашнего поединка, ничего хорошего ждать все равно не приходилось. Правда, оставалась еще одна возможность: а что, если на рассвете я просто не явлюсь на Чапультепек...
Пока я размышлял о немыслимом, Цьянья потихоньку распаковывала наш маленький багаж, и от мрачных мыслей меня оторвало ее восхищенное восклицание. Я поднял свою поникшую голову и увидел, что она нашла в одной из моих корзин старую глиняную фигурку Хочикецаль, которую я сохранил еще со времени трагедии, произошедшей с моей сестрой.
– Богиня, которая надзирала за нашей свадьбой, – с улыбкой промолвила Цьянья.
– Богиня, которая подарила мне тебя, – сказал я. – Покровительница любви и красоты. Я специально приберег ее, чтобы подарить тебе. Хотел тебя удивить. Нравится?
– Очень! – воскликнула жена. – Цаа, ты все время меня удивляешь!
– Боюсь, что далеко не всегда приятно. Представляю, как ты огорчилась, когда я сегодня бросил вызов Чимальи.
– Я не знала его имени, но, кажется, видела этого человека раньше. Или кого-то очень похожего на него.
– Видела ты именно его, хотя, думаю, тогда Чимальи не выглядел таким придворным щеголем. Давай я объясню тебе, что к чему, и ты, надеюсь, поймешь, почему мне пришлось омрачить нашу свадебную церемонию. Почему я не мог откладывать то, что уже сделал – и что мне еще предстоит сделать.
Сказав, будто приберегал для нее фигурку Хочикецаль в качестве свадебного подарка, я впервые солгал молодой жене. А затем, рассказывая ей о своей прежней жизни, я если и не допустил прямую ложь, то кое о чем умолчал, и не один раз. Сначала я поведал Цьянье о том, как Чимальи предал меня в первый раз, когда он и Тлатли отказались помочь спасти Тцитцитлини. Однако, упомянув, что жизнь моей сестры оказалась в опасности, я не сообщил жене никаких подробностей.
О том, как судьба вновь свела меня, Чимальи и Тлатли в Тескоко, я рассказал, но заострять внимание на некоторых творившихся там мерзостях, как и на деталях своей мести, не стал. Зато я поведал, что, из милосердия проявив слабость, позволил Чимальи избегнуть возмездия, а он же вместо благодарности жестоко преследовал близких мне людей. Под конец я сказал:
– Помнишь, ты ведь сама рассказала мне о том, как он, притворившись, будто помогает твоей матери, на самом деле...
Цьянья ахнула.
– Так это и есть тот самый путешественник, который выхаживал... который убил мою мать и твоего...
– Да, это он, – подтвердил я, когда жена испуганно умолкла. – Поэтому, увидев сегодня Чимальи, нагло восседающего на нашем свадебном пиру, я твердо решил: больше этот мерзавец не убьет никого.
– И правильно! – яростно воскликнула Цьянья. – Ты обязательно должен завтра убить его, что бы ни говорил на сей счет Чтимый Глашатай. Но не получится ли так, что стража просто-напросто не выпустит тебя на рассвете из дворца?
– Нет. Хотя Ауицотль и не знает всего того, о чем я рассказал тебе, он понимает, что это вопрос чести. Меня правитель удерживать не станет: вместо этого он задержит тебя. Именно это и тревожит мое сердце: боюсь, что ты можешь жестоко поплатиться за мой порыв.
Похоже, последнее замечание ее обидело.
– Зря ты считаешь, будто я менее отважна, чем ты, Цаа. Подумай лучше о том, что если теперь ты пойдешь на попятную, то получится, что это я стала предлогом избежать поединка. Разве смогла бы я после этого с тобой жить?
Обреченно улыбнувшись (получалось, что теперь исчез последний шанс на спасение), я покачал головой, нежно привлек жену к себе и со вздохом сказал:
– Нет уж, на попятную я не пойду.
– Я так и думала, – ответила Цьянья само собой разумеющимся тоном, как будто, выйдя за меня, она стала женой воителя-Орла. – До рассвета осталось совсем немного. Приляг, положи голову мне на грудь и постарайся хоть немного поспать.
Мне казалось, что я только что опустил голову на ее мягкую грудь, когда в дверь неуверенно поскреблись и послышался голос Коцатля:
– Микстли, небо уже бледнеет. Пора.
Я встал, окунул голову в тазик с холодной водой и расправил свою смявшуюся одежду.
– Он уже ушел к пристани акали, – сказал мне Коцатль. – Может, решил напасть на тебя из засады?
– В таком случае, мне потребуется только оружие ближнего боя, метательного не надо, – откликнулся я. – Принеси копье, кинжал и макуауитль.
Коцатль поспешно ушел, а я задержался, чтобы попрощаться с Цьяньей, которая лепетала слова, призванные приободрить меня и внушить уверенность в том, что все будет хорошо. Наконец, поцеловав ее в последний раз, я спустился вниз, где меня с оружием уже поджидал Коцатль. Пожиратель Крови отсутствовал: куачик, наставник Дома Созидания Силы, не имел права помогать кому-либо из участников поединка даже советом, вне зависимости от своего собственного отношения к этому поединку и его возможного исхода.
Дворцовая стража не предприняла никаких попыток помешать мне выйти за ворота, которые вели через Змеиную стену в Сердце Сего Мира. Шаги наших обутых в сандалии ног, ступавших по мраморным плитам, отдавались эхом от Великой Пирамиды и многочисленных зданий поменьше. В опаловом свете раннего утра площадь, непривычно безлюдная, ибо на ней не было никого, кроме нескольких спешивших по своим делам жрецов, выглядела еще более огромной, чем обычно. Выйдя через западный проем в Змеиной стене, мы по улицам и переброшенным через каналы мостам направились к ближайшей пристани, где я взял дворцовое каноэ. Коцатль, под тем предлогом, что мне необходимо беречь силы для схватки, вызвался грести, хотя преодолеть нам предстояло лишь узкую полоску воды.
Наш акали уткнулся в берег у подножия поросшего лесом холма под названием Чапультепек, как раз в том месте, откуда к городу был переброшен акведук. С высокой скалы на нас взирали рельефные изображения Чтимых Глашатаев Ауицотля, Тисока, Ашаякатля и Мотекусомы Первого. Вторая лодка уже находилась там. Державший ее веревку юный дворцовый служитель указал вверх на склон и учтиво сказал:
– Он уже дожидается тебя в лесу, мой господин.
– Оставайся здесь, с этим юным оруженосцем, – велел я Коцатлю. – Скоро будет ясно, понадобишься ли ты мне еще или уже нет.
Заткнув обсидиановый кинжал за пояс, я взял в правую руку меч с обсидиановым лезвием, а в левую копье с обсидиановым наконечником, после чего поднялся на вершину холма и посмотрел вниз на лес.
Ауицотль тогда уже начал превращать эти беспорядочные заросли в парк, и хотя фонтанам, купальням, статуям и тому подобному предстояло появиться лишь через несколько лет, лес уже поредел. От него остались только невероятно древние, могучие кипарисы-ауеуеткве да ковер из трав и диких цветов, расстилавшийся под ними. Но рано утром этот подлесок скрывал туман, и создавалось впечатление, будто каким-то непостижимым образом волшебные кипарисы-великаны вырастали прямо из бледно-голубой дымки, поднимавшейся с земли в лучах восходящего солнца. Вздумай Чимальи припасть к земле где-то в этом мареве, он тоже стал бы для меня невидим.
Однако стоило мне поднести к глазу топаз, я увидел, что мой противник, обнаженный, растянулся на толстой кипарисовой ветке, отходившей от ствола на высоте приблизительно в полтора моих роста.
В вытянутой правой руке, тоже прижатой к ветви, Чимальи держал макуауитль. На какой-то момент я растерялся. Что это за засада, которую так легко обнаружить? И почему он раздет?
Но спустя миг я разгадал его замысел и, должно быть, ухмыльнулся на манер койота. Вчера, похоже, никто не успел рассказать Чимальи, что я обзавелся приспособлением, улучшающим зрение. Он сбросил свои разноцветные одежды, чтобы его кожа слилась с коричневой корой кипариса, решив, что это сделает его невидимым для старого приятеля – полуслепого Крота, для не видящего дальше своего носа Связанного Туманом. Чимальи собирался лежать затаившись, пока я буду шарить среди деревьев, и дожидаться моего появления прямо под веткой, после чего ему оставалось только обрушить на меня макуауитль. Один удар, и я был бы мертв.
Странно, но на какой-то миг я почувствовал укол совести: топаз давал мне преимущество, о котором противник даже не подозревал. Но потом мне пришло в голову, что сам-то Чимальи, воспользовавшись тем, что я предложил ему сразиться без свидетелей, вознамерился коварно прикончить меня из засады. И наверняка потом, одевшись и вернувшись в город, он стал бы похваляться блистательной победой, которую якобы одержал в яростной схватке. Зная Чимальи, можно было предположить, что он для придания своему рассказу большей убедительности даже нанес бы себе несколько неопасных, но заметных порезов. Поэтому, отбросив всякие угрызения совести, я спрятал топаз под накидку, положил макуауитль на землю и, удерживая обеими руками нацеленное перед собой копье, вступил в окутанный дымкой лес.
Чтобы противник и дальше пребывал в заблуждении, я продвигался медленно, неловко согнув колени и прищурившись так, что мои подслеповатые глаза сделались узкими, как щелочки, словно у настоящего крота. Конечно, я не пошел сразу к его дереву, но начал рыскать по лесу туда-сюда, неловко тыча копьем за ствол каждого дерева, к которому приближался. При этом место засады Чимальи и положение ветки, на которой он лежал, постоянно оставались у меня на заметке.
Приближаясь к этому месту, я постепенно начал поднимать копье из горизонтального положения, пока наконец его острие не оказалось направленным вперед и вверх – так Пожиратель Крови учил нас носить копья в лесу для защиты от ягуаров, нападающих, внезапно спрыгнув с дерева.
К кипарису, на ветке которого затаился Чимальи, я приблизился так же, как и ко всем предыдущим: щурясь, подслеповато озираясь и не поднимая глаз. Но как только оказался прямо под нужной веткой – резко, изо всех сил, обеими руками ткнул копьем вверх.
В тот же миг сердце мое екнуло: яростный удар, сила которого отдалась в руках и во всем теле, пришелся не в живую плоть, а в твердую древесину. Но, надо полагать, в тот же самый момент Чимальи занес свой макуауитль, для чего ему пришлось отцепиться от сука. Пришедшийся по ветке удар сбросил противника наземь: он шлепнулся навзничь позади меня, выронив меч. Мгновенно развернувшись, я огрел его по голове древком копья.
Чимальи лежал неподвижно, однако, склонившись над ним, я понял, что он не умер, а лишь потерял сознание. Вместо того чтобы добить недруга, я забрал его макуауитль, подобрал на обратном пути свой и вернулся на берег – к лодкам и молодым оруженосцам. Коцатль, увидев меня, издал негромкий радостный возглас:
– Я так и знал, Микстли, что ты его убьешь!
– Вот убить-то я его как раз и не убил. Оглушил и оставил лежать в лесу без сознания, и если Чимальи очнется, то отделается лишь шишкой да сильной головной болью. Если очнется. Помнишь, несколько лет назад я обещал тебе, что когда придет время казнить Чимальи, то ты сам выберешь, какой смертью он умрет?
И, достав из-за пояса кинжал, я вручил оружие своему другу. Юный придворный, сопровождавший Чимальи, взирал на нас завороженно, с ужасом в глазах.
Я указал Коцатлю на лес.
– Ты легко найдешь, где он лежит. Иди и воздай ему по заслугам.
Кивнув, Коцатль направился вверх по склону и скоро скрылся из виду. Мы остались вдвоем с юношей – отчаянно побледневшим, нервно сглатывавшим и все это время безуспешно пытавшимся совладать с собой. Когда Коцатль вернулся, мы еще издали увидели, что черное лезвие его кинжала окрасилось в красный цвет, и решили, что он убил Чимальи.
Однако, приблизившись, Коцатль заявил:
– Я оставил его жить, Микстли.
– Как? – воскликнул я. – Почему?
– Я слышал, чем пригрозил тебе прошлой ночью Чтимый Глашатай, – ответил он. – Поэтому, как ни велико было искушение прикончить беспомощного Чимальи, я оставил его в живых, чтобы у правителя не было основания наказать тебя слишком строго. Вместо жизни я забрал у него лишь это.
Мой друг разжал кулак, и я увидел на его ладони два поблескивающих студенистых кругляша и один розовый обрубок. Юного придворного стошнило.
– Ты слышал? – сказал я ему. – Чимальи жив, но, надо полагать, нуждается в твоей помощи. Поспеши к нему, останови кровотечение и помоги раненому вернуться в город.
– Итак, этот человек, художник Чимальи, жив, – холодно промолвил Ауицотль. – Если такое существование можно назвать жизнью. Получается, что ты формально не нарушил наш запрет убивать его и, видимо, полагаешь, что таким образом избавил себя от нашего гнева.
Я благоразумно промолчал.
– Мы признаём, что ты действительно повиновался произнесенным нами вслух словам, но не хочешь же ты убедить нас в том, будто не понимал смысла запрета? Этот человек представлял для нас ценность как художник, а какую пользу можно извлечь из него теперь?
К тому времени я уже привык, что во время разговора юй-тлатоани буравит меня грозным взглядом. На других этот взор нагонял страху, но я постепенно начал воспринимать его как нечто обыденное, а потому почтительно сказал:
– Может быть, если Чтимый Глашатай соблаговолит выслушать, какие причины побудили меня вызвать на поединок придворного художника, то мой господин проявит снисходительность?
Правитель лишь хмыкнул, но я истолковал это как разрешение говорить и поведал ему историю, во многом схожую с той, какую рассказал своей супруге. Умолчал я лишь о событиях в Тескоко, поскольку не хотел, чтобы Ауицотль как-либо связал мое имя с гибелью Жадеитовой Куколки. Чтимый Глашатай снова хмыкнул, обдумывая, как я понял по его угрюмому молчанию, мой рассказ, и наконец произнес:
– Мы привлекли художника Чимальи к работе во дворце, несмотря на его презренную безнравственность, противоестественные плотские наклонности, а также мстительность и коварство, по той простой причине, что все это не имеет никакого отношения к умению создавать картины, а он делал это лучше всех мастеров, как современных, так и живших в прошлом. И если ты и не убил человека Чимальи, то, несомненно, убил художника. Теперь, когда ему выдавили глаза, он уже не сможет расписывать стены. А поскольку ему еще и отрезали язык, он даже не сможет раскрыть другим художникам свой секрет смешивания красок.
Я промолчал, но про себя с удовлетворением подумал, что теперь, лишенный зрения и речи, Чимальи уж точно не сможет рассказать Чтимому Глашатаю о моей причастности к разоблачению и казни его старшей дочери.
– Мы все еще гневаемся на тебя, – продолжил Ауицотль, как бы взвешивая доводы против меня и в мою пользу. – С другой стороны, приведенные тобой резоны могут смягчить вину. Мы не можем не признать, что состоявшийся поединок был делом чести. Мы не можем не признать также, что ты, повинуясь нашему указанию, сохранил жизнь если не художнику, то человеку Чимальи, а потому и сами намерены сдержать свое слово. Ты не понесешь наказания.
Я поблагодарил правителя, и благодарность моя, разумеется, была глубокой и искренней.
– Однако, – продолжил он, – поскольку мы произнесли нашу угрозу прилюдно, кто-то должен ответить за случившееся. – Я затаил дыхание, решив, что владыка имеет в виду мою жену. Он, однако, равнодушно сказал совсем другое: – Впрочем, мы подыщем на роль виновного кого-нибудь такого, кого нам будет не жалко лишиться. Главное, все должны знать, что я не произношу пустых угроз.
У меня отлегло от сердца. Возможно, вы посчитаете меня жестоким, но я не особо печалился о судьбе неведомой мне жертвы, скорей всего, какого-нибудь строптивого раба, обреченного умереть по прихоти тирана.
– Как только лекарь залечит его раны, – сказал в заключение Ауицотль, – твой старый враг будет изгнан из дворца. Отныне Чимальи придется зарабатывать себе на жизнь, попрошайничая на улицах. Ты славно отомстил, Микстли. Любой человек предпочел бы умереть, чем стать таким, каким ты сделал своего врага. А сейчас скройся с наших глаз, пока мы не передумали. Отправляйся к своей жене, которая, надо думать, тревожится за твою судьбу.
Разумеется, так оно и было. Цьянья страшно переживала, однако женщина из народа Туч никогда не позволит заметить свое беспокойство дворцовым служителям. Когда я вошел в наши покои, лицо жены оставалось невозмутимым до тех пор, пока она не услышала:
– Дело сделано. С Чимальи покончено. А меня простили.
Цьянья заплакала, потом рассмеялась, снова ударилась в слезы и наконец, бросившись мне на шею, обняла с такой силой, словно вознамерилась никогда больше не выпускать меня из объятий.
Когда я поведал ей обо всем случившемся, жена сказала:
– Ты, должно быть, валишься с ног от усталости. Приляг и...
– Лечь-то я лягу, – заявил я, – но вовсе не затем, чтоб спать. Похоже, чудесное избавление от опасности всякий раз воздействует на меня одинаково.
– Знаю, – с улыбкой промолвила она, – я и сама это чувствую. Но ведь нам положено молиться...
– Нет более искренней молитвы, чем акт любви.
– Но как же без кровати?
– Пол дворцовых покоев уж всяко мягче, чем горный склон. И кстати, я хочу напомнить тебе об одном обещании.
– Ах да, я помню, – сказала Цьянья.
И медленно – не то чтобы с неохотой, но дразняще медленно – разделась донага, сбросив все, кроме ожерелья, которое повесил ей на шею мастер Такстем в Шикаланко.
Говорил ли я вам, мои господа, что Цьянья была подобна изящному сосуду из полированной меди, до краев наполненному медом и поставленному на солнце? Красоту ее лица я созерцал уже не раз, но красоту ее тела доселе знал пока только по прикосновениям. Теперь же, увидев жену раздетой, я понял, как права она была, желая подарить мне свою наготу после свадьбы.
Цьянья стояла передо мной во всем совершенстве этой устремленной ко мне и предлагающей себя наготы. Ее упругие наливные груди с ареолами цвета какао и напряженными сосками призывали к поцелуям. И хотя ее длинные ноги были скромно сомкнуты, нежные губы тепили слегка раздвинулись, позволяя увидеть розовую, влажную, словно только что вынутую из моря, жемчужину ее ксаапили...
Впрочем, пожалуй, мне лучше помолчать. Хотя его преосвященство отсутствует и рассказом о том, что произошло затем, я не рискую вызывать его неудовольствие, я все-таки, несмотря на то что прежде всегда откровенно рассказывал о своих отношениях с другими женщинами, сейчас этого делать не стану. Цьянья была моей любимой женой, так что большую часть связанных с ней воспоминаний я скупо приберегаю для себя. Из всего того, чем я владел в жизни, сейчас для меня имеют значение только воспоминания. Мне кажется, что память – это вообще единственное сокровище, которое человек может надеяться сохранить навсегда. Воспоминания будут со мной всегда.
А так ведь звали и ее. Всегда.
Но я отвлекся. Увы, наше любовное действо, при всей его восхитительности, к сожалению, не стало последним событием того примечательного дня. Мы с Цьяньей лежали в объятиях друг друга, и я как раз уже начинал засыпать, когда в дверь кто-то поскребся, как накануне Коцатль. Смутно надеясь, что меня не призывают сразиться в еще одном поединке, я поднялся на ноги, набросил накидку и открыл дверь.
На пороге стоял один из дворцовых слуг.
– Прошу прощения за то, что помешал твоему отдыху, господин писец, но гонец-скороход доставил неотложную депешу от твоего юного друга Коцатля. Он просит, чтобы ты поспешил в дом своего старого друга Икстли-Куани. Похоже, этот человек при смерти.
– Что за вздор? – хрипло отозвался я. – Ты, наверное, неправильно понял.
– Хотелось бы надеяться, мой господин, – натянуто произнес слуга, – но, боюсь, я понял все верно.
«Вздор, – твердил я про себя, уже торопливо одеваясь и объясняя жене, в чем дело. – Конечно же, Пожиратель Крови не может вот так взять и умереть. Да смерть сама обломает о жилистого мускулистого старого воина свои клыки, если попробует высосать из него жизненные соки. Лет ему, конечно, немало, но с годами сил и интереса к жизни у моего друга ничуть не убавилось, так что умирать ему рановато». Тем не менее я со всех ног поспешил к каналу, ибо на акали можно было попасть в квартал, где жил Пожиратель Крови, быстрее, чем бегом по улицам.
У входа в еще не достроенный дом меня дожидался в ужасе ломавший руки Коцатль.
– У него сейчас жрец Поглощающей Отбросы, – произнес он испуганным шепотом. – Надеюсь, он еще успеет попрощаться с тобой.
– Да что случилось? – простонал я. – Еще прошлой ночью, на пиру, старый воин был здоров и полон сил: налегал на еду, как целая стая грифов, и запускал ручищу под юбку каждой служанки, до которой мог дотянуться. Что же случилось с ним так внезапно?
– Я полагаю, солдаты Ауицотля всегда наносят удары внезапно.
– Что?
– Микстли, сначала я подумал, что четверо дворцовых стражников пришли за мной – из-за того, что я сделал с Чимальи. Но они оттолкнули меня в сторону и набросились на Пожирателя Крови. У него, как всегда, был под рукой макуауитль, и без боя он не сдался. Трое из четверых нападавших ушли все в крови. Но и ему самому нанесли копьем смертельную рану.
Тут я все понял, и холодная дрожь пробежала по всему моему телу. Должно быть, говоря, что вместо меня устранят кого-то никчемного, Ауицотль уже принял решение. Когда-то он отозвался о Пожирателе Крови как о перестарке, не годном ни на что другое, кроме как сопровождать торговцев. А сказав, что никто не должен думать, будто он произносит пустые угрозы, правитель имел в виду и меня. И пока я, радуясь чудесному избавлению, наслаждался с Цьяньей, его люди свершили свою расправу. Расправу, имевшую целью не устрашить или огорчить меня, но призванную лишить иллюзий, какие я мог питать насчет своей незаменимости, и навсегда отбить охоту пренебрегать желаниями неумолимого деспота Ауицотля.
– Старик завещает дом и все, чем владеет, тебе, юноша, – произнес появившийся на пороге жрец, обращаясь к Коцатлю. – Я записал его завещание и буду свидетелем.
Протиснувшись мимо жреца, я через передние комнаты устремился в самую дальнюю, так и не оштукатуренные стены которой были забрызганы кровью. Кровью было пропитано и ложе моего старого друга, лежавшего на животе в одной набедренной повязке. Его седеющая голова была повернута в мою сторону, а глаза закрыты.
– Господин куачик, это твой ученик Связанный Туманом! – воскликнул я, опустившись рядом с ним на кровавую постель.
Глаза медленно открылись, а потом умирающий подмигнул мне и слабо улыбнулся. Но на лице его уже лежала печать смерти: глаза стали пепельно-тусклыми, а мясистый нос заострился.
– Прости меня, – произнес я, задыхаясь.
– Да ладно, чего там, – еле слышно проговорил он. Было ясно, что каждое слово дается ему с большим трудом. – Я погиб, сражаясь. Существует множество куда более худших видов смерти, а мне удалось всех их избежать. Я желаю тебе... такой же хорошей кончины. Прощай, юный Микстли.
– Подожди! – вскрикнул я, как будто мог удержать его. – Ауицотль приказал сделать это, потому что я победил Чимальи. Но ведь ты вообще не причастен к этой истории. Ты не вставал ни на чью сторону. Зачем же было Чтимому Глашатаю обрушивать месть на тебя?
– Все дело в том, – с усилием выдавил он, – что это я научил вас обоих убивать. – Старый воин улыбнулся снова, и глаза его закрылись. – И ведь неплохо научил, разве не так?
Это были последние слова Пожирателя Крови, и никто не смог бы придумать ему более подходящей эпитафии. Но я отказывался верить, что он больше уже ничего не скажет, и, подумав, что моему другу, может быть, удобнее будет лежать на спине, приподнял его обмякшее тело и перевернул. И тут все внутренности его вывалились наружу.
Хотя я горько оплакивал Пожирателя Крови и кипел от гнева, вспоминая, как вероломно его убили, меня несколько утешало то не известное Ауицотлю обстоятельство, что это я лишил его старшей дочери. Поэтому, решив, что в определенном смысле мы с ним в расчете, я постарался забыть о прошлом и начать жизнь, свободную от новых кровопролитий, сердечной боли, вражды и риска. Мы с Цьяньей обратили всю энергию на строительство нашего семейного дома. Место, которое мы выбрали, было куплено Чтимым Глашатаем в качестве свадебного подарка. Он заявил, что подарит нам землю, еще до всех печальных событий, а отказаться потом было бы уже неучтиво, хотя, по правде сказать, у меня не было ни малейшей нужды в подарках.
Старейшины почтека распорядились привезенными из первого путешествия перьями и кристаллами столь разумно и рачительно, что даже после того, как я поделился выручкой с Коцатлем и Пожирателем Крови, у меня все равно еще осталось достаточно, чтобы провести остаток дней в довольстве и праздности. Ну а товары, доставленные из второго путешествия, многократно увеличили мое состояние. Если продажа зажигательных кристаллов оказалась довольно прибыльной, то резные изделия из гигантских бивней вызвали настоящий переполох: знать буквально рвала их друг у друга из рук, набавляя цены. Так что теперь мы с Коцатлем вполне могли зажить спокойной сытой жизнью самодовольных богачей, подобно старейшинам из Дома Почтека.
Место для нашего дома мы с Цьяньей выбрали в Йакалолько, лучшем жилом квартале города, правда, на этом участке земли уже стоял маленький безликий глинобитный домишко. Наняв зодчего, я поручил ему снести неказистое строение и возвести дом, который, с одной стороны, был бы удобным для жизни и радовал взгляд, но с другой – не дразнил бы соседей показным богатством. Ну а поскольку земли на острове мало и наш участок был невелик, я предложил зодчему построить здание повыше. Требований я предъявил немало: мне хотелось обязательно иметь сад на крыше и отхожие места со сливом воды внутри дома, кроме того, в одной комнате я велел сделать ложную стену и устроить за ней вместительный тайник.
Тем временем Ауицотль, более не призывая меня к себе, выступил на юг, в Уаксьякак. Правда, на этот раз он возглавил не огромную армию, но отборный отряд, состоявший от силы из пятисот лучших воинов. Управлять страной на время своего отсутствия он поручил Змею-Женщине, а в качестве заместителя взял с собой племянника – юношу, чье имя сейчас хорошо знакомо вам, испанцам. То был Мотекусома Шокойцин, впоследствии Мотекусома Второй. Он был примерно на год младше меня и доводился сыном предыдущему юй-тлатоани Ашаякатлю, а первому, великому Мотекусоме, соответственно, внуком. До того времени Мотекусома-младший считался верховным жрецом бога войны Уицилопочтли, но этот поход стал для него первым опытом настоящей войны. Первым, но далеко не последним, ибо он сложил с себя сан жреца, чтобы стать воином, разумеется, самого высокого ранга.
Примерно месяц спустя после выступления отряда в Теночтитлан стали прибывать один за другим гонцы Ауицотля, и Змей-Женщина доводил их сообщения до сведения народа.
По всему получалось, что Чтимый Глашатай последовал моему совету. Он заранее отправил сообщения сапотекам и бишосу Уаксьякака, как я и предсказывал, радушно принял отряд из Мешико, присоединив к нему равное число своих воинов. Вторгшись в приморские владения «бродяг», объединенное войско мешикатль и сапотеков быстро разделалось с дикарями, так что уцелевшие после бойни гуаве выразили полнейшую покорность и готовность платить дань той самой пурпурной краской, которая у них доселе почиталась священной.
Однако позже гонцы стали приносить не столь радостные известия. Победоносный отряд воинов из Мешико был расквартирован в Теуантепеке, где Ауицотль и Коси Йюела держали совет по государственным вопросам. Солдатам, привыкшим грабить побежденных, очень не понравилось, что их вождь уступил право взимать драгоценную дань чужеземному правителю. У бойцов мешикатль сложилось впечатление, что выигранная ими война не принесла никакой выгоды никому, кроме властей той земли, в которую они вторглись. А поскольку Ауицотль не имел обыкновения объяснять свои действия подданным, а тем паче – оправдываться перед ними, дело кончилось тем, что воины взбунтовались. Презрев всякую субординацию и дисциплину, они рассыпались по Теуантепеку: начались грабежи, насилия и пожары.
Этот мятеж мог бы испортить отношения с нашими новыми союзниками, но, к счастью, прежде чем разгулявшиеся вояки успели убить какую-нибудь важную персону и прежде чем против них выступили войска сапотеков, что означало бы войну с народом Туч, Ауицотль сумел призвать свою орду к порядку, пообещав, что сразу по возвращении в Теночтитлан он лично, из собственной казны, выдаст даже последнему новобранцу сумму намного большую, чем можно было надеяться раздобыть грабежом. А поскольку солдаты знали, что Ауицотль нерушимо держит свое слово, этого оказалось достаточно, чтобы погасить бунт. Кроме того, Чтимый Глашатай выплатил Коси Йюела и бишосу Теуантепека немалое возмещение за нанесенный ущерб.
Сообщения о беспорядках в родном городе Цьяньи не могли не встревожить нас обоих. Никто из гонцов не мог сказать нам, пострадали ли от погромщиков Бью Рибе и ее постоялый двор. Пришлось дожидаться возращения Ауицотля, однако, наводя справки у солдат и командиров, я тоже не смог выяснить, не случилось ли со Ждущей Луной чего-либо дурного.
– Я очень беспокоюсь о ней, Цаа, – сказала моя жена.
– Похоже, что нет другого способа разузнать все, кроме как съездить в Теуантепек.
– Я могла бы остаться и проследить за строительством, если бы ты... – нерешительно начала она. – Не знаю, могу ли я просить...
– Тут и просить не о чем. Я в любом случае собирался там побывать.
Цьянья удивленно заморгала.
– Правда? Почему?
– Есть там одно незаконченное дело, – ответил я. – Оно могло бы немного подождать, но, поскольку про Бью надо разузнать побыстрее, я не стану его откладывать.
– Ты снова собираешься на ту гору, которая спускается в озеро! – воскликнула Цьянья, мигом смекнув, что к чему. – Не надо, любовь моя! В прошлый раз эти варвары цью едва тебя не убили.
Я мягко приложил палец к ее губам.
– Я собираюсь на юг, чтобы узнать, все ли в порядке с твоей сестрой. Именно так ты и должна говорить каждому, кто обо мне спросит. Тем более что это правда. Ауицотль не должен заподозрить, что у меня есть еще какая-то цель.
Жена кивнула, но печально сказала:
– Теперь я буду переживать за двоих дорогих моему сердцу людей.
– Я скоро вернусь и обязательно разузнаю, как дела у Бью. Если что-нибудь не так, то постараюсь исправить. Или, если она захочет, я привезу ее обратно с собой. А заодно прихвачу и кое-какие иные драгоценности.
Конечно, я действительно беспокоился о Бью Рибе, но, как вы понимаете, господа писцы, это было не единственной причиной моего путешествия на юг. Я решил осуществить тщательно продуманный план. Предложив Чтимому Глашатаю напасть на «бродяг» и принудить их впредь уплачивать ему дань редкой пурпурной краской, я умолчал о том, что огромное количество этого вещества уже хранится в святилище бога моря. Осторожно расспрашивая вернувшихся из похода командиров, я выяснил, что, даже покорившись победителям, «бродяги» не раскрыли им тайну своего святилища. Но я-то знал о сокровище, знал, где оно спрятано, и через Ауицотля ослабил цью настолько, что, пожалуй, теперь вполне мог прибрать к рукам это сказочное богатство. Я мог бы взять с собой Коцатля, но он был занят, ибо завершал строительство дома, полученного в наследство от Пожирателя Крови. Поэтому я просто одолжил у него несколько предметов из гардероба старого воина, а потом, побродив по городу, разыскал семерых старых товарищей Пожирателя Крови. Несмотря на возраст, все они были крепкими, опытными бойцами. Предварительно взяв с них клятву молчать, я поделился с вояками своим замыслом, и они восприняли его с восторгом.
Цьянья помогла мне распустить повсюду слухи о том, что я отправляюсь на поиски ее сестры, но, чтобы не путешествовать порожняком, заодно захвачу с собой товары. Таким образом, когда я и семеро завербованных мною ветеранов выступили в поход, это не привлекло особого внимания. Конечно, тот, кто взглянул бы на нас попристальней, мог бы заметить, что у моих «носильщиков» очень уж много шрамов и ран. А вздумай кто порыться в наших объемистых «тюках с товарами», выяснилось бы, что кроме обычных дорожных припасов мы прихватили с собой только кожаные щиты и почти все виды ручного оружия, кроме длинных копий, а также перья и краски для боевого убранства. В общем, не купеческий караван, а настоящая маленькая армия.
Мы двигались по обычному, ведущему на юг торговому пути, но только до тех пор, пока не оказались за пределами Куаунауака. Потом мы резко повернули направо, на куда менее оживленную дорогу, что шла на запад и представляла собой кратчайший путь к морю. А поскольку большая часть этого пути пролегала через южные области Мичоакана, вздумай кто-нибудь и вправду проверить содержимое наших котомок, нам пришлось бы худо: ибо нас приняли бы за лазутчиков мешикатль и казнили немедленно – или медленно. Хотя в прошлом пуремпече отбили несколько вторжений Мешико благодаря превосходству в вооружении (их наконечники и клинки изготавливались из неизвестного нам металла – твердого и острого), но здесь до сих пор настороженно относились к любому мешикатль, появлявшемуся в их стране. Должен сказать, что на самом деле территория, где обитают пуремпече, называется совсем по-другому. Мичоаканом, то есть Землей Рыбаков, ее прозвали в Мешико, точно так же как вы назвали этот край Новой Галисией, уж не знаю, что это означает. Местные жители по-разному именуют отдельные области своей страны – Шалиско, Науйар-Иксу, Куанауата, – а всю ее целиком называют Цинцинцани, Обиталище Колибри. Точно так же называется и их столица. Совершив впоследствии в этот край несколько путешествий, я познакомился с поре, языком тамошних жителей. Сразу скажу, что, хотя поре имеет столько же различных диалектов, сколько и науатлъ, я неплохо его знаю, и меня очень удивляет, что вы, испанцы, упорно именуете пуремпече тарасками, ведь в переводе это слово обозначает народ вообще, а не название какого-то конкретного племени. Но это не так уж важно: в конце концов, у меня самого было более чем достаточно разных имен. А в этой стране к ним добавилось еще одно: на поре Темная Туча звучит как Аникуа Пакапетль.
Мичоакан издавна был огромной и богатой страной, такой же богатой, как и Мешико. Ундакуари, тамошний Чтимый Глашатай, правил – или по крайней мере собирал дань – на обширнейшей территории, начиная с фруктовых садов Шичу в восточных землях отоми и вплоть до торгового порта Потамкуаро на берегу южного океана. И хотя пуремпече, как я уже говорил, всегда были готовы отразить любые военные посягательства со стороны мешикатль, торговле это ничуть не мешало. Их купцы не только были постоянными гостями на рынке Тлателолько, но они еще и ежедневно посылали в Теночтитлан скороходов со свежими фруктами, которыми с удовольствием лакомилась наша знать. Понятно, что и нашим торговцам тоже разрешалось беспрепятственно путешествовать по Мичоакану, чем и воспользовался я со своими семью «носильщиками».
Имей мы и вправду намерение заниматься по пути торговлей, нам представилась бы возможность разжиться множеством ценных вещей: жемчужинами в раковинах, глиняной посудой с великолепной глазурью, кухонными принадлежностями, украшениями из меди, серебра, раковин и янтаря, а также превосходными лакированными изделиями, каких не достать нигде, кроме Мичоакана. На изготовление этих покрытых лаком предметов, угольно-черных, с узором, выполненным золотом и яркими красками, уходило немало времени – месяцы, а то и годы, в зависимости от размера, ибо пуремпече делали самые разнообразные вещи, от незатейливых подносов до огромных складных ширм.
В этом краю путешественники могли приобрести все, что там производилось, за исключением таинственного металла. Ни одному чужеземцу не разрешалось увидеть его даже мельком: изготовленное из него оружие и то держали взаперти в арсеналах и выдавали воинам лишь в случае необходимости. Поскольку Мешико так и не удалось выиграть ни одного сражения против пуремпече, вооруженных этим оружием, у нас не имелось никаких трофеев, даже случайно оброненного врагом на поле боя кинжала.
Но если торговлей я в тот раз не занимался, то местных яств, совершенно нам неизвестных или очень редких в наших краях, я и мои люди тогда отведали немало. Особенно запомнился нам медовый напиток из Тлачко, горного городка, сутки напролет наполненного гулом. Земля здесь непрерывно гудела, ибо множество людей, вгрызаясь в почву, добывали оттуда серебро. Однако дрожал в Тлачко и сам воздух над окрестными склонами, сплошь поросшими цветами, постоянно жужжали и роились несметные тучи диких пчел. Пока мужья ковыряли землю, докапываясь до спрятанного в недрах земли серебра, их жены и дети собирали на поверхности золотистый мед. Некоторое его количество они просто сцеживали в сосуды и продавали, а часть урожая высушивали на солнце, отчего мед густел, засахаривался и становился еще более сладким. Кроме того, из меда диких пчел пуремпече готовили хмельной напиток чапари, гораздо более вкусный и забористый, чем наш кислый октли. Однако рецепт его держали в тайне, как и способ получения смертоносного металла.
Поскольку чапари нельзя было отведать нигде за пределами Мичоакана, мы угощались им от души. Кроме того, останавливаясь на постоялых дворах, мы непременно лакомились местными деликатесами – речной и озерной рыбой, лягушачьими лапками и угрями.
По правде сказать, через некоторое время дары моря и озер нам порядком поднадоели, но у этого народа существует запрет на убийство практически всех съедобных животных. Пуремпече нипочем не станет охотиться на оленя, потому что считает его воплощением бога солнца. В его представлении даже оленьи рога похожи на солнечные лучи. Да что там олени: в этой стране нельзя ловить в силки даже белок, потому что их жрецы, такие же немытые и косматые, как и наши, именуются тиуименча, а это слово означает «черные белки». Так что на постоялых дворах нам подавали по большей части рыбу или птицу – дикую либо домашнюю.
На каждом постоялом дворе нам обязательно предлагали особый «десерт». Кажется, я уже упоминал отношение пуремпече к плотским наслаждениям. Иноземцы, в зависимости от своих собственных взглядов, считали это кто мерзкой распущенностью, а кто, напротив, терпимостью, но, так или иначе, хозяева постоялых дворов в Мичоакане были готовы удовлетворить все мыслимые запросы и вкусы гостей. Всякий раз, когда мы заканчивали трапезу в гостинице, хозяин осведомлялся сначала у меня, а потом у моих носильщиков:
– Вам кого на сладкое, мужчину или женщину?
Я предоставил своим людям полную свободу выбора и платил им достаточно, чтобы они могли развлекаться на свой вкус, но сам неизменно от такого «угощения» отказывался. Дома меня ждала Цьянья, и я теперь был уже не тот, что прежде: не стремился попробовать дары всех стран, какие только посещал. Однако мой ответ: «Спасибо, ни то и ни другое» неизменно вызывал вопрос: «Значит, господин предпочитает зеленые фрукты?» Возможно, пришлому искателю удовольствий и впрямь следовало уточнять, кто ему нужен – мужчина или женщина, мальчик или девочка, тем паче что иноземцу было весьма затруднительно различить, к какому полу принадлежит тот или иной местный житель. Дело в том, что у пуремпече бытовал странный обычай: за исключением рабов, все – от высшей знати до бедняков – полностью сбривали на голове волосы и брови и тщательно выщипывали по всему телу растительность – любой, даже едва заметный пушок под мышками и в промежности. Поэтому все туземцы – что мужчины, что женщины, что дети – были совершенно безволосыми, если не считать ресниц. К тому же, несмотря на столь легкомысленное отношение ко всем формам соития, днем местные жители одевались весьма целомудренно: они ходили, кутаясь в многослойные покрывала, и отличить мужчин от женщин удавалось не сразу.
Сперва я предположил, что приверженность пуремпече гладкой безволосой коже объясняется либо своеобразным представлением о красоте, либо просто веяниями моды, но, похоже, за этим крылась их прямо-таки болезненная чистоплотность. Изучая язык этого племени, я выяснил, что в поре имеется не меньше восьми слов для обозначения различных видов перхоти и примерно столько же для обозначения вшей.
К морскому побережью мы вышли возле огромной бухты, наполненной голубой водой и защищенной от буйства волн, и морских штормов полукольцом суши. Там находилось поселение, которое местные жители называли Патамкуаро, а наведывавшиеся сюда из Мешико почтека – Акамепулько. Оба названия, и на поре, и на науатлъ, имели одинаковое значение и были связаны с заросшими камышом и тростником болотистыми прибрежными низинами. Акамепулько был не только рыболовецким портом, но и торговым центром для живших восточнее и западнее по побережью народов. Приморские жители добирались туда по воде, чтобы продать или обменять на рынке рыбу, черепах, соль, хлопок, какао, ваниль и другие продукты и плоды Жарких Земель.
На сей раз я решил не нанимать лодки, чтобы не впутывать в дело посторонних, и поэтому купил четыре вместительных морских каноэ. Мы полагали, что ввосьмером как-нибудь управимся с суденышками, однако на деле это оказалось не так-то просто. Да и купили мы их с трудом. Привычные нам акали, плававшие по озерам, легко было вырезать из мягкой древесины росшей в наших краях сосны. Но морское каноэ выдалбливалось из тяжелого и твердого красного дерева, и на изготовление его уходил не один месяц. Почти все семьи в Акамепулько использовали свои каноэ из поколения в поколение, и никто не хотел продавать нам акали, поскольку лодки были постоянно нужны местным жителям для рыбной ловли и сбора морепродуктов. Правда, в конце концов я все-таки разжился необходимыми мне четырьмя акали, но это стоило мне долгих напряженных переговоров и гораздо большего количества золотого порошка, чем я предполагал поначалу.
Да и перегонять их на юго-восток оказалось не так-то просто: ведь на одну лодку приходилось всего по два гребца. Все мы имели некоторый опыт вождения каноэ на озерах, а там тоже случались бури, но вот подводные течения и волны приливов, вздымающиеся даже в спокойную погоду, были нам в новинку. Несколько моих закаленных вояк, желудки которых не реагировали даже на самые тошнотворные картины войны, на протяжении двух или трех дней отчаянно мучились морской болезнью. А вот меня, может быть потому, что мне уже доводилось бывать на море, эта напасть миновала. Мы быстро усвоили, что, когда волнение становится особенно яростным и непредсказуемым, нужно не льнуть к берегу, а, наоборот, уходить в открытое море, хотя в шторм находиться вдали от суши Сего Мира и было страшновато. Весь день мы плыли далеко от берега и причаливали лишь на закате, чтобы провести ночь на мягком, но в то же время не колыхавшемся и не уходившем у нас из-под ног прибрежном песке.
Как и в прошлое мое путешествие, пески побережья по мере продвижения на юг постепенно темнели: блестящий белый сначала превратился в тускло-серый, а там и в черный, как застывшая лава. И вот наконец ровный пляж перегородил вдающийся в море скалистый мыс. Благодаря топазу я увидел гору издалека, и поскольку дело шло к вечеру, распорядился немедленно причалить к берегу. Когда мы расселись вокруг походного костра, я, обратившись к своим семерым спутникам, напомнил им, что ждет нас завтра, и добавил:
– Наверняка некоторые из вас сомневаются, можно ли поднять руку на жреца, пусть даже это жрец чужого бога. Отбросьте все сомнения. Если вам покажется, что перед вами всего лишь беззащитные служители божества, не поддавайтесь этому впечатлению. Учтите, при первой же возможности они перебьют нас всех, а потом разделают, как кабанов, зажарят и съедят, смакуя изысканное лакомство. Но мы не дадим им такой возможности, ибо завтра будем убивать сами. Поэтому если не хотите погибнуть – будьте беспощадны. Помните это и следите за моими условными сигналами.
На следующее утро в отчаливших от берега челнах уже находились не молодой почтека с семью носильщиками, а отряд грозных воинов мешикатль под предводительством многоопытного «старого орла» – куачика. Развязав котомки, мы вооружились и облачились, как подобало бойцам. Я нес старый боевой щит Пожирателя Крови, его копье с остроконечным флажком на древке и подобающий военному предводителю головной убор. Из знаков воинского отличия мне не хватало лишь костяной вставки в носу, но дело в том, что у меня там не было дырки. Семеро остальных солдат тоже надели стеганые доспехи, собрали волосы на макушках в узлы и воткнули туда перья, а также разрисовали себе лица разноцветными узорами. Каждый из нас был вооружен макуауитль, кинжалом и копьем.
Наша маленькая флотилия приближалась к скалистому мысу открыто, мы намеренно хотели привлечь внимание хранителей святилища. И это нам удалось: на склон немедленно высыпало около дюжины злобных, одетых в рваные и латаные звериные шкуры жрецов цью. Хотя высадиться на песке было бы гораздо легче, мы не стали поворачивать лодки к берегу, а гребли прямо к утесам.
То ли из-за того, что на сей раз я попал сюда в другое время года, то ли потому, что мы подплывали с запада, но только океан сейчас буйствовал с куда меньшей силой. Однако волнение все-таки было достаточно сильным, и суденышки столь неопытных мореходов запросто могли бы разбиться о скалы, если бы знавшие здесь все пороги жрецы вдруг не попрыгали в воду и не помогли затащить наши каноэ в скрытые среди скал расщелины. Разумеется, они просто испугались грозного вида боевых доспехов мешикатль, на чем и строился мой расчет.
Когда лодки были надежно пристроены в укрытии, я, оставив возле них для охраны одного воина, жестом призвал всех остальных (и жрецов, и своих товарищей) следовать за мной. Перепрыгивая с камня на камень, мы под грохот прибоя, сквозь облака и завесы брызг направились к основному скальному массиву и поднялись вверх по его склону. Верховный жрец бога моря уже поджидал нас на уступе, сложив руки на груди таким манером, что человек, не знавший про его отрубленные кисти, никогда бы этого не заметил. Он буркнул что-то на своем невнятном гуаве, а когда я непонимающе поднял брови, перешел на лучи и с угрозой сказал:
– Зачем вы явились снова, мешикатль? Мы лишь хранители краски морского бога, а она у вас теперь есть.
– Не вся, – ответил я ему на том же языке. Похоже, его удивила моя напористость, но жрец стоял на своем:
– У нас ничего не осталось.
– А как же моя краска? – возмутился я. – Пурпур, за который тебе было заплачено много золота? Помнишь? В тот день я сделал еще и это.
И плоской стороной лезвия своего меча я раздвинул его руки так, что стали видны обрубки запястий. Только теперь жрец узнал меня, и его злобное лицо стало еще безобразнее от бессильной ярости и ненависти. Помощники, стоявшие по обе стороны от него, попытались немедленно окружить меня и моих воинов. Дикарей было вдвое больше нас, но мы сомкнулись в кружок, ощетинившись копьями.
– Веди нас в пещеру бога! – приказал я их главарю.
Он помедлил, видать придумывая отговорку, а потом проворчал:
– Святилище Тиат Ндик уже опустошила ваша армия.
Я подал знак стоявшему рядом со мной воину, и один из помощников жреца, получив копьем удар в живот, с воплями покатился по земле, зажимая рану.
– Это вам урок, – сообщил я остальным. – Поняли теперь, что мы не шутим?
Я сделал очередной жест, и мой солдат пронзил сердце упавшего, положив конец его крикам.
– А сейчас, – сказал я главному жрецу, – мы пойдем в грот.
Он сглотнул, но возражать больше не стал. Чувствуя спиной острие моего копья (мои люди точно так же подталкивали копьями его помощников), жрец повел меня через нагромождение валунов и обломков вниз, к заповедной расщелине, и пещере. К моему великому облегчению, землетрясение не, разрушило и не погребло святилище. Когда мы остановились перед вымазанным пурпуром грубым подобием статуи, я указал на разложенные вокруг кожаные мешочки и мотки пряжи и сказал главному жрецу:
– Вели своим прихвостням перетащить все это в наши лодки. – Служитель бога моря снова сглотнул, но промолчал. – А ну-ка пошевеливайся, или я отсеку тебе руки по локоть, потом по плечи... ну а потом отрублю что-нибудь еще.
Жрец поспешно буркнул что-то на своем языке, видимо отдав помощникам приказ. Молча, лишь искоса бросая на меня злобные взгляды, младшие жрецы принялись под присмотром моих людей перетаскивать мешочки и мотки пряжи из пещеры к лодкам. Пурпура в святилище накопилось много, так что ходить туда-сюда им пришлось не раз, и все это время я, оставаясь с безруким жрецом возле статуи, держал наконечник копья приставленным к его подбородку. Разумеется, мне ничего не стоило заставить его вернуть золото, но я предпочел оставить его как плату за полученный пурпур. Это давало мне возможность чувствовать себя не грабителем, но купцом, заключающим, пусть и с опозданием, вполне законную сделку.
И только когда последний из мешочков был вынесен из пещеры, главный жрец дрожащим от ненависти голосом заговорил снова:
– Ты уже осквернил это священное место раньше. Ты разгневал Тиат Ндик, и он, рассердившись, ниспослал цьюйю. А на этот раз его гнев наверняка будет еще страшнее. Бог моря не допустит, чтобы ты, совершив кощунство, беспрепятственно удалился с награбленным пурпуром.
– Может быть, – беспечно отозвался я, – он смягчится, если я принесу ему другую жертву, тоже красного цвета?
С этими словами я нанес ему удар снизу вверх, и наконечник копья, пробив челюсть, язык и нёбо, вонзился жрецу в мозг. Он упал плашмя на спину, красная кровь фонтаном брызнула у него изо рта, и мне, чтобы высвободить копье, пришлось упереться ногой в его подбородок.
Позади раздался крик ужаса: как раз в этот момент мои воины в очередной раз пригнали помощников жреца назад в грот. На сей раз мы действовали молниеносно: прежде чем служители идола успели прийти в себя, чтобы попытаться убежать или оказать сопротивление, все они были мертвы.
– Я обещал жертвоприношение этому каменному истукану. Свалите трупы туда, – прозвучал мой приказ.
Когда это было сделано, статуя бога приобрела уже не пурпурный, но глянцево-красный цвет, и вокруг нее растекалась липкая лужа.
Мне кажется, что Тиат Ндик был вполне удовлетворен моим даром. Во всяком случае, ни землетрясения, ни бури не разразилось: мы спокойно вернулись к лодкам, тяжело нагрузили их обретенными сокровищами и без помех отчалили. Морской бог не помешал нам отплыть подальше от прибрежных скал и утесов, повернуть на восток и двинуться вдоль побережья, оставляя позади уходящую в море гору и землю «бродяг». Больше я в этом краю никогда не бывал.
Однако следующие несколько дней, оставаясь в прибрежных водах гуаве и сапотеков, мы не снимали боевых нарядов мешикатль, так что в приморских рыбацких деревеньках нас принимали за настоящий воинский отряд. Рыбаки со встречных лодок озадаченно махали нам руками. Это продолжалось до тех пор, пока мы не миновали перешеек Теуантепек и не прибыли в Шоконочко – страну хлопка. Там мы пристали к берегу в укромном месте, зарыли в землю доспехи и воинские регалии, сломали все оружие, кроме самого необходимого, переложили мешочки и мотки крашеной пряжи в торбы, и поутру путь на лодках продолжили уже не воины, а молодой почтека и его носильщики. В тот же день мы совершенно открыто высадились у деревни Пиджиджиа племени маме, где я и сбыл наши каноэ. Правда, сделать это удалось лишь по прискорбно низкой цене, поскольку у тамошних рыбаков, как и у всех жителей побережья, и без нас имелось достаточно лодок. Наверное, со стороны на меня и моих товарищей было смешно смотреть: после столь долгого плавания на суше у нас заплетались ноги. Чтобы заново привыкнуть к твердой земле, нам пришлось на пару дней задержаться в Пиджиджиа, и прежде чем мы снова взвалили на плечи свои тюки и отбыли в глубь материка, у меня там состоялось несколько любопытных бесед со старейшинами племени маме.
Брат Торибио интересуется, зачем нам понадобилось переодеваться то из купцов в воинов, то обратно? Сейчас объясню.
Поскольку жители Акамепулько знали, что молодой купец приобрел для себя и своих носильщиков четыре морских каноэ, а жители Пиджиджиа – что похожая группа вскоре продала точно такие же лодки, то в обоих населенных пунктах это, конечно, могло показаться подозрительным. Но эти поселения находились слишком далеко одно от другого, так что опасаться того, что тамошние обитатели сопоставят впечатления и придут к определенным выводам, не приходилось. Ну а уж от обеих столиц, и от нашей, и от сапотеков, они лежали в еще большем отдалении, поэтому такого рода слухи вряд ли когда-либо могли дойти до ушей Коси Йюела или Ауицотля.
Зато представлялось совершенно неизбежным, что цью, обнаружив трупы жрецов и исчезновение из святилища священного пурпура, поднимут страшный шум. Непосредственных свидетелей ограбления пещеры мы устранили, но, скорее всего, их соплеменники видели, как мы приближались к священной горе или отплывали от нее. Так что рано или поздно и бишосу Коси Йюела, и Чтимый Глашатай Ауицотль узнают о том, что случилось. Ясно, что цью могут приписать этот разбой лишь отряду мародеров из Мешико. Владыка сапотеков, заподозрив неладное, обратится к Ауицотлю, но тот заявит (совершенно искренне), что никаких воинов к морскому побережью не посылал. Я был готов поручиться, что в результате возникнет такая путаница, что никто и никогда не свяжет разбойничавшую на побережье шайку дезертиров с мирными торговцами, а стало быть, до меня наверняка не доберутся.
Сначала я собирался из Пиджиджиа повести свой отряд через перевал в страну чиапа, однако пурпура было столько, что я решил, что моим носильщикам не стоит таскаться по горам с объемистыми тюками. Поэтому я отправился в Чиапан один, велев своим людям двигаться вперед не торопясь. Мы договорились встретиться на безлюдных пустошах перешейка Теуантепека, и я напоследок посоветовал своим товарищам избегать селений и, по возможности, встреч с другими путешественниками. Караван, состоящий из одних носильщиков, с товарами, но без купца, неизбежно привлек бы к себе внимание, а лишние расспросы нам были ни к чему. Поэтому, отойдя подальше от Пиджиджиа, семеро ветеранов двинулись по равнинам Шоконочко на запад, тогда как я, поднявшись в горы, направился на север.
Перевалив через кряж, я спустился в убогий, хотя и считавшийся столицей город Чиапан и пошел прямиком к мастеру Ксибалбе. Он очень обрадовался мне и радостно воскликнул:
– Ага! Я так и знал, что ты здесь еще объявишься, а потому специально собрал побольше кварца и изготовил уйму зажигательных кристаллов.
– Кристаллы действительно идут нарасхват, – сказал я ему. – Прибыль я получаю немалую, поэтому на сей раз уж непременно заплачу тебе настоящую цену – и за материал, и за работу!
Когда моя торба наполнилась завернутыми в хлопок кристаллами, оказалось, что груз у меня на плечах почти не уступает по весу тому, что тащили мои носильщики. Однако я не стал задерживаться в Чиапане, чтобы отдохнуть и набраться сил, потому что остановиться в этом городе мог только в доме семьи Макобу, где мне пришлось бы отбиваться от заигрываний двух кузин, а это выглядело бы неучтиво со стороны гостя. Поэтому я заплатил мастеру Ксибалбе золотым порошком и немедля продолжил путь.
Несколько дней спустя после недолгих поисков вдалеке от населенных пунктов и оживленных дорог я вышел в условленное место, где возле костра и кучи обглоданных костей броненосцев, игуан и прочих съедобных тварей дожидались меня спутники. Там же мы и заночевали, а я в тот вечер впервые с момента нашего расставания смог наконец подкрепиться горячим: специально для меня зажарили жирного фазана.
Проходя через восточные предместья Теуантепека, мы видели следы разрушений, совершенных взбунтовавшимися мешикатль, хотя большинство пострадавших от пожаров участков уже застроили заново. Можно сказать, что городу эта история пошла только на пользу: на месте убогого пригорода с жалкими лачугами, одна из которых сыграла такую роль в моей жизни, вырос квартал добротных красивых домов.
Однако, миновав центр и приблизившись к западной окраине, мы увидели, что дотуда орава мародеров не добралась. Знакомый постоялый двор оказался на месте – в целости и сохранности. Оставив своих людей во дворе, я вошел внутрь и крикнул:
– Эй, хозяйка! Найдется у тебя комната для усталого почтека и его спутников?
Бью Рибе вышла на зов. Она была цела и невредима и выглядела, как всегда, прекрасно, но вот слова ее прозвучали неприветливо:
– Нынче в здешних краях не больно-то привечают мешикатль.
– Но конечно же, – промолвил я, все еще пытаясь придать разговору сердечность, – Ждущая Луна сделает исключение для своего названого брата, Темной Тучи. По просьбе Цьяньи я проделал такой далекий путь, чтобы узнать, все ли с тобой в порядке. Я рад видеть, что ты цела.
– Цела, – эхом повторила она. – И рада, что ты рад, потому как появление здесь этих буйных мешикатль твоих рук дело. Всем известно, что война разгорелась из-за пурпурной краски, которую ты пытался силой отнять у цью.
Я не мог не признать, что это правда.
– Но не станешь же ты винить меня за...
– Да уж, я и сама во многом виновата, – с горечью заявила Бью. – Кабы знать все заранее, да мы бы тебя вообще на порог не пустили! – Потом порыв злобы пошел на убыль, и она упавшим голосом продолжила: – Да ладно, что теперь толку жаловаться? Разумеется, ты можешь занять комнату и разместить там своих носильщиков. Слуги о вас позаботятся.
И с этими словами Бью Рибе развернулась и ушла. Я подумал, что она не только не рада нашей встрече, но даже не проявила из приличия родственного радушия. Так или иначе, но слуги действительно занялись размещением и устройством носильщиков и товаров, а мне подали еду. Когда я уже пообедал и курил покуитль, Бью проходила через трапезную. Намерения задерживаться возле меня у нее явно не было, но я взял девушку за запястье и остановил, заметив:
– Послушай, Бью, я прекрасно знаю, что ты недолюбливаешь меня, а если недавние осложнения с мешикатль усугубили эту неприязнь...
Она перебила меня, надменно изогнув похожие на крылья брови:
– Недолюбливаю? Испытываю неприязнь? Все это чувства. С какой стати я должна питать хоть какие-то чувства к мужу своей сестры?
– Ладно, – с досадой проворчал я, – дело твое: можешь ко мне вообще никак не относиться. Но разве ты не хочешь передать через меня весточку Цьянье?
– Ну что ж, передай ей, что меня изнасиловал ваш солдат.
Ошарашенный, я выпустил ее запястье, пытаясь найти нужные слова, но Бью Рибе рассмеялась и продолжила:
– О, только не надо меня жалеть! Я думаю, что по-прежнему могу претендовать на девственность, ибо он оказался исключительно неумелым. Своей попыткой унизить меня он лишний раз подтвердил укоренившееся мнение о наглости высокомерных мешикатль.
Совладав наконец с потрясением, я требовательно спросил:
– Как его звали? Я позабочусь о том, чтобы мерзавца казнили.
– Ты думаешь, он представился? – Бью снова рассмеялась. – Полагаю, то был не рядовой солдат, хотя не разбираюсь в ваших знаках различия, а в комнате было темно. Только представь: для этого действа он заставил меня облачиться особым образом. Мне пришлось вымазать лицо сажей и надеть черные затхлые одеяния, в каких ходят служительницы храмов.
– Что? – изумился я.
– Он не вдавался особо в объяснения, но я поняла, что обычной женщине, даже девственнице, его в полной мере не возбудить. Видишь ли, этому мешикатль необходимо воображать, будто он совершает святотатство.
– В жизни не слышал ни о чем подобном...
– Только не пытайся выгораживать своего земляка. И нет нужды мне сочувствовать, потому что в насильники – в нормальные насильники! – этот солдат никак не годился. Его тепули, если это вообще можно назвать тепули, представлял собой какой-то кривой прыщавый обрубок. А когда он пытался войти в меня...
– Пожалуйста, Бью, – взмолился я, – не надо! Тебе наверняка неприятно об этом вспоминать.
– Чего уж теперь, – сказала она холодно и как-то совершенно отстраненно. – Только представь, все считают меня жертвой насильника, а этот мерзавец даже не смог меня как следует изнасиловать. Его искалеченный тепули входил в меня одной только своей головкой или... не знаю уж, как вы это называете. Короче говоря, он проникал совсем неглубоко и никак, несмотря на все старания этого урода, не оставался внутри. Так что в конце концов семя этого мерзавца пролилось мне на ногу. Уж не знаю, можно ли лишиться девственности только частично, но думаю, что я все еще могу считаться девушкой. Очень надеюсь, что этот урод чувствовал себя еще более пристыженным и униженным, чем я. Он даже не мог смотреть мне в глаза, пока я раздевалась. Кстати, эти вонючие тряпки прислужницы жрецов он забрал и унес с собой.
– Знаешь, это как-то совершенно не похоже на... – беспомощно начал я.
– На мужественного, властного и сурового воина мешикатль? На настоящего мужчину вроде Цаа Найацу? – Она перешла на шепот: – Скажи мне откровенно, Цаа, смог ли ты хоть раз по-настоящему удовлетворить мою младшую сестренку?
– Пожалуйста, Бью, прекрати. Это неприлично.
– Джай цйаба! – выругалась она. – Что может быть неприличным для обесчещенной женщины? Если ты не хочешь ответить словами, то, может, покажешь? Докажи мне, что ты настоящий мужчина... О, не красней и не отворачивайся. Вспомни, я ведь уже видела, как ты проделывал это с матерью, но она так и не сказала нам тогда, хорошо ей было или нет. Впрочем, я не прочь выяснить это на личном опыте. Идем в мою комнату. Чего тебе стесняться, мною ведь уже пользовались? Правда, как-то не совсем по-настоящему, но...
Я решительно сменил тему:
– Я обещал Цьянье в случае чего забрать тебя в Теночтитлан. Дом у нас большой, комнат много. Так что, Бью, если тебе здесь плохо, то предлагаю перебраться к нам!
– Только этого мне не хватало! – отрезала она. – Жить под твоей крышей? Нет уж, уволь, я не собираюсь превращаться в приживалку!
Тут я не выдержал и громко заявил:
– Вот что, дорогая, с меня хватит. Я, со своей стороны, сделал все, что мог: уговаривал тебя, убеждал, предлагал помощь, сочувствие и братскую любовь. Я предложил тебе хороший дом в другом городе, где ты можешь высоко держать голову и забыть прошлое, но в ответ получил лишь колкости и злобные насмешки. Так вот, женщина: утром я уйду, а ты уж сама решай – один или с тобой.
Разумеется, Бью Рибе осталась.
Поскольку формально я считался странствующим купцом, правила приличия требовали, чтобы, посетив столицу сапотеков Цаачилу, я снова нанес визит вежливости бишосу Бен Цаа. Он принял меня, и я рассказал ему вымышленную историю: якобы до последнего времени я скитался по диким землям страны Чиапа и о событиях, происходящих в цивилизованном мире, узнал совсем недавно. Кроме того, я добавил:
– Конечно, владыка Коси Йюела догадался, что Ауицотль привел своих воинов в Уаксьякак по моему наущению. Поэтому я считаю своим долгом принести извинения...
Он небрежно отмахнулся:
– Не так уж важно, какие интриги стояли за этим походом. Главное то, что ваш Чтимый Глашатай явился с добрыми намерениями, дав нам надежду на то, что застарелая вражда между нашими народами наконец стихнет. Да и против дани, выплачиваемой пурпурной краской, я ничего не имею.
– Так-то оно так, – сказал я, – но ведь воины Ауицотля повели себя в Теуантепеке предосудительным образом, поэтому я как мешикатль обязан извиниться.
– Я совершенно не виню в случившемся Ауицотля. Я не слишком виню даже его солдат. – Должно быть, на моем лице отразилось удивление, ибо он пояснил: – Ваш Чтимый Глашатай быстро принял все необходимые меры, чтобы пресечь беспорядки: приказал удушить самых отъявленных преступников и умиротворил остальных обещаниями, которые, я не сомневаюсь, впоследствии выполнил. Кроме того, он не скупясь возместил причиненный его людьми урон. Не окажись его действия столь быстрыми и решительными, между нами, наверное, началась бы война. Нет, Ауицотль человек честный, порядочный и разумный.
Впервые на моей памяти о капризном, раздражительном и суровом Ауицотле – Водяном Чудовище – говорили как о человеке миролюбивом и справедливом.
Коси Йюела продолжил:
– Вся беда в другом мешикатль, в его молодом племяннике. Пока мы с Ауицотлем совещались, отряд воинов Мешико оставался под его командованием, и именно тогда-то и произошла заварушка. Этот молодой человек носит имя, к которому мы, Бен Цаа, испытываем застарелую ненависть. Его зовут Мотекусома. Думаю, племянник воспринял союз Ауицотля с нами как проявление слабости. Полагаю, ему хотелось бы видеть народ Туч не союзниками, а своими подданными. Сильно подозреваю, что он специально поднял мятеж в надежде на то, что мы вцепимся друг другу в глотки. Если Ауицотль прислушивается к твоим советам, молодой путешественник, то шепни как-нибудь ему словечко насчет слишком ретивого племянника. Предупреди Чтимого Глашатая, что если этот новоявленный Мотекусома сохранит при его дворе хоть сколько-нибудь влиятельное положение, то он может однажды испортить все то хорошее, чего удалось добиться его дяде.
На ближних подступах к Теночтитлану, когда перед нами из марева сумерек уже выступила белая громада города, я велел своим людям по двое-по трое идти вперед, а сам вступил в столицу под покровом темноты. Улицы освещали лишь факелы и фонари. В их неровном, дрожащем свете я разглядел, что дом мой достроен и выглядит впечатляюще, но всех деталей наружного убранства в темноте рассмотреть не смог. Поскольку дом стоял на сваях высотой примерно в мой рост, мне пришлось подняться к входной двери по ступенькам. Меня встретила незнакомая женщина средних лет. Я догадался, что это новая рабыня.
Она сказала, что ее зовут Теоксиуитль, что значит Бирюза, и пояснила:
– Когда прибыли носильщики с грузом, госпожа удалилась наверх, чтобы ты мог без помех поговорить со своими людьми. Она будет ждать тебя, господин, в своих покоях.
И служанка провела меня в комнату на первом этаже, где семеро моих спутников жадно уплетали поспешно вынутое для них холодное мясо. Мне тоже подали ужин, и, после того как все утолили голод, товарищи помогли мне сдвинуть фальшивую стену и спрятать тюки с пурпуром в тайнике. Потом я рассчитался с воинами, причем заплатил гораздо больше, чем обещал, ибо они прекрасно справились со своей задачей. Ветераны, уходя, поцеловали землю, но перед этим взяли с меня клятву, что, если мне придет в голову еще какая-нибудь подобная затея, я обязательно призову их семерых и не стану обращаться за помощью ни к кому другому. Немолодые, но полные сил бойцы отнюдь не стремились к покою и отдыху: приключения, да еще и сопряженные с выгодой, манили их куда больше.
Наверху я обнаружил отхожее место с водяным сливом и ванную – как раз такие, какие я заказал зодчему и какими в юности восхищался во дворце правителя Тескоко. Рядом находилась парная, где рабыня Бирюза уже нагрела и выложила накаленные докрасна камни: после того как я закончил первое омовение, она выплеснула на них воду, так что поднялось облако пара. Как следует пропотев, я ополоснулся, потом снова вернулся в парилку, опять ополоснулся и повторял так до тех пор, пока не почувствовал, что полностью очистился от пота, пыли и вони дальней дороги.
Не одеваясь, я прошел через сообщающуюся дверь в спальню, где, маняще изогнувшись на мягкой многослойной постели, меня поджидала тоже обнаженная Цьянья. Комната освещалась лишь мерцающим красноватым огнем жаровни, но отблески его падали на белую прядь в ее волосах и обрисовывали упругие груди: каждая представляла собой восхитительный холм с холмиком ареолы и соска на вершине. Одним словом, конус на конусе, прямо как на вулкане Попокатепетле, который вы, мои господа, можете увидеть в это окно. Да-да, понимаю, конечно, мне нет нужды забивать ваши головы такими подробностями. Я лишь хочу объяснить, почему мое дыхание стало неровным, когда я двинулся к Цьянье, и почему после долгой разлуки я произнес всего несколько слов.
– Бью цела и невредима. Есть и другая новость, но она может подождать.
– Пусть подождет, – сказала жена и с улыбкой потянулась к той части моего тела, которая сама воспрянула ей навстречу.
Думаю, вам понятно, почему подробнее о том, что Бью Рибе жива-здорова, хоть и не слишком счастлива, я рассказал лишь некоторое время спустя. Я был рад тому, что сперва мы все-таки занялись любовью: надеюсь, что полученное наслаждение помогло Цьянье легче перенести известие о сестре. Правда, рассказывая о насильнике-мешикатль, я, как, впрочем, и сама пострадавшая, старался представить эту историю скорее фарсом, нежели трагедией.
– Думаю, оставаться там и управлять гостиницей ее заставляют лишь упрямство и гордыня, – сказал я под конец. – Похоже, Бью твердо решила не обращать внимания на толки и пересуды, вне зависимости от того, как отнесутся к ней соседи – с сочувствием или же сочтут опозоренной. Она считает, что сейчас покинуть Теуантепек было бы проявлением слабости.
– Бедная моя сестричка! – вздохнула Цьянья. – Неужели мы ничем не можем ей помочь?
Удержавшись от того, чтобы высказать собственное мнение о «бедной сестричке», я пораскинул мозгами и сказал:
– По-моему, единственный способ выманить ее оттуда – сообщить, что с тобой приключилась беда. Думаю, узнай Бью, что ее единственная сестра нуждается в помощи, она мигом поспешит тебе на выручку. Но давай не будем искушать судьбу и дразнить богов. Кто попусту говорит о бедах, рискует их накликать.
На следующий день Ауицотль снова принял меня, восседая в зале на своем медвежьем троне. Я изложил ему примерно такую версию истории. Я отправился в путешествие, чтобы узнать, не пострадала ли при разграблении Теуантепека сестра моей жены, ну а уж оказавшись там, я воспользовался случаем и пошел дальше на юг, где раздобыл новую партию магических кристаллов.
В знак почтения я снова преподнес Чтимому Глашатаю кристалл и был удостоен прохладной благодарности. Поэтому, прежде чем поднять вопрос, который вполне мог воспламенить его гнев, я решил поведать владыке кое-что способное улучшить его настроение:
– Мои путешествия, владыка Глашатай, привели меня в прибрежную землю Шоконочко, откуда к нам поступает большая часть хлопка и соли. Я провел два дня среди народа маме, в их главной деревне Пиджиджиа, и тамошние старейшины пригласили меня на свой совет. Они хотели, чтобы я передал юй-тлатоани Мешико их послание.
– Говори, – равнодушно разрешил Ауицотль.
– Узнай сперва, мой господин, что Шоконочко – это не государство, а обширный плодородный край, населенный различными народами: маме, миксе, комитеками и еще более мелкими племенами. Между их землями нет четких границ, и они не имеют правителей, кроме местных старейшин. Одной общей столицы в Шоконочко нет, как нет и верховной власти или постоянной армии.
– Интересно, – пробормотал Ауицотль. – Но не очень.
– К востоку от богатого и плодородного Шоконочко находится Куаутемалан, страна Спутанного Леса, не богатая ничем, кроме непролазных джунглей. Ее жители, киче и лакандоны, являются выродившимися потомками майя. Они бедны, грязны, ленивы и, следовательно, не достойны даже нашего презрения. Однако совсем недавно эти дикари проявили неожиданную воинственность и стали совершать из Куаутемалана в Шоконочко опустошительные набеги. Они угрожают продолжать свои налеты и грабежи до тех пор, пока народ Шоконочко не согласится платить им изрядную дань хлопком и солью.
– Дань? – проворчал Ауицотль, проявив наконец явный интерес. – Они покушаются на наш хлопок и нашу соль?
– Да, мой господин. И едва ли можно ожидать, что мирные работники хлопковых плантаций, рыбаки и добытчики соли смогут организовать надежную оборону своих земель. Правда, у них хватило-таки духу отвергнуть притязания чужаков: они не хотят, чтобы киче и лакандоны даром получали то, что до сих пор, к взаимной выгоде, покупали в Мешико. Старейшины полагают, что наш Чтимый Глашатай тоже не придет в восторг, услышав о притязаниях дикарей.
– Не трудись объяснять нам очевидное, – прорычал Ауицотль. – Говори, что предложили эти старейшины? Чтобы мы ради них пошли войной на Куаутемалан?
– Нет, мой господин. Они предлагают отдать нам Шоконочко.
– Что? – Владыка был просто ошеломлен.
– Если юй-тлатоани Мешико примет земли Шоконочко под свою руку в качестве новой провинции, то все мелкие местные правители сложат с себя полномочия, а племена добровольно откажутся от своей самостоятельности и, поклявшись в верности Теночтитлану, добровольно войдут в состав великой державы. У них только два условия: позволить им жить и работать, как раньше, и по-прежнему получать плату за свой труд. Старейшины маме от имени всех соседних племен просят назначить наместником и защитником Шоконочко знатного мешикатль и разместить на их землях хорошо вооруженный гарнизон.
В кои-то веки даже угрюмый Ауицотль выглядел довольным.
– Невероятно, – пробормотал он себе под нос. – Богатая земля сама отдается нам в руки! – Когда правитель обратился ко мне, голос его заметно потеплел: – Вижу, молодой Микстли, ты приносишь не одни затруднения.
Я скромно промолчал.
Он продолжил, размышляя вслух:
– Это были бы самые отдаленные владения Союза Трех. Разместив там армию, мы установили бы господство над большей частью Сего Мира – от моря и до моря. Таким образом, соседние народы уже поостерегутся причинять нам беспокойство. Во всяком случае, если вдруг возникнут какие-то недоразумения, им придется пойти на уступки...
Я заговорил снова:
– Если позволишь, владыка Глашатай, я назову еще одно преимущество. Хотя нам и предстоит разместить войско далеко от Теночтитлана, оно не будет зависеть от поставок припасов. Маме заверили меня, что наш гарнизон будет кормиться за счет местного населения.
– Клянусь богом войны, мы сделаем это! – воскликнул Ауицотль. – Разумеется, сначала придется вынести вопрос на рассмотрение Изрекающего Совета, но это будет простой формальностью.
– Может быть, – сказал я, – мой господин сочтет нужным сообщить Изрекающему Совету также и о том, что как только солдаты обустроятся на новом месте, к ним смогут присоединиться и их семьи. За ними последуют торговцы, а там и иные мешикатль получат возможность переселиться на новые плодородные земли. Наш гарнизон способен стать зерном поселения, из которого со временем вырастет второй Теночтитлан...
– Мечты у тебя с размахом, а? – усмехнулся Ауицотль.
– Может быть, это было излишне смело с моей стороны, Чтимый Глашатай, но я упомянул о возможности подобного переселения на совете старейшин маме, и они заявили, что не только не будут этому препятствовать, но и сочтут за честь возможность превращения своего края в, как они выразились, Теночтитлан Юга.
Правитель посмотрел на меня с подозрением, некоторое время помолчал, барабаня пальцами, а потом сказал:
– В мирное время ты всего лишь купец, считающий бобы, а в армии, хоть и дослужился до звания текуиуа...
– Милостью моего господина, – смиренно вставил я.
– Короче говоря, ты – никто! И вдруг ты приход ишь и даришь нам целую новую провинцию, более ценную, чем любую из всех присоединенных к Мешико путем переговоров или силой со времен правления нашего высокочтимого отца Мотекусомы. Я обязательно доведу до сведения нашего Совета.
– Мой господин, – промолвил я, – раз уж было упомянуто имя Мотекусомы, я должен сообщить следующее...
И я завел разговор, который откладывал до последней возможности: пришлось изложить все нелицеприятные соображения бишосу Коси Йюела относительно его племянника.
Как я и ожидал, Ауицотль начал сердито фыркать и заметно багроветь, но его гнев был направлен не на меня. Он напрямую заявил мне:
– Узнай же, молодой Микстли, что в бытность свою жрецом юный Мотекусома неукоснительно следовал всем правилам, предписываемым богами, вплоть до самых дурацких и несуразных. Он изо всех сил стремился искоренить все человеческие слабости как в себе, так и в других. В отличие от многих жрецов мой племянник никогда не впадал в ярость и не выходил из себя, но оставался холоден и бесстрастен. Но как-то раз, произнеся слово, которое, как ему показалось, могло быть сочтено богохульством, он проткнул себе язык и протащил сквозь отверстие шнур, на котором было нанизано штук двадцать шипов агавы. А в другой раз, когда его посетила низменная мысль, он проделал такую же дырку в своем тепули и снова подверг себя кровавому самоистязанию. Ну а теперь, сделавшись командиром, Мотекусома, похоже, перенес свой фанатизм на вопросы войны. По-видимому, впервые получив под начало людей, этот щенок койота стал скалить зубы и рычать вопреки как полученным приказам, так и здравому смыслу... – Ауицотль сделал паузу, а когда продолжил, мне показалось, что он снова размышляет вслух. – Я понимаю, что он стремится быть достойным имени своего деда – Воинственного Владыки. Молодого Мотекусому не устраивает мир с соседями, ибо ему нужны противники и победы. Он хочет, чтобы его уважали и боялись как человека с крепкими кулаками и зычным голосом. Беда в том, что мой племянник не понимает: этого мало. Если за душой нет ничего большего, такой человек, встретив противника, у которого и кулак покрепче, и голос погромче, сам съежится от страха.
– У меня сложилось впечатление, мой господин, что представитель сапотеков больше всего страшится возможности того, что твой племянник может когда-нибудь стать юй-тлатоани Мешико.
Услышав это, Ауицотль все же бросил на меня хмурый взгляд.
– Коси Йюела умрет задолго до того, как ему придется беспокоиться о своих отношениях с каким-либо новым юй-тлатоани. Нам всего сорок три года, и мы собираемся жить еще долго. А прежде чем умереть или впасть в старческое слабоумие, мы сообщим Совету имя нашего преемника. Сразу нам и не вспомнить, сколько именно сыновей среди двух десятков наших детей, но в любом случае среди них найдется хотя бы один новый Ауицотль. Имей в виду, Микстли, громче всех грохочет пустой барабан, который годится только на то, чтобы в него колотили. Мы не посадим на наш трон пустозвона вроде нашего племянника Мотекусомы. Запомни наши слова!
Я их запомнил. И с горечью вспоминаю их до сих пор.
Чтимому Глашатаю потребовалось некоторое время, чтобы сладить со своим возбуждением. Потом он спокойно сказал:
– Мы благодарим тебя, Микстли, за возможность размещения нашего гарнизона в далеком Шоконочко. Это и будет новым назначением молодого Воинственного Владыки. Он получит приказ немедленно выступить на юг, основать там опорный пункт Мешико и командовать этим отдаленным постом. Мотекусоме обязательно следует найти занятие, но лучше всего держать его в безопасном отдалении. Иначе у нас может возникнуть искушение бить тяжелыми барабанными палочками по голове собственного племянника.
Прошло несколько дней, и все то время, которое я не проводил в постели, заново знакомясь со своей женой, я посвящал знакомству со своим первым собственным домом. Снаружи он был облицован до белизны сияющим известняком с Шалтокана и украшен скромной резьбой, тоже белого цвета. Со стороны наше жилище выглядело обычным домом преуспевающего, но не чрезмерно обогатившегося почтека, зато уж внутренняя отделка была самого высокого качества. Все здесь дышало новизной, ничем не напоминая о былых владельцах участка. Двери из резного кедра вращались на утопленных в гнездах штырях, в наружных стенах имелись двойные окна, которые занавешивались особыми сворачивающимися шторами, собранными из легких планок.
На нижнем этаже – как я уже говорил, дом стоял не на земле, а на сваях – располагались кухня, трапезная и особая комната, где я мог принимать гостей или вести деловые беседы. Отдельного помещения для рабов не было: по окончании рабочего дня Бирюза просто раскладывала свою тростниковую циновку на кухне и ложилась там спать. На верхнем этаже дома находились наша спальня и спальня для гостей (каждая со своими умывальней, отхожим местом и парилкой) и еще одна комнатка поменьше. По правде сказать, я не понимал, зачем она нужна, до тех пор, пока Цьянья однажды не объяснила мне со смущенной улыбкой:
– Когда-нибудь, Цаа, у нас может появиться ребенок. А то и не один. Эта комнатка пригодится для детей и для их няни., Плоскую крышу дома ограждала балюстрада из скрепленных раствором камней – высотой по пояс, с прямоугольным орнаментом. По всей поверхности крыши уже распределили чинампа – плодородный суглинок с перегноем, пригодный для посадки цветов, тенистых кустов и пряностей. Наш дом не возвышался над стоявшими по соседству, так что вида на озеро с крыши не открывалось, но зато мы могли видеть храмы-близнецы на вершине Великой Пирамиды и два конуса: дымящийся вулкан Попокатепетль и спящий вулкан Истаксиуатль.
Все комнаты на обоих этажах Цьянья обставила лишь самым необходимым: многослойными постелями, плетеными коробами и низенькими табуретами и скамейками. Помещения были почти пусты: по ним гуляло эхо, поблескивали еще не покрытые коврами каменные полы, белели голые известняковые стены.
– Я подумала, – пояснила моя жена, – что украшения и предметы убранства должен выбирать хозяин дома.
– Мы пройдемся по рынкам и мастерским вместе, – сказал я. – Но я пойду только для того, чтобы одобрить твой выбор и заплатить за покупки.
Те же скромность и сдержанность побудили Цьянью ограничиться покупкой всего одной рабыни. Вообще-то Бирюза вполне справлялась с работой по дому, но я решил, что для повседневных хлопот по хозяйству нам надо купить вторую рабыню, а чтобы ухаживать за садом на крыше и бегать по моим поручениям – еще и раба. Поэтому мы приобрели не очень молодого, но достаточно крепкого, жилистого мужчину, носившего, на красноречивый манер класса тлакотли, громкое имя Ситлали-Кайкани, Звездный Певец. Напарницей Бирюзы стала молоденькая служанка, названная вопреки обычаю рабов просто Кекелмики, что означает всего-навсего Смешинка. Словно оправдывая свое имя, эта девушка то и дело, без всякой видимой причины, прыскала со смеху.
Мы немедленно заставили всех троих – Бирюзу, Звездного Певца и Смешинку – посещать в свободное время школу, только что основанную моим юным другом Коцатлем. Сам в детстве будучи рабом, мальчик лелеял заветную мечту – выучиться всему тому, что необходимо знать домоправителю, старшему над всеми слугами. И хотя теперь Коцатль занял гораздо более высокое положение, однако, памятуя о своем прошлом, устроил у себя в доме учебное заведение для рабов. Он собирался готовить из них превосходных домашних слуг.
– Разумеется, – с гордостью заявил он мне, – стряпне, шитью, садоводству и тому подобному у меня учат специально нанятые наставники. Но изысканным манерам я обучаю рабов сам. Хотя большинство учеников старше меня, они внимают моим указаниям, ибо мне довелось служить в двух дворцах.
– Ты учишь рабов изысканным манерам? – удивился я. – Но зачем они простым слугам?
– Чтобы они превратились из простых в ценных – умелых и нужных. Я учу слуг вести себя с достоинством, вместо того чтобы раболепно ежиться. Я учу их предугадывать желания хозяев еще до того, как они будут высказаны. Например, управителю не помешает привычка всегда держать наготове хозяйский покуитль, а для домоправительницы не будет лишним умение разбираться в цветах, чтобы она могла помочь хозяйке украсить покои.
– Но ведь раб не может платить за учебу, – заметил я.
– Это правда, – признал мой друг. – В настоящее время все мои ученики уже находятся в услужении, так что плату за обучение вносят их хозяева. Но это обучение настолько усилит способности рабов и повысит стоимость, что они или получат повышение у прежних хозяев, или будут проданы с большой прибылью. Я предвижу большой спрос на выпускников своей школы. В конечном счете я смогу покупать рабов на рынке, обучать их, находить им места и взимать плату за обучение из того жалованья, которое они зарабатывают.
Я кивнул и сказал:
– Да, это будет выгодно и им, и тебе, и их хозяевам. Ты здорово придумал, Коцатль: не только нашел свое место в мире, но и откопал совершенно новую нишу, для которой сам прекрасно подходишь.
– А все благодаря тебе, Микстли, – скромно ответил он. – Не пустись мы вместе в путешествие, я бы, скорее всего, так и занимался скучной работой в каком-нибудь дворце в Тескоко. Так что я должен возблагодарить тонали, твой или мой, связавшие вместе наши жизни.
«Да и сам я тоже, – размышлял я в тот день, не спеша возвращаясь домой, – в большом долгу перед своим тонали, который когда-то проклинал. Да, мой удел принес мне немало печали и утрат, но он же сделал меня богатым человеком, вознеся гораздо выше полагавшегося мне от рождения и даровав в жены самую лучшую и желанную из всех женщину. А ведь я еще совсем молодой. То ли еще будет...» И внезапно мне захотелось немедленно воздать благодарность высшим богам.
«О боги, – произнес я про себя, – если на небесах и вправду есть боги и эти боги – вы, то я благодарю вас. Порой вы что-то отнимали у меня одной рукой, но тут же щедро одаривали другой и в целом дали гораздо больше, чем отняли. Я целую землю перед вами, боги!»
И должно быть, моя благодарность достигла их слуха. Боги приняли ее и, не теряя времени попусту, устроили так, что, войдя в дом, я увидел юного дворцового слугу, который дожидался меня с личным приглашением от Ауицотля.
Я успел только торопливо поцеловать Цьянью – одновременно в знак приветствия и в знак прощания – и последовал за юношей по улицам Сердца Сего Мира.
Вернулся я поздно ночью, причем в иной одежде и, мягко говоря, немного навеселе. Наша рабыня Бирюза, едва открыв мне дверь, напрочь забыла о хороших манерах, которым, возможно, и выучилась в школе Коцатля. Бросив взгляд на окружавшее меня беспорядочное скопление перьев, она испуганно вскрикнула и побежала в глубь дома. Вскоре появилась встревоженная Цьянья.
– Цаа, тебя так долго не было... – начала было она, но тут тоже вскрикнула и отпрянула: – Что он с тобой сделал, этот Ауицотль? Почему кровоточит твоя рука? Что это у тебя на ногах? А на голове? Цаа, да скажи что-нибудь!
– Привет, – по-дурацки промямлил я и икнул.
– Привет, – эхом повторила она, захваченная врасплох нелепостью ситуации. Но в следующее мгновение моя жена опомнилась и со словами: «Да ты, помимо всего прочего, еще и пьян!» – пошла прочь, на кухню.
Я тяжело опустился на скамью, но почти сразу резко вскочил на ноги, можно сказать, подпрыгнул: Цьянья вылила мне на голову кувшин с ледяной водой.
– Мой шлем! – воскликнул я, когда наконец перестал откашливаться и отплевываться.
– Так это шлем? – удивилась Цьянья, когда я с трудом снял его, чтобы просушить, пока вода не погубила его окончательно. – А я думала, что ты угодил в зоб какой-то гигантской птицы.
– Моя госпожа супруга, – вымолвил я с пьяным усердием, стараясь выговаривать слова четко. – Возможно, ты уже испортила эту благородную орлиную голову, а сейчас стоишь на одном из моих когтей. А во что превратились мои бедные перья? Ты только посмотри!
– Я смотрю. Да уж! – произнесла жена сдавленным голосом, и я понял, что она с трудом сдерживает смех. – Снимай-ка этот дурацкий наряд, Цаа. И отправляйся в парилку. Пусть октли выйдет из тебя с потом. Смой кровь с руки. А потом приходи ко мне в постель и расскажешь... расскажешь мне, что вообще... – Она не смогла дольше сдерживать смех, он зазвучал трелями колокольчика.
– Дурацкий наряд, ну надо же! – ответил я, стараясь говорить и надменно, и обиженно. – Да и чего ждать от женщины, которая совершенно не разбирается в регалиях и знаках отличия! Будь ты мужчиной, ты бы преклонила колени с благоговейным восторгом. Но нет! Меня постыдно обливают водой и предают осмеянию.
С этими словами я повернулся и с величественным видом, хотя и слегка покачиваясь в своих когтистых сандалиях, стал подниматься по лестнице, с тем чтобы действительно отмокнуть в парилке.
Так вот и получилось, мои господа, что в тот вечер, который должен был стать самым торжественным в моей жизни, я лишь рассмешил жену и слуг. А между тем меня удостоили чести, выпадавшей на долю одного из десяти, если не двадцати тысяч моих соотечественников. Я был возведен в ранг Тламауаичиуани Куаутлик: стал благородным воителем, или рыцарем ордена Орла.
Далее я опозорился еще пуще, уснув прямо в парилке. То, как Цьянья и Звездный Певец вытащили меня оттуда и уложили в постель, совершенно выпало из моей памяти. Так что лишь утром, лежа на одеялах, потягивая горячий шоколад и мучаясь ужасной головной болью, я смог связно рассказать Цьянье о том, что произошло накануне во дворце.
Когда мы со слугой явились в тронный зал, Ауицотль был там один. Совершенно неожиданно он сказал:
– Сегодня утром наш племянник Мотекусома покинул Теночтитлан во главе значительных сил, которые составят гарнизон в Шоконочко. Как мы и обещали, Изрекающий Совет был поставлен в известность относительно твоей достойной восхищения роли в переговорах по присоединению новой территории и принял решение воздать тебе по заслугам.
По его жесту слуга удалился, а помещение стало заполняться другими людьми.
Я ожидал, что это будут Змей-Женщина и другие члены Изрекающего Совета, но, глядя на входящих сквозь топаз, с удивлением понял, что все они воины – воители-Орлы в полном боевом облачении: в шлемах в виде орлиной головы, с перьями, окаймлявшими руки, и в когтистых сандалиях.
Ауицотль одного за другим представил мне высших вождей уважаемого сообщества и сказал:
– Микстли, эти благородные воители отдали свои голоса за то, чтобы из обычного текуиуа одним прыжком возвести тебя в сан полноправного воителя-Орла, достойного члена их почитаемого сообщества.
Конечно, возведение в сан требовало выполнения разнообразных обрядов. Хотя потрясение почти начисто лишило меня дара речи, я попытался совладать с собой, чтобы произнести все положенные многочисленные и многословные обеты, обязывающие меня, не щадя жизни, сражаться за честь ордена Орла, за процветание Теночтитлана, за могущество народа мешикатль, за сохранение Союза Трех. Мне пришлось сделать надрез на запястье, чтобы смешать свою кровь с кровью своих новых собратьев.
Потом я облачился в стеганые, обшитые перьями доспехи, так что руки мои стали подобны широким крыльям, тело полностью скрыли перья, а ноги обрели крепкие орлиные когти. Кульминация этой церемонии наступила, когда меня увенчали шлемом в виде орлиной головы, искусно изготовленным из пробкового дерева и картона и оклеенным перьями. Широко раскрытый орлиный клюв выступал вперед над моим лбом и под подбородком, а обсидиановые глаза сверкали где-то у меня над ушами. Мне вручили и другие эмблемы: крепкий кожаный щит с символами моего имени, выполненными из разноцветных перьев; набор красок для придания лицу свирепой боевой раскраски; золотую затычку для носа, которую я не смогу надеть, пока не проткну носовую перегородку.
Отягощенный всеми этими почетными регалиями, я воссел рядом с Ауицотлем и своими товарищами по ордену, в то время как дворцовая челядь принесла все необходимое для великолепного пира, включая множество кувшинов с лучшим октли. От волнения кусок не лез мне в горло, но из учтивости пришлось делать вид, будто я ем с аппетитом, а уж уклониться от множества громогласно возглашаемых тостов и вовсе не было никакой возможности. Пили за меня, за присутствующих, за героически павших в прошлом воителей-Орлов, за нашего высшего военного вождя Ауицотля, за растущее могущество Мешико... Спустя некоторое время я потерял счет выпитому. Вот почему, когда мне наконец позволили покинуть дворец, я мало что соображал и моя новая великолепная униформа пребывала в некотором беспорядке.
– Я горжусь тобой, Цаа, и рада за тебя, – сказала Цьянья, когда я закончил свой рассказ. – Это действительно великая честь. Но скажи, мой доблестный муж, какой славный подвиг ты собираешься совершить? Каким будет твое первое деяние в качестве воителя-Орла?
– А разве мы не собирались на рынок, посмотреть, что за цветы доставит торговое судно из Шочимилько? И выбрать, какие из них мы посадим у себя на крыше? – пролепетал я.
Голова моя раскалывалась, так что я даже не пытался понять, с чего это Цьянья, так же как и накануне ночью, залилась смехом, подобным трелям колокольчика.
В новом доме дело нашлось всем. Цьянья продолжала свои бесконечные походы по лавкам и мастерским в поисках «подходящих ковриков на пол в детской» или «какой-нибудь статуэтки для той ниши, что наверху лестницы». Мои попытки поучаствовать в обустройстве дома не всегда вызывали ее одобрение. Так, например, когда я притащил маленькую каменную статуэтку, по моему мнению как нельзя лучше подходившую для той самой ниши, жена с ходу заявила, что она ужасна. Вообще-то, конечно, Цьянья была права: честно говоря, я купил статуэтку лишь по одной причине – больно уж она напоминала сморщенного старикашку, под видом которого являлся мне Несауальпилли. На самом деле фигурка представляла собой Шиутекутли, Старейшего из Старых Богов. Изрядно подрастерявший со временем почитателей, морщинистый, ехидно ухмыляющийся Шиутекутли считался самым первым богом нашего народа, известным задолго до Кецалькоатля или любого из более поздних идолов. Поскольку Цьянья не разрешила мне поставить статуэтку там, где ее могли видеть гости, я поместил Старейшего из Старых Богов в изголовье своей кровати.
Трое наших слуг в свободное время посещали школу Коцатля, и результат уже был заметен. Маленькая служанка Смешинка излечилась от своей привычки хихикать всякий раз, когда к ней обращались, и отвечала лишь скромной приветливой улыбкой. Звездный Певец сделался настолько внимательным, что подносил мне зажженный покуитль почти всегда, когда я садился, – и чтобы не отбивать у него охоту проявлять заботливость, я курил гораздо больше, чем хотелось.
Сам я занимался в основном преумножением своего достояния. В Теночтитлан уже потянулись караваны почтека с кожаными мешочками, наполненными пурпурной пряжей. Этот товар был приобретен законным путем у собиравшего с цью дань бишосу Коси Йюела. И хотя купцы платили ему за пурпур несусветную цену, но на рынке Тлателолько она и вовсе взлетала до небес. Однако знатные мешикатль (а особенно их жены) так стремились обзавестись дивным красителем, что даже не пытались торговаться. А как только на рынке появился пурпур, приобретенный законным путем, я смог, разумеется тайком и очень осторожно, присоединить к этому потоку и тонкую струйку своих собственных запасов.
За полученную в результате авантюры краску я выручил резные жадеитовые изделия, изумруды и другие драгоценные камни, золотые ювелирные изделия и стволы перьев с золотым порошком. Однако и нам с Цьяньей, для домашнего употребления, чудесного красителя осталось достаточно; наверняка у нас с ней пурпурных одеяний было больше, чем у самого Чтимого Глашатая и всех его жен. Могу сказать с уверенностью, что во всем Теночтитлане лишь в нашем доме имелись занавески на окнах, полностью окрашенные в пурпур. Впрочем, видеть их могли лишь гости, потому что со стороны улицы занавеси были прикрыты другими, не столь роскошными и дорогими.
Чаще всего к нам наведывались давние друзья: Коцатль, в последнее время (и вполне заслуженно) именовавшийся мастером Коцатлем, мои знакомые по Дому Почтека и некоторые из старых соратников Пожирателя Крови – те самые, что помогли мне заполучить пурпур. Однако со временем мы обзавелись знакомствами и среди знатных или состоятельных соседей по кварталу Йакалолько и стали бывать при дворе. Многие знатные женщины были в восторге от моей жены, в их числе и Первая Госпожа Теночтитлана, то есть первая супруга Чтимого Глашатая Ауицотля. Навещая нас, она частенько приводила своего старшего сына Куаутемока, Когтистого Орла, считавшегося самым вероятным преемником Ауицотля. Хотя наследование трона в Мешико и не осуществлялось, как у некоторых других народов, непременно по прямой линии, но в случае кончины юй-тлатоани, у которого не оставалось брата, претензии старшего сына рассматривались Изрекающим Советом в первую очередь. Естественно, что мы с Цьяньей относились к Куаутемоцину с надлежащим почтением: с человеком, который весьма вероятно займет престол Чтимого Глашатая, желательно поддерживать хорошие отношения.
В те годы многие военные или купцы, прибывавшие в Теночтитлан с юга, приносили нам весточку от Бью Рибе. Все ее послания были одинаковы: она по-прежнему не замужем, в Теуантепеке все по-старому, а ее гостиница, учитывая крепнущие связи между Шоконочко и Теночтитланом, процветает пуще прежнего. Нас с женой огорчало, что Бью оставалась незамужней, мы боялись, что никто не хочет брать ее в жены из-за той некрасивой истории.
Каждое новое послание золовки неизменно вызывало меня в памяти отправленного в изгнание Мотекусому, ибо я был уверен – хотя никогда не говорил этого даже жене, – что он и был тем самым командиром-мешикатль со странными наклонностями, испортившим Бью жизнь. Так что по причинам личного характера я испытывал ненависть к Мотекусоме-младшему, да и рассказы Ауицотля не могли пробудить во мне ничего, кроме презрения к этому человеку. Однако нельзя было отрицать, что обязанности военного наместника Шоконочко Мотекусома исполнял на совесть.
Расположив свою армию на самой границе Куаутемалана, он немедленно приступил к возведению там опорных пунктов, так что беспокойным соседям, киче и лакандонам, оставалось лишь со страхом взирать на растущие стены и грозные гарнизоны. Разумеется, эти несчастные дикари больше не совершали набегов, не пытались никому угрожать и вообще не осмеливались высунуться из своих джунглей. Пришел конец всем их честолюбивым замыслам, и они снова впали в ничтожество, в каковом, как мне известно, прозябают и поныне.
Кстати, ваши испанские солдаты, впервые попавшие в Шоконочко, удивлялись, найдя в таком удалении от Теночтитлана множество не родственных мешикатль народов (маме, миксе, комитеков и других), которые говорили на науатлъ. Да, то была самая дальняя окраина, ступив на которую можно было еще сказать: «Это Мешико». Больше того, несмотря на свою удаленность от Сердца Сего Мира, то была, пожалуй, самая верная наша провинция. Отчасти это объяснялось тем, что после присоединения Шоконочко туда переселилось немало наших людей.
Еще до того, как Мотекусома завершил обустройство первого гарнизона, переселенцы из числа мирных жителей уже вовсю принялись возводить вокруг жилые здания, лавки, простенькие постоялые дворы и даже дома удовольствий. То были деятельные мешикатль, аколхуа и текпанеки, которые не могли как следует развернуться на своей перенаселенной родине и искали новых возможностей. К тому времени, когда цитадель была отстроена, а гарнизон полностью укомплектован, под его защитой уже вырос приличного размера город, названный на науатлъ – Тапачтлан, Коралловый город. Хотя ему, разумеется, было далеко по размерам и величию до своего родителя Теночтитлана, он тем не менее стал самым крупным деловым центром к востоку от перешейка Теуантепек.
Многие переселенцы с севера, задержавшись на время в Тапачтлане или в других поселениях Шоконочко, двинулись еще дальше. Сам я в такую даль не забирался, но знаю, что к востоку от куаутемаланских джунглей лежат обширные плодородные плато и прибрежные низины. За ними находится еще один перешеек Теуантепека: он соединяет побережья Северного и Южного океанов, но его протяженность никто не измерял. Рассказывают, будто где-то там протекает река, соединяющая эти два океана. Кстати, ваш генерал-капитан Кортес пытался ее найти. Ему не повезло, но, возможно, какому-нибудь испанцу это еще удастся.
Хотя выходцы из земель Союза Трех селились в тех далеких краях беспорядочно – мелкими, чаще всего семейными группами, мне говорили, что их пребывание там все равно оставило неизгладимый след и оказало огромное влияние на местные народы. Племена, изначально совсем не родственные народам Союза, теперь стали похожи на нас: они носят наши имена, говорят на науатлъ, пусть и испорченном, научились нашим ремеслам и искусствам и сохранили множество перенятых у нас обычаев и обрядов. Более того, они даже переименовали свои деревни, горы и реки, дав им названия на науатлъ.
Некоторые испанцы, совершавшие дальние плавания, спрашивали меня: «Скажи, неужели ваша империя ацтеков и впрямь была столь обширной, что на великом южном материке она граничила с империей инков?» Хотя мне не вполне понятен этот вопрос, я всегда отвечал им так: «Нет, мои господа. Я не знаю точно, что такое империя и материк и кто такие инки, но зато точно знаю, что мы, мешикатль, или, если вам угодно, – ацтеки, никогда не распространяли свою власть дальше Шоконочко».
Но в те годы наши интересы не ограничивались югом: юй-тлатоани Мешико хотел завоевать и другие стороны света. Признаюсь, что даже обрадовался возможности оторваться от рутинных дел, когда Ауицотль, призвав меня во дворец, спросил, не соглашусь ли я отправиться посланником в Мичоакан.
– Ты неплохо послужил нам в Шоконочко и в Уаксьякаке. Как думаешь, сможешь ли ты наладить отношения с Землей Рыбаков?
Я сказал, что попробовать можно, хотя и не совсем понимаю, зачем это нужно.
– Пуремпече и так позволяют нашим купцам беспрепятственно пересекать свою страну и ведут с нами торговлю. Чего мы еще можем от них добиваться?
– Ну придумай что-нибудь. Постарайся измыслить какой-нибудь предлог для посещения их правителя ундакуари, старого Йокуингаре. – Должно быть, на моем лице отразилось непонимание, ибо Ауицотль подался вперед и пояснил: – Истинная твоя задача будет заключаться вовсе не в ведении переговоров. Мы хотим, чтобы ты вызнал у них тайну того невероятно прочного металла, который дает пуремпече преимущество над нашим обсидиановым оружием.
Я глубоко вздохнул и, стараясь выглядеть рассудительным, а не трусливым, промолвил:
– Мой господин, я уверен, что мастеров, владеющих этим секретом, оберегают от любых встреч с чужестранцами, дабы те не ввели их ненароком в соблазн и не выведали тайну.
– А сам металл хранится в надежном месте – под замком, подальше от любопытных глаз, – раздраженно добавил Ауицотль. – Все это нам прекрасно известно. Но мы также знаем, что это правило имеет одно важное исключение: ближайшие советники ундакуари и его личная охрана всегда имеют при себе оружие из этого металла, дабы мгновенно пресечь любые покушения на его жизнь. Если ты попадешь во дворец к правителю Мичоакана, у тебя появится возможность заполучить что-нибудь – меч или хотя бы нож. Этого будет вполне достаточно. Если наши кузнецы получат образчик для изучения, они смогут выяснить его состав.
– Воитель-Орел обязан повиноваться приказу своего господина, – со вздохом сказал я и, прикинув, как можно выполнить задачу, предложил: – Но если я направляюсь туда только для совершения кражи, то нет нужды затевать переговоры. Я могу выступить в роли посла, который доставит Чтимому Глашатаю Йокуингаре дружеский подарок от Чтимого Глашатая Ауицотля.
Владыка призадумался.
– Мысль неплохая, но вот только что ему преподнести? Сокровищ в Мичоакане не меньше, чем у нас. Необходимо найти нечто такое, что представляло бы для него великую ценность.
– Пуремпече часто имеют странные плотские пристрастия, – сказал я. – Хотя нет. Ундакуари уже стар и наверняка испробовал в своей жизни все, что только можно, пресытившись извращениями...
– Аййо! – торжествующе воскликнул Ауицотль. – Есть одно плотское удовольствие, которого он точно никогда не испытывал и против которого ему не устоять. Новые текуани, которых мы только что приобрели для нашего человеческого зверинца.
Я, надо полагать, вздрогнул, однако правитель не обратил на это ни малейшего внимания: он уже отдавал слуге распоряжение доставить упомянутую диковинку в зал.
Пока я гадал, что за чудо способно возбудить тепули старого, все на свете видавшего развратника, приказ был исполнен.
– Смотри, воитель Микстли, – молвил Ауицотль. – Вот они.
Я поднял свой топаз.
Передо мной стояли две на первый взгляд ничем не примечательные и уж всяко не чудовищного обличья девушки. Необычные разве что тем, что были близняшками, совершенно одинаковыми с виду. Им можно было дать лет по четырнадцать, и, судя по тому как обе безмятежно жевали смолу, они принадлежали к племени ольмеков. Девицы стояли рядышком вполоборота, обняв друг друга за плечи. Мне показалось несколько странным, что на двоих у них имелось только одно покрывало, в которое сестры были замотаны с ног до головы.
– Девушек еще не показывали публике, – сказал Ауицотль, – потому что наши придворные портнихи не успели сшить для них одежду. Тут нужен особенный покрой. – И с этими словами он велел слуге снять с них покрывало.
Когда приказ был исполнен и я увидел девушек обнаженными, у меня просто глаза на лоб полезли. Сестры оказались не просто близняшками, а они, видимо, еще в материнском чреве срослись вместе. От подмышек и до бедер они были соединены настолько плотно, что могли стоять, сидеть, ходить или лежать только вместе. На какой-то момент мне показалось, что у девушек на двоих три груди, но, подойдя поближе, я увидел, что средняя представляет собой две обычные груди, прижатые друг к другу. Я мог разделить их рукой. Итак, у девушек имелось четыре груди спереди и два комплекта ягодиц сзади. Если бы не их тупые, бессмысленные лица, в сестрах не было бы ничего ненормального, за исключением того, что они срослись.
– А нельзя ли их разделить? – поинтересовался я. – У каждой остался бы шрам, но зато обе стали бы нормальными и каждая бы жила сама по себе.
– А зачем? – пробурчал Ауицотль. – Какой вообще может быть толк от двух тупо жующих циктли безмозглых женщин из племени ольмеков? Вместе они представляют собой ценную диковинку и могут вести праздную, приятную жизнь в качестве текуани. Ну и кроме того, наши целители пришли к выводу, что разделить девушек нельзя: они связаны не просто участком плоти, внутри находятся общие кровеносные сосуды. Но – и это должно прельстить старого Йокуингаре, – у каждой девушки есть своя тепили, и они обе девственницы.
– Жаль, что они некрасивы, – промолвил я, размышляя вслух. – Но ты прав, мой господин. Их необычность и новизна с лихвой возместят этот недостаток. – Я обратился к близнецам: – У вас есть имена? Вы умеете говорить?
Они ответили на языке коатликамак и почти в унисон:
– Я Левая.
– Я Правая.
– Мы собирались представить их публике как Женщину-Пару, – сказал Ауицотль. – Ну что-то вроде шутливого воплощения Божественной Четы. Понимаешь?
– Полагаю, что этот необычный дар действительно сможет расположить к нам ундакуари, так что я охотно возьмусь его доставить. Всего лишь один совет, мой господин: чтобы придать девушкам большую привлекательность, вели обстричь их налысо и сбрить брови. У пуремпече так принято.
– Необычная мода, – задумчиво произнес Ауицотль. – Пожалуй, если в сестрах и есть что-то привлекательное, так это волосы. Но раз так надо, волосы сбреют. Будь готов отправиться в путь, как только швеи закончат их наряд.
– Повинуюсь, владыка Глашатай. Очень надеюсь, что при дворе появление этой необычной пары вызовет такой переполох, что мне в суматохе удастся стащить хоть какое-нибудь оружие из редкого металла.
– Просто надеяться мало, – заметил Ауицотль. – Ты должен позаботиться об этом.
– Ах, бедные дети! – воскликнула Цьянья, когда я познакомил ее с Женщиной-Парой.
Я поразился сострадательности своей жены. Все прочие, едва завидев Левую и Правую, либо таращились, разинув рот, либо непристойно ржали; попадались и такие, кто вроде Ауицотля считал девушек выгодным товаром наподобие какого-нибудь диковинного животного. Но Цьянья по-матерински нежно относилась к девушкам на протяжении всего пути в Цинцинцани и всячески заверяла их – как будто у сестриц было достаточно мозгов, чтобы понимать это, – что впереди их ждет новая, чудесная, просто роскошная жизнь. Впрочем, в этом была доля правды: жить в относительной свободе и довольстве дворца, пусть и служа при этом для удовлетворения похоти старца, всяко лучше, чем сидеть в клетке на потеху зевакам.
Цьянья отправилась со мной, поскольку, едва услышав о необычном задании, заявила, что хочет меня сопровождать. Сначала я наотрез отказался взять жену с собой, ибо понимал, что никто из моих спутников не проживет и мгновения, если меня (а скорее всего, так и случится) схватят при попытке стянуть изделие из священного металла. Но жена убедила меня в том, что если усыпить подозрения нашего хозяина заранее, то мне будет легче незаметно подобраться к оружию и завладеть им.
– А что выглядит менее подозрительным, – спросила она, – чем муж и жена, путешествующие вместе? Цаа, мне так хочется увидеть Мичоакан.
Надо заметить, что идея совместного путешествия мужа и жены и впрямь сослужила нам некоторую службу, хотя и не совсем такую, на какую рассчитывала Цьянья. Дело в том, что в глазах похотливых, распущенных пуремпече то, что я путешествую с обычной женщиной, да еще и с собственной женой, характеризовало меня как личность вялую, апатичную и лишенную всякого воображения, а стало быть, совершенно неспособную решиться на столь дерзкий и опасный поступок, как похищение священного оружия. Так или иначе, я согласился взять с собой Цьянью, и она стала готовиться в дорогу.
Как только близнецы были готовы, Ауицотль послал за мной. Увидев девиц обритыми, я – аййа! – пришел в ужас. Без волос их головы походили на обнаженные груди, и я засомневался, не сделал ли своим советом только хуже. Может быть, лысая голова и считается у пуремпече красивой, но лысая остроконечная голова? Впрочем, ничего изменить уже все равно было нельзя.
Вдобавок в самый последний момент вдруг выяснилось, что обычные носилки для Левой и Правой не годятся, так что с учетом их особенностей пришлось срочно изготавливать новые. Это задержало нас еще на несколько дней, однако Ауицотль приказал не скупиться, так что, когда все наконец было готово, в путь выступила весьма внушительная процессия.
Два дворцовых стражника шагали впереди, нарочито демонстрируя всем, что при них не имеется никакого оружия, но я-то знал, что оба были мастерами рукопашного боя. Я не нес ничего, кроме щита с символами воителя-Орла и рекомендательного письма, подписанного юй-тлатоани Ауицотлем. Вышагивая рядом с креслом жены, которое тащили четверо носильщиков, я играл роль мужа, полностью находящегося во власти чар своей супруги. Позади нас восемь носильщиков тащили носилки с близнецами, рядом шли их напарники: чтобы нести двойную ношу, им приходилось часто меняться. Это специально изготовленное для сестер сооружение представляло собой не просто переносное сиденье, но своего рода домик на шестах с крышей наверху и занавесками по бокам. Замыкали процессию многочисленные рабы, нагруженные тюками и корзинами с провизией.
За три или четыре дня мы добрались по ведущему на запад торговому пути до деревеньки под названием Цитакуаро, находившейся на самой границе с Мичоаканом. Мы остановились, а охранявшие рубеж стражники пуремпече бегло ознакомились с имевшимся у меня письмом. Они потыкали во вьюки древками копий, но рыться в них не стали. Возможно, заглянув в носилки и увидев там двух девушек, сидевших в не совсем удобном положении, стражники удивились, но высказываться на сей счет не стали. Их командир любезно кивнул нам, жестом давая понять, что процессия может двигаться дальше.
После Цитакуаро нас больше не останавливали, но занавески на носилках я велел задернуть, чтобы Женщина-Пара не привлекала внимания зевак. Я знал, что скороход уже сообщил ундакуари о нашем приближении, но хотел как можно дольше сохранить в тайне необычный подарок. Мой расчет строился на том, что по прибытии во дворец сестрички должны были оказаться в центре внимания. Цьянья считала, что лишать близняшек возможности видеть страну, в которой им предстоит жить, жестоко, и поэтому всякий раз, когда я показывал ей что-то заслуживающее внимания, моя жена останавливала процессию, дожидалась, когда на дороге не будет прохожих, и сама поднимала занавеску, чтобы показать сестрам очередную достопримечательность. Она проделывала это не один раз, что вызывало у меня досаду: Левая и Правая при их апатичности и слабом уме совершенно не интересовались окрестностями.
Мне эта дорога показалась бы скучной и утомительной, если бы Цьянья ее не скрашивала, и я радовался тому, что, поддавшись уговорам жены, взял ее с собой. Порой ей даже удавалось заставить меня забыть о том, сколь опасным является наше предприятие. Всякий раз, когда наша процессия огибала излучину дороги или взбиралась на возвышенность, Цьянья замечала что-то новое для себя; она живо всем интересовалась и с детской внимательностью слушала мои объяснения. В первую очередь, разумеется, ее внимание привлекло обилие лоснящихся, бритых черепов. Правда, я рассказывал жене про местный обычай, но одно дело услышать, и совсем другое – увидеть. Первое время Цьянья, бывало, устремляла взгляд на какого-нибудь проходившего мимо юнца и бормотала:
– Это мальчик. Нет, девочка...
Но должен заметить, что любопытство было взаимным. Конечно, люди с волосами для местных были не в диковинку (в Мичоакане часто бывали чужеземцы, представители низших слоев головы не брили, да и среди людей с положением, наверное, находились упрямые чудаки, не желавшие следовать общей моде), но передвигающаяся на носилках красавица, в темных, пышных, длинных волосах которой сверкала белая прядь, не могла не привлечь их внимания. Поэтому местные жители таращились на Цьянью с не меньшим любопытством, чем она на них. И тоже что-то при этом бормотали.
Но и кроме людей там было на что посмотреть. В той части Мичоакана, которую мы пересекали, как и везде, имелись горы, но там они буквально прочерчивали горизонт, словно служили обрамлением для почти плоских равнин. Некоторая часть этой территории поросла лесами, кое-где земля была полностью покрыта хоть и бесполезными, но радующими глаз лугами с зеленой травой и множеством цветов. По обе стороны дороги тянулись огороды, засаженные маисом, бобами и чили, фруктовые сады и заросли ауакатин. То здесь, то там на полях высились глинобитные хранилища для семян и плодов, своей конической формой напоминавшие головы близняшек.
В тех краях даже самые скромные жилища ласкали взор. Они строились из дерева, благо строевого леса здесь было вдоволь, причем бревна и доски не скреплялись раствором и не связывались, как жерди, но плотно пригонялись друг к другу и соединялись с помощью выступов и пазов. Каждый дом венчала остроконечная крыша, края которой, выступая за линию стен, служили навесами, дававшими в жару прохладную тень, а в сезон дождей защищавшими от ливней. Некоторые крыши имели причудливую форму: все их четыре угла задорно загибались вверх. Наше путешествие пришлось на сезон гнездования ласточек, а такого количества порхающих, кружащихся и мечущихся в воздухе ласточек, как в Мичоакане, я не видел больше нигде. Причиной тому, разумеется, вместительные стрехи, так прекрасно подходящие для гнезд.
Обилие лесов и вод привлекало в Мичоакан множество самых разных птиц. В реках яркими вспышками отражалось оперение соек, мухоловок и птиц-рыболовов. Из лесов беспрерывно доносился перестук дятлов, на озерных отмелях маячили большие белые и голубые цапли и еще более крупные куинко. Мы называем так нескладную, долговязую птицу, оперение которой в закатных лучах солнца приобретает волшебную красоту: когда целая стая таких птиц разом взлетает с места, создается впечатление, будто вы воочию увидели порыв розового ветра.
Основное население Мичоакана проживало во множестве деревень, кольцом опоясывающих Пацкуаро – Большое Тростниковое озеро, или на многочисленных мелких островках на том же озере. Хотя жители всех деревень были вполне способны прокормиться рыболовством и охотой на водоплавающих птиц, в каждой из них по указу ундакуари развивались еще и особый промысел или ремесло: имелись селения медников, ткачей, корзинщиков, мастеров лаковой росписи и так далее. Остров посреди озера, называвшийся Шаракуро, был весь застроен храмами и алтарями и служил церемониальным центром для всех деревень. В Цинцинцани, Обиталище Колибри, бывшем столицей Мичоакана, не производилось ничего, кроме указов, распоряжений и постановлений, определявших жизнь страны. Хижин там не было, одни дворцы, а население состояло из придворной знати, жрецов и их слуг и помощников. Когда наша процессия приблизилась к Цинцинцани, мы еще издали увидели древнюю джикату (так называется на поре пирамида), возвышавшуюся на холме к востоку от дворцов знати. Сооруженная еще в незапамятные времена, не очень высокая, но причудливо вытянутая, эта джиката, в архитектуре которой оригинально смешивались квадратные и округлые элементы, все еще поражала воображение своим величием, хотя облицовка с нее давным-давно осыпалась, краска облупилась, а сама пирамида поросла мхом.
Многочисленные деревянные дворцы Обиталища Колибри, конечно, уступали каменным зданиям Теночтитлана, но им тоже было присуще своеобразное великолепие. Двухэтажные, под остроконечными крышами с широкими козырьками-навесами, все они были опоясаны на верхних этажах наружными галереями. Внушительные кедровые бревна, из которых складывались стены, мощные столбы и колонны, перила, видимые под карнизами балки, – все тут было покрыто необыкновенно искусной резьбой. Всюду, куда только могла дотянуться рука художника, поверхности обязательно лакировали и украшали переливающимися красками или позолотой. Но разумеется, все эти роскошные особняки не шли ни в какое сравнение с дворцом самого ундакуари.
Благодаря гонцам-скороходам Йокуингаре знал о нашем приближении, так что нашего прибытия дожидалось на улицах столицы множество знатных мужчин и женщин. Не доходя до Цинцинцани, мы свернули в сторону, к озеру, где искупались, привели себя в порядок и переоделись в парадные одеяния, дабы предстать перед правителем свежими, бодрыми и в подобающем посланникам виде. Войдя в первый внутренний двор резиденции правителя, представлявший собой обнесенный стенами тенистый сад, я приказал поставить носилки на землю и отпустил всех своих носильщиков и стражей. Их размещением занялась дворцовая прислуга, а Цьянья, Женщина-Пара и я сам проследовали через сад к величественному зданию дворца. В многолюдной суматохе, царившей вокруг, никто не обратил внимания на необычный способ передвижения близнецов.
Под приветливо-оживленный, но негромкий гул голосов (я не мог разобрать почти ничего из того, что говорилось вокруг) нас сквозь впечатляющие дворцовые ворота из стволов могучих кедров провели на террасу из кедровых плит, а потом через широкую дверь по короткому коридору – в зал приемов Йокуингаре. Этот зал, высотой в два этажа, напоминал размерами внутренний двор дворца Ауицотля, с тем только отличием, что у него имелась крыша. Лестницы по обе стороны зала вели к опоясывавшей его внутренней галерее, на которую выходили двери второго этажа. Ундакуари сидел на троне, представлявшем собой лишь невысокое кресло, но дорожка, ведущая от входа к трону, оказалась необыкновенно длинной: это явно было сделано для того, чтобы заставить каждого вошедшего почувствовать себя просителем.
Огромный зал заполняло множество нарядно одетых мужчин и женщин, которые расступились, освобождая нам проход. Пока мы – впереди я, за мной Цьянья и, наконец, Женщина-Пара – медленно шествовали к трону, я через топаз как следует рассмотрел Йокуингаре. До этого я видел его лишь один раз – издалека, на освящении Великой Пирамиды, так что толком не разглядел. Он был стар уже тогда, а теперь иссох и сморщился так, что, казалось, дунь – и рассыплется. К тому же правитель облысел, что, возможно, и стало причиной распространившегося в Мичоакане обычая бриться наголо. Зубов у него осталось не больше, чем волос, то есть не осталось вовсе, а голос Йокуингаре, когда он произнес приветствие, прозвучал слабым шорохом, напоминавшим звук сухих семян в стручке, если его потрясти. Хотя неуклюжие тупые сестрички успели мне основательно поднадоесть, я почувствовал укол совести оттого, что отдаю девушек в скрюченные паучьи лапы этого сморчка.
Я вручил правителю письмо Ауицотля, но ундакуари, передав его своему старшему сыну, весьма недовольным тоном повелел зачитать послание вслух. В моем представлении принц обязательно должен быть юношей или молодым мужчиной, но здешний наследный принц Цимцичу, отпусти он волосы, оказался бы совершенно седым. И этому пожилому человеку отец отдавал приказы, словно мальчику, еще не носящему под накидкой набедренной повязки.
– Подарок мне, а? – прокаркал отец, когда сын закончил читать письмо на поре. При этом в поле зрения его подслеповатых глазок попала не Женщина-Пара, а Цьянья. – Диковинка? Эта? Ну-ну... посмотрим. Сбрить все, оставив только эту белую прядь.
Цьянья, перепугавшись, отпрянула, я же, напротив, поспешил указать на Женщину-Пару и сказал:
– Владыка Йокуингаре, вот подарок.
Я поставил близнецов прямо перед троном и разорвал их общее пурпурное одеяние от шеи до подола. Собравшаяся толпа ахнула – сначала оттого, что я испортил столь дорогую ткань, а потом еще громче – от того, что предстало их взорам, когда одеяние упало на пол и сестры остались обнаженными.
– Пернатые яйца Курикаури! – выдохнул старик.
Этим именем в Мичоакане называли Кецалькоатля. Он продолжал бормотать что-то еще, но его голос потонул в изумленном гомоне придворных. Зато я заметил, что по подбородку правителя потекла слюна. Подарок явно пришелся ему по вкусу.
Все присутствующие, включая нескольких дряхлых старушенций, жен и наложниц ундакуари, толкаясь и отпихивая друг друга, устремились вперед, чтобы рассмотреть Женщину-Пару поближе. Некоторые, причем не одни мужчины, но и женщины тоже, протягивали руки, чтобы не только посмотреть, но и пощупать невиданную диковинку. Когда наконец всеобщее нездоровое любопытство улеглось, Йокуингаре хрипло приказал всем, кроме его самого, нас, наследника и нескольких невозмутимых стражников, расставленных по углам зала, уйти.
– А теперь приступим к угощению, – прошамкал старик, потирая сухие ручонки. – Нужно постараться принять гостей на славу, а?
Принц Цимцичу передал распоряжение одному из стражников, тот удалился, и очень скоро в зале появились слуги. Пока они расстилали скатерть, Цьянья накинула на близнецов порванное платье, и мы вшестером расселись вокруг. Как я понял, наследнику редко разрешалось вкушать трапезу вместе с отцом, но он бегло изъяснялся на науатлъ, а у нас обоих, и у меня, и у его отца, хотя мы в основном и понимали друг друга, время от времени все же возникала нужда в переводчике. Тем временем Цьянья помогала кормить Женщину-Пару с ложки: вообще-то сестрички имели обыкновение есть пальцами даже шоколадную пенку и жевать с открытым ртом, что производило не самое приятное впечатление. Правда, застольные манеры самого старика были ненамного лучше. Когда всем нам подали восхитительную белую рыбу – сига, который водится только в озере Пацкуаро, правитель, беззубо ухмыльнувшись, сказал:
– Ешьте, гости дорогие, угощайтесь. Сам-то я теперь могу лишь пить молоко.
– Молоко? – вежливо переспросила Цьянья, уточнив: – Ты пьешь молоко оленихи, мой господин?
И тут ее похожие на крылышки брови удивленно поползли вверх: вошедшая в зал рослая, дородная и совершенно лысая женщина опустилась на колени рядом с ундакуари, задрала блузу и предъявила ему очень большую грудь, которую запросто можно было бы спутать с ее безволосой головой. И всю оставшуюся часть трапезы Йокуингаре, если не задавал вопросы, касающиеся Женщины-Пары, с чмоканьем прикладывался по очереди к гигантским соскам.
Цьянья и принц, старавшиеся не смотреть в сторону старика, вынуждены были отодвинуть свои золоченые и покрытые глазурью тарелки, ибо кусок не лез им в горло. Близнецы, которых это зрелище совершенно не трогало, ели с аппетитом, да и я тоже угощался от души, ибо меня не столько занимали манеры Йокуингаре, сколько один находящийся при нем предмет. Еще войдя в зал, я обратил внимание на копья стражников, наконечники которых были изготовлены из металла, похожего на медь, но более темного оттенка. А потом приметил, что в ременных петлях на поясах правителя и его сына висят кинжалы из такого же материала.
Между тем старик обратился ко мне с долгой путаной речью, суть которой сводилась к тому, нельзя ли как-нибудь раздобыть для него еще одну такую же сросшуюся пару, но только мужского пола. И тут Цьянья, словно ей наскучила эта тема, спросила:
– А что это за восхитительный напиток?
Принц, явно обрадованный этим вмешательством, подался вперед через скатерть и объяснил гостье, что это чапари, продукт брожения пчелиного меда, напиток весьма крепкий, так что с непривычки лучше на него не налегать.
– Как замечательно! – воскликнула моя жена, осушив лакированную чашу. – Но если мед так пьянит, то почему же пчелы никогда не бывают пьяные? – Она икнула и умолкла, видимо, задумавшись о пчелах. Во всяком случае, когда ундакуари попытался возобновить свои дурацкие расспросы, Цьянья громко сказала: – А может, пчелы и пьяные. Откуда нам знать?
С этими словами она наполнила свою и мою чаши, расплескав немного напитка через край.
Старик вздохнул, причмокнув, отсосал еще глоток молока из обслюнявленной груди и громким шлепком дал женщине знать, что эта непристойная трапеза закончена. Мы с Цьяньей поспешно выпили по второй чашке чапари.
– Пора, – заявил Йокуингаре, шамкая так, что его нос и подбородок несколько раз столкнулись.
Его сын подпрыгнул и, обежав скатерть, подскочил к отцу сзади, чтобы помочь тому подняться на ноги.
– Минуточку, мой господин, – сказал я. – Сначала нужно дать Женщине-Паре наставления.
– Наставления? – нахмурился старик.
– А как же, – промолвил я с довольной ухмылкой заправского сводника, – они ведь девственницы и по неведению могут оказаться досадно пугливыми.
– Вот как, – проскрипел он, ухмыляясь в ответ. – Значит, они еще и девственницы, а? Да, тогда надо их подготовить.
Цьянья и Цимцичу, как сговорившись, взглянули на меня с презрением, но я отвел близнецов в сторонку и постарался объяснить девушкам, что им предстоит и чего от них ждут. Это оказалось трудно, потому что говорить мне приходилось быстро и на их родном языке коатликамак, а сестры были на редкость бестолковыми. Но наконец обе, в знак смутного понимания, кивнули, и я, пожав плечами, подтолкнул девушек к ундакуари.
Без возражений они стали подниматься с ним вверх по лестнице, причем даже помогали старику взбираться вверх. Со стороны это выглядело так, словно краб помогал жабе. Когда они уже почти добрались до балкона, «жаба» обернулся и крикнул что-то сыну на поре настолько сипло, что я не уловил ни слова. Цимцичу послушно кивнул отцу, потом повернулся к нам и предложил проводить меня и Цьянью в отведенные для гостей покои. Моя жена лишь икнула, а я сказал, что мы действительно устали и не прочь отдохнуть. После чего встали и последовали за принцем к лестнице на другой стороне зала.
Так уж вышло, что там, в Цинцинцани, в первый и единственный раз в нашей супружеской жизни мы с Цьяньей спали с кем-то, кроме друг друга. Но, пожалуйста, не забудьте, почтенные братья, что мы оба в тот вечер слегка опьянели от крепкого чапари. Да и вообще, это было не совсем то, что можно подумать.
Накануне отъезда я попытался рассказать жене о похотливости, сластолюбии и даже извращенности пуремпече, и мы с ней договорились принимать любые формы гостеприимства хозяев с пониманием, но от особых услуг отказываться с вежливой решимостью. Нам казалось, что мы предусмотрели все, однако когда особого рода гостеприимство действительно было нам оказано, мы не отклонили его, ибо оно, хотя впоследствии ни я, ни Цьянья так и не могли решить, была то уловка или же забота о гостях, оказалось просто восхитительным.
Поднимавшийся впереди нас на верхний этаж Цимцичу оглянулся и, подражая моей своднической ухмылке, поинтересовался:
– Угодно ли благородному воителю и его спутнице занять отдельные комнаты с отдельными постелями?
– Конечно нет, – холодно откликнулся я, прежде чем принц успел предложить нам еще и отдельных партнеров или что-нибудь столь же неприличное.
– Стало быть, супружеская спальня, мой господин, – заключил он вполне добродушно. – Правда, – продолжил Цимцичу как бы между прочим, – после утомительного пути даже преданные друг другу и любящие супруги бывают слишком усталыми. И двор Цинцинцани счел бы себя недостаточно гостеприимным, если бы благородный воитель и его спутница не смогли сегодня ночью получить удовольствие друг от друга. Поэтому мы предлагаем услугу, именуемую атанатанарани. Она усиливает способность мужчины к совокуплению, а женщина сможет получить ни с чем не сравнимое удовольствие.
Слово «атанатанарани», насколько я могу судить, означает «связка» или «соединение вместе». Прежде чем я успел спросить, что это за соединение и каким образом оно может что-либо усилить, принц, с поклоном впустив нас в наши покои, отступил назад и плавно закрыл лакированную дверь.
В освещенной лампами комнате находилась самая большая, самая глубокая и самая мягкая постель, какую мне только доводилось видеть в жизни. Еще там обнаружились двое пожилых рабов, мужчина и женщина. Я воззрился на обоих с опасением, но они лишь попросили разрешения помочь нам умыться. К спальне примыкали две умывальни с ванными и парилками. Мой слуга помог мне вымыться губкой в ванне, а потом энергично растер пемзой в парилке, но ничего неподобающего он не делал. Я решил, что все вместе – рабы, купание и парная – и есть то, что принц назвал незнакомым, загадочным словом. В этом не было ничего неприличного, и срабатывало «атанатанарани» действительно хорошо. Кожу пощипывало, я взбодрился и почувствовал себя, как выразился принц Цимцичу, «способным получить удовольствие от супруги и вызвать ее отклик».
Ее рабыня и мой раб с поклонами удалились, и мы, выйдя из умывален, попали в погруженную в темноту спальню. Окна были занавешены, масляные лампы потушены, так что мы не сразу нашли в этой большой комнате друг друга, а уж только потом отыскали огромную постель. Поскольку ночь стояла теплая, откинутым оказалось только верхнее одеяло, скользнув под которое мы распростерлись рядом, блаженно наслаждаясь волшебной мягкостью перин.
– Знаешь, Цаа, – сонно пробормотала Цьянья, – я все еще чувствую себя пьяной, как пчела. – Потом она неожиданно дернулась, охнула и воскликнула: – Аййо! Ты захватил меня врасплох.
Я собирался воскликнуть то же самое, а потому потянулся вниз, где маленькая рука (как мне казалось, принадлежавшая жене) мягко касалась меня, и изумленно вымолвил:
– Цьянья...
– Цаа, – отозвалась она с не меньшим изумлением. – Я чувствую, там, внизу... ребенок. Он балуется с моей... co мной.
– У меня то же самое, – ответил я. – Наверное, эти дети дожидались нас под одеялом. Что будем делать?
Я ожидал, что Цьянья предложит вышвырнуть ребятишек или даже сделает это сама да еще и поднимет шум, но вместо этого моя жена еще раз тихонько охнула, рассмеялась хмельным смехом и повторила мой вопрос:
– Что будем делать? А что, кстати, поделывает твой ребенок?
Я ответил.
– Мой тоже, – сказала Цьянья.
– Нельзя сказать, чтобы это было неприятно.
– Вот уж точно.
– Их, наверное, этому специально обучают.
– Но не для собственного удовлетворения. Мой, во всяком случае, слишком юн.
– Принц объяснил, что это делается для того, чтобы усилить наше удовольствие.
– А если мы сейчас прогоним детишек, так их еще, пожалуй, накажут.
Я передаю все эти реплики спокойным, бесстрастным тоном, но тогда наши голоса звучали совсем по-другому. Мы говорили сбивчиво, хриплым, возбужденным шепотом.
– А у тебя мальчик или девочка? Я не могу дотянуться, чтобы...
– Я тоже не могу. А не все ли равно?
– Нет. Голова гладкая, но лицо может быть красивым. Ресницы достаточно длинные, чтобы... аи! Ребенок меня щекочет ресницами!
– Они хорошо знают свое дело.
– О, как утонченно. Интересно, каждый из них обучен только для того, чтобы... Я хочу сказать...
– Давай поменяемся и выясним.
Детишки против перемены мест под одеялом не возражали, и мы от этого тоже не проиграли. Правда, губы нового ребенка оказались (или показались) более теплыми и влажными...
Короче говоря, не вдаваясь в излишние подробности, скажу, что очень скоро мы с женой принялись страстно обниматься и целоваться, тогда как дети вовсю продолжали заниматься нашими интимными местами. Когда возбуждение достигло предела, мы с женой соединились с неистовством самца и самки ягуаров; детишки же, доселе находившиеся между нами, закопошились поверх наших тел, усиливая удовольствие с помощью крохотных пальчиков и язычков.
Это произошло не единожды, но больше раз, чем я могу вспомнить. Едва лишь мы с Цьяньей делали паузу, чтобы передохнуть, дети сперва прижимались к нашим потным телам, а потом осторожно, нежно и деликатно возобновляли дразнящие ласки. Они перемещались туда-сюда, от жены ко мне и обратно – иногда по одному, иногда вместе, так что временами мною занимались и оба ребенка, и моя жена, а потом мы трое полностью сосредоточивались на Цьянье. Закончилось все только тогда, когда и она, и я уже окончательно выбились из сил и, пресытившись, провалились в сон. И пол, и возраст, и внешность наших ночных помощников так навсегда и остались загадкой. Рано утром, когда я проснулся, их уже не было.
Разбудило меня царапанье в дверь. Не до конца пробудившись, я встал, открыл ее и сначала не увидел ничего, кроме погруженной в предрассветный сумрак галереи. Но тут чей-то палец поскреб мою голую ногу. Вздрогнув, я опустил глаза и увидел Левую и Правую, таких же обнаженных, как и я сам. Девушки стояли на четвереньках (или, точнее, на «восьмереньках», чем снова напомнили мне краба) и с похотливыми ухмылками таращились снизу вверх на мою промежность.
– Хорошая штуковина, – сказала Левая. – Счастье.
– Как у него, – подхватила Правая, указав кивком остроконечной головы в направлении спальни старика.
– Что вы здесь делаете? – спросил я настолько свирепо, насколько это можно было сделать шепотом.
Одна из их восьми конечностей поднялась и вложила мне в руку кинжал Йокуингаре. Я уставился на казавшийся во мраке еще более темным металл и непроизвольно провел по лезвию большим пальцем. Металл и впрямь был твердым и острым.
– Как вам это удалось? – поразился я, ощутив прилив благодарности, почти любви, к живой диковине, копошившейся у моих ног.
– Легко, – сказала Правая.
– Он кладет одежду рядом с постелью, – добавила Левая.
– А это, – Правая указала на мой тепули, отчего я дернулся, – счастье. Я получаю счастье...
– А мне скучно, – подхватила Левая. – Делать нечего. Меня покачивает, вот и все. Я тянусь к одежде, шарю, нахожу нож.
– Она держит нож, пока я получаю счастье, – сказала Правая. – Я держу нож, пока она получает счастье. Она держит нож, пока...
– А сейчас что? – прервал я их объяснения.
– Наконец он храпит. Мы приносим нож. Сейчас мы пойдем разбудим его. Снова получим счастье.
И близнецы, так рвавшиеся к «счастью», что даже не стали дожидаться моей благодарности, на манер краба поспешно удалились по темной галерее. Мне оставалось лишь молча порадоваться чудодейственным свойствам женского молока и, вернувшись обратно в спальню, ждать рассвета.
Придворные здесь, по-видимому, не относились к ранним пташкам, ибо за завтраком к нам с женой присоединился лишь наследный принц Цимцичу. Я объяснил пожилому принцу, что, поскольку наша миссия выполнена, мы можем отправиться в обратный путь. Что же до его отца, то коль скоро владыка наслаждается обретенным подарком, вряд ли стоит отвлекать его от этого занятия, чтобы развлекать непрошеных гостей.
– Ну что ж, – сказал принц, – если вы чувствуете, что вам пора домой, мы не станем вас задерживать. Остается лишь маленькая формальность: все, включая вас самих и вашу стражу, должны подвергнуться обыску, а ваша кладь и носилки тщательному досмотру. Заверяю вас, это не оскорбление и не ущемление ваших прав, а обычай, распространяющийся у нас абсолютно на всех. Когда я, отправляясь в путешествие, покидаю столицу, то обыскивают даже меня.
Я пожал плечами настолько равнодушно, насколько это возможно, когда группа вооруженных стражников движется тебе навстречу, чтобы заключить в кольцо. Скромно и почтительно, но очень дотошно и тщательно они прохлопали и обшарили одежду, мою и жены, а потом попросили нас ненадолго снять сандалии. В дворцовом саду стражники проделали то же самое со всеми нашими людьми, вывернули наизнанку все котомки и прощупали даже подушки на сиденьях носилок. К тому времени многие во дворце, особенно дети, уже поднялись и наблюдали за этой процедурой с интересом и пониманием. Я посмотрел на Цьянью. Она внимательно разглядывала детей, пытаясь определить, кто из них... а когда поймала на себе мой взгляд, покраснела, сравнявшись по цвету с маленьким металлическим клинком, лезвие которого, сняв деревянную рукоять, я спрятал под волосами у себя на загривке. Стражи доложили Цимцичу, что мы не уносим с собой ничего недозволенного, и его настороженность мигом сменилась дружелюбием.
– Но раз вы пришли к нам с подарком, – сказал он, – то и мы не можем отпустить вас без ответного дара вашему юй-тлатоани.
И принц вручил мне маленький кожаный мешочек, в котором, как я потом выяснил, находилось изрядное количество изысканнейших жемчужин, извлекаемых из сердец устриц.
– Но это еще не все, – продолжил он, – вы унесете с собой и более ценный подарок, который как раз уместится на этих рассчитанных на двоих носилках. Не знаю уж, как отец будет обходиться без своего сокровища, но такова была его воля. – И с этими словами он отдал нам ту огромную, лысую, грудастую женщину, которая прошлым вечером кормила старика своим молоком.
Она оказалась самое меньшее в два раза тяжелее близнецов, и всю дорогу домой носильщики проклинали свою долю. После каждого долгого прогона всей процессии приходилось делать привал и стоять, поджидая, пока сие млекопитающее бесстыдно доило себя пальцами, чтобы молоко не распирало ей вымя.
Цьянья веселилась всю дорогу и смеялась даже тогда, когда мы презентовали этот подарок Ауицотлю, и он в ответ приказал удушить меня на месте. Правда, когда я поспешил рассказать владыке, что это молочное животное, очевидно, сумело сделать для увядшего старого Йокуингаре, Ауицотль после весьма недолгого размышления приказ о моем удушении отменил. Цьянья, услышав это, рассмеялась еще пуще, да так заразительно, что Чтимый Глашатай и я тоже к ней присоединились.
Не знаю, способствовала ли молочная женщина поддержанию бодрости Ауицотля, но если да, то этот подарок оказался более ценным приобретением, чем украденный мной образец смертоносного металла. Наши кузнецы и оружейники тщательно изучали его, скребли, колупали и наконец пришли к тому выводу, что он был сделан из сплава меди и олова. Но то ли они не нашли правильного соотношения двух этих металлов, то ли неверно определили температуру, но только как наши мастера ни старались, но получить нужный сплав им так и не удалось.
Однако поскольку олово в тех краях не добывалось и хождение имели только меновые слитки в виде маленьких топориков, поступавшие по торговым путям невесть откуда, Ауицотль отдал приказ об изъятии всех оловянных изделий. Олово как средство обмена из обращения исчезло, а поскольку никакого другого применения оно не имело, то, думаю, Ауицотль просто спрятал все запасы куда-нибудь подальше.
Конечно, такое решение было продиктовано чистой воды эгоизмом: раз уж мы, мешикатль, не можем из-за недостатка знаний получать смертоносный металл, то пусть и другие не смогут его делать из-за нехватки сырья. Поскольку оружия пуремпече уже успели накопить более чем достаточно, соваться в их дела Теночтитлан так и не решился, однако прекращение поставок олова свело производство нового оружия почти на нет, так что, если у кого-нибудь в Мичоакане и были воинственные планы, от них пришлось отказаться. Поэтому моя миссия в Цинцинцани не была совсем уж безрезультатной.
Ко времени возвращения из Мичоакана мы с Цьяньей были женаты уже около семи лет, и рискну предположить, что наши друзья считали нас крепкой супружеской четой, ведущей устоявшуюся жизнь, вполне устраивавшую обоих. И действительно, мы были так счастливы в обществе друг друга, что совершенно не стремились к каким бы то ни было переменам. Боги, однако, рассудили иначе, о чем я вскоре узнал от жены. Вот как было дело.
Однажды днем, побывав во дворце в гостях у Первой Госпожи, мы на обратном пути приметили дойную женщину, привезенную нами из Цинцинцани. Скорее всего, Ауицотль просто оставил ее во дворце в качестве обычной служанки, но, проходя мимо, я отпустил какую-то шуточку насчет его «кормилицы». Вопреки моим ожиданиям, Цьянья не рассмеялась, а с неожиданной резкостью заявила:
– Цаа, тебе не пристало балагурить насчет молока. Материнского молока. И насчет материнства тоже.
– Хорошо, не буду, раз ты не хочешь. Но скажи, почему это тебя обижает?
– Да потому, – застенчиво пролепетала она, – что где-то к концу этого года я... я и сама сделаюсь такой же дойной.
Я уставился на жену. Чтобы осмыслить ее слова, мне потребовалось некоторое время, так что она успела добавить:
– Я давно уже это подозревала, но позавчера лекарь подтвердил мою догадку. С тех пор я только и думала, как бы поделикатнее преподнести тебе эту новость. Но вот видишь, – она грустно шмыгнула носом, – в конце концов взяла и ляпнула просто так... Эй, Цаа, ты куда? Неужели я все испортила?
Я действительно отбежал от жены, но лишь затем, чтобы распорядиться подать госпоже носилки: в ее положении не следовало утомляться и возвращаться домой пешком. Правда, Цьянья уверяла, что прекрасно себя чувствует и полна сил, но я настоял на том, чтобы она взобралась на переносное сиденье.
– Так значит, ты доволен, Цаа?
– Доволен? – воскликнул я. – Да я просто счастлив!
Дома, увидев, что я ни с того ни с сего помогаю вполне здоровой с виду жене подняться по совсем даже не высокой и не крутой лестнице, Бирюза посмотрела на меня с беспокойством, но когда я крикнул ей: «У нас будет ребенок!» – служанка взвизгнула от радости. На шум откуда-то прибежала Смешинка, и я скомандовал:
– Смешинка, Бирюза, быстренько приведите детскую в порядок. Сделайте все необходимые приготовления. Бегите и купите все, чего недостает. Колыбель. Цветы. Поставьте цветы повсюду!
– Цаа, – вмешалась Цьянья, которую, хоть она и порядком смутилась, развеселила проявленная мною прыть, – что за спешка? Комната может подождать, ведь малыш появится еще не скоро.
Но обе рабыни уже послушно со всех ног бросились вверх по лестнице. А я, невзирая на все ее протесты, помог жене подняться в спальню и настоял, чтобы она после визита во дворец непременно прилегла отдохнуть. Ну а сам спустился вниз, чтобы отметить радостную весть чашей октли, раскурить покуитль и осмыслить все наедине.
Мало-помалу, однако, мое радостное возбуждение сменилось более серьезными размышлениями: интересно, почему Цьянья долго не решалась рассказать мне о предстоящем событии? Судя по тому, что родов следовало ждать в конце года, зачатие вполне могло произойти той ночью, которую мы с ней провели во дворце старого Йокуингаре. Тут я понимающе рассмеялся: моя целомудренная супруга несколько стеснялась этого и наверняка бы предпочла, чтобы наш ребенок был зачат при менее своеобразных обстоятельствах. Однако, по моему разумению, куда лучше зачать дитя в экстазе страсти, нежели вяло следуя долгу и исполняя постылые, каковыми они у многих и являются, супружеские обязанности.
Следующая пришедшая мне в голову мысль тоже породила смешок. Представлялось вполне вероятным, что младенец унаследует присущий мне дефект зрения. С одной стороны, у малыша будет преимущество: уж ему-то не придется, как мне до обретения кристалла, ковылять, словно в тумане, не видя дальше своего носа. С другой стороны, как не пожалеть бедняжку, обреченного учиться подносить кристалл к глазу раньше, чем ложку ко рту, да еще и привыкать обходиться без него на прогулках и в играх со сверстниками, дабы с младенчества не заслужить прозвище Желтый Глаз.
Правда, если родится девочка, близорукость не будет таким уж недостатком. Ни детские игры, ни будущие взрослые занятия не потребуют от нее особого напряжения и не будут зависеть от ее физических способностей. Девочки не соперничают друг с другом в силе и ловкости, пока не вступают в возраст, когда начинают соперничать из-за женихов, но и тогда гораздо важнее не как девушка видит, а как она выглядит. Опасаться следует другого: а что, если дочка унаследует не только мое зрение, но и мою внешность? Для сына высокий рост станет даром богов, но вот для дочери вымахать такой дылдой – настоящее горе. Пожалуй, бедная девочка может даже возненавидеть своего отца. Да и для родителей что за радость видеть свою дочь неким подобием той «дойной женщины»?
И вот тут я по-настоящему испугался, вспомнив, что перед самым зачатием моя жена провела немало времени в обществе Женщины-Пары, а хорошо известно, что многие дети рождаются с уродствами или дефектами, когда их матери во время беременности смотрят на что-то подобное. Мало того, Цьянья, подсчитывая сроки, говорила приблизительно о конце этого года или о начале следующего, то есть роды запросто могли выпасть на злосчастные «скрытые дни». А ведь рождение в один из этих пяти безымянных, не обозначенных ни в одном календаре дней считалось самым дурным предзнаменованием, какое только можно представить. Настолько дурным, что родителей поощряли если не к детоубийству, то к скверному уходу за младенцем, который мог повлечь за собой смерть так и так обреченного на несчастья малютки. Я не был настолько суеверен, чтобы совершить нечто подобное, но мысль о том, что мое дитя может оказаться уродом или чудовищем...
Я курил покуитль и пил октли вплоть до появления Бирюзы, которая, увидев, в каком хозяин состоянии, пристыдила меня и кликнула Звездного Певца, чтобы тот помог уложить меня в постель.
– Похоже, мне предстоит превратиться в немощную развалину задолго до срока, – сказал я Цьянье на следующее утро. – Интересно, неужели все будущие отцы так же сходят с ума от беспокойства?
– Думаю, – с улыбкой ответила она, – таких отцов все же меньше, чем матерей. Но будущая мать знает, что от нее уже ничего не зависит, так что женщине остается только ждать.
– Так ведь и мне тоже не остается ничего другого, – вздохнул я. – Разве что полностью посвятить себя уходу за тобой, заботе о твоем здоровье и безопасности...
– Но в таком случае я первая превращусь в развалину! – воскликнула Цьянья совершенно серьезно. – Пожалуйста, дорогой, найди себе какое-нибудь другое занятие.
Уязвленный и озадаченный, я поплелся принимать утреннюю ванну, а когда, умывшись, спустился вниз, мне неожиданно представилась возможность отвлечься от своих забот, ибо я увидел Коцатля.
– Аййо, и как ты только проведал? – воскликнул я. – Вот уж не ждал, что ты явишься с визитом так скоро.
Мое приветствие, видимо, повергло друга в недоумение.
– Ты о чем? Вообще-то я пришел, чтобы...
– О том, что мы ждем ребенка, о чем же еще!
Его лицо слегка омрачилось, но потом он ответил:
– Я рад, Микстли, и за тебя, и за Цьянью. Да даруют вам боги славное дитя. Но надо же, какое совпадение... я даже малость опешил. Я ведь зачем к тебе пришел: хочу жениться и прошу твоего разрешения.
– Надо же! Вот это новость, ничуть не хуже моей! Подумать только, мальчик Коцатль вырос и уже собрался жениться. Как незаметно летят годы! Но что ты имеешь в виду, когда говоришь о моем разрешении? Ты сам себе хозяин.
– Я-то хозяин, а вот невеста моя нет. Она рабыня.
– Ну и что? – Я так ничего и не понимал. – Выкупи ее, и дело с концом. Уж конечно, у тебя достаточно средств, чтобы купить свободу одной рабыне.
– Так-то оно так, да вот согласится ли хозяин? Я хочу жениться на рабыне Кекелмики, и она тоже хочет выйти за меня замуж.
– Что? Не может быть!
– Почему? Видишь ли, увидев ее в твоем доме, я стал частенько наведываться сюда, чтобы повидаться с ней, а если повезет, то улучить момент и побыть вдвоем. Большая часть нашего романа разворачивалась на твоей кухне.
Я был поражен.
– Смешинка! Наша маленькая служанка! Но она же совсем еще девочка.
– Микстли, – мягко укорил меня друг, – она была девочкой, когда ты ее купил. Сам ведь только что сказал, что годы летят незаметно.
«А ведь он прав, – подумалось мне. – Смешинка всего на пару лет моложе Коцатля, а ему, хоть я и привык считать своего друга совсем юным, уже исполнилось двадцать два».
– Считай, что мое разрешение, вкупе с наилучшими пожеланиями, ты уже получил, – сказал я. – Но никаких покупок: это будет первым моим свадебным подарком. И не возражай, слышать ничего не желаю! Если бы не твои уроки, Смешинка никогда не могла бы рассчитывать на такую партию. Вспомни, как она вечно по-дурацки хихикала, когда только появилась в нашем доме. Ты сделал из нее благовоспитанную девицу, так что она по праву твоя.
– Тогда я благодарю тебя, Микстли, и от своего, и от ее имени. – Он замялся. – И вот еще что... я, конечно, рассказал ей о себе. О своей ране. И Смешинка понимает, что мы в отличие от вас с Цьяньей никогда не сможем иметь детей.
И тут до меня дошло, почему слова, которыми я встретил друга, на миг омрачили его лицо. Получилось, что я, разумеется невольно, без дурного умысла, выказал бессердечие. Однако, прежде чем я попытался извиниться, Коцатль продолжил:
– Кекелмики клянется, что любит меня таким, какой я есть. Однако я не уверен в том, что она до конца осознает всю меру моей неполноценности. Наши ласки на кухне никогда не доходили до точки...
Тут мой друг окончательно смутился, и я решил помочь ему.
– Ты хочешь сказать, что пока еще не...
– Смешинка еще даже ни разу не видела меня без одежды, – выпалил он. – И она девственница, не имеющая настоящего представления об отношениях между мужчиной и женщиной.
– Ну, пусть тогда Цьянья сядет и поговорит с ней как женщина с женщиной обо всем, что касается супружества. В том числе и об интимной стороне брака.
– Я был бы очень ей благодарен, – сказал Коцатль. – Но мне хотелось бы, чтобы после этого с ней поговорил и ты, Микстли. Ты знаешь меня дольше и лучше, чем Цьянья, так что мог бы более точно объяснить Смешинке, что ждет ее в браке со мной. Как, согласен?
– Конечно. Сделаю все, что от меня зависит. Но скажу заранее: любая девственница терзается сомнениями и опасениями, даже выходя за самого обыкновенного мужчину. И если я скажу ей напрямую, что она может ожидать от брака с тобой... а чего не может... в общем, как бы это не напугало Смешинку еще больше.
– Она любит меня, – сказал Коцатль, и голос его зазвенел. – Она дала мне обещание. Я знаю ее сердце.
– В таком случае, ты просто уникум, – сухо ответил я. – Мало кто из мужчин действительно знает женское сердце. Однако мне кажется, что женщина, особенно юная и неопытная, представляет себе брак в виде моря цветов, поющих птичек и порхающих бабочек, и если я начну говорить со Смешинкой о вопросах плоти, об органах и частях тела, то это, в лучшем случае, станет для нее разочарованием. А в худшем – напугает девушку настолько, что она откажется от брака с тобой. Вряд ли ты тогда будешь мне благодарен.
– Напротив, буду, – возразил мой друг. – Кекелмики заслуживает лучшего, чем испуга и разочарования в первую брачную ночь. Если она решит отказать мне, то пусть уж лучше это будет сейчас. Да, для меня это станет настоящим горем: ведь если добрая и любящая Кекелмики не захочет стать моей женой, то никакая другая женщина не согласится и подавно. В таком случае я запишусь в армию и отправлюсь куда-нибудь на войну, чтобы там сгинуть. Но что бы ни случилось, Микстли, мне и в голову не придет винить в этом тебя. Поэтому еще раз прошу – окажи мне услугу.
Когда Коцатль ушел, я сообщил Цьянье новость и рассказал о его просьбе. Она позвала Смешинку, и девушка явилась с кухни: краснея, дрожа и теребя пальцами кайму блузки. Мы оба обняли ее, поздравив с тем, что она завоевала любовь такого прекрасного молодого человека, после чего Цьянья, по-матерински обхватив девицу за талию, увела ее наверх, тогда как я уединился с бумагой и горшочками с красками.
К тому времени, когда Смешинка снова спустилась вниз, я успел не только составить документ о ее освобождении, но и выкурить покуитль.
Если раньше девушка краснела от смущения, то теперь она рдела, как жаровня, и трепетала еще более заметно. Возможно, волнение добавляло ей привлекательности, но, по правде говоря, я только сейчас заметил, что Смешинка и впрямь хороша собой. Наверное, человеку свойственно не замечать красоты того, к чему он привык, пока на это не обратит внимания кто-нибудь посторонний.
Я вручил девушке бумагу.
– Что это, хозяин? – спросила она.
– Документ, в котором говорится, что ты, Кекелмики, отныне свободная женщина и никого не должна называть хозяином. Постарайся теперь считать меня просто другом. Да, кстати, Коцатль очень просил меня по-дружески поговорить с тобой и разъяснить тебе некоторые стороны брака. – И я с места в карьер, боюсь, что без особой деликатности приступил к делу: – У большинства мужчин, Смешинка, есть орган, который называется тепули...
Она прервала меня, хотя и не поднимая глаз:
– Я знаю, что это такое, господин. Я росла вместе с братьями. А моя госпожа хозяйка сказала, что мужчина вставляет его женщине вот сюда. – Девушка скромно указала на низ живота. – Во всяком случае, если он у него есть. Но Коцатль говорит, что он лишился своего тепули.
– А вместе с тепули лишился и способности сделать тебя матерью, а также доставить себе некоторые удовольствия брака. Но не лишился желания дарить эти удовольствия тебе. Хотя у него нет тепули, чтобы вы могли слиться воедино, но существуют и другие способы совершать акт любви.
Поскольку девушка уже не просто краснела, а пылала, я отвел глаза и попытался говорить ровным, нудным тоном школьного наставника. Наверное, в самом общем виде такие наставления и можно преподносить как урок, но когда я принялся распространяться о многочисленных возбуждающих и дарующих наслаждение действиях, совершаемых мужчинами с женской грудью и тепили – особенно с чувствительным ксакальпили посредством пальцев, языка, губ и даже ресниц, – я не мог не вспомнить весь свой немалый опыт, и мой голос от возбуждения слегка задрожал. Поэтому я поторопился завершить свои наставления:
– Некоторых женщин такого рода действия удовлетворяют не меньше, чем обычное соитие, а иные даже предпочитают их. Случается даже, что женщины занимаются любовью друг с другом, ничуть не заботясь об отсутствии тепули.
Тут Смешинка так охнула, что я повернулся и взглянул на нее. Девушка сидела, вся напрягшись, сжав кулаки и закрыв глаза.
– Это звучит... – Все ее тело дернулось. – За-ме-ча-тельно!
Она произнесла это слово так длинно и тягуче, словно бы вытаскивала его из себя.
Прошло некоторое время, прежде чем ее кулаки разжались, а глаза открылись. Девушка подняла их на меня, и я увидел, что они затуманены.
– Спасибо тебе, мой господин, за то... что рассказал мне об этих вещах.
Я вспомнил, как Смешинка, бывало, хихикала без причины. Возможно ли, чтобы она так же легко возбуждалась даже без раздевания и прикосновений?
– У меня больше нет права приказывать тебе, – сказал я, – поэтому хочу обратиться к тебе с дерзкой просьбой, в которой ты вольна мне отказать. Мне хотелось бы взглянуть на твою грудь.
Девушка посмотрела на меня невинными, широко раскрытыми глазами и, хотя и заколебалась, все же медленно подняла блузку. Грудь ее была небольшой, но вполне сформировавшейся – с сосками, набухшими, словно от одного лишь прикосновения моего взгляда, и большими темными ареолами. Я вздохнул и жестом показал, что она может уходить. Я был бы рад ошибиться, но очень боялся, что Смешинка не всегда будет удовлетворяться ласками, заменяющими настоящее соитие. У меня возникло подозрение, что Коцатль рискует в конце концов оказаться несчастным мужем.
Поднявшись наверх, я нашел жену на пороге детской, где она, надо полагать, размышляла, как лучше обставить помещение. Делиться с ней опасениями насчет брака Коцатля я не стал и лишь заметил:
– Когда Смешинка уйдет, у нас будет на одну служанку меньше. Бирюза не сможет одновременно вести хозяйство и приглядывать за тобой. Все-таки Коцатль выбрал не самый удачный момент, чтобы объявить о своих намерениях. Я имею в виду, не самый удачный для нас.
– Нет худа без добра! – воскликнула Цьянья. – Помнишь, ты сам говорил, что если мне однажды очень потребуется помощь, можно будет убедить Бью перебраться к нам. Хвала богам, уход Смешинки – всего лишь мелкая неприятность, но зато хороший предлог: нам ведь и вправду потребуется женщина, чтобы помогать по дому. Цаа, давай попросим ее!
По правде сказать, мне вовсе не хотелось, чтобы обозленная, вечно угрюмая Бью поселилась у нас да еще в такое время, но не мог же я отказать жене.
– Ладно. Я пошлю ей приглашение, от которого, думаю, она не сможет отказаться.
Доставить приглашение я поручил тем же самым семерым воинам, которые некогда сопровождали меня на юг, так что в случае согласия Ждущая Луна прибыла бы в Теночтитлан под надежной охраной. Возражений или отговорок с ее стороны не последовало, но чтобы собраться в дорогу и отдать все необходимые распоряжения относительно постоялого двора, Бью пришлось задержаться. Тем временем мы с Цьяньей устроили для Коцатля со Смешинкой пышную свадебную церемонию, и наша бывшая служанка перебралась жить в его дом.
Уже настала зима, когда семеро воинов доставили Бью Рибе к дверям нашего дома. К этому времени я уже и сам ждал ее с нетерпением и был рад встрече не меньше, чем Цьянья. Меня беспокоило, что жена очень сильно раздалась и частенько чувствовала себя неважно; она то и дело капризничала и пребывала в дурном настроении. Сама Цьянья, правда, постоянно повторяла, что для женщины в ее положении это естественно, но меня подобное сильно тревожило и заставляло еще пуще над ней кудахтать, что вызывало у жены еще большее раздражение.
– О Бью, какое счастье, что ты здесь! Я благодарю Уицйе Тао и всех других богов за то, что ты согласилась приехать. – И Цьянья бросилась на шею сестры, словно в объятия избавительницы. – Да ты просто спасла меня, а то бы меня в этом доме забаловали до смерти!
Кладь Бью отнесли в приготовленную для нее гостевую комнату, но большую часть дня она провела с Цьяньей в нашей спальне, откуда меня бесцеремонно выставили, так что мне пришлось слоняться по дому и злиться, чувствуя себя брошенным и ненужным. Лишь в сумерки Бью в одиночестве спустилась вниз и, когда мы с ней пили шоколад, чуть ли не заговорщически сказала:
– В скором времени Цьянья будет уже на таком большом сроке беременности, что тебе придется отказаться от исполнения своих... супружеских обязанностей. И что ты тогда будешь делать?
Я чуть было не ответил сестрице, что это не ее дело, однако вслух произнес совсем другое:
– Как-нибудь потерплю.
Она, однако, не унималась.
– Было бы сущей непристойностью, вздумай ты искать утешения в объятиях посторонних женщин.
Задетый этим оскорбительным подозрением, я встал и натянуто произнес:
– Что за глупости, я человек порядочный, тем более что...
– Что ты вряд ли сможешь найти Цьянье приемлемую замену? – И Бью склонила голову набок, словно всерьез ожидая ответа. – Во всем Теночтитлане ты так и не нашел красавицы ей под стать, так что в результате пришлось послать в далекий Теуантепек за мной? – Она улыбнулась, встала и подошла так близко, что прикоснулась ко мне грудью. – Я так похожа на сестру, что вполне могу в некоторых случаях ее заменить. Разве нет? – Она теребила застежку моей накидки, как будто с намерением ее расстегнуть. – Но, Цаа, хоть внешне мы с ней и очень похожи, отсюда вовсе не следует, будто мы одинаковы в постели. Возможно, ты нашел бы нас очень даже разными...
Я решительно от нее отстранился.
– Бью, мне бы хотелось, чтобы пребывание в нашем доме было для тебя приятным. Я прекрасно знаю, что ты меня недолюбливаешь, но разве обязательно демонстрировать это столь извращенным способом, с помощью притворного кокетства? Почему бы нам, раз уж я так тебе не мил, просто не держаться подальше друг от друга?
Когда я уходил, щеки Бью горели так, словно ее застали врасплох за чем-то непристойным, и она терла лицо, как будто получила за это оплеуху.
Сеньор епископ оказал мне высокую честь, снова вернувшись в наше общество. Ваше преосвященство появились как раз вовремя, чтобы услышать, как я, с той же гордостью, с какой объявил об этом событии много лет назад, расскажу сейчас присутствующим о рождении моей любимой дочери.
Счастлив сообщить, что все мои опасения оказались беспочвенными. Дитя проявило разум еще во чреве, ибо благоразумно и предусмотрительно переждало там все пять «скрытых» дней и родилось на свет в день Ке-Малинали, или день Первой Травы, первого месяца года Пятого Дома. Мне в ту пору шел тридцать второй год – вообще-то многовато для человека, становящегося отцом впервые, но я, как и куда более молодые люди, просто пыжился от смехотворной гордости, словно сам, один, и зачал, и выносил младенца, и разрешился от бремени.
Бью находилась у постели Цьяньи, когда лекарь и повивальная бабка явились ко мне и сообщили, что родилась девочка. Они, должно быть, сочли меня свихнувшимся, ибо в ответ я, заломив руки, стал требовать не скрывать от меня страшную правду и сообщить, не две ли это девочки с одним телом?
– Не две, – хором заверили они меня, – а одна. Одна девочка, с одним, естественно, телом. Нет, размера ваша дочка самого обычного, никаким уродством она не отмечена и вообще никаких дефектов не наблюдается.
Ну а когда я стал приставать к целителю с вопросом об остроте зрения, он, уже не скрывая раздражения, ответил, что новорожденные младенцы, даже если и наделены от природы орлиным зрением, не заявляют об этом во всеуслышание по той простой причине, что не умеют говорить. Поэтому мне лучше подождать, а потом расспросить обо всем дочку самому.
Они вручили мне пуповину, а сами вернулись в детскую, чтобы окунуть Первую Траву в холодную воду, запеленать и заставить выслушать наставление повитухи. Я спустился вниз, дрожащими пальцами намотал влажную пуповину на глиняное веретено и, вознеся про себя несколько благодарственных молитв богам, зарыл ее под камнями кухонного очага. Потом я снова поспешил наверх, где стал нетерпеливо ожидать, когда меня допустят внутрь и разрешат посмотреть на новорожденную.
Наконец мне было позволено поцеловать устало улыбавшуюся жену и с помощью топаза присмотреться к крохотному личику лежавшего на сгибе ее локтя существа. Мне, разумеется, случалось видеть младенцев, этаких пухленьких пупсов, и потому я был если не испуган, то по крайней мере удивлен и разочарован тем, что наша дочурка ничуть не превосходила их красотой. Она была красной, сморщенной, словно стручок чили, и лысой, как престарелый пуремпече. Я попытался вызвать у себя подобающий порыв отцовской любви, но безуспешно. Присутствующие дружно заверили меня в том, что это действительно моя дочь, пополнение рода человеческого, но меня ничуть не удивило бы, признайся они в том, что это новорожденная обезьянка-ревун, пока еще безволосая. Во всяком случае, по части рева малышка точно больше годилась в ревуны.
Вряд ли мне стоит объяснять, что день ото дня дитя все больше походило на человека и что по мере этого преображения менялось и мое отношение к малышке: в сердце моем вызревали привязанность и любовь. Я называл ее Кокотон; это обычное ласковое прозвище маленьких девочек, само же слово обозначает хлебную крошку. В скором времени Кокотон стала обнаруживать сходство со своей матерью (и само собой – с тетушкой), так что ни одна малютка не могла бы похорошеть еще пуще за меньший срок.
Ее шелковистые волосы вились кольцами; ресницы, едва появившись, казались миниатюрными копиями длинных густых ресниц Цьяньи и Бью, а брови с младенчества изогнулись, подобно крыльям чайки. Она уже чаще смеялась, чем плакала, научившись улыбаться лучезарной улыбкой Цьяньи, которая отражалась на лицах всех окружающих. Время от времени смех девочки заставлял светлеть даже обычно угрюмое и мрачное лицо Бью.
Скоро Цьянья окончательно оправилась и занялась делами, хотя первое время все они, естественно, сводились к возне с Кокотон, весьма деспотично требовавшей, чтобы ее «дойная» мама всегда была под рукой. Присутствие Бью полностью избавляло меня от забот о жене и дочери. И когда я порой невпопад предлагал свои услуги и знаки внимания, обе сестры, да и малышка тоже, попросту меня игнорировали. Впрочем, я как хозяин дома все же старался требовать от домочадцев послушания.
Когда Кокотон было почти два месяца, я заметил, что Цьянья что-то заскучала. К тому времени она уже очень давно не выходила из дома, лишь поднимаясь в сад на крыше, чтобы понежиться в лучах Тонатиу и освежиться ветерком Эекатль. Теперь жене захотелось прогуляться по Сердцу Сего Мира, и она выразила желание присутствовать на церемонии в честь Шипе-Тотека. Я категорически это ей запретил, сказав следующее:
– Кокотон родилась здоровой и красивой, без малейших признаков уродства, дурных знаков и, кажется, даже с нормальным зрением. Давай же не испытывать тонали и добрую волю богов и не подвергать ее опасности. Пока ты кормишь ее грудью, мы должны заботиться о твоем молоке, а оно может испортиться или даже совсем пропасть, например, от испуга или огорчения, вызванного каким-нибудь зрелищем. А мне трудно представить себе что-либо, способное испугать или расстроить женщину больше, чем празднование Шипе-Тотека. Для тебя, любовь моя, я готов на все, но об этом лучше не проси...
О да, ваше высокопреосвященство, я часто видел обряд почитания Шипе-Тотека, ибо то был один из важнейших ритуалов не только для мешикатль, но и для многих других народов. Церемонию эту можно назвать впечатляющей, даже незабываемой, но даже в то время мне трудно было поверить, что хоть кто-то может получать от нее удовольствие. Мне до сих пор неприятно вспоминать об этом празднике, и связано это вовсе не с тем, что я стал христианином и приобщился к цивилизации. Впрочем, если его преосвященству интересно и он настаивает...
Шипе-Тотека был богом – покровителем посева, его время наступало в месяце Тлакапсипе Юалицтли, что можно перевести как Мягкий Обмолот. То был сезон, когда мертвое жнивье урожаев прошлого года сжигали, а землю запахивали, очищая и готовя ее для новых посевов. Смерть, таким образом, расчищала путь жизни, что не чуждо и христианам, ибо Иисус Христос тоже умирает и возрождается, и это тоже по времени совпадает с севом.
Нет-нет, ваше преосвященство, не стоит протестовать столь шумно. Я понимаю, что это сходство для вас оскорбительно, и не позволю себе сравнивать дальше.
Не стану описывать подробно все предваряющие и сопровождающие церемонию ритуалы – цветы, музыку, танцы, яркие краски, костюмы, процессии и гром разрывающих сердца громовых барабанов. Постараюсь обрисовать все это по возможности кратко.
Ведайте же, что для этого праздника заранее избирался человек, юноша или девушка, на роль Шипе-Тотека, что означает Освежеванный в Любви. Пол в данном случае не так уж важен, главное, чтобы он или она, достигнув половой зрелости, сохранили целомудрие. Обычно эту роль исполнял иноземец знатного происхождения, захваченный в плен на какой-нибудь войне еще ребенком и приберегаемый специально для того, чтобы, когда он вырастет, представлять бога. Раб подобной чести не удостаивался никогда, ибо это было бы сочтено неуважением к Шипе-Тотека.
За несколько дней до начала церемонии избранника (или избранницу) помещали в храме Шипе-Тотека, где окружали заботой и ни в чем не ограничивали – ни в еде, ни в напитках, ни в развлечениях. В том числе и плотских: если до этого момента девственность являлась обязательным требованием, то теперь, наоборот, от нее настоятельно предлагалось и даже предписывалось избавиться. Возможности для этого предоставлялись неограниченные, ибо сие являлось важнейшим атрибутом божества весеннего плодородия. Если роль бога исполнял юноша, он мог призвать на свое ложе любую девушку или даже замужнюю женщину, и ту, разумеется, с ее согласия, но его обычно давали легко, приводили в храм. В случае, если ксочимикуи была девушкой, она могла призвать к себе любого мужчину и предложить себя ему.
Бывало, что избранные представлять божество не имели склонности к подобным занятиям. Девушку в таком случае насильно лишал невинности верховный жрец Шипе-Тотека, а желающего сохранить целомудрие юношу связывали, и им занималась прислужница храма. Коль скоро первое знакомство с такого рода утехами не пробуждало в избранных интереса, они подвергались неоднократному насилию, причем, когда жрецы или служительницы храмов утомлялись, их могли заменить все желающие. Тут уж недостатка не наблюдалось: и верующие, желавшие совокупиться с богом или богиней, и сладострастники, радующиеся любой возможности утолить свое вожделение, и бездетные женщины и бесплодные мужчины, надеявшиеся с божественной помощью стать полноценными.
Да, ваше преосвященство, там имели место все мыслимые формы и способы соитий, не допускалось лишь совокупление бога с мужчиной или богини с женщиной. Такие акты, уже по своей природе исключавшие оплодотворение, были противны самому духу плодородия, а следовательно, и Шипе-Тотека.
В день церемонии толпу сначала развлекали выступлениями карликов, жонглеров, токотин и тому подобным, а затем зрителям являлся Шипе-Тотека. Молодой человек или девушка, одетые в божественное одеяние, сочетающее в себе сухие оболочки початков маиса и яркие, свежие, зеленые побеги. На голове у избранного красовался расходящийся широким веером венец из ярких перьев, на плечи была накинута струящаяся накидка, на ногах – золоченые сандалии. «Божество» торжественно обносили вокруг Сердца Сего Мира на великолепных носилках, под звуки музыки и восторженные крики, в то время как избранник (или избранница) осыпал толпу семенами и маисовыми зернами. Потом процессия приближалась к стоявшей в углу площади невысокой пирамиде Шипе-Тотека, и все звуки – музыка, пение, барабанный бой и возгласы ликования – мгновенно стихали. Воплощение божества усаживали у подножия храмовой лестницы, и двое жрецов медленно снимали с него праздничное облачение, пока избранник не представал перед зрителями (многие из которых уже были хорошо знакомы с его или с ее телом) совершенно нагим. Жрецы вручали ему связку из двадцати маленьких тростниковых флейт и, встав по обеим сторонам от избранника, начинали вместе с ним подниматься по ступеням. На каждой ступени «божество» извлекало из одной флейты трель, после чего ломало инструмент. Дольше и печальнее всего флейта звучала на последней ступени, но сопровождающие жрецы не позволяли затягивать мелодию: с окончанием трели последней флейты подобало завершиться и жизни Шипе-Тотека.
Другие жрецы, уже поджидавшие на вершине, укладывали жертву на стоявший там каменный алтарь. Двое служителей выхватывали обсидиановые кинжалы, и пока один вскрывал ксочимикуи грудь и вырывал оттуда трепещущее сердце, другой отделял все еще моргавшую и шевелившую губами голову. Ни один другой наш обряд не предусматривал обезглавливания жертвы. Собственно говоря, и в данном случае это делалось из соображений вовсе не мистических или ритуальных, а из сугубо практических: с обезглавленного трупа легче снять кожу.
Свежевание происходило не на глазах у толпы: расчлененное тело торопливо уносили в храм, где за дело брались умелые, поднаторевшие в этом жрецы. Кожу головы снимали сзади, с загривка к макушке, веки отрезали, скальп и кожу лица сдирали с черепа. На туловище, от заднего прохода до обрубка шеи, делался продольный разрез, но кожу рук и ног снимали чулком, тщательно и осторожно, чтобы сохранить форму. Если ксочимикуи была молодой девушкой, мягкую плоть, наполнявшую ее груди и ягодицы, оставляли нетронутой для сохранения округлости, ну а у юноши оставляли на месте болтающийся тепули и ололтин.
Самый маленький жрец Шипе-Тотека (при этом храме непременно имелся коротышка) быстро сбрасывал с себя одежду и, обнаженный, быстро облачался в кожу жертвы, благо та с внутренней стороны еще оставалась влажной и скользкой и ему было нетрудно просунуть руки и ноги в своего рода полые трубки. Ступни обрубали, ибо они мешали бы жрецу исполнять танец, но кисти мертвеца оставляли на месте, чтобы те болтались и хлопали вместе с ладонями жреца. Дабы снятая с торса кожа держалась на танцоре, вдоль разреза протыкали отверстия, через которые пропускали шнурок. Потом жрец, как маску, надевал волосы и лицо мертвого избранника, это все тоже зашнуровывалось на затылке, оставляя жрецу возможность смотреть через пустые глазницы и петь, шевеля мертвыми губами. Все следы крови с внешней стороны костюма удаляли губкой, а щель в коже груди плотно зашивалась.
На все это уходило ненамного больше времени, чем занял мой рассказ вашему преосвященству. Зрителям казалось, что умерщвленный Шипе-Тотека, едва покинув алтарный камень, вновь живым появляется на пороге храма. Правда, теперь он изображал старца, согбенного и опиравшегося для поддержки на две поблескивавшие бедренные кости, единственные части тела ксочимикуи, используемые во время церемонии. При его появлении начинали бить барабаны, и под этот бой Освежеванный в Любви медленно распрямлялся, словно старик, к которому постепенно возвращается молодость. Пританцовывая, он спускался по лестнице, и с каждой ступенью танец его становился все более неистовым и сопровождался все более высокими прыжками и невероятными движениями безумца. При этом танцующий размахивал вокруг бедренными костями, а все зеваки стремились протиснуться поближе, чтобы «возродившийся бог» стукнул их костями в знак благословения. Перед этой церемонией маленький жрец всегда напивался и доводил себя до исступления поеданием множества грибов, именуемых «плоть богов». Жрец был вынужден это делать, ибо в оставшейся части церемонии на его долю выпадала самая напряженная и трудная роль. Очень трудная, ибо его неистовый танец продолжался последующие пять дней и ночей и прерывался, лишь когда исполнитель терял сознание. Разумеется, со временем пляска становилась менее буйной и теряла первоначальную самозабвенность, ибо содранная кожа, подсыхая, съеживалась. К концу пятого дня она, превратившись в облепившую жреца корку, начинала трескаться, а солнце и воздух придавали ей болезненно-желтый цвет, по какой причине ее и именовали Золотым Облачением. Да и вонь от нее к тому времени шла такая, что никто на площади уже не решался приблизиться к Шипе-Тотека за благословением...
В связи с тем, что описанные мною ужасы вновь задели чувствительную натуру его преосвященства, вынудив его покинуть нас, я, разумеется, господа писцы, со всем подобающим почтением позволю себе отметить одну странную закономерность. Его преосвященство обладает примечательной способностью приходить к нам именно тогда, когда речь заходит о вещах и событиях, наиболее неприятных или оскорбительных для его слуха.
Должен признаться, что в последующие годы я не раз глубоко сожалел о том, что когда-либо лишал Цьянью, обладавшую веселым, жизнерадостным характером и любознательностью, возможности где-то побывать или на что-то посмотреть. Но эти сожаления, самые глубокие и искренние, не относились к запрету увидеть праздник Шипе-Тотека.
Уж не знаю, есть ли в этом моя заслуга, но с молоком у Цьяньи все было в порядке. Так что малютка Кокотон быстро росла и хорошела, становясь миниатюрной копией своих матери и тетушки. Я в ней души не чаял, да и не я один. Как-то раз, когда Бью и Цьянья взяли дитя с собой на рынок, один прохожий, увидев улыбавшуюся Кокотон, попросил у женщин разрешения запечатлеть ее улыбку в глине. То был один из тех странствующих скульпторов, которые превращают заранее заготовленные шаблоны во множество терракотовых статуэток и дешево продают их потом в деревнях небогатым поселянам. Тут же, на месте, использовав заготовку, он ловко вылепил миниатюрный портрет Кокотон, с которого немедленно сделал шаблон для штамповки дубликатов. Оригинал художник преподнес Цьянье в подарок. Не могу сказать, что сходство было идеальным, тем паче что он изобразил малышку в головном уборе тотонаков, но я сразу узнал широкую заразительную улыбку своей дочери и ее щечки с ямочками. Уж не знаю, сколько всего было сделано копий, но долгое время потом можно было повсюду встретить маленьких девочек, игравших с этой куклой. Даже некоторые взрослые покупали фигурку, считая ее изображением смеющегося юного бога Шочипили, Владыки Цветов, или счастливой богини Шилонен, Юной Матери Маиса. Я бы не удивился, узнав, что несколько таких статуэток, пережив все бурные события, уцелели до наших дней, но случись мне однажды найти такую и снова увидеть улыбку моих жены и дочери, это разбило бы мое сердце.
Ближе к концу первого года жизни малышки, когда у нее уже появились молочные зубки, ее по вековой традиции мешикатль отняли от материнской груди. Когда девочка кричала, требуя, чтобы ее покормили, ее губки все чаще встречали не сладкую грудь Цьяньи, но горьковатый, вяжущий лист одного из кактусов. И постепенно Кокотон все с большей готовностью соглашалась заменить материнское молоко кашицей атоли, пока наконец не отвыкла от груди вовсе. Когда это случилось, Бью Рибе заявила, что теперь наша семья вполне сможет обойтись и без ее помощи. Если Цьянья устанет или займется другими делами, заботы о малышке легко сможет взять на себя Бирюза. Я снова предоставил Бью сопровождающих – тех же самых семерых солдат, которых уже стал рассматривать как свою маленькую личную армию, и проводил ее и воинов до самой дамбы.
– Надеюсь, сестрица Ждущая Луна, что ты навестишь нас снова, – сказал я, хотя большая часть дня и без того прошла в прощаниях. Бью получила уйму подарков, и сестры пролили озеро слез.
– Я явлюсь, когда буду нужна... или желанна, – ответила она. – После того как я отлучилась из Теуантепека один раз, во второй будет уже легче. Но не думаю, чтобы надобность во мне возникала очень уж часто. Никто не любит признавать свои ошибки, Цаа, но честность вынуждает меня сказать: моей сестре действительно достался хороший муж.
– На самом деле это не так уж и сложно, – отозвался я. – Лучший из мужей тот, у кого самая лучшая жена.
– Тебе-то откуда знать, у тебя ведь только одна жена? – промолвила она, возвращаясь к своей обычной манере разговора. – Скажи мне, Цаа, неужели ты никогда не испытывал даже мимолетного влечения... к какой-либо другой женщине?
Я весело рассмеялся:
– Испытывал, и не раз! Я же нормальный мужчина, а вокруг помимо моей жены столько привлекательных женщин! Взять хоть тебя, Бью. Да и не в одной только красоте дело. Мне всегда было любопытно заглянуть к другим женщинам в душу: что там скрывается? Но за почти девять лет семейной жизни дальше мыслей дело никогда не заходило, а стоило мне лечь рядом с Цьяньей, и мысли рассеивались так быстро, что я даже не успевал их устыдиться.
Тут я хочу заметить, почтенные братья, что мои наставники в христианской вере объяснили мне, что распутная мысль может быть такой же греховной, как и самое сладострастное прелюбодеяние. Но в то время я был язычником, как и все мы, а потому помыслы о грехах, которые я не поощрял и не совершал, ничуть меня не беспокоили.
Бью глянула на меня искоса своими великолепными глазами и сказала:
– Ты уже возведен в ранг благородного воителя-Орла, и теперь тебе осталось лишь добавить «цин» к своему имени. Ну а знатному человеку нет нужды подавлять даже тайные желания. Цьянья не стала бы возражать против сана Первой Супруги, разумеется, если бы одобрила выбор остальных. Ты мог бы иметь всех женщин, которых только пожелаешь...
В ответ я улыбнулся:
– Мне вполне достаточно одной женщины, да и имя у нее самое подходящее. Всегда.
Бью кивнула, зашагала по дамбе прочь и, так больше и не оглянувшись, скрылась из виду.
В тот день по всей дамбе – и со стороны острова, и возле находившейся посреди ее крепости Акачинанко, и на юго-западном побережье материка – кипела работа. Люди возводили каменный акведук, чтобы улучшить снабжение города пресной водой.
Уже долгое время население земель нашего озерного края увеличивалось так быстро, что все расположенные вокруг Тескоко города Союза Трех оказались чудовищно перенаселены.
Больнее всего это, конечно, ударило по Теночтитлану, поскольку город находился на острове и расширяться ему было некуда. Именно поэтому, когда провинцию Шоконочко присоединили к Мешико, многие горожане, забрав свои семьи, имущество и слуг, перебрались туда. Это навело юй-тлатоани на мысль о поощрении других переселенцев.
К тому времени стало очевидно, что гарнизон Тапачтлана уже достаточно силен для отражения любых попыток воинственных соседей вторгнуться в Шоконочко, поэтому Мотекусома-младший был отозван из этой провинции. Как я уже объяснял, у Ауицотля имелись свои причины держать племянника на расстоянии, но у него хватало ума не пренебрегать организаторскими способностями этого человека, но всемерно их использовать. Местом нового назначения Мотекусомы стал Телолоапан, ничем не примечательное поселение между Теночтитланом и Южным океаном, которое Ауицотль приказал превратить в надежный оплот Мешико и процветающий город по образцу Тапачтлана.
Для этой цели Мотекусома получил под начало внушительный военный отряд и большое количество переселенцев, как семейных, так и одиноких. Наверное, многие из них не были довольны своей жизнью в Теночтитлане, а кто-то, возможно, и просто подчинился приказу Чтимого Глашатая сменить место жительства. В любом случае, они не прогадали, ибо, получив из рук Мотекусомы щедрые земельные наделы в Телолоапане и окрестностях, они под его руководством быстро превратили эту захолустную дыру во вполне приличный город. Как только в Телолоапане возвели надежную крепость, а население смогло кормиться собственными трудами, Мотекусома-младший снова был направлен в другое место. Ауицотль переводил его из одной мелкой деревушки в другую: Оцтоман, Алауицтлан – всех названий мне и не упомнить, но эти населенные пункты были расположены на самых дальних границах нашего Союза, Укрепляя отдаленные колонии, Ауицотль решал сразу три задачи. Во-первых, боролся с перенаселенностью городов нашего озерного края, отправляя туда переселенцев из Тескоко, Тлакопана и из других мест, в том числе и из самого Теночтитлана. Во-вторых, на границах наших владений возникали надежные опорные пункты. А в-третьих, энергичный и способный Мотекусома постоянно находился при деле, причем вдали от столицы у него не было возможности плести интриги против своего дяди.
Но переселение, сколь бы активно оно ни осуществлялось, могло лишь замедлить, но не остановить рост населения Теночтитлана. При этом главной потребностью огромного города оставалось значительное увеличение снабжения свежей чистой водой. Бесперебойная подача воды была налажена еще Мотекусомой Первым, который более полной вязанки лет тому назад провел в Теночтитлан акведук от чистых источников Чапультепека и одновременно возвел Великую Дамбу для защиты города от наводнений, вызываемых ветрами. Беда в том, что источники Чапультепека было невозможно убедить давать больше воды, чем они давали, а потребности города непрерывно возрастали. Во всяком случае, наши жрецы и кудесники использовали все возможные средства убеждения богов, однако их старания пропали втуне. Именно тогда Ауицотль и решил найти новый источник воды и послал все тех же жрецов, магов, а с ними и нескольких мудрецов из своего Совета обследовать прибрежные материковые земли. Боги ли им помогли, или что, но только они каким-то чудом обнаружили совсем недалеко от города неизвестный доселе источник, и Чтимый Глашатай сразу же вознамерился построить новый акведук. Поскольку этот, только что обнаруженный близ Койоакана источник оказался еще более мощным, чем на Чапультепеке, Ауицотль даже надеялся, используя его напор, устроить в Сердце Сего Мира фонтаны.
Правда, не все разделяли его энтузиазм, и нашелся человек, который настоятельно советовал проявить осторожность. Чтимый Глашатай Несауальпилли из Тескоко, когда Ауицотль пригласил того посмотреть новый источник и акведук, который он тогда только что начал возводить, выказал скептицизм. Моего мнения, разумеется, никто не спрашивал, а сам я, когда произошел разговор двух правителей, надо думать, возился дома со своей малышкой. Так что воспроизвести этот диалог могу лишь с чужих слов.
Так вот, говорят, что Несауальпилли якобы предполагал, что избыток воды может породить для города не меньше сложностей, чем ее нехватка, в доказательство чего приводил примеры из истории:
– Ныне, как и многие вязанки лет назад, Теночтитлан представляет собой окруженный водой остров, но так было не всегда. Давние предки мешикатль, впервые поселившиеся здесь, явились сюда с материка по суше. Да, наверняка им пришлось увязать в трясине и шлепать по лужам, но тем не менее они именно пришли, а не приплыли в Теночтитлан на лодках или плотах. К западу от нынешнего города, там, где теперь плещется озеро, находилась топь – огромный, поросший осокой заболоченный луг. Нынешний остров являлся всего лишь клочком более-менее сухой земли на краю трясины. Обосновавшиеся здесь люди, дабы наладить сообщение между строившимся городом и материком, проложили первые тропы, первоначально представлявшие собой лишь полоски утоптанной глины, чуть-чуть поднимавшиеся над уровнем топи. Впоследствии мешикатль уложили поверх глинобитных троп несколько слоев утрамбованного гравия и бревен, вбили сваи и уже на этом фундаменте возвели парапеты трех насыпных дорог, сохранившихся до сих пор. Эти насыпи, или дамбы, воспрепятствовали стоку болотных вод в озеро, уровень которого оказался несколько ниже, и вода в болоте стала подниматься.
Мешикатль это пошло на пользу. Зловонная жижа, вязкая трясина, заросли осоки и стоячие лужи – настоящие рассадники москитов и мошкары – оказались скрытыми водой. Конечно, если бы подъем воды продолжался бесконечно, она рано или поздно накрыла бы и сам остров, а заодно с ним – и улицы Тлакопана и других материковых городов. Но насыпные дороги имели проемы, перекрытые мостами, а на самом острове было прорыто множество каналов для прохода каноэ. Эти водоотводы обеспечивали сброс избыточных вод в озеро Тескоко, что с восточной стороны острова, так что искусственно созданная лагуна поднималась только до определенного уровня и не выше. До сих пор это срабатывало, – сказал Ауицотлю Несауальпилли. – Но теперь ты намереваешься перебросить с материка на остров значительную массу воды. Она должна куда-то уходить.
– Она поступит в город и будет употреблена горожанами на свои нужды, – раздраженно ответил Ауицотль. – Для питья, мытья, стирки...
– Вообще-то для потребления нужно очень мало воды, – возразил Несауальпилли. – Даже если твои люди будут пить ее весь день напролет, они ведь должны еще и мочиться. Я повторяю: вода никуда не исчезает; если она куда-то поступает, то должна и как-то отводиться. И куда ей, интересно, деться, кроме отгороженного участка озера? Ее уровень может подняться быстрее, чем избыток воды будет сбрасываться через твои каналы и проемы в дамбах в нижнее озеро Тескоко.
Надуваясь и багровея, Ауицотль требовательно спросил:
– Так ты предлагаешь мне забыть о том, что боги подарили нам новый источник чистой воды? И пусть Теночтитлан изнывает от жажды, делать ничего не надо! Так, по-твоему?
– Возможно, это было бы самым благоразумным решением. Но поскольку оно для тебя, скорее всего, неприемлемо, я лишь предлагаю построить акведук таким образом, чтобы приток воды можно было контролировать и в случае необходимости перекрывать.
– Чем старше ты становишься, – прорычал Ауицотль, – тем больше смахиваешь на трусливую старую каргу. Если бы мы, мешикатль, прислушивались к советам осторожных бездельников, мы бы никогда ничего не добились.
– Старина, ты ведь сам поинтересовался моим мнением, и я просто сообщил тебе, что думаю на сей счет, – промолвил Несауальпилли. – Но последнее слово за тобой, и недаром, – тут он улыбнулся, – тебя назвали Водяное Чудовище.
Примерно через год после этого акведук Ауицотля был построен, и прорицатели приложили немало усилий, чтобы выбрать подходящий день для его освящения и торжественного пуска. Я хорошо запомнил, что это случилось в день Тринадцатого Ветра, ибо событие оказалось достойным даты, на которую выпало.
Толпа начала собираться задолго до начала церемонии, ибо предстоящее торжество по своей значимости почти не уступало состоявшемуся двенадцатью годами ранее освящению Великой Пирамиды. Но конечно, всем этим людям нечего было рассчитывать попасть на дамбу Койоакан, где предстояло свершиться важнейшим церемониям. Множеству простолюдинов, столпившихся на южной окраине города, пришлось толкаться, отпихивать друг друга локтями и вставать на цыпочки, чтобы хоть одним глазком увидеть Ауицотля, его жен, советников, высшую знать, жрецов, благородных воителей и других важных особ, которым предстояло приплыть из дворца на каноэ и занять свои места на дамбе между городом и крепостью Акачинанко. К сожалению, мне, как и всем прочим воителям-Орлам, необходимо было находиться среди этих высших сановников. Цьянья тоже хотела пойти посмотреть праздник и даже взять с собой Кокотон, но я снова отговорил ее.
– Даже если бы мне удалось устроить так, чтобы вы могли находиться где-то поблизости и что-то увидеть, – сказал я, втискиваясь в свой стеганый, обшитый перьями панцирь, – не забудь, что дело будет происходить на дамбе, продуваемой ветрами и обдаваемой брызгами. А толчея там начнется такая, что можно упасть или уронить малышку, которую еще чего доброго затопчут.
– Пожалуй, ты прав, – согласилась Цьянья, не особо огорчившись и невольно прижав маленькую дочку к себе. – К тому же наша Кокотон слишком хорошенькая, чтобы ее тискал кто-нибудь кроме нас.
– Кломе нас, – с важным видом повторила за матерью Кокотон, выскользнула из ее объятий и потопала на другой конец комнаты. В два года наша дочь имела уже изрядный словарный запас, но не трещала, как белка, и редко произносила фразы длиннее, чем из пары слов.
– Когда Хлебная Крошка только что родилась, она показалась мне страшненькой, – сказал я, продолжая одеваться. – Зато теперь видно, что она такая красивая, что дальше хорошеть уже просто некуда. А жаль, потому что, выходит, со временем она может становиться лишь хуже. Чего доброго, когда придет время выдавать девочку замуж, она будет выглядеть как дикая свиноматка.
– Дикая свиноматка, – согласилась Кокотон из своего уголка.
– Что за глупости! – решительно возразила Цьянья. – Ребенок, если он вообще красив, достигает своей полной младенческой красы к двум годам, а потом продолжает оставаться прелестным – с небольшими изменениями, конечно, – пока не достигнет пика детской красоты годам к шести. Маленькие мальчики обычно на этом и останавливаются, но маленькие девочки...
Я что-то недовольно пробурчал.
– Я хочу сказать, что мальчики с возрастом уже не становятся красивыми. Они могут быть привлекательными, милыми, мужественными, но никак не прекрасными. Во всяком случае, в подавляющем большинстве. Но беды в этом никакой нет, потому как женщины не очень-то любят писаных красавчиков.
В ответ я сказал, что, коли так, мне остается лишь порадоваться своей безобразной внешности. А поскольку жена и не подумала меня поправить, напустил на себя шутливо-меланхолический вид.
– В следующий раз девочки расцветают годам к двенадцати, – продолжила Цьянья, – как раз перед первыми своими месячными. Правда, во время взросления они делаются нескладными и капризными, так что восхищаться ими не приходится, но зато потом расцветают снова, и годам к двадцати, да, именно к двадцати, девушка становится намного красивее, чем была раньше или будет потом.
– Знаю, – сказал я. – Тебе было как раз двадцать, когда я полюбил тебя и взял в жены. И ты не постарела с тех пор ни на день.
– Льстец и обманщик, – с улыбкой отозвалась жена. – У меня уже появились морщинки вокруг глаз, и грудь не так упруга, как тогда, и живот растянулся при родах, и...
– Не важно, – сказал я. – Твоя красота в двадцать лет произвела на меня такое впечатление, что запечатлелась в моем сердце раз и навсегда. Я никогда не увижу тебя другой, даже если люди скажут мне: «Эй, старый дурень, чего ты загляделся на эту старую каргу?», я все равно не смогу им поверить.
Я на некоторое время замолчал, ибо выстраивал в уме фразу на ее родном языке, а потом произнес:
– Рицалаци Цьянья чуипа чии, чуипа чии Цьянья. – Это было своего рода игрой слов и означало примерно следующее: «Если помнишь Всегда в двадцать, ей будет двадцать всегда».
– Цьянья? – нежно переспросила супруга.
И я заверил ее:
– Цьянья.
– Как приятно, – сказала она, и взор ее затуманился, – думать, что, пока я с тобой, я вечно буду оставаться двадцатилетней девушкой. Или даже если когда-нибудь нам придется расстаться, то для тебя, где бы ты ни находился, я так и буду двадцатилетней. – Тут жена моргнула, глаза ее засияли снова, и, улыбнувшись, она промолвила: – Цаа, я, кажется, забыла сказать тебе, что на самом деле ты вовсе не безобразен.
– Вовсе безоблазен, – подытожила моя любимая и любящая дочь.
Мы с женой прыснули, разрушив волшебство момента.
– Мне пора идти, – сказал я, взяв свой щит.
Цьянья поцеловала меня на прощание, и я вышел из дома. Стояло раннее утро. У канала, в конце нашей улицы, мусорщики сгребали накопившиеся отходы в большую кучу. Уборка городских отходов считалась самой черной работой в Теночтитлане, и занимались ею только окончательно опустившиеся, несчастные бедолаги – безнадежные калеки, неизлечимые пьяницы и тому подобные. Отвернувшись, ибо зрелище это не радовало, я двинулся в другом направлении – вверх по склону и к главной площади – и уже прошел некоторое расстояние, когда меня вдруг окликнула Цьянья. Я обернулся и поднял топаз. Она вышла из дома, еще раз помахала мне на прощание рукой и, прежде чем вернуться обратно, что-то выкрикнула. Возможно, это было что-то сугубо женское: «Расскажешь мне потом, как была одета Первая Госпожа!» Или что-то продиктованное супружеской заботой: «Постарайся не слишком промокнуть!» Или просто что-то очень сердечное: «Помни, что я люблю тебя!»
Что бы то ни было, я не услышал этого, ибо слова Цьяньи унес порыв ветра.
Поскольку обнаруженный на материке источник Койоакан находился на возвышенности, выше уровня улиц Теночтитлана, акведук спускался оттуда под уклон. В ширину и глубину водовод превосходил размах рук, а в длину достигал почти двух долгих прогонов. Он встречался с дамбой как раз в том месте, где стояла крепость Акачинанко, и там сворачивал налево, параллельно парапету насыпи, прямо в город. Уже на острове основное русло разветвлялось, чтобы питать более мелкие каналы и наполнять накопительные резервуары, устроенные в каждом квартале, а также сооруженные недавно на главной площади города фонтаны.
Как ни были недовольны Ауицотль и его строители, они все-таки приняли во внимание совет Несауальпилли о том, что поток воды обязательно нужно регулировать. Именно поэтому на том месте, где акведук соединялся с дамбой, а также там, где он входил в город, в стенах каменного желоба были проделаны вертикальные пазы, в которые вставлялись дощатые перемычки, кривизна которых повторяла изгиб на дне желоба. В случае необходимости эти деревянные заслонки можно было опустить, чтобы перекрыть ток воды.
Это новое сооружение предстояло посвятить богине прудов, речек и других водоемов – Чальчиутликуэ, имевшей лицо лягушки. Не слишком кровожадная, она требовала значительно меньше человеческих жертвоприношений, чем некоторые другие боги, так что особого кровопролития в тот день не ожидалось. На дальнем конце акведука, у источника, который находился вне поля нашего зрения, собралась другая группа жрецов, знати и воинов, охранявших собранных для церемонии пленников. Поскольку нам, мешикатль, в последнее время было недосуг участвовать даже в Цветочных Войнах, пленники эти по большей части являлись обычными разбойниками, захваченными Мотекусомой в тех областях, где он устанавливал порядок, и отправленными в Теночтитлан именно с этой целью.
На насыпной дороге, где (вместе со мной и несколькими сотнями других участников торжества, придерживавших свои перья, накидки и прочие уборы, чтобы их не сорвал и не унес восточный ветер) стоял Ауицотль, звучали молитвы, песнопения и заклинания, произнесение которых жрецы сопровождали глотанием живых лягушек, головастиков и прочих водяных тварей, угодных Чальчиутликуэ. Потом зажгли жаровни, и жрецы окропили пламя каким-то тайным, им одним известным составом, породившим клубы голубоватого дыма. Хотя порывистый ветер и сносил дым в сторону, столб его поднялся достаточно высоко для того, чтобы этот сигнал стал виден другой группе участников церемонии, стоявшей возле источника Койоуиакан.
По этому сигналу находившиеся там жрецы бросили первого пленника в ложе на своем конце акведука, вспоров его тело от горла до паха, и оставили там, чтобы кровь ксочимикуи стекала в желоб. За первым пленником последовал второй, за вторым – третий. Когда кровь начинала иссякать, труп извлекали из водовода, чтобы освободить место для новых, только что распотрошенных. Я не знаю, сколько ксочимикуи было убито и сброшено туда, прежде чем струйка их стекавшей по акведуку крови стала видна ожидавшему Ауицотлю и его жрецам, издавшим при виде ее приветственный возглас. Тогда в жаровни добавили другое вещество, и дым окрасился в красный цвет. Для жрецов на том конце водовода это было сигналом закончить резню.
Теперь пришло время самому Ауицотлю совершить важнейшее жертвоприношение дня, для которого подготовили удивительно подходящую жертву – маленькую девочку лет четырех, одетую в водно-голубой наряд со вшитыми в него зелеными и голубыми самоцветами. Она была дочерью птицелова, утонувшего незадолго до ее рождения, поскольку его акали перевернулся. Девочка родилась с лицом, очень похожим на мордочку лягушки – или богини Чальчиутликуэ. Овдовевшая мать девочки истолковала эти связанные с водой совпадения как знамения от богини и добровольно отдала дочь для церемонии.
Жрецы запели еще громче, а Чтимый Глашатай поднял маленькую девочку и бросил ее в каменное ложе перед собой. Еще несколько жрецов стояли на изготовку рядом с другой жаровней, и как только Ауицотль прижал спину девочки к дну желоба и потянулся за обсидиановым ножом, висевшим у него возле пояса, дым жаровни снова сменил цвет, на сей раз став зеленым. По этому сигналу жрецы у начала акведука отворили затор и пустили воду. Сразу скажу, что не знаю, как именно они это сделали – вынув какую-то затычку, разрушив последнюю земляную перемычку, откатив в сторону камень или предприняв что-то еще.
Сразу после этого вода, хотя поначалу и окрашенная красным, в отличие от тонкой струйки крови сразу же хлынула бурным потоком, ринувшись вперед, словно стремительное водяное копье с наконечником из бурлящей розовой пены. Там, где потоку при переходе на дамбу пришлось делать резкий поворот, часть воды выплеснулась наружу, захлестнув парапет, словно буйная морская волна. Однако и в желобе ее еще осталось достаточно для того, чтобы, обогнув угол, застать Ауицотля врасплох. Он только что вскрыл грудь ребенка и уже ухватил сердце, но так и не успел отсечь присоединяющиеся к нему сосуды, ибо стремительный поток выхватил у него из рук еще извивавшуюся жертву и унес прочь. Напор воды разорвал сосуды, оторвав девочку от собственного сердца. Оно осталось в руках у ошеломленного правителя, тогда как тельце малышки уже понесло к городу, словно выпущенную из духовой трубки дробинку.
Все мы, находившиеся на дамбе, застыли неподвижно, как изваяния, и только перья наших головных уборов, накидки и знамена развевались и полоскались на сильном ветру. Потом я почувствовал, что ноги мои промокли, и обнаружил, что стою по щиколотку в воде, как и все остальные. Жены Ауицотля завизжали от страха. Мостовая под нами заполнилась водой, которая быстро прибывала. При этом на изгибе желоба вода перехлестывала через край так, что, казалось, вся крепость Акачинанко дрожала под ее напором.
Тем не менее большая часть воды продолжила бешено мчаться по руслу дальше к городу – с такой силой, что когда она ударила по разветвлявшимся там каналам, то этот удар был подобен натиску мощного прибоя, обрушившегося на пологий берег. Через кристалл я увидел плотно сбившуюся толпу насмерть перепуганных зевак, которых собралось там слишком много, чтобы они теперь могли рассеяться и быстренько разбежаться. По всему городу новые водоотводы и резервуары стремительно переполнились, и вода, перелившись через их края и увлажнив улицы, хлынула в городские каналы. Струи новых фонтанов на площади взметнулись так высоко, что вода не попадала обратно, в окружающие их бассейны, но разливалась и растекалась по всей площади Сердца Сего Мира.
Жрецы Чальчиутликуэ возвысили голоса в молитвах, умоляя богиню унять разбушевавшуюся воду, но Ауицотль, рявкнув, велел им умолкнуть. А затем начал выкрикивать:
– Йолкатль! Папакуилицтли!.. – Это были имена тех людей, которые обнаружили новый источник.
Названные, уже по колено в воде, послушно пошлепали на зов, прекрасно понимая, что их ждет. Один за другим откидывались они назад через парапет, а Ауицотль и жрецы без ритуальных слов или жестов вскрывали грудные клетки этих людей, вырывали их сердца и швыряли в бешено мчавшуюся воду. Восемь человек, среди них двое старых уважаемых членов Изрекающего Совета, пали жертвой этого акта отчаяния, но все было бесполезно.
– Опустить заслонки! – взревел Ауицотль.
Несколько воителей-Стрел метнулись к парапету. Схватив деревянную панель, предназначенную для того, чтобы отсекать поток воды, они вставили ее в пазы, однако, хотя и налегли на дощатый щит всем своим весом, протолкнуть его до дна желоба так и не смогли. Как только изогнутый нижний край опустился в воду, мощь водного потока перекосила заслонку и ее заклинило в пазах. На какой-то момент на дамбе воцарилась тишина, нарушаемая плеском и бульканьем воды, уханьем восточного ветра, поскрипываньем осажденной волнами деревянной заглушки и приглушенным гомоном быстро рассеивавшейся у городской оконечности водовода толпы. Наконец, признав свою неспособность исправить положение прямо на месте, промокший, как и остальные, насквозь Чтимый Глашатай громко, чтобы все слышали, обратился к благородным воителям:
– Мы должны вернуться в город, чтобы посмотреть, какой нанесен ущерб, и сделать все возможное, дабы унять панику. Воители-Стрелы и воители-Ягуары пойдут со мной. Надо собрать все акали на острове и немедленно поплыть в Койоакан. Народ там, скорее всего, еще продолжает праздновать. Делайте что хотите, но возле источника поток должен быть остановлен или отведен в сторону. Воители-Орлы останутся здесь. – Он указал туда, где акведук соединялся с дамбой. – Сломать водовод! Немедленно! Вот в этом месте!
Не без сумятицы и столпотворения находившаяся на дамбе толпа начала расходиться. Ауицотль, его жены и свита, жрецы и знать, воители-Стрелы и воители-Ягуары – все пошлепали к Теночтитлану. Люди старались идти побыстрей, однако вода уже доходила им почти до самых бедер. Мы, воители-Орлы, остались, растерянно взирая на скрепленную надежным раствором каменную кладку русла. Два-три воина попытались разрубить камень своими мечами, но тщетно: лишь щепки и осколки обсидиана летели в разные стороны. Мечи быстро пришли в полную негодность, так что их пришлось выбросить в озеро.
Потом один уже немолодой благородный воитель прошел немного вперед по дамбе, всматриваясь через парапет, и, обернувшись к нам, крикнул:
– Кто из вас умет плавать?
Таких было большинство. Он указал вперед и сказал:
– Вот там, на повороте, напор таков, что деревянные сваи и балки дрожат от напряжения. Может быть, если нам удастся подрубить их, сооружение не выдержит давления воды и развалится.
Именно так мы и поступили. Я и восемь моих товарищей, выбравшись из промокших, слипшихся доспехов, взяли уцелевшие макуауитль и через парапет попрыгали в воду. Как я уже говорил, глубина озера к западу от дамбы была не слишком велика.
Если бы нам пришлось держаться на плаву, расщепить балки оказалось бы невозможно, но, к счастью, в том месте вода доходила лишь до плеч. Впрочем, задачу нам все равно предстояло решить нелегкую: используемые в качестве опор древесные стволы, чтобы предотвратить гниение, были пропитаны чапопотли; в результате древесина стала упругой и не поддавалась лезвиям мечей. Мы трудились всю ночь напролет, и лишь с восходом солнца одна из массивных свай содрогнулась и издала оглушительный треск. В тот момент я находился под водой и чуть не оглох от сотрясения, но мне все же удалось вынырнуть на поверхность. Тут нам крикнули, чтобы все возвращались и взбирались на дамбу.
Мы поднялись как раз вовремя. Свая под той частью акведука, которая сворачивала в сторону от дамбы, уже ходила ходуном и вскоре со страшным скрежетом проломилась прямо на месте изгиба. Некоторое время конец потерявшего часть опоры водовода сотрясался, как хвостовая погремушка змеи коакечтли. Потом сваи, подрубленные нами под участком длиной примерно в десять шагов, подались, пролет покосился набок и, подняв огромную волну, упал в воду. Из неровного края обломившегося желоба все еще изливалась вода, но теперь она попадала только в озеро, а не устремлялась в Теночтитлан. На дамбе, где мы находились, вода убывала прямо на глазах.
– Пошли-ка теперь по домам, – сказал один из моих собратьев-Орлов и со вздохом добавил: – Будем надеяться, что мы сумели спасти жилища, куда собираемся вернуться.
Забегая вперед, скажу, что вода, хлынувшая в Теночтитлан и затопившая некоторые районы города, поднявшись там до уровня человеческого роста и простояв большую часть дня и целую ночь, причинила столице немалый урон. Некоторые дома, возведенные прямо на земле, просто рассыпались, другие же, стоявшие на сваях, оказались опрокинутыми и сброшенными со своих опор, причем многие их жители получили травмы, а около двух десятков горожан – главным образом дети – утонули, были раздавлены обломками или пропали без вести. Однако трагедия коснулась лишь тех районов города, где вода переполнила водоводы и резервуары; а как только мы, воители-Орлы, разрушили акведук, она мигом ушла в каналы.
Однако не успели жители Теночтитлана разобраться с последствиями первого, не столь уж страшного наводнения, как случился другой, еще худший потоп. Мы лишь разрушили часть акведука, но не перекрыли воду. Это предстояло сделать тем, кого Ауицотль послал на материк, но они не смогли прекратить поступление воды из источника, и она продолжала изливаться в часть озера, ограниченную западной и южной дамбами. Да вдобавок еще сильный восточный ветер не давал избытку воды уйти через проходы в дамбах и городские каналы в большое озеро Тескоко. Каналы наполнились, вода, перехлестнув через край, разлилась по улицам, и Теночтитлан из города-острова превратился в огромное скопление зданий, выступавших над обширным водным пространством.
Едва вернувшись с неудачной церемонии освящения, Ауицотль послал лодочника в Тескоко, и Несауальпилли немедленно откликнулся на призыв о помощи. К продолжавшему извергать воду источнику в Койоакане был срочно отправлен отряд мастеровых, которые, оправдав всеобщие надежды, нашли способ перекрыть этот поток. Сам я на том месте никогда не был, но знаю, что источник находится на склоне холма, так что, скорее всего, Несауальпилли распорядился выкопать систему канав и насыпей, позволившую отвести часть воды источника на другую сторону, а уж оттуда поток, не причиняя никому вреда, устремился на пустоши. После того как источник был укрощен, а потоп остановлен, решили привести в порядок акведук. Несауальпилли спроектировал ворота, которые могли в соответствии с нуждами города пропускать по акведуку большее или меньшее количество воды. Именно благодаря этому мы и по сей день не испытываем недостатка в свежей питьевой воде.
Но, к сожалению, проведенная Несауальпилли спасательная операция длилась довольно долго. Пока рабочие трудились под его руководством, город целых четыре дня оставался полузатопленным. Вода стояла по грудь, и если погибших было совсем немного, то две трети строений оказались разрушенными, так что на восстановление ущерба, нанесенного Теночтитлану за эти четыре дня, потребовалось четыре года. Все обошлось бы значительно меньшими потерями, если бы вода просто накрыла наши улицы и спокойно стояла. Увы, она, стремившаяся выровнять уровень поверхности и гонимая коварным восточным ветром, находилась в беспрестанном волнении. Большинство домов в городе были построены на сваях или на высоких фундаментах, но это делалось лишь для того, чтобы защитить задания от избыточной влажности. Ни фундаменты, ни опоры не предназначались для противостояния сокрушительным потокам. Теперь им пришлось столкнуться с мощью водной стихии, и большая их часть с этим испытанием не справилась. Глинобитные дома просто растворились в воде. Каменные дома, маленькие и большие, продержались дольше, но когда их опоры оказались подмытыми, то и они просели и рассыпались на блоки, из которых были сложены.
Мой собственный дом остался невредим, вероятно, потому, что был построен совсем недавно и оказался прочнее многих других. Остались стоять также пирамиды и храмы на Сердце Сего Мира, обрушились лишь сравнительно хрупкие полки с черепами. Но зато возле главной площади рухнул целый дворец – самый новый и наиболее величественный из всех – резиденция юй-тлатоани Ауицотля. Я уже рассказывал, что один из главных каналов города проходил сквозь его внутренний двор, что давало возможность прогуливающимся горожанам любоваться частью дворцового комплекса изнутри. Когда этот канал, как и все остальные, переполнился, вода разлилась по нижнему этажу дворца, подмыла изнутри несущие стены, и все колоссальное сооружение с грохотом обрушилось.
Пока не схлынула вода, я не знал об этих происшествиях, как не знал и о том, уцелел ли мой собственный дом. Второй потоп оказался сильнее и разрушительнее первого, но зато он не был столь неожиданным, так что большинство жителей успели покинуть обреченные здания. Однако во дворце остались Ауицотль, его высшие сановники и стражники, еще какие-то отряды солдат и несколько жрецов, упрямо продолжавших молиться в надежде на божественное вмешательство. За исключением этих людей, почти весь Теночтитлан бежал с острова по северной дамбе, найдя прибежище на материке – в городах Тепеяк и Аскапоцалько. Общую участь всех горожан разделил и я со своими домочадцами, количество которых, увы, уменьшилось.
С тяжелым сердцем вспоминаю я раннее утро того дня, когда вернулся домой, еле волоча на себе насквозь промокшие регалии воителя-Орла...
Чем ближе я подходил к дому, тем яснее становилось, что наш квартал пострадал от наводнения особенно сильно. На стенах уцелевших зданий еще оставались влажные отметины, по которым можно было понять, что вода здесь стояла на уровне моего роста. Сплошь и рядом глинобитные строения покосились и оплыли, а плотно утрамбованная глина на нашей улице раскисла, превратившись в липкую, скользкую жижу. Повсюду валялся мусор, попадались также и ценные предметы, очевидно оброненные во время панического бегства. Людей на улице видно не было – несомненно, все сидели по домам, гадая, не нагрянет ли новая волна, однако от непривычного безлюдья мне стало не по себе. Слишком уставший, чтобы бежать, я ковылял так быстро, как только мог. И вот наконец у меня отлегло от сердца: я увидел свой дом, целый и невредимый. Наводнение не оставило на нем никаких следов, кроме осадка мусора на ступенях лестницы.
Бирюза распахнула парадную дверь и воскликнула:
– Аййо! Да это наш хозяин! Благодарю Чальчиутликуэ, что она тебя пощадила!
В ответ я усталым голосом, но от чистого сердца пожелал этой богине провалиться в Миктлан.
– Не говори так! – взмолилась Бирюза, и по ее морщинистым щекам потекли слезы. – Мы боялись, что лишились и нашего хозяина тоже.
– Тоже? – выдохнул я. Невидимая рука болезненно сжала мою грудь.
Старая рабыня бурно разрыдалась, не в силах ответить. Выронив вещи, которые нес в руках, я схватил ее за плечи.
– Неужели малышка погибла? – заорал я.
Служанка покачала головой, но было ли то отрицательным ответом или выражением скорби, я не понял. Поэтому как следует встряхнул Бирюзу и выкрикнул еще громче:
– Говори!
– Несчастье произошло с нашей госпожой Цьяньей, – произнес позади нее другой голос: Звездный Певец, стоя на пороге, заламывал руки. – Я все видел, я пытался остановить ее.
Я не упал лишь потому, что вцепился в Бирюзу. Каким-то чудом мне удалось сохранить дар речи и выдавить:
– Расскажи мне все, Звездный Певец.
– Узнай же, хозяин. Это случилось вчера, в сумерках, в то время, когда фонарщики начинают зажигать уличные светильники. Только на сей раз, конечно, никаких фонарщиков не было, ибо улица превратилась в бурлящий поток. Люди попрятались, и лишь одного несчастного вода швыряла из стороны в сторону, ударяя о ступени лестниц и фонарные столбы. Он отчаянно пытался хоть за что-нибудь ухватиться, но я даже издали понял, что человек этот увечный и не может...
– Какое отношение какой-то калека имеет к моей жене? – прохрипел я, изнемогая от страха. – Да говори же, что случилось с Цьяньей?
– Она стояла вон у того окна, – продолжил слуга все с той же просто выводящей из себя обстоятельностью. – Караулила там весь день, беспокоясь за тебя, мой господин, и поджидая твоего возвращения. Я был рядом с госпожой, когда поток подтащил этого человека к нашему дому, и она заявила, что мы должны ему помочь. Поскольку мне было боязно лезть в клокочущую воду, я сказал госпоже, что это всего лишь старый опустившийся бродяга, который в последнее время подрабатывал в нашем квартале, занимаясь вывозом мусора. Подобное существо не стоит внимания и хлопот благородной госпожи. – Звездный Певец сглотнул и осипшим голосом продолжил: – Мой господин будет прав, если изобьет или даже убьет меня, ибо это я должен был поспешить на помощь тому человеку. Но когда я стал возражать, госпожа, наградив меня презрительным взглядом, отправилась на улицу сама. Я оставался у этого самого окна, когда она вышла из дома по лестнице и, наклонившись, схватила барахтавшегося в воде калеку.
Он умолк и сглотнул снова, а я хрипло выдавил:
– Ну и?.. Выходит, она вытащила его из воды, да? Но что тогда могло случиться?
Звездный Певец покачал головой.
– Этого, мой господин, я так и не понял. Конечно, ступеньки были мокрыми и скользкими. Однако со стороны было похоже, что, заговорив с этим человеком, госпожа вдруг слегка отпрянула, но тут... и он, и она вдруг оказались подхваченными водой. Оба, ибо калека крепко вцепился в нее и ни за что не хотел отпускать. Поток понес их прочь, и тут уж я, забыв про свой страх, выскочил из дому и бросился в воду.
– Звездный Певец чуть не утонул, мой господин, – вставила Бирюза, шмыгая носом. – Он пытался спасти нашу госпожу, честное слово...
– Но их нигде не было, нигде! – горестно продолжил раб. – Я уж подумал, что их могло вынести к обрушившимся в конце улицы глинобитным домам, и рванул туда, но в темноте не заметил проплывавшей мимо доски, которая так стукнула меня по голове, что я чуть не лишился сознания. Я ухватился за уцелевший столб от ворот и так, держась за него, провел всю ночь.
– Он вернулся домой только сегодня утром, когда сошла вода, – сказала Бирюза. – И мы оба немедленно снова отправились на поиски.
– Ну и?.. – прохрипел я.
– Мы нашли только того калеку, – ответил Звездный Певец. – Как я и подозревал, его наполовину завалило обломками.
– Малышке Кокотон мы еще ничего не говорили, – промолвила, всхлипывая, Бирюза. – Наверное, мой господин поднимется к ней сейчас?
– Чтобы рассказать девочке то, во что и сам не могу поверить?! – простонал я и, собрав последние силы, выпрямился. – Ну уж нет. Лучше мы с тобой, Звездный Певец, снова пойдем на поиски.
Улица за моим домом полого спускалась вниз, к переброшенному через канал мосту, и, понятное дело, самый сильный удар воды пришелся на дома, стоявшие там. Кроме того, та часть улицы была застроена далеко не самыми прочными зданиями, преимущественно глинобитными или деревянными, от которых, как и говорил Звездный Певец, остались лишь груды наполовину размокших кирпичей из глины, солома, расщепленные доски и обломки мебели. Указав на торчавшую из-под обломков тряпицу, раб сказал:
– Он там, этот бедолага. До чего же убогую жизнь он вел: занимался уборкой мусора и продавал себя тем, кому было не по средствам купить женщину. Брал за это всего один боб какао.
Мертвец с длинными, заляпанными грязью седыми космами, одетый в рваное тряпье, лежал ничком. Я перевернул труп ногой, и Чимальи, разинувший рот, уставился на меня пустыми глазницами.
Нет, не тогда, а лишь некоторое время спустя, когда ко мне вернулась способность размышлять, я задумался над словами Звездного Певца о том, что в последнее время этот человек обслуживал лодки, вывозившие мусор из нашего квартала. Я гадал, как давно Чимальи выяснил, где мы живем? Интересно, выжидал ли он, тщательно выискивая возможность нанести мне удар, а затем воспользовался случаем, чтобы, ранив меня в самое сердце, навсегда уйти от возмездия? Или же эта трагедия была просто жестокой забавой развлекающихся богов, которые, как говорят, любят подстраивать самые невероятные совпадения, в которые порой невозможно поверить.
Этого я так никогда и не узнал...
Но об этом я задумался уже потом, а в тот момент знал лишь, что моя жена исчезла, что я не могу смириться со своей потерей и должен ее во что бы то ни стало найти.
– Если мы отыскали этого проклятого мертвеца, то и Цьянья должна быть здесь, – заявил я Звездному Певцу. – Если потребуется, мы перевернем тут все кирпичи до единого. Я начну, а ты пока отправляйся за подмогой. Двигай!
Звездный Певец торопливо ушел, а я наклонился, чтобы поднять и отбросить в сторону деревянную балку, и... лишившись чувств, рухнул ничком.
Я очнулся уже после полудня, в своей постели, и, увидев лица заботливо склонившихся надо мною слуг, первым делом спросил:
– Нашли? – Когда они оба сокрушенно отрицательно покачали головами, я прорычал: – Вам же было велено перевернуть там каждый кирпич!
– Хозяин, это невозможно сделать, – всхлипнул Звездный Певец. – Вода опять прибывает. Мы нашли тебя вовремя, иначе бы ты утонул.
– Мы не стали бы тебя будить, – с тревогой промолвила Бирюза, – но в городе объявили указ Чтимого Глашатая, предписывающий всем перебраться на материк до того, как остров скроется под водой.
Так вот и получилось, что следующую ночь я просидел, не смыкая глаз, на склоне холма среди множества спящих беженцев.
– Долго гуляем, – заметила Кокотон по пути. Поскольку только первые беженцы, покинувшие Теночтитлан, нашли на материке кров, остальным пришлось сидеть под открытым небом. – Ночка темная, – уместно высказалась в связи с этим моя дочурка.
Нам четверым не нашлось даже места под раскидистым деревом, но Бирюза предусмотрительно захватила одеяла. Она, Звездный Певец и Кокотон теперь спали, завернувшись в них, а я сидел, набросив на плечи одеяло, и смотрел на мою дочурку, мою Хлебную Крошку – единственную драгоценность, которая осталась у меня от жены. И сердце мое просто обливалось кровью.
Некоторое время тому назад, почтенные братья, я пытался описать вам Цьянью, сравнив ее с щедрым и великодушным растением агавой. Однако, рассказывая в тот раз об этом кактусе, я забыл упомянуть, что единожды в жизни – только единожды! – на нем распускаются золотистые цветы с дивным, сладким ароматом. После чего растение умирает...
В ту ночь я очень старался найти утешение в елейных заверениях наших жрецов, уверявших, что мертвые будто бы не ведают ни жалоб, ни скорби, ибо смерть есть всего лишь пробуждение от тяжкого сна, каковым является наша жизнь. Может быть, так оно и есть. Ваши христианские священники утверждают почти то же самое. Но для меня это было слабым утешением, ибо мне-то предстояло оставаться в этом горестном сне, причем оставаться там обездоленным и одиноким. Всю ночь напролет я вспоминал Цьянью и то слишком короткое счастливое время, которое мы провели вместе перед тем, как закончился ее сон.
Я помню все это до сих пор...
Однажды, во время нашего путешествия в Мичоакан, она увидела на утесе незнакомый цветок и сказала, что хотела бы завести такой дома. Ну что бы мне тогда стоило залезть на скалу и сорвать для жены цветок...
А в другой раз, без всякого на то повода, Цьянья сложила миленькую песенку, сочинив и слова, и мелодию: она просто проснулась в то утро, радуясь жизни и любя весь мир. Она тихонько мурлыкала ее, чтобы не забыть, а потом попросила купить ей «журчащую» флейту, чтобы исполнять песенку как следует. Я пообещал заказать инструмент, как только встречу знакомого мастера. Но забыл. А Цьянья, видя, что у меня полно других дел, так больше и не напомнила мне о своей просьбе.
А еще как-то раз...
Аййа, много-много раз...
О, я знаю, что Цьянья никогда не сомневалась в том, что я люблю ее, но почему я не использовал любую, самую незначительную возможность, чтобы лишний раз показать это? Я знаю, жена прощала мне невольные ошибки и проявленную невнимательность. Она забывала обо всем этом, а вот мне ни одной своей оплошности уже не забыть до конца дней. Всю оставшуюся жизнь я вспоминал, как не сделал того или другого, и сердце мое горько сжималось от осознания безвозвратности прошедшего и невозможности что-либо исправить. Этого мне забыть не дано, а вот многое из того, что я хотел бы сохранить в памяти, настойчиво от меня ускользает. Если бы я только мог припомнить слова той песенки, которую Цьянья сочинила, когда ощущала себя безмятежно счастливой, или хотя бы ее мелодию, я мог бы мурлыкать песенку про себя. И как бы я хотел узнать, что же жена крикнула мне вслед, когда ветер унес ее слова, в тот самый последний раз, когда мы навеки расстались...
Когда все беженцы, в том числе и мы, наконец вернулись на остров, большая часть города лежала в руинах. Рабочие и рабы уже занимались расчисткой завалов, извлекая целые известняковые плиты и выравнивая обломки, чтобы потом использовать их как основание для новых построек. Тело Цьяньи обнаружить так и не удалось. Не нашлось ни малейшего следа, совсем ничего, даже кольца или сандалии. Моя жена исчезла навсегда – так же бесследно и безвозвратно, как та незатейливая песенка, которую она когда-то сочинила.
Но, мои господа, я знаю, что, хотя над ее так и не найденной могилой были один за другим построены два новых города, Цьянья по-прежнему пребывает где-то здесь. Здесь, ибо у нее не было с собой магического осколка, без которого у нас не пропустят в загробный мир.
Много раз поздно ночью я бродил по этим улицам и тихонько звал ее по имени. Я звал жену в Теночтитлане, я зову ее и в новом городе Мехико, поскольку старику все равно не спится по ночам. Мне попадалось немало призраков, но Цьянью не довелось встретить ни разу.
Я встречал лишь несчастных, озлобленных духов, абсолютно не похожих на Цьянью, которая была счастлива всю свою жизнь и погибла, пытаясь сделать доброе дело. Я видел и узнал немало мертвых воинов мешикатль: город просто кишит этими скорбными призраками. Я видел Рыдающую Женщину, похожую на струйку тумана с очертаниями женской фигуры, и слышал ее горестные стенания. Но она не напугала меня. Я лишь пожалел ее, ибо по себе знаю, что такое утрата. И Чокакфуатль, похоже, поняла это, поскольку сменила свои пугающие завывания на нечто напоминающее невнятные слова утешения. Как-то раз мне почудилось, что я повстречался с двумя бродившими ночью богами – Ночным Ветром и Старейшим из Старых Богов. Во всяком случае, так они мне назвались. Вреда мне эти духи не причинили, видимо сочтя, что за свою жизнь я и без них испытал немало горя. Бывало, что на темных, совершенно безлюдных улицах мне слышался смех, который можно было принять за беззаботный смех Цьяньи. Может, это было просто игрой моего воображения, но всякий раз этот смех сопровождался отблеском света в темноте, очень похожим на бледную прядь в ее черных волосах. Правда, и это могло быть лишь обманом моего слабого зрения, ибо видение исчезало всякий раз, стоило мне поднести к глазу топаз. И все равно я знаю, что Цьянья здесь, где-то здесь, и мне не нужны доказательства, как бы сильно я ни желал их получить.
Я много размышлял об этом и задаюсь вопросом: уж не потому ли я встречаю только скорбных и угрюмых обитателей ночи, что и сам очень похож на них? Возможно ли, что людям более веселого нрава, сердца которых открыты радости, легче увидеть более благородный призрак? Я прошу вас, господа писцы, если кто-то из вас, добрых людей, встретит Цьянью ночью, дайте мне знать об этом. Вы узнаете ее сразу, и никого из вас не испугает дух, воплощающий в себе такое очарование. Она по-прежнему, как и тогда, предстанет перед вами девушкой двадцати лет, ибо смерть, по крайней мере, избавила ее от старения и всех связанных с ним немощей и недугов. И вы непременно узнаете эту улыбку, ибо ни за что на свете не сможете устоять и непременно улыбнетесь в ответ. А если она заговорит...
Но нет, вы не поймете ее речь, но если просто увидите ее, будьте милосердны – расскажите об этой встрече мне. Ибо Цьянья по-прежнему бродит по этим улицам. Я знаю это. Она здесь, и она будет здесь всегда. Всегда.