Прованс навсегда бесплатное чтение
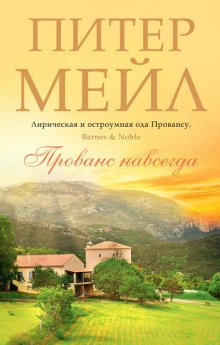
Les invalides[2]
Съездил я однажды в Апт, в аптеку, купил там зубную пасту и масло для загара, совершенно невинные припасы для абсолютно здоровых людей. Вернувшись домой и вынув их из пакетика, я обнаружил, что девушка-провизор добавила к покупке весьма познавательный, но несколько озадачивающий информационный материал: роскошно отпечатанную красочную рекламную листовку. Главным героем иллюстрации оказалась восседающая на унитазе улитка. Поникшие рога, потухший взор, обвисшие щеки… Выражение физиономии и осанка улитки красноречиво свидетельствовали, что несчастное существо уже приросло к сангигиеническому приспособлению, тщетно пытаясь достичь какого-либо, извините, результата. Надпись над картинкой гласила: La Constipation. Запор.
Чем заслужил я такую честь? Неужто у меня столь натужное обличье? Или моя покупка — зубная паста и масло для загара — подсказала опытному глазу фармацевта, что пищеварительный тракт у меня не в порядке? Может быть, мадемуазель прозрела нечто, сокрытое от взгляда моего? Я принялся за чтение рекламы.
«Нет явления более банального и широко распространенного, чем запор». Такими словами начинался текст, согласно содержанию которого около двадцати процентов населения Франции страдали от ballonnement и gene abdominale, то есть от вздутия живота и иных желудочно-кишечных расстройств. Однако, с точки зрения наблюдателя, менее подкованного в медицине, нежели ученый автор листовки, прохожие на улицах, посетители кафе и баров — и даже ресторанов — отнюдь не проявляли признаков мучившего их ballonnement, дважды в день беззаботно приступая к весьма масштабным трапезам. Или же они проявляли завидную стойкость и выдержку перед лицом грозного недуга.
Я всегда считал Прованс одной из наиболее здоровых местностей мира. Воздух чист, климат сух, фрукты и овощи в изобилии, готовят здесь на оливковом масле, слова «стресс» не знают, что это такое, не ведают — трудно найти сочетание более благоприятных факторов в таком изобилии. И народ выглядит очень неплохо. Но если двадцать процентов этих здоровяков, на аппетит не жалующихся, страдают от заторов в transit intestinal, [3] какие еще недуги в них таятся? Я решил обратиться к теме заболеваний, характерных для данной местности, и борьбы с ними. Постепенно выяснилось, что действительно некое недомогание весьма распространено здесь, да, похоже, и по всей стране. Имя этой хвори — ипохондрия.
Французы никогда не чувствуют себя плохо, однако частенько случаются у них всякого рода crises, то есть они «переживают кризисы». К наиболее популярным у населения можно отнести crise de foie, [4] при котором печень наконец восстает против постоянной бомбардировки пастисом, трапезами из пяти блюд, рюмашками виноградной водки marc и бокалами vin d'honneur, [5] по случаю… впрочем, всех случаев не перечесть: от открытия автомобильного салона до ежегодного съезда деревенской ячейки коммунистической партии. Самый простой вариант лечения — воздержание и промывание организма минеральной водой — в расчет обычно не принимается, ибо недостаточно подчеркивает тяжесть ситуации. Обычно страдалец отправляется в аптеку и консультируется с доброжелательным и предупредительным экспертом в белом халате, сочувственно улыбающимся ему из-за прилавка.
Когда-то я удивлялся, для чего в большинстве аптек между бандажами и наборами для исцеления целлюлита рядком выставлены стулья. Теперь понял: для того чтобы удобнее дожидаться, пока мсье N. покончит с перечислением донимающих его недугов, сопровождаемым потиранием воспаленного горла, чувствительной почки, заснувшей кишки либо иного взбунтовавшегося места любимого организма, а также рассказом о том, как дошел он до жизни такой. Фармацевт терпеливо слушает, иногда кивает, иной раз и вопрос задаст, затем предлагает ряд вариантов исцеления, предъявляет страдальцу красивые упаковки с таблетками, пилюлями, ампулами, флакончиками. Обсуждение достигает следующей стадии, приводит к принятию решения, и вот уже мсье N. аккуратно складывает листочки, дающие ему право требовать от системы социального страхования возврата большей части затраченных на лекарства средств. Каких-нибудь пятнадцать-двадцать минут — и вы можете пересесть на следующий стул.
Посещение аптеки — привилегия наиболее крепких из заболевших. Для серьезно заболевших — или вообразивших себя тяжело больными — даже в самом глухом захолустье вроде нашего существует сеть первой помощи, поражающая приезжающих из крупных городов, где лишь миллионер может позволить себе поболеть с комфортом. Все городки и большинство деревень могут похвастаться своими круглосуточными службами «скорой помощи». Дипломированные медсестры приходят на дом. Врачи (!) посещают на дому. Слыханное ли дело в Лондоне?
Непродолжительный, но интенсивный контакт с французской системой здравоохранения мы пережили в начале прошлого лета. В роли подопытного кролика выступил Бенсон, молодой американец, впервые попавший в Европу. Когда я увидел его на железнодорожном вокзале в Авиньоне, он прохрипел «Хелло», закашлялся, прижал ко рту платок. Я участливо осведомился, что с ним.
Он ткнул большим пальцем в свое сипящее горло.
— Моно, — изрек он.
Моно?.. Я, разумеется, не понял, но и не удивился. Ведь известно, что у американцев болезни куда сложнее наших. Вместо синяков у них гематомы, голова у них никогда не болит, но зато то и дело донимает мигрень, а вместо вульгарного насморка обычно воспаляется носоглотка. Поэтому я примирительно пробормотал, что наш свежий воздух скоро все излечит, и усадил гостя в машину. По дороге я узнал, что «моно» означает фамильярное прозвище мононуклеоза — вирусной инфекции, вызывающей неприятные ощущения в горле.
— Как битое стекло… — просипел страдалец из-под платка и темных очков. — Надо брату в Бруклин брякнуть, он врач…
Дома мы обнаружили, что телефон не работает. Начинался удлиненный праздничный уик-энд, так что по меньшей мере три дня нам предстояло прожить без телефона. Оно бы только в радость, но контакт с Бруклином — дело святое. Ибо существует какое-то средство против «моно», настоящее, научное, современное. Я отправился к телефонной будке в Ле-Бомет и кормил ее пятифранковыми монетами, пока в какой-то бруклинской больнице искали брата Бенсона. Тот сообщил мне название чудо-лекарства, и я позвонил заодно и здешнему врачу, попросил навестить больного.
Врач прибыл в течение часа и осмотрел страдальца, скрывшегося от дневного света в затемненной комнате, но оставшегося на всякий случай в темных очках.
— Alors, monsieur…[6] — начал доктор, но Бенсон сразу его прервал.
— Моно. — И он повторил указующий жест большим пальцем.
— Comment?[7]
— Моно. Мононуклеоз.
— Ah, mononucléose. Peut-être, peut-être.[8]
Врач осмотрел горло, достал тампон, взял мазок на анализ. Науке предстояло сказать свое веское слово. А теперь не соблаговолит ли мсье спустить брюки? Бенсон нерешительно принялся сдирать с бедер прилипшие к коже джинсы от Келвина Кляйна, исподлобья стреляя глазом на появившийся в руках врача одноразовый шприц.
— Скажите ему, что у меня почти на все антибиотики аллергия. Ему надо с моим братом потолковать.
— Comment?
Я объяснил проблему и спросил, не скрывает ли докторский саквояж чудо-лекарства. Нет, не скрывает. Мы с врачом переговаривались, разделенные обнаженными ягодицами Бенсона, содрогавшимися от надрывного кашля. Врач сообщил, что больному следует ввести что-то, сдерживающее воспалительный процесс, что побочные явления от этого укола крайне маловероятны. Я передал информацию Бенсону.
— Ладно, пусть колет…
Он подставил цель, и доктор жестом матадора всадил ему шприц в мягкое место.
— Voilà!
Бенсон ревниво прислушивался к реакции организма на укол, оглядываясь в поисках надежного места приземления на случай внезапной потери сознания, а врач сказал мне, что закажет посещение медсестры, два укола в день до субботы, когда поступят результаты анализа и можно будет прописать нужное средство. Он пожелал нам bonne soirée, [9] на что Бенсон ответил залпом из-под носового платка. Я подумал, что soirée вряд ли окажется bonne.
Сестра посещала пациента согласно обещанию врача, в субботу поступили результаты анализа. «Молодой мсье» оказался прав. Его донимал mononucléose, с которым предстояло справиться славной французской медицине. Доктор, движимый поэтическим вдохновением, настрочил рецепт, еще один, еще… Готовилось массированное наступление фармакопеи на мононуклеоз Бенсона. Врач передал мне стопку рецептов и пожелал bon уик-энда, что также представлялось маловероятным.
Воскресенье, праздник — не самое удобное время для посещения аптеки в сельской Франции. Единственной доступной в округе оказалась pharmacie de garde, дежурная аптека, на окраине Кавайона. Я прибыл туда в половине девятого и застал перед закрытой дверью господина со стопкой рецептов, почти столь же толстой, как и у меня. Мы вместе полюбовались вывешенной за дверным стеклом табличкой. Открыться обещали в десять.
Мужчина вздохнул, оглядел меня с головы до ног и осведомился, что у меня болит.
Выяснил, что я забочусь о знакомом, кивнул и сообщил, что сам он страдает артрозом левого плеча, а на ногах у него завелся зловредный грибок. Стоять полтора часа на усиливающейся жаре ему не хотелось, он опустился на мостовую, уселся поудобнее, принялся за изучение своих рецептов. Том первый, глава первая. Я решил отправиться куда-нибудь позавтракать.
— Не задерживайтесь, — посоветовал мужчина, отрываясь от рецептов. — Народу наберется тьма.
Откуда ему знать? Неужели воскресное утро — такое уж привлекательное время для посещения аптеки? Я поблагодарил его, но советом пренебрег и провел время в кафе, уткнувшись в старый номер «Le Provençal».
Вернувшись к десяти, я застал перед дверьми аптеки le tout Cavaillon, весь Кавайон. Десятки обладателей толстых пачек медицинских предписаний оживленно гудели и ворчали, обмениваясь своими симптомами с азартом рыбаков, обсуждающих удачный улов. Мсье Angine хвастался воспаленным горлом. Мадам Varice парировала захватывающей историей своих варикозных конечностей. Недужные и увечные бодро болтали, не забывая поглядывать на часы и подтягиваясь все ближе к запертой двери. Наконец под нестройный аккомпанемент «enfin» и «elle arrive» [10] из глубин аптеки появилась молодая леди. Она открыла дверь и отскочила в сторонку, избегая хлынувшей внутрь толпы. Не в первый раз я убедился, что англосаксонская привычка упорядоченной очереди Франции чужда.
Прошло около получаса, прежде чем я, воспользовавшись увлеченностью присутствующих рукопашной схваткой, изловчился и использовал возникшую брешь, сунув свою пачку в окошечко. Провизор подхватила полиэтиленовый фирменный пакетик и принялась заполнять его коробками и флаконами, штампуя рецепты, оставляя копию себе и возвращая оригинал мне. Пакет почти заполнился, когда она вдруг исчезла на пять минут, по возвращении же констатировала, что запас одного из средств у них исчерпан, мне придется поискать это лекарство в других аптеках. Однако чуть не лопающийся от веса лекарств сверток, казалось, смог бы поднять на ноги полк после кровопролитного сражения.
Бенсон принялся увлеченно сосать, глотать, вдыхать, добросовестно трудился над всем меню. На следующее утро он уже ощутил в себе силы сопровождать нас в аптеку в Менерб, дабы добыть последнее из прописанных лекарств.
Там уже находился один из деревенских старожилов, ожидая свой пакет с волшебными средствами. Заинтересовавшись, какие экзотические болезни донимают чужестранцев, старик не торопился покинуть свой насест. Он направил нос в нашу сторону и замер, наблюдая за поисками нужного нам зелья.
Аптекарь открыла упаковку, вынула оттуда предмет размером с солидную таблетку Алка-Зельцер и подняла на уровень носа Бенсона.
— Deux fois par jour.[11]
Бенсон ошалело замотал головой.
— Такая здоровенная… Мне не проглотить.
Мы перевели его реакцию аптекарю, но, прежде чем она смогла ответить, старик разразился скрипучим хохотом и чуть не рухнул с табурета вместе со своим свертком. Бедняга корчился и утирал глаза тыльной стороной узловатой кисти.
Госпожа фармацевт улыбнулась и слегка покачала перед носом Бенсона таблеткой, вызвавшей столь бурную реакцию.
— C'est un suppositoire.[12]
Бенсон по-прежнему ничего не понимал. Дед, все еще смеясь, сполз с табурета, подошел к нам и вынул суппозиторий из пальцев провизора.
— Regardez, — обратился он к Бенсону. — On fait comme ça.[13]
Шагнув в сторону, чтобы обеспечить себе простор движений, он согнулся, подняв свечу над головой, и, совершив размашистую дугу, всадил ее себе в штаны на заднице.
— Чпок! — смачно комментировал он жест, выпрямился и уставился на Бенсона. — Vous voyez?[14]
— В ж… В задницу? — Бенсон не мог этого постичь. — Во дают… — От неожиданности он даже очки от солнца снял и на всякий случай отступил на пару шагов. — У нас так не делают.
Мы попытались втолковать ему, что анальная свеча — очень эффективный способ введения медикамента непосредственно в кровоток, но сомнений его не рассеяли. Когда мы добавили, что уж горлу-то этот способ введения никак не повредит, он не развеселился. Я постарался тогда представить — и пытался вообразить впоследствии, — что он расскажет своему брату-врачу в Бруклине.
Вскоре после визита в аптеку с Бенсоном я встретил в лесу соседа Массо и рассказал ему об инциденте. Он признал курьезность этого случая, но тут же припомнил эпизод, исполненный истинного драматизма, случившийся с человеком, который отправился в больницу, чтобы вырезать аппендикс, а очнулся от наркоза с ампутированной левой ногой. Beh oui.
У меня автоматически вырвалось, что это невозможно, на что Массо печально покачал головой.
— Если я заболею, к врачам обращаться не буду. Пойду лучше к коновалу. С ветеринарами знаешь, что к чему. А врачи — нет у меня им веры.
К счастью, представление Массо о французской медицине настолько же мало отвечает действительному положению вещей, как и большинство остальных его воззрений и убеждений. Возможно, есть в Провансе рьяные врачи-ампутанты, но мы с такими ни разу не сталкивались. Собственно, кроме случая с мононуклеозом, мы лишь раз за все время контактировали с врачом, да и то чтобы преодолеть острый приступ «бюрократита».
Горы бумаг пришлось нам переворошить, чтобы получить наши cartes de séjour — удостоверения иностранцев на право проживания во Франции. В мэрию, в préfecture de police, в налоговую службу, опять в мэрию… Везде требовалась еще одна бумага, последняя, окончательная, которую, naturellement[15] следовало получить в ином месте. Наконец, когда мы уже твердо верили, что все пути исхожены, все сертификаты, аттестаты, декларации, анкеты, фото нами собраны, мы, торжествующие, отправились в мэрию.
Наши досье тщательно проверили. Казалось, все в полном порядке. Мы не представляли угрозы для французской государственности. Не связаны с уголовным миром. Не собирались мы и конкурировать с французскими трудящимися на рынке труда. Bon. Very good.[16] Отлично. Наши папки закрылись, можно вздохнуть с облегчением.
Однако секретарь мэрии, мило улыбнувшись, достает еще два формуляра. Необходимо еще медицинское заключение. Что вы здравы телом и духом. Доктор Фенелон в Боньё очень быстро завершит все формальности.
И мы отправились в Боньё.
Доктор Фенелон оказался воплощением доброжелательности. Он быстро просветил нас рентгеном, заполнил наши анкеты. Мы ведь не сумасшедшие? Прекрасно. Он нам охотно верит. Эпилепсией не страдаем? Нет. Наркотики? Алкоголизм? Головокружения, внезапная потеря сознания? Я ожидал вопроса о деятельности кишечного тракта — из чувства тревоги о предохранении от роста численности страдающих запором, — но его иммиграционные службы почему-то оставили без внимания. Мы подписали свои анкеты. Доктор Фенелон тоже их подписал. Затем он открыл ящик стола и вынул еще два листа.
Доктор Фенелон улыбнулся с извиняющимся видом.
— Bien sûr, vous n'avez pas le problème, mais… [17] — Он пожал плечами и объяснил, что нам следует отправиться в Кавайон и сдать кровь на анализ, чтобы получить наши certificates sanitaires.[18]
Мы поинтересовались, берется ли анализ на что-то определенное.
— Ah, oui… — Он снова пожал плечами и вздохнул: — La syphilis.
Английский écrevisse[19]
«Сочинительство — жизнь собачья, но единственная, которой стоит жить».
Это высказывание Флобера невольно приходит в голову, если проводишь день за днем в попытках упорядоченно выстроить слова на бумаге. Занятие это чаще всего одинокое и монотонное. Порой усилия вознаграждает удачная фраза. То есть фраза, кажущаяся вам удачной, ибо подтверждений со стороны вы в момент создания ее не получаете. После длительных периодов бесплодия вы решаетесь сменить род занятий, обратиться к чему-либо более существенному и значимому, например, стать дипломированным бухгалтером. Мучают страхи, что написанное вами никого не заинтересует, охватывает паника от нарушения вами же установленных сроков, а также разочарование тем, что нарушение этих сроков никого, кроме вас, не волнует. Тысяча слов в день или чистый лист — тоже никого не трогает. Перечисленное, без сомнения, делает жизнь собачьей.
Убеждает в том, что так жить все же стоит, счастливое открытие того, что ты, оказывается, развлекал продуктом своего труда в течение нескольких часов жизни какого-то неизвестного тебе человека. А если вдруг эти незнакомцы начинают тебе писать, то их письма воспринимаешь как аплодисменты. Получение такого письма компенсирует все издержки; мысли о бухгалтерском учете забываются, сменяются размышлениями о новой книге.
Первое письмо я получил после опубликования в апреле «Года в Провансе». Пришло оно из Люксембурга, вежливое, приветливое, полное комплиментов. Я его целый день перечитывал. Автор следующего письма, человек практичный, просил совета по выращиванию трюфелей в Новой Зеландии. Затем письма образовали ручеек со многими истоками: из Лондона, из Пекина, из Квинсленда, из исправительного заведения Ее Величества Вермвуд Скрабс, от экспатриатов, осевших на Ривьере, с пустошей Уилтшира, с холмов Суррея… Некоторые на голубой тисненой бумаге с водяными знаками, другие на листках, вырванных из ученических тетрадок, одно на обратной стороне карты лондонской подземки. Адресация писем заставляла почтовиков применять дедуктивный метод. Письмо, направленное англичанам в Боньё, нашло нас, хотя жили мы не в Боньё. Но в чемпионы я произвел адрес «L'écrevisse Anglais, Менерб, Прованс».
Письма ободряли, льстили самолюбию, и если на них имелся обратный адрес, я отвечал, считая, что на этом все и закончится. Однако ошибся. Вскоре мы заняли незаслуженное положение абсолютных знатоков жизни Прованса. У нас просили совета по поводу покупки дома, спрашивали, как найти сиделку для ребенка. Из Мемфиса позвонила женщина, чтобы поинтересоваться, как в Провансе обстановка с преступностью. Фотограф из Эссекса спросил, сможет ли он заработать на жизнь, фотографируя в Любероне. Супружеские пары, собираясь переселиться сюда, присылали вопросники на нескольких страницах. Смогут ли их дети приспособиться к программе местной школы? Во что обходится жизнь? Как в Провансе с медициной? Высоки ли налоги? Не мучает ли одиночество? Обретут ли они счастье? Мы отвечали как могли, хотя чувствовали себя неловко, не желая влиять на личные решения совершенно незнакомых людей.
Затем наступило лето, и к письмам добавились посетители.
Жарким сухим днем я пропалывал сад, колотя тяпкой по окаменевшей почве, когда к дому подкатил автомобиль, водитель которого, сияя улыбкой, показал мне экземпляр книги.
— Я вас вычислил. Совсем несложно. Немножко поработал детективом в деревне.
Я подписал книгу, чувствуя себя уже совершенно состоявшимся автором. Вернувшаяся из Кавайона жена тоже порадовалась.
— Восторженный почитатель! Прекрасно! Тебе надо было с ним сфотографироваться. Хорошо, что кому-то интересно.
Следующему почитателю, появившемуся через несколько дней, она почему-то не обрадовалась. Мы выходили из дому, собираясь в кафе, и наткнулись в саду на симпатичную блондинку, неожиданно возникшую из-за кипариса.
— Вы — это он? — спросило меня явление.
— Он — это он, — сухо отрезала жена. — Извините, нам пора.
Симпатичные блондинки, вероятно, привыкли к таким реакциям жен. Явление исчезло.
— Это ведь тоже, возможно, восторженный почитатель, — заметил я жене.
— Пусть почитает кого-нибудь другого. А ты убери ухмылку с физиономии.
В течение июля и августа мы привыкли обнаруживать у порога незнакомые лица. Большинство посетителей оказывались людьми воспитанными, вели себя скромно, желания их ограничивались получением автографа. Они благодарили за стакан вина и за возможность посидеть в тенистом дворе; все восхищались каменным столом, который мы все же смогли установить перед домом, хотя и не без затруднений.
— Так вот он какой, стол… — почтительно бормотали они, обходя каменную глыбу и проводя по ее поверхности пальцами, как будто восторгаясь шедевром скульптора Генри Мура. Интересно мы себя ощущали, когда нас, наших собак, которым нравилось внимание, и наш дом рассматривали с таким любопытством. К сожалению, наша заинтересованность порой сменялась раздражением, ибо иной визит больше напоминал вторжение.
Однажды после полудня, в самое жаркое время дня, когда температура зашкалила за пятьдесят градусов, некие трое — муж, жена и подруга жены — с носами и коленями, облезающими от загара, оставив машину у въезда, вторглись в нашу обитель. Сморенные жарой собаки спали, ничего не слышали. Зайдя в дом за пивом, я неожиданно для себя наткнулся в гостиной на эту троицу, оживленно беседующую, проверяющую книги и оценивающую мебель. Я удивился. Они — нет.
— А, вот и вы, — сказал муж. — Мы прочитали отрывки в «Санди таймс», решили заскочить.
Только и всего. Ни извинений, ни следа неловкости, ни мысли о том, что мне такой блиц-визит может оказаться не ко двору. Книги для автографа у них тоже не оказалось. Они сказали, что подождут тиража в мягкой обложке. Твердый переплет — такое дорогое удовольствие, знаете ли… От них веяло не слишком приятным замесом фамильярности и снисходительности.
Не часто вид людей мне неприятен, но эти трое не понравились с первого же взгляда. Я попросил их покинуть дом.
Щеки и подбородки мужа покраснели до багровости, он запыхтел, как индейский петух, расстроенный известием о надвигающемся Рождестве.
— Мы аж из Сен-Реми прикатили!
Я предложил им укатить обратно, и они ушли, бормоча, что эту книгу они ни за что не купят, что и не собирались ее покупать, а просто хотели глянуть… Тоже музей нашли. Я проводил бесцеремонных господ взглядом до их «вольво», возмущенных и оскорбленных, и подумал, не завести ли ротвейлера.
После этого инцидента вид приближающегося и замедляющего ход автомобиля стал для нас сигналом тревоги.
— Веди себя пристойно, — инструктировала меня жена. — Кажется, входят на участок… Нет, остановились возле почтового ящика.
Позже, отправившись к ящику за почтой, я нашел рядом книгу в пластике, оставленную с целью получить обратно на следующий день с автографом. Подписанная книга в том же пластике легла на крышку колодца, придавленная камнем, и на следующий день исчезла, полагаю захваченная оставившими ее тактичными людьми, не желавшими беспокоить нас без предуведомления.
К концу лета мы уже не оставались единственными, кого навестили читатели. Наш сосед Фостен тоже подписал книгу, немало этому удивившись, потому что, как он выразился, он-то не écrivang. [20] Я сообщил ему, что люди в Англии прочитали о нем, он снял картуз, пригладил прическу и дважды повторил:
— Ah, bon?
Судя по тону, ему известие понравилось.
Шеф-повар Морис тоже раздавал автографы, и довольно часто. Никогда раньше столько англичан к нему не заезжало, сказал он мне. Некоторые удивлялись, что он и вправду существует, они полагали, что персонаж мною выдуман. Другие заказывали меню по книге, включая заключительный стаканчик marc.
Наконец достали и нашего знаменитого сантехника мсье Меникуччи, заскакивавшего иногда между своими œuvres [21] поболтать с нами о политике, о повадках лесных грибов, о капризах климата, о перспективах сборной Франции по регби, о бессмертном гении Моцарта, а также о последних мировых достижениях в области сантехники. Я подарил ему книжку, показав места, в которых встречается его имя, и сказал, что иные из посетителей выражали желание с ним встретиться.
Он поправил свой шерстяной колпак и ворот старой клетчатой рубашки.
— C'est vrai?[22]
Истинная правда, заверил я его. Его имя даже появилось в «Санди таймс». Может быть, стоит организовать для читателей встречу с ним.
— Ah, Monsieur Peter, vous rigole.[23]
Но видно было, что идея ему по душе, а книгу он, уходя, нес так же бережно, как какое-нибудь хрупкое и дорогое биде.
Голос в трубке звучал, как будто его владелец находился в Австралии, бодро и гулко.
— Здрасьте. Валли Сторер, английский книжный, Канны. У нас тут стада британцев, ваша книжка очень неплохо расходится. Как насчет прибыть во время кинофестиваля на подписание?
У меня всегда сохранялся здоровый скептицизм относительно литературных аппетитов людей киноиндустрии. Если вы упомянете Рембо[24] в отеле «Бель-Эр», народ подумает, что вы о Сильвестре Сталлоне. В читательский ажиотаж и подъем продаж не верилось, однако развлечение неплохое. Может, кинозвезду увижу, подумал я. Или очередную Мисс Бюст на набережной Круазет, или — самое невероятное явление — улыбку официанта на террасе отеля «Карлтон». И я охотно согласился.
Погода выдалась — для книготорговли — хуже некуда: жаркая, солнечная. Я вползал в город в тягучем потоке автомобилей, любуясь яркими плакатами на фонарных столбах, оповещавшими, что Канны и Беверли-Хиллз отныне близнецы-братья, и раздумывая, как мэры только что породненных городов кинутся посещать друг друга с рабочими визитами, укреплять дружбу за счет налогоплательщиков, оплачивающих их каникулы любви.
Возле Дворца фестивалей несметное число полицейских, вооруженных, радиофицированных и при темных очках. Главное занятие полиции — создание пробок и предотвращение похищения Клинта Иствуда какими-нибудь злоумышленниками. С умением, отточенным годами практики, они направляют автомобили в одну пробку, затем раздраженными кивками перебрасывают в соседнюю. За десять минут я одолел пятьдесят ярдов. Паркуясь в гигантской подземной стоянке, я обратил внимание на граффити на стене:
ПОСЕТИТЕ КАННЫ, МЕЧТУ ТУРИСТА — ТОЛЬКО Я БЫ И ДНЯ ТУТ НЕ ЗАДЕРЖАЛСЯ
Я отправился в кафе на Круазет позавтракать и — а вдруг такое счастье! — на звезд поглядеть. Все присутствующие прибыли за тем же. Никогда не видел, чтобы столько незнакомых друг с другом людей рассматривали визави с таким интересом. Девицы все с надутыми губками и со скучающими минами на мордочках. Мужчины вооружены программками фестиваля, в которых с резолютивным видом марают что-то на полях. На столах рядом с круассанами тут и там возлежат мобильники, ожиданием звонков подчеркивая важность их обладателей. Каждый при пластиковом делегатском значке и при полиэтиленовом фестивальном пакете с надписью «Le Film Français/Cannes 90». Ни намека на Le Film Anglais или Le Film Américain, но грех не воспользоваться положением хозяина фестиваля. Круазет увешана плакатами с именами актеров, режиссеров, продюсеров, дантистов, парикмахеров. Восславления концентрируются перед крупными отелями таким образом, чтобы индивид мог видеть свое имя каждое утро из окна своей спальни перед традиционным каннским завтраком — яичницей с беконом и множеством собственных «я». Воздух насыщен бешеной деятельностью, большие баксы и крупные дела, и группа энергичных людей спешит по набережной Круазет и вдруг замечает старика нищего, сидящего на мостовой перед отелем «Мажестик» с одиноко сверкающей на дне перевернутой и истрепанной шляпы монеткой в двадцать сантимов.
Подкрепившись своей дозой гламура, я оставил великих моголов кино и прошел по узкой рю Бивуак Наполеона к англоязычной книжной лавке, готовясь к странной процедуре сидения в витрине в расчете на то, что кому-то, кому угодно, придет в голову идея попросить меня подписать книгу. Разок-другой я уже примерял к себе это занятие. Не скажу, что слишком приятно ощущать на себе взгляды людей, не отваживающихся подойти. Может, они воображали, что я кусаюсь. Конечно же, они не представляли, какое облегчение чувствует автор, к которому приближается какой-нибудь храбрец. Посидев так несколько минут, чувствуешь, что готов схватиться за соломинку и подписать что угодно, любую книгу и любой фотоснимок, старый экземпляр газеты «Nice-Matin» и банковский чек.
К счастью, Валли Сторер с женой понимали психологию автора и набили лавку друзьями, знакомыми и даже покупателями. Не представляю, каким волшебством они отвлекли этих людей от пляжных радостей, но скучать мне не пришлось, и я даже подумал, что неплохо было бы иметь под рукой разговорчивого мсье Меникуччи. Он лучше смог бы ответить на вопрос, почему французская канализация ведет себя именно так, как она себя ведет, — тема живейшего интереса английских туристов и экспатриантов. Странно, удивлялись они, почему французы, достигшие такого прогресса в области высоких технологий, запустившие скоростные поезда и реактивные «Конкорды», в туалетах и ванных довольствуются уровнем XVIII века. Намедни, как проинформировала меня одна пожилая леди, она спустила воду в туалете, и в горшке всплыли останки какого-то овощного ассорти. Ужасно, ужасно! Да случись такое в родном Челтенхэме…
После сеанса подписания мы отправились в бар за углом. Американцев и англичан там оказалось больше, чем местных, но местных в Каннах вообще по пальцам пересчитать можно. Даже полицию, как мне сказали, и ту доставили с Корсики.
Полиция все еще упражнялась в создании пробок на Круазет, когда я отправился в обратный путь. Жандармы больше глазели на красоток разной степени раздетости, дефилирующих по тротуарам, не обращая внимания на одинокого нищего старика все с той же двадцатисантимовой монеткой в перевернутой шляпе. Я кинул ему несколько монет, и он пожелал мне доброго дня. По-английски. Я подумал, что он выучил язык Шекспира ради карьеры в Беверли-Хиллз.
Бой
Жена заметила собаку по пути в Менерб. Она шествовала рядом с мужчиной, аккуратный вид и чистая одежда которого бросались в глаза рядом с ее неухоженностью и запущенностью. Выглядел пес так, как будто на сухой обглоданный скелет кто-то набросил грязный половик. И все же, несмотря на свой в высшей степени непрезентабельный облик, он интриговал своей необычностью для Франции. Редкая здесь порода жесткошерстного пойнтера, известного под официальным именем грифон Кортальса. Chien de race, таким образом. Породистая собака.
Одна из наших собак тоже кортал, и, поскольку таких в Провансе не часто увидишь, жена моя остановила машину, чтобы поговорить с владельцем. Она подивилась совпадению редких в этой местности пород, однако реакция мужчины оказалась для нее неожиданной.
— Мадам, эта псина увязалась за мной, но я не имею представления, откуда она и кто ее хозяин. — И он отскочил на шаг, чтобы уберечь брюки от облака пыли, взмывшего в воздух от принявшейся валяться на дороге собаки.
Жена вернулась из деревни и поведала мне о встрече. Конечно, рассказ вызывал у меня определенное беспокойство. Собаки для моей жены все равно что для другой норковые шубы. С нами уже проживали две, и я полагал, что этого вполне достаточно. Жена соглашалась, хотя и не слишком уверенно, и в течение следующих дней я заметил, что взгляд ее то и дело блуждал по окрестностям, ожидая появления помянутого ею чудесного явления на четырех лапах.
Возможно, история не имела бы продолжения, не сообщи ей кто-то, что собака, похожая на одну из наших, дежурила днем возле épicerie,[25] привороженная запахом копченостей и паштетов. Вечером она исчезала, утром появлялась снова. О хозяине ничего не было известно. Вероятно, пес потерялся.
У жены развилась crise de chien. [26] Она узнала, что потерявшиеся и выкинутые на улицу собаки содержатся в загонах французского общества защиты животных менее недели, затем от них избавляются. Как можно подобное допустить в отношении любой собаки, не говоря уж о таком прекрасном животном благородных кровей!
Я позвонил в общество защиты животных. У них пса не оказалось. Жена начала пропадать в деревне по полдня, уехав на полчаса, чтобы купить батон. Однако собака исчезла. Когда я осмелился предположить, что она, вероятно, нагулялась и вернулась домой, супруга глянула на меня так, будто я предложил зажарить на ужин младенца. Я снова позвонил в изолятор найденных собак.
Прошло около двух недель. Жена переживала, в обществе защиты животных устали от моих звонков, но тут из épicerie просочилась свежая новость. Пес жил в лесочке рядом с домом одной из покупательниц. Женщина подкармливала его и позволяла ночевать на террасе.
Такой молниеносной реакции я давно не видывал. В течение получаса жена уже вернулась с улыбкой, заметной за полсотни ярдов. Рядом с ней на пассажирском сиденье что-то беспокойно ерзало. Сияющая жена вышла из машины.
— Он с голоду умирал, бедняжка. Посмотри, съел весь ремень безопасности. Ах, какое чудо!
Пса выманили из машины, он стоял рядом с нею, колотя хвостом по дверце. Выглядел кошмарно. Какой-то ком шерсти размером с немецкую овчарку со множеством торчавших во все стороны щепок и веточек, запутавшихся и прилипших листьев и каких-то крошек. Пес задрал ногу возле машины, лягнул пару раз ногами по гравию и улегся на живот, высунув шесть дюймов розового языка с налипшими на него обрывками ремня безопасности.
— Прелесть, правда? — продолжала умиляться жена.
Я протянул ему руку. Он поднялся, сжал мое запястье зубами и потянул к себе. Зубы у него оказались весьма крепкими.
— Видишь? Ты ему понравился.
Я попросил ее предложить псу для еды что-нибудь вместо моей руки. Он в три приема опустошил большую миску собачьего концентрата, налакался воды из ведра и принялся кататься по траве. Обе наши суки не знали, что с ним делать. Я тоже. Жена лучше ориентировалась в обстановке.
— Бедняжка. Нужно его отвести к ветеринару. И обязательно постричь.
В каждом супружестве есть моменты, когда лучше не спорить. Я договорился с мадам Элен, toilettage de chiens[27] на тот же вечер, ибо никакой уважающий себя ветеринар с ним в таком виде дела иметь не стал бы. Мадам Элен, как я надеялся, более привычна к проблемам с внешностью сельских собак.
Мадам Элен действительно быстро справилась с шоком первого впечатления. Еще один ее клиент, миниатюрный пуделек абрикосового цвета, заскулил и сиганул подальше от греха за этажерку с журналами.
— Пожалуй, сперва возьмусь за вашего, — решила она. — Душист, душист, n'est-ce pas? [28] Где вы его откопали?
— Кажется, в лесу.
— М-м… — Мадам Элен сморщила нос и потянулась за резиновыми перчатками. — Часок можете погулять.
Я купил ошейник от блох и присел за пивом в кафе Робиона, пытаясь привыкнуть к мысли о трех собаках в хозяйстве. Конечно, можно было надеяться, что найдется прежний хозяин, тогда останутся лишь две собаки и скорбящая об утрате жена. В любом случае выбор не за мной. Решение предстояло принять собачьему ангелу-хранителю, если таковой существовал. Я надеялся, что он заметит ситуацию.
Пса я нашел привязанным к стволу дерева в саду. Увидев меня, он выразил живейшее удовлетворение. Обкарнала его мадам Элен до короткого ежика. Голова теперь казалась еще больше, кости торчали, как у собаки, нарисованной малолеткой, но, по крайней мере, теперь он избавился от вонючести, стал чистым. Художественные наклонности мадам Элен проявились в оформлении обрубка хвоста, превращенного в помпон.
Пес охотно проследовал за мной в машину и устроился на пассажирском сиденье, глядя вперед, лишь иногда поворачиваясь ко мне и проявляя интерес к моему запястью. Производимые им звуки я истолковал как проявление удовлетворения, но, как оказалось, ошибся.
На самом деле он урчал от голода, что я осознал по аппетиту, с которым он умял содержимое подставленной ему женой миски. Придерживая миску лапой, он вылизал эмаль. Жена глядела на него с выражением, свойственным большинству женщин, когда они созерцают своих в высшей степени одаренных чад. Я скользнул в сторонку, проронив, что неплохо бы все же поискать его хозяина.
Обсуждение продолжилось за столом, под храп пса, заснувшего на полу, в ногах у моей жены. Мы договорились, что спать он будет в сарае. Дверь оставим открытой, чтобы он мог при желании выйти. А то и уйти. Если утром он еще будет на месте, мы свяжемся с еще одним хозяином корталов в округе, спросим его совета.
Жена выскочила из постели ни свет ни заря, и скоро меня разбудила ткнувшаяся мне в физиономию усатая морда. Пес никуда не делся. Вскоре стало ясно, что он вознамерился остаться с нами и намеревался убедить нас, что без него жизнь вообще невозможна. Он оказался бесстыжим льстецом. Один лишь взгляд на него — и это костлявое чучело выражало полнейшее блаженство. Похлопаешь его по загривку, и он впадет в экстаз. Два-три дня — и мы пропали. Со смешанными чувствами я позвонил мсье Грегуару, жившему в Апте хозяину корталов.
На следующий день он заехал к нам с женой, чтобы освидетельствовать нашу находку. Мсье Грегуар первым делом заглянул в уши, чтобы проверить, не вытатуирован ли там идентификационный номер на случай потери. Так поступают все серьезные владельцы, сказал мсье Грегуар. Номера хранятся в базе данных в Париже, и если кто-то обнаружит собаку с клеймом, центральный офис в полчаса свяжет его с владельцем.
Мсье Грегуар с сожалением покачал головой. Увы, татуировки в ухе не оказалось. И кормили пса неправильно. Скорее всего, рождественский подарок оказался неуместным в доме, и от него избавились традиционным способом — вышвырнули вон. Мсье Грегуар посоветовал нам оставить пса в нашем семействе. Пес против этого не возражал.
Мадам Грегуар выразила восхищение красотой нашего найденыша и почти сразу выступила с предложением, принятие которого, возможно, привело бы к удвоению поголовья собак в нашем хозяйстве. Она спросила, как мы отнесемся к браку между нашим красавцем и их молодой сукой.
Как относится один из нас, я точно знал, но обе дамы уже пустились в обсуждение деталей возвышенной собачьей любви.
— Вы должны нас навестить, — предложила мадам Грегуар. — Мы разопьем бутылку шампанского, в то время как эти двое… — она слегка замялась, подыскивая более деликатное выражение, — …уединятся.
К счастью, муж ее оказался не лишен практической жилки.
— Прежде всего, нужно проверить, понравятся ли они друг другу. А тогда уж… — И он смерил нашу находку взглядом будущего тестя. Пес положил ему на колено свою увесистую лапу. Мадам умиленно засюсюкала. Я понял, что все решено.
Наумилявшись, мадам Грегуар вспомнила еще одну существенную деталь.
— Вот что мы еще забыли. Звать-то его как? Надо что-либо героическое придумать. С такой головой! — Она погладила пса по голове, и тот от удовольствия закатил глаза. — Скажем, Виктó-ор… Или… Ахилл.
Пес, дурень дурнем, опрокинулся на спину, воздев лапы к небу. Героического в нем ничего не обнаруживалось, зато мужеские признаки сразу бросились в глаза. Этими признаками и определилось его имя.
— Давайте назовем его Бой. Ça veut dire «garçon» en Anglais.[29]
— Бой? Oui, c'est genial,[30] — восхитилась мадам Грегуар.
И пес стал Боем.
Встречу Боя с невестой, как ее назвала мадам Грегуар, мы запланировали недели через две-три. Тем временем следовало Боя откормить, сделать ему прививки, поставить учетное клеймо. В общем, сделать из него приличного жениха. Он навещал ветеринара и обжирался, приобретал лоск, обживался в хозяйстве. Каждое утро поджидал нас во дворе, повизгивая от предвкушения предстоящего дня и хватая зубами первое попавшееся запястье. Через неделю он переместился с подстилки в сарае в корзину во дворе, через десять дней перешел спать в дом, под обеденный стол. Суки наши его уважали. Жена покупала для него теннисные мячики, которые он тут же разгрызал. Бой гонял ящериц и обожал сидеть на ступеньках, ведущих в бассейн. Он пребывал на седьмом небе собачьего рая.
Наступил день, предназначенный мадам Грегуар для rendez-vous d'amour. [31] Мы прибыли в живописные холмы над Сеньоном, где мсье Грегуар перестроил длинный каменный конюшенный блок в одноэтажный дом с видом на долину и, в отдалении, на деревню Сен-Мартен-де-Кастильон.
Бой набрал вес, густая шерсть его отросла, но манеры все еще оставляли желать лучшего. Выскочив из машины, он тут же задрал ногу у недавно высаженного деревца и взрыл газон когтями задних лап. Мадам нашла его очаровательным. Мсье, как мне казалось, отнесся к псу менее доброжелательно, я уловил его несколько скептические взгляды. Невеста жениха игнорировала, сосредоточившись на наших суках. Бой прыгнул на пригорок возле дома, с него вспрыгнул на крышу. Мы вошли в дом, наслаждаться чаем с вишнями, настоянными на eau-de-vie.[32]
— Неплохо, неплохо он выглядит, ваш Бой, — похвалил мсье Грегуар.
— Великолепно выглядит, — присоединилась к нему мадам.
— Oui, mais…[33]
Наконец выяснилась причина сомнений мсье Грегуара. Он встал, взял журнал, раскрыл его. Последний выпуск «Club Korthal de France». Множество фотоснимков: собаки в стойке, собаки с дичью в зубах, собаки плывущие, сидящие у ног хозяев…
— Vous voyez, — продолжил мсье Грегуар, — все эти собаки обладают классическим покровом, poil dur.[34] Характеристика породы.
Я посмотрел на фото.
Все изображенные собаки жесткошерстные. Я перевел взгляд на Боя, как раз прижавшего большую бурую мочку носа к стеклу. Шерсть его отросла после стрижки и живописно завивалась колечками. Нам они казались красивыми. Но мсье Грегуар придерживался иного мнения.
— К сожалению, он напоминает… mouton. От шеи к макушке он кортал. От шеи к хвосту он овца. Очень жаль, но такой брак стал бы мезальянсом.
Моя жена чуть не подавилась вишнями. Мадам Грегуар сильно расстроилась. Мсье Грегуар глядел на нас с сожалением. Лишь я внутренне ликовал. Две собаки и овца в доме — вполне достаточно.
Бой, насколько нам известно, все еще холостяк.
За пятьдесят без превышения предела скорости
На свои дни рождения я никогда особого внимания не обращал, даже на те, что случаются раз в десять лет. В день, когда мне исполнилось тридцать, я работал, как и в день сорокалетия. И день полувекового юбилея я вполне счастлив был бы провести в трудах. Однако не тут-то было. Госпожа супруга смотрит на подобные вещи и явления с иной позиции.
— Полсотни лет — это событие, — рассуждала она. — Особенно учитывая, сколько ты потребляешь вина. Даже достижение. Надо отпраздновать.
Спорить, когда у нее подбородок в таком положении, не следует. Поэтому мы обсудили, как, где и с кем отметим. Мне бы следовало сообразить, что у нее все решено, хотя она внимательно, терпеливо и даже вежливо выслушивала все мои предложения — вылазка в Экс, déjeuner flottant [35] в пруду, поездка к морю в Касси. Лишь когда у меня иссякло воображение, она взяла слово. Пикник в Любероне, сказала она, с несколькими избранными друзьями. Так принято отмечать дни рождения в Провансе. Она широкими мазками набрасывала живописные полотна идиллических полянок, утопающих в солнечном свете, окруженных тенью широколистных деревьев… Мне даже будет позволено брюки снять. Мне понравится.
Не знаю почему, но к пикникам у меня с детства аллергия. Я покончил с ними еще в Англии. С сырой земли постоянно ползет вверх по позвоночнику влага и еще что похуже. Муравьи норовят сожрать все, что сам намеревался поглотить. Вино противно пресное, как остывший чай, чай точно такой же противно пресный, тепловатый. И все это великолепие прерывает лопнувший над головой нарыв дождевого облака с такой же противной тепловатой водицей. Пикники я ненавидел. И осмелился не скрывать своего мнения.
Этот окажется совершенно иным, безапелляционно заявила моя супруга. Она все продумала. Она даже привлекла в качестве консультанта Мориса. Все будет культурно и цивильно, в высшей степени оригинально и живописно, не хуже чем Глайндборн[36] в сухой день. В общем, мне очень понравится.
Морис, шеф-повар и собственник «Оберж де ля Луб» в Бюу, знаток и любитель лошадок, где-то добыл и основательно отреставрировал две-три calèches, открытые коляски, и один дилижанс, на лошадиной тяге — un vrai diligence. [37] Морис предлагал эти колесницы в качестве одного из пунктов своего меню. Я якобы буду в восторге.
Я умею мириться с неизбежностью, и вопрос с пикником решился без долгих препирательств. Мы пригласили восемь гостей и скрестили пальцы (не столь истово, как это принято в Англии), дабы сохранилась хорошая погода. Хотя дождь в последний раз случился за два месяца до предполагаемого пикника, в апреле, июнь в Провансе — штука непредсказуемая, иногда дожди хлещут по неделе кряду.
Однако в то утро, выйдя во двор в семь часов, я узрел над головой прозрачную голубизну, подобную цвету пачки сигарет «Голуаз». Каменные плиты мощеного двора приятно грели босые ноги, ящерицы уже замерли на стене в лучах солнца. Проснуться в такое утро — уже прекрасный подарок ко дню рождения. Ранним утром жаркого летнего дня в Любероне, уютно устроившись на террасе, наслаждаться под жужжание пчел в лаванде чашечкой кофе со сливками и любоваться омытой солнечным светом зеленью дальнего леса — что может быть лучше на этом свете? Тепло внушало мне оптимизм и уверенность в собственных силах. Я не чувствовал себя ни днем старше сорока девяти лет и, благодушно опустив взгляд к своим загорелым ступням, молча надеялся, что и шестьдесят встречу так же точно.
Чуть позже теплынь сменилась жарой, а жужжание пчел перекрыл кашель дизеля. К дому подкатил и остановился в облаке пыли потрепанный открытый «лендровер» в боевой камуфляжной раскраске. Прибыл Беннет, выряженный дозорным пустынного патруля, в шортах и военного покроя рубахе, в затемненных танковых очках; машина вся в запасных колесах, канистрах, саперных лопатках и каких-то еще чрезвычайно полезных ящиках и коробочках, прикрепленных к кузову. Из ансамбля выпадала лишь заменявшая каску бейсболка от Луи Вюиттона, неуместная при Эль-Аламейне.[38] Вражеские позиции он пересек по шоссе N100, успешно покорил Менерб и горел энтузиазмом продолжить наступление хоть до альпийских вершин.
— Привет, старик! — провозгласил Беннет. — Не возражаешь, я быстренько позвоню? Понимаешь, плавки забыл защитного цвета… ну, там… где ночевал сегодня. Шикарные плавки, цвет как у трусов генерала Норьеги. Оригинальнейшая тряпица, жаль было бы лишиться.
Беннет ускакал к телефону, а мы погрузили двоих гостей-постояльцев и трех собак в машину, чтобы отправиться в Бюу, где предстояла встреча с остальными. Беннет выскочил из дому, лихо поправил бейсболку. Автоколонна двинулась под взглядами местных жителей, по пояс скрытых зарослями винограда. Их заинтриговал боевой окрас «лендровера» и его живописный водитель.
За Боньё пейзаж несколько одичал, виноградники сменились кустарниковыми пустошами, яркими лавандовыми полями и россыпями валунов. Как будто до ближайшего поселения отпускников сотни миль. Такое изобилие дикой природы радовало глаз. Немало времени еще пройдет, прежде чем здесь появится первый бутик или контора агента по недвижимости.
Мы повернули в глубокую долину. Бюу еще дремал. Растянувшаяся на поленнице дров возле мэрии собака открыла один глаз и лениво тявкнула. Ребенок с котенком на руках повернулся в сторону нашего кортежа, удивленный интенсивностью движения и численностью машин.
Двор заведения Мориса напоминал съемочную площадку фильма, где срочно делают кино по незавершенному сценарию, толком не определившись с составом исполнителей, страной и эпохой действия, гардеробом и декорациями. Белый костюм и широкополая панама, шорты и сандалии, шелковое платье, наряд мексиканского батрака, яркие шарфики и платочки, колпаки и шляпы, наряженный куклой младенец и боевой командир пустынного дозора, выпрыгнувший из «лендровера» и озабоченно инспектировавший его снаружи на предмет наличия свежих пулевых пробоин.
Из-за спин своих лошадиных сил Морис улыбался нам и прекрасной погоде. На нем провансальский выходной наряд: белая рубаха, белые штаны, черный галстук-шнурок, сливово-красный жилет и старая плоская соломенная шляпа. Его друг, возница второй повозки, тоже в белом, оживленном широкими алыми подтяжками и роскошными пепельно-перечными усищами, точная копия Ива Монтана из фильма «Жан де Флоретт».
— Venez![39] — пригласил нас подошедший Морис. — Идемте глянем на лошадок. — И он справился о состоянии нашего аппетита. К месту проведения пикника уже, оказывается, отправился фургон с достаточным запасом продовольствия, чтобы накормить весь Бюу.
Лошадки стояли в саду, в тени деревьев. Ближайшая сразу же заржала и ткнулась в Мориса в поисках сахара. Самая юная гостья, восседавшая на плечах родителя, загукала при виде этаких чудищ, потянулась пальцем к лоснящемуся лошадиному боку. Лошадь приняла ее палец за муху и смахнула хвостом.
Морис и сивоусый Ив Монтан запрягли лошадей в открытую коляску, черную, отделанную красным, и в закрытый семиместный дилижанс, красный с черной отделкой. Обе повозки сверкали так же, как и лошади. Морис всю зиму работал над ними и довел их до безупречного состояния, или, как он это формулировал, «iтресс».[40] Единственное современное добавление — автомобильный клаксон в виде дудки, дабы предупреждать о предстоящем обгоне другие, более медлительные средства передвижения и предостерегать бесшабашных куриц от намерения пересечь дорогу.
— Allez! Montez![41]
Мы последовали приглашению, заняли места, и экипажи, соблюдая ограничение скорости в пределах населенного пункта, двинулись по деревне. Собака с дровяного штабеля гавкнула нам прощальный привет, и экипажи выехали на сельскую дорогу.
Такого рода путешествие заставляет жалеть об изобретении автомобиля. Все видишь иначе, ибо сидишь гораздо выше, двигаешься медленнее, и окружающее предстает в гораздо более интересном свете. Действует преимущественно колебательный ритм — покачивание на подвеске, согласованное с шагом лошадей и рельефом дороги. Приятен и старомодный звуковой фон — поскрипывание упряжных ремней, перестук копыт, негромкий скрежет стальных ободьев. Нас окружал и иной букет ароматов — смесь теплого запаха лошадей, смазки, седельного мыла, древесного лака и духа полей, — не задерживаемый привычными стеклами. Наконец, скорость, точнее, отсутствие скорости, позволяющее вглядеться. В автомобиле все проносится мимо, мелькает, сливается в сплошную смазанную полосу. В автомобиле вы изолированы от пейзажа. В карете вы часть окружающей природы.
— Trottez![42] Пошевеливайся! — Морис огрел лошадь кнутом по крупу, переключив скорость на вторую. — Ленивая она. И обжора. На обратном пути ее погонять не придется, потому что домой, к еде.
По обе стороны от нас раскинулись алые поля цветущего мака. Над ними кружил ястреб, пикировал, взмывал, парил на раскинутых крыльях. Солнце вдруг прикрыло случайное облако, и я заметил почти черные лучи, пронизывающие облачный туман.
Мы свернули с проселка и направились по лесной дорожке, виляющей между деревьями. Копыта более не стучали, погружаясь в густую траву. Я спросил Мориса, как он находит места для пикников, и он сказал, что в каждый свой выходной, еженедельно, отправляется в лес верхом. Иногда за несколько часов блужданий никого не встречает.
— Всего двадцать минут от Апта, но никто сюда не выбирается. Я да кролики.
Лес сгущался, дорожка сузилась в тропу, по стенкам кареты шуршали ветки. Мы миновали несколько валунов, туннель из переплетенных над головами ветвей и уткнулись в накрытый стол.
— Voilà! — провозгласил Морис. — Ресторан открыт!
На траве просеки, в тени раскидистого дуба возвышался стол, накрытый на десять персон. Его украшала белоснежная скатерть с ведерками льда, с накрахмаленными салфетками, со свежими цветами в вазах, с настоящими приборами и настоящими стульями. Фон для стола создавал живописный borie,[43] в далеком прошлом дом пастуха, ныне превращенный в буфетную. Оттуда доносились чпоканье вытягиваемых пробок и перезвон бокалов. Все мое отвращение к пикникам мгновенно улетучилось. Ничто здесь не предвещало отсыревшей задницы и сэндвичей с муравьями.
Морис отгородил часть просеки для распряженных лошадей, и они принялись валяться и кататься по траве, почувствовав облегчение, как пожилые дамы, освободившиеся от корсетов. В окнах дилижанса опустили шторки, младшая гостья заснула на его подушках, а остальные освежились охлажденным персиковым шампанским в крохотном открытом дворике borie.
Ничто так не содействует созданию приятной атмосферы, как отрадное приключение, комфортное нарушение привычного ритма бытия. Морису досталась благодатная публика, которую он, несомненно, заслужил. Он позаботился обо всем, ни в чем не ощущалось недостатка, ни во льде, ни даже в зубочистках. И уж конечно, голод нам не угрожал. Морис пригласил нас занять места за столом и представил выбор первых блюд: дыня, яйца перепелки, тающая во рту brandade,[44] паштет из дичи, фаршированные томаты, маринованные грибочки и так далее, далее, далее, от одного конца стола к другому. Стол как будто спрыгнул с разворота подарочной кулинарной книги из тех, что никогда не увидишь на кухне.
За вводным словом Мориса последовала краткая пауза, во время которой мне вручили самую тяжелую и самую аккуратно выполненную поздравительную открытку — круглый металлический дорожный знак двух футов в диаметре с откровенным напоминанием о прожитых годах.
Bon anniversaire et bon appétit![45]
Мы героически бросились в атаку. За первым штурмом последовал легкий отдых, мы вставали, прогуливались, не выпуская из рук бокалов, возвращались к столу. Ланч затянулся на четыре часа. К моменту, когда подали кофе с именинным gateau,[46] мы впали в блаженное отупение, тормозившее даже застольную беседу. Мир окрасился в розовые тона. Пятьдесят лет — удивительный возраст!
На обратном пути лошади не могли не ощутить увеличения веса пассажиров, однако рысили они более оживленно, чем утром, вскидывая головы и принюхиваясь к воздуху. Воздух же проявлял повышенную активность, ветер то и дело порывался скинуть с голов соломенные шляпы. Издали донесся какой-то приглушенный недовольный рокот. Еще несколько минут — и небо почернело.
Лишь только мы успели вывернуть на дорогу, как с неба просыпался крупный ледяной горох, весьма неприятно долбивший по нашим макушкам и плечам, тарахтевший по твердым поверхностям колесниц и шлепавший по мокрым спинам лошадей, подбадривая их лучше всякого кнута. Поля шляпы Мориса обвисли, прилипли к ушам, с красного жилета дождь стекал на белые штаны. Он смеялся и кричал, соревнуясь с какофонией природы:
— Oh là là, le pique-nique Anglais![47]
Мы с женой с грехом пополам прикрылись дорожным одеялом и обернулись посмотреть, как дела в дилижансе. Крыша его, очевидно, оказалась не в силах противостоять стихии, ибо из окон то и дело высовывались руки, выливая воду из шляп.
В Бюу мы ворвались галопом, Морису пришлось сдерживать лошадь, стремившуюся поскорее попасть домой, в теплую конюшню. К чертям этих двуногих и их дурацкие затеи с пикниками!
Промокшие, но веселые жертвы непогоды ввалились в ресторан, принялись согреваться чаем, кофе, более терпкими и максимально крепкими напитками. Вместо элегантных участников пикника за столиками стучали зубами фигуры в промокших одеяниях, с прилипшими к черепам волосами. Непрозрачные в сухом состоянии белые штаны теперь поздравляли присутствующих надписью «Веселого Рождества!», художественно выполненной красными буквами на заднице просвечивающих сквозь мокрую ткань трусов. Соломенные шляпы казались кучами слипшихся кукурузных хлопьев. Под каждым на полу образовалась персональная лужа.
Сухая мадам и сухой Марсель, официант, ехавший в кабине фургона, обеспечили пострадавших сухой одеждой и marc, и ресторанный зал превратился в раздевалку. Беннет под своей бейсболкой гадал, не следует ли ему проделать обратный путь в плавках. Его боевой экипаж, омытый ливнем, сверкал оставшимися на сиденьях лужами. Во всяком случае, гроза миновала, констатировал Беннет, щурясь в окно.
В Бюу гроза миновала, а в Менербе ее лишь слышали издали. Домой мы возвращались по той же сухой пыльной дороге среди бурой пожух — лой травы. Стоя перед домом посреди раскаленного двора, мы понаблюдали за солнцем, повисшим на западе над двойной верхушкой горы и нырнувшим в скопившиеся там облака.
— Ну, как тебе пикник? — спросила меня жена.
Что за вопрос! Конечно же, мне понравился этот пикник. И вообще мне нравятся пикники. Я без ума от пикников!
Поющие жабы святого Панталеона
Одно из самых странных и примечательных событий, организованных в память повальной декапитации французской аристократии двести лет назад, осталось незамеченным, не освещенным средствами массовой информации. Даже местный рупор времени, иной раз раздувающий на целую полосу такие малозначащие инциденты, как угон автофургона с рынка Кустеле или междеревенские соревнования в boules[48] даже, повторяю, акулы печати из «Le Provençal» не заметили этого исключительного в мировом масштабе события.
Впервые я услыхал об этом в конце зимы. Двое в кафе напротив boulangerie[49] в Люмьере обсуждали вопрос, показавшийся мне весьма странным: могут ли жабы петь.
Более крупный из двоих, судя по жестким мозолистым ладоням и запыленному комбинезону, каменщик, в это не верил.
— Если жабы поют, то я — президент Франции. — Он приложился к своему красненькому. — Эй, мадам! — заорал каменщик даме за стойкой. — Как ваше мнение?
Мадам подняла взор от подметаемого ею пола, оперлась обеими руками о древко швабры и обдумала вопрос.
— Что-то не похож ты на президента. А насчет жаб… — Она пожала плечами. — Я в жабах не разбираюсь. Все может быть. Жизнь — штука странная. Вот я однажды сиамскую кошку видела, так та сама пользовалась туалетом. У меня и фото есть. Цветное.
Второй собеседник, тот, что поменьше, удовлетворенно откинулся на спинку стула, считая вопрос решенным.
— Вот видишь? Все может быть. Мне шурин говорил, что есть в Сен-Панталеоне мужик с жабами, с кучей жаб, так он их тренирует к Bicentenaire.[50]
— Иди ты! — подивился крупный. — И чем они нас порадуют? Флажками будут махать? Плясать под музыку?
— Петь. Петь они будут. — Меньший допил вино и отодвинулся от стола. — Говорят, что к Четырнадцатому июля они смогут «Марсельезу» изобразить.
Так и не придя к согласию, они удалились, а я попытался представить себе, как можно добиться от существ с весьма ограниченными вокальными возможностями воспроизведения звуков, волнующих сердце каждого француза, затрагивающих его патриотическую гордость при мысли об отрубленных головах, сыплющихся в плетеные корзины. Возможно ли это? Я слышал до сих пор лишь неорганизованное кваканье неученых лягушек вблизи нашего дома. Более крупные и, возможно, более одаренные жабы смогли бы, вероятно, осилить и значительный диапазон, и большую длительность нот. Но каким образом их обучать, кто возьмется за это? Очень, очень интересно.
Прежде чем искать человека в Сен-Панталеоне, я попытался заручиться авторитетным мнением. Мой сосед Массо должен знать о жабах. Он часто говорит, что в природе для него нет тайн. Природа, погода, живые существа, летающие, бегающие, ползающие в Провансе… Если в политике и ценах на недвижимость для него еще не все ясно, то в вопросах природы он дока.
Я дошел до глинистой ложбины на краю леса, в крутой склон которой врос домишко Массо. Три собаки дружно бросились мне навстречу, свирепо гавкая, пытаясь сорваться с цепей. Не подходя слишком близко, я свистнул. В доме тут же что-то упало, послышалось проклятие — putain! — и в дверях появился Массо с перемазанными оранжевой краской руками.
Он подошел к собакам, распихал их по конурам и, сунув мне для пожатия локоть, сообщил, что пытается сделать свою собственность еще более привлекательной к весне, когда возобновит попытки ее продать. Как, с моей точки зрения, оранжевый — не слишком броско?
Подивившись его художественному вкусу, я перешел к жабам. Он схватился за усы, окрасив и их в оранжевый цвет, вспомнил о краске, отдернул руку.
— Merde! — Массо протер усы тряпкой, размазав краску и модифицировав их кричащую расцветку, в которой преобладал кирпичный цвет, результат воздействия вина и ветра.
Пригорюнившись, Массо покачал головой.
— Нет, жаб я не ел. Лягушек ел. Но жаб не доводилось. Конечно, английский рецепт, так?
Решив не описывать ему английский деликатес «жаба в норе»,[51] я уточнил:
— Не о еде речь. Меня интересует, могут ли жабы петь.
Массо уставился на меня, подозревая подвох, и обнажил свои ужасные зубы.
— Собаки поют. Врежь псу сапогом по яйцам, еще как споет. — Он задрал голову к небу и изобразил, как запоет пес, которому врезали сапогом по… м-да. — Жабы… Да отчего б и жабам не спеть. Кто знает… Вопрос дрессировки. Мой дядя в Форкалькье козу плясать научил. Как только аккордеон услышит, сразу в пляс. Очень неплохо изображала, только, скажу я вам, все ж не так, как одна свинья, которую цыгане научили. Вот та была танцором — высший класс! Très délicat,[52] несмотря на габариты.
Я рассказал Массо о подслушанной в кафе беседе. Не мог ли он подсказать, как найти того человека?
— Non. Il n'est pas du coin.[53]
Сен-Панталеон, хотя и всего в нескольких километрах, находится на другой стороне шоссе N100, посему — чужая земля, заграница.
Массо начал увлекательную историю о дрессированной ящерице, затем вспомнил о своем прерванном занятии, сунул мне на прощанье локоть и вернулся в свои оранжевые пенаты. По пути домой я решил, что не след беспокоить соседей вопросами о том, что происходит в дальнем зарубежье, лучше пересечь дорогу да разузнать самому.
Сен-Панталеон невелик даже по деревенским стандартам. Не более сотни жителей, конечно же, auberge,[54] конечно же, крохотная церквушка XII века с врезанным в скалы кладбищем. Могильные ниши давным-давно пусты, но сохранили форму. Некоторые детского размера, вплоть до младенческого. День выдался мрачный, мистраль тарахтел ветками деревьев, голыми, как обглоданные кости.
Отвернувшись от ветра, какая-то старуха сметала с порога пыль да пустые пачки «Голуаз», поднимая мусор на ветер, переносивший старухины дары к соседскому порогу. Я спросил бабулю, не подскажет ли она мне, как найти дом человека, который учит жаб петь. Она вскинула на меня испуганный взгляд, скакнула за порог и захлопнула за собой дверь. Отходя от ее дома, я заметил шевеление занавески в окошке рядом с дверью. Вот и готов у нее для вечерних посиделок с соседками рассказ о сбежавшем из психушки иностранце, слоняющемся по деревне.
Перед поворотом к ателье художественной ковки «Ferronnerie d'Art» мсье Ода над неподвижным мотоциклом согнулся мужчина, ковыряя в своем железном коне отверткой. Я спросил и его. Этот не удивился.
— Beh oui. Мсье Сальк. Слыхал я, что он с жабами занимается, хоть с ним и не встречался. Он за деревней живет.
Последовав указаниям этого человека, я добрался до небольшой каменной постройки в достаточном удалении от дороги. Гравий во дворе как будто только что пересеян, почтовый ящик недавно выкрашен, на нем визитка, защищенная пластиком: HONORÉ SALQUES, ÉTUDES DIVERSES.[55] Исследователь-универсал. Что угодно можно предположить. Интересно, чем еще он мог заниматься, кроме управления хором лягушек.
Дверь дома открылась, едва я ступил во двор. Мсье Сальк следил за моим приближением с каким-то нетерпением, глаза сверкали за стеклами очков в золоченой оправе. Очень аккуратный господин, филигранно прямой пробор, тщательно повязан галстук, острые складки брюк, начищенные до блеска небольшие черные туфли. Из открытой двери доносились звуки флейты.
— Наконец-то. Двадцатый век, и три дня без телефона, позор! А где ваши инструменты?
Я объяснил, что я не из бюро ремонта телефонов, а интересуюсь его работой с жабами. Он приосанился, тонкой белой рукой разгладил галстук, не нуждающийся в этом.
— Насколько я могу судить, вы англичанин. Приятно, что слух о моем маленьком достижении дошел до Англии.
Не хотелось сообщать ему, что его достижения подвергаются сомнению уже через дорогу, в Люмьере. Пользуясь его добродушным настроем, я спросил, нельзя ли поглядеть на его хор. Он слегка усмехнулся и просветил меня насчет моего ляпсуса.
— Вот и видно, что вы в жабах не разбираетесь. До весны от них не стоит ждать активности. Однако показать, где они зимуют, могу. Подождите немного.
Мсье Сальк скрылся в доме и появился снова в теплой кофте. В руке он держал фонарик и древнего фасона ключ с аккуратной пластиковой биркой. На бирке каллиграфически выведено слово STUDIO. Мсье Сальк провел меня через сад к сооружению в форме улья, сложенному из плоских камней, — тысячу лет назад типичная для Воклюза постройка.
Сальк отпер дверь и посветил внутрь. Вдоль стен тянулись песчаные насыпи с уклоном к центру, где находился надувной бассейн. Над бассейном висел микрофон, но артистов я не увидел.
— Они спят в песке, — пояснил мсье Сальк, показывая лучом фонаря на насыпи. — Здесь, — он указал влево, — вид Bufo viridis. Их голос напоминает пение канарейки. — Он вытянул губы и издал иллюстрирующую трель. — А вон там, — луч метнулся к противоположному песчаному валу, — зимуют Bufo calamita. Их «звуковой мешок» способен растягиваться до удивительных размеров, звук получается très, très fort.[56] — Мсье Сальк склонил голову, упер подбородок в грудь и очень похоже квакнул. — Вы, конечно, заметили контраст между этими двумя звуками.
Затем он объяснил мне, как из такого странного материала получается музыка. Весной, когда все помыслы этих столь разных особей направлены лишь на спаривание, обитатели песчаных куч пробуждаются от спячки и направляются в бассейн, распевая песни любви. Генетическая скромность позволяет им сочетаться лишь по ночам, но — pas de problème[57] — каждый звук улавливается микрофоном и записывается магнитофоном. Мсье Сальк, не выходя из студии, редактирует, усиливает, микширует, монтирует, синтезирует и при помощи электроники получается, к примеру, «Марсельеза».
И это лишь начало! Скоро нагрянет 1992 год, и мсье Сальк встретит его во всеоружии. Он готовит совершенно оригинальный опус, гимн стран Общего рынка. Здорово, не правда ли?
Я, однако, не разделял энтузиазма мсье Салька. Оригинально, спору нет, но все же фантастика живого жабьего хора отсутствует. Что же касается гимна Общего рынка, тут как раз сплошная фантастика. Если брюссельские бюрократы валандаются годами, не приходя к согласию по таким простым вопросам, как цвет паспорта или бактериальный баланс йогуртов, как они достигнут единства в таком вопросе, как гимн, да еще в жабьем исполнении? Что скажет миссис Тэтчер?
Впрочем, что скажет госпожа Тэтчер, как раз не секрет.
«Жабы должны быть британскими!» — вот чего она потребует. Однако мне не хотелось замешивать в искусство политику, поэтому я задал очевидный вопрос:
— Почему жабы?
Мсье Сальк глянул на меня так, будто хотел спросить, дурак я или только прикидываюсь.
— Потому что этого никто еще не делал.
Конечно же!
Весной и в начале лета мысли мои то и дело возвращались к мсье Сальку и его питомцам, но я решил дождаться июля, когда concerto Bufo уже наверняка будет записан. Если повезет, смогу услышать и гимн Общего рынка.
Но, прибыв к мсье Сальку с повторным визитом, я его не застал. Дверь открыла женщина, чье лицо весьма походило на поверхность скорлупы грецкого ореха, с пылесосной насадкой в руке.
— Дома ли мсье?
Женщина отвернулась и выключила пылесос.
— Нет. В Париж отъехал. — Она помолчала и добавила: — По случаю Bicentenaire.
Музыку он, конечно, забрал с собой?
Этого она не знала. Она всего лишь экономка.
Не хотелось, чтобы поездка прошла совсем уж впустую, и я спросил, нельзя ли хоть жаб увидеть.
Нет. Они отдыхают. Мсье Сальк велел их не беспокоить.
Благодарю вас, мадам.
Не за что, мсье.
Перед Четырнадцатым июля газеты улавливали и излучали новости, повествовали о приготовлениях, о платформах, декорациях, визитах глав государств, о гардеробе Катрин Денев… Но нигде я не нашел ни единого упоминания, даже в разделе культуры, о поющих жабах. День взятия Бастилии прошел без единого квака. Да, мсье Сальку следовало бы добиться живого исполнения.
«Шатонеф-дю — Пап» не сплевывать!
Август в Провансе. В это время лучше вести себя спокойненько, не высовываться из тени, двигаться размеренно и никуда, по возможности, не выезжать. Ящерки это прекрасно понимают, и мне следовало бы брать с них пример.
В августе, в конце восьмидесятых, в полдесятого утра я влез в машину и сразу же почувствовал себя как куриная грудка на сковородке. Я опустил глаза к карте, чтобы определиться с маршрутом, как можно более свободным от туристов и от очумелых на жаре дальнобойщиков. Капля пота с носа упала как раз в точкуназначения, Шатонеф-дю-Пап, малый городок знаменитого вина.
За несколько месяцев до этого, зимой, я встретил на вечеринке по случаю помолвки двоих наших знакомых некоего господина по имени Мишель. Первые бутылки, первые тосты… Я сразу заметил, что если остальные вино просто пили, то Мишель следовал личному ритуалу, весьма продуманному и отработанному. Прежде всего он заглядывал в бокал, затем обнимал его ладонью и взбалтывал круговыми движениями. Подняв бокал до уровня глаз, он всматривался в следы турбулентного движения в толще и по краям. Обоняние его участвовало в исследовании наравне со зрением. Вдох, выдох… Еще одно, последнее вращение… и первые капли осторожно принимаются ртом.
Очевидно, что испытания вина на этом не заканчивались, что тестирование продолжается. Мишель жует, вытягивает губы, добавляет в рот немного воздуху, полощет рот, добавляет вина… Поднимает взгляд к потолку, втягивает щеки и глотает уже после того, как вино многократно обежало его ротовую полость, как стайер беговую дорожку стадиона.
Он заметил мой внимательный взгляд, ухмыльнулся и изрек:
— Неплохо, неплохо… — Второй глоток он принял уже не так обстоятельно, приветствуя бокал поднятием бровей. — Неплохой год — восемьдесят пятый.
Как выяснилось, Мишель по профессии негоциант, профессиональный дегустатор, покупатель вина и продавец нектара. Его специализация — вина Юга, от «Тавель-Розе» (говорят, любимого вина Луи XIV) через золотистые белые, тихие и спокойные, и до тяжелых, бьющих по мозгам «Жигонда». Но из всех вин чудом своим, сокровищем своей коллекции, за бокалом которого лучше всего умереть, он считает «Шатонеф-дю-Пап».
По его описанию можно было подумать, что он обсуждает достоинства женщины. Руки его ласкали воздух, в нежном поцелуе касался он губами кончиков пальцев. Он превозносил полнотелость, букет и мощь. Мощь вполне реальную, ибо крепость «Шатонеф» может достигать пятнадцати градусов. А в наши дни, когда Бордо все слабеет и слабеет, а Бургундия по ценам доступна только японцам, Шатонеф — золотое дно. Он предложил мне навестить его погреба и осмотреться на месте. И продегустировать.
В Провансе время между моментом договоренности о свидании и исполнением этой договоренности часто измеряется месяцами, а то и годами, поэтому я не ожидал немедленного приглашения. Зима сменилась весной, весна перешла в лето, лето достигло апогея в августе, наиболее смертельном месяце, когда с пятнадцатиградусным вином забавляться небезопасно. И тут позвонил Мишель.
— Завтра утром, в одиннадцать, — сказал он. — В погребах Шатонеф. За завтраком съешьте побольше хлеба.
Я поступил согласно его совету, в порядке личной инициативы добавив столовую ложку оливкового масла. Соответственно единодушному мнению местных знатоков, это наилучший способ покрыть желудок защитной оболочкой, предохраняющей от ударного воздействия мощи молодых вин. В любом случае я собирался, колеся по извилистым сельским дорожкам, поступать как дегустаторы-знатоки, то есть не глотать, а полоскать рот и выплевывать.
Вдали показался расплывающийся в жаркой дымке Шатонеф-дю-Пап. Время подходило к одиннадцати. Здесь все дышит вином, все посвящено вину. Отовсюду зазывают тебя выпить, попробовать, продегустировать. Об этом кричат старые облупившиеся и новые, свежеиспеченные объявления. Рядом с виноградниками возвышаются громадные макеты бутылок с теми же приглашениями, просит в гости чуть ли не каждый дом: Dégustez! Dégustez!
Я въехал через ворота в высокой каменной стене, отрезающей погреба от внешнего мира, загнал машину в тень и отлепил себя от сиденья. Солнце тут же напялило на мою голову тесную горячую шапку. Передо мной предстал длинный фасад с зубчатым завершением поверху, без единого окна, но с громадными двойными дверьми, распахнутыми настежь. В дверях застыла группа людей, выделяющихся на черном фоне интерьера. У каждого в руках большая посудина, сверкающая на солнце.
Внутри прохладно, как будто даже студено. Бокал, врученный мне Мишелем, приятно холодит руку. По емкости он один из самых больших, которые я когда-либо видел, стеклянное ведро на ножке, сосуд почти шарообразный, кверху сужающийся, как аквариум для золотых рыбок. Мишель сказал, что вместимость его составляет три четверти бутылки.
Глаза мои привыкли к полутьме после ослепительного солнечного света снаружи. Я понял, что этот погреб не из скромных. В углах его запросто затерялись бы тысяч двадцать пять бутылок. Но их здесь вообще не наблюдалось. Я видел уходящие вдаль ряды бочек, громадных бочек, лежащих на боку и подпираемых с обеих сторон платформами, доходящими до пояса взрослого мужчины. Верхний край обода каждой бочки находился на высоте от двенадцати до пятнадцати футов от пола. На фасаде каждой мелом обозначено наименование содержимого. Впервые в жизни мне довелось прогуливаться по винной карте, оставляя справа и слева «Кот-дю-Рон», «Лирак», «Вакейра», «Сен-Жозеф», «Кроз-Эрмитаж», «Тавель», «Жигонда»… — каждого тысячи литров, по годам, постепенно, без спешки созревающих.
— Alors,[58] — вернул меня на землю Мишель, — что вам налить? Не будете же вы прогуливаться здесь с пустым бокалом.
Выбор слишком сложен. Может быть, попросить совета у Мишеля? У других присутствующих в бокалах что-то переливается. Попросить того же?
Мишель кивнул. Так будет вернее, сказал он, потому что у нас только два часа, и лучше не тратить времени на молодые вина, когда вокруг столько истинных сокровищ. Я порадовался, что смазал нутро оливковым маслом. Сокровищем не поплюешься. Но два часа… За два часа во мне окажется столько же алкоголя, сколько и в любой из этих бочек. Я спросил насчет возможности выплюнуть.
Мишель повел своим бокалом в сторону небольшого стока у входа на «бульвар» «Кот-дю-Рон».
— Crachez si vous voulez, mais…[59]
Ясно, что мысль отказать себе в удовольствии проглотить неподражаемый букет ароматов, совершенных вкусовых оттенков, казалась ему трагичной.
Maître de chai,[60] жилистый старик в хлопчатобумажной куртке блекло-голубого цвета, подошел с аппаратом, напоминающим гигантскую пипетку: трехфутовая стеклянная труба, увенчанная резиновой грушей величиной с кулак. Он нацелил конец трубы в мой бокал и надавил на грушу, пробормотав, как молитву:
— Hermitage'86, bouquet aux arômes de fleurs d'accacia. Sec, mais sans trop d'acidité.[61]
Я крутнул бокал, понюхал, погонял содержимое во рту, проглотил. Превосходно! Мишель совершенно прав. Выплюнуть такое грешно. С некоторым облегчением я заметил, что другие, не допив, сливают содержимое в сосуд с mère de vinaigre,[62] в результате чего получится уксус «четыре звездочки».
Мы медленно продвигались вдоль рядов. На каждой остановке maître de chai влезал по стремянке наверх, выбивал пробку, погружал в бочку конец своей суперпипетки и спускался, обращаясь со своим инструментом так, будто нес заряженное оружие. По мере нашего продвижения это «будто» постепенно утрачивало значение.
Первые несколько зарядов посвящались белым, розовым и легким красным. По мере удаления от входа вина становились все более темными. И крепчали. Каждое сопровождала своя литания, краткая, но выразительная. Красный «Эрмитаж» с фиалково-малиново-тутовым букетом мэтр обозначил как vin viril.[63] «Кот-дю-Рон» «Гранд Кюве» — элегантное выдержанное, тонкое и étoffé.[64] Его словарь впечатлял почти столь же глубоко, как и сами вина: плотное, мясистое, животное, мускулистое, крепкого сложения, сладострастное, жилистое… Причем maître ни разу не повторился. Мне оставалось лишь гадать, то ли у него врожденный дар лирика, то ли он перед сном читает словарь эпитетов.
Наконец мы добрались до сокровища Мишеля, до его merveille,[65] «Шатонеф-дю-Пап» 1981 года. Вину еще предстояло дозревать несколько лет, но и в теперешнем состоянии оно представляло собой шедевр с собственной robe profonde,[66] с оттенками пряными и трюфельными, с его теплотой, уравновешенностью — несмотря на сногсшибательные пятнадцать градусов алкогольного содержания. Я полагал, что Мишель его непременно попробует. Приятно видеть человека, любящего свою работу.
С некоторым сожалением он отставил свой бокал в сторону и глянул на часы.
— Пора. Придется еще за ланчем выпить.
Он зашел в офис и вынес оттуда ящик с дюжиной бутылок. Столько же тащил и вышедший с ним коллега. На ланч мы отправлялись ввосьмером. Всем ли суждено выжить?
Мы вышли из cave и содрогнулись под прямым ударом с неба. Солнце жарило немилосердно. Во время дегустации я принуждал себя ограничиваться маленькими глотками, однако голова гудела. Воды! Необходимо напиться, прежде чем даже думать о вине.
Мишель хлопнул меня по спине.
— Ничто лучше не возбуждает жажду, чем дегустация. Ничего, у нас хватит…
Бог мой!
Ресторан, выбранный Мишелем, находился в получасе езды, в сельской местности за Кавайоном. Деревенский ресторанчик типа ferme auberge[67] с «правильной прованской пищей», по выражению Мишеля. Найти его нелегко, так что мне придется следить за машиной Мишеля.
Легко сказать! Насколько мне известно — хотя мои наблюдения не подтверждаются статистическими выкладками, — француз на пустой желудок ездит вдвое быстрее, чем француз сытый. Хотя и сытый француз отнюдь не руководствуется за рулем соображениями здравого смысла и безопасности. В полной мере это эмпирическое правило относилось и к Мишелю. Только что его багажник маячил передо мной, и вот уже машина его расплылась в размазанное по линии горизонта облачко. Срезая углы, разметая куриц на узких деревенских улочках, Мишель мчался, подгоняемый выделяющимся желудочным соком. Когда мы остановились у ресторана, все мои благочестивые мысли о воде бесследно утекли. Мне необходимо было что-то выпить, чтобы снять стресс и унять дрожь в руках.
Обеденный зал ресторана-фермы оказался прохладным, но шумным. В углу долдонил что-то сам себе широкоэкранный телевизор, на него никто не обращал внимания. Публика в основном местная, загорелые на полевых работах мужчины в старых рубахах и жилетках, все белолобые, с волосами, приплюснутыми к макушке — результат постоянного ношения головных уборов. В углу распласталась по полу собака неизвестной породы, шевеля во сне носом, привлеченным кухонными запахами. Я ощутил волчий аппетит.
Новичков представили Андре, патрону, которого можно было бы описать некоторыми из терминов, отнесенных мэтром винного склада к содержимому бочек. В букете Андре преобладали чеснок, «Голуаз», пастис. Облачение состояло из свободной рубахи, коротких шортов, сандалий на резиновой подошве и выразительных усов. Голос перекрывал висящий в воздухе гул.
— Eh, Michel! Qu'est que c'est? Orangina? Coca-Cola? — Он вытащил из принесенного Мишелем ящика бутылку и полез в задний карман за штопором. — M'amour! Un seau, des glaçons, s'il vous plaît.[68]
Его жена, плотная улыбающаяся женщина, вышла из кухни с подносом, с которого сгрузила на стол два ведерка со льдом, тарелки с колбасой, розовый срез которой отмечали темные зернышки перца, блюдо ярких редисов, глубокую миску с густым тапенадом, оливково-анчоусной пастой, называемой иногда «черное масло» Прованса. Андре привычными движениями откупоривал бутылки, обнюхивая каждую пробку и выстраивая открытые в два ряда в центре стола. Мишель пояснил, что эти вина он не успел опробовать в cave, молодые из Кот-дю-Рон по большей части. И дюжина более сильных старых, подкрепление из Жигонды, к сырам.
Французское застолье обладает каким-то магическим обаянием, нейтрализующим мои, надо признать, весьма жалкие резервы воли и решимости. Каждый раз я сажусь за стол, намереваясь проявить выдержку, лишь отведать того, сего… так, по кусочку, по глоточку… слегка… А через три часа, нянча в руке бокал, я борюсь с искушением, прикидывая, чего бы еще отведать… так, слегка… крошку-другую…
Не думаю, что мною движет жадность. Скорее действует атмосфера. В помещении полно людей, сосредоточенных на еде и питье. Они не только потребляют пищу, но и беседуют о ней. Не о политике, не о спорте или бизнесе. Они обсуждают то, что в бокале и в тарелке. Сравнивают соусы, подливки, спорят о рецептах, вспоминают съеденное и прикидывают, чего бы еще отведать. Мир и его проблемы могут подождать, моментом владеет застолье. Воздух напитан довольством и изобилием. Перед этим я не могу устоять.
Мы начали ланч как спортсмены, с разминки. Редис, зажавший в разрезе кусочек почти белого сливочного масла с крапинками соли; saucisson[69] щекочет перчиком язык; тосты из вчерашнего хлеба сверкают слоем тапенада… Приятно охлаждают глотку розовые и белые вина… Мишель улыбается с противоположной стороны стола:
— Глотать, не плевать!
Патрон, исполняющий свои распорядительские функции, не выпуская из руки бокала, к которому то и дело прикладывается, церемониально представил нам первое блюдо, настолько торжественно, насколько это возможно при шортах и сандалиях на резиновом ходу.
— Voilà, mes enfants. Bon appétit![70] — пожелал он нам, указав на глубокую terrine[71] с обожженными дочерна боками, вдруг оказавшуюся в центре стола. Он воткнул старый кухонный нож в pâte,[72] отлучился на кухню, опустил на стол высокую стеклянную банку с корнишонами и миску лукового джема.
Вино сменило цвет на красный, Мишель принялся наверстывать то, что не успел свершить в cave. Terrine второй раз обошла стол, Андре оторвался от игры в карты, чтобы наполнить свой опустевший бокал.
Я похвалил его луковый джем, но он посоветовал оставить местечко для следующего блюда, верха совершенства — звучно чмокнув, он поцеловал кончики пальцев — alouettes sans tête,[73] специально приготовленных для нас его обожаемой Моник.
Живодерское название этого блюда не отвечает его сути. Оно представляет собой кусочки свинины, обернутые тонкими кусками говядины, обильно сдобренные чесноком, рубленой петрушкой и иными специями, приготовленные в оливковом масле, белом сухом вине и крепком мясном бульоне с томатной пастой. Для того чтобы рулетики не разворачивались, они обернуты суровой ниткой. На жаворонков они никоим образом не похожи, но какой-то одаренный фантазией прованский шеф, очевидно, решил, что жаворонки звучат поэтичнее рулетов, и название прижилось.
Моник подала alouettes, которых Андре, согласно его заверению, настрелял спозаранку. Шутки он обычно сопровождал широкими жестами и так ткнул меня локтем, что я едва не клюнул носом в обширную посудину с ratatouille.[74]
Безголовые жаворонки грели горло температурой своего тела, щебетали чесноком, и Мишель решил, что требуют они более солидного вина. Бутылки «Жигонда» не дождались сыра, и пустых емкостей в конце стола солидно поприбавилось. Я справился у Мишеля, собирается ли он после трапезы вернуться к работе. Он удивился.
— Так ведь я на работе. Таким образом я и продаю вино. Пейте, пейте!
Подали салат, а после него появилась на столе низкая плетеная корзина с сырами. Пухлые головки свежего козьего сыра собственной выделки окружали мягкий канталь и колесо сливочного сен-нектэра из Овернь. Андре, оказавшийся теперь у торца стола, отпустил очередную шутку якобы оверньского происхождения. Когда малыша спросили, кого он больше любит, папочку или мамочку, он по некотором размышлении ответил: «Я ветчину больше люблю». Андре захохотал, а я порадовался, что сижу вне досягаемости его локтя.
Последовали фруктовое мороженое и глазированный яблочный торт. Я капитулировал. Андре забеспокоился.
— Ешьте, ешьте, набирайтесь сил! Мы сейчас сыграем в boules.
После кофе мы посетили козий загон Андре. Козы толпились под деревьями, в тени, и я им позавидовал. Им не надо было играть в шары на солнцепеке. Нет, я пас. Лазерные лучи солнца проделывали дыры в макушке. Желудок тянул к земле. Я извинился, отошел к платану и растянулся на траве.
Андре разбудил меня после шести и сказал, что пора обедать. Имеются две-три бутылки «Жигонда», которые пережили наш ланч. С некоторыми трудностями мне удалось отвертеться, и я ускользнул, отправился домой.
Жена провела спокойный день в тени и в бассейне. Оценив мой помятый, изможденный облик, она озабоченно поджала губы.
— Надеюсь, они тебя хоть чем-то накормили…
Покупка трюфелей у мсье Икс
Вся эта сомнительная афера началась с телефонного звонка из Лондона. Звонил мой друг Фрэнк, которого в одном шикарном журнале однажды обозвали скрытным магнатом-одиночкой. Мне он известен как гурман с развитым вкусом, как человек, воспринимающий обед серьезнее, чем другие относятся к политике. Фрэнк на кухне напоминает охотничью собаку, взявшую след. Он принюхивается, приглядывается, сует нос в булькающее содержимое сотейников, аж дрожит от творческого нетерпения. Запах рагу может привести его в транс. Моя жена считает его одним из наиболее благодарных потребителей ее кулинарной продукции. «Готовить для него — сущее наслаждение», — говорит она.
В голосе Фрэнка звучали тревожные нотки.
— Март, — скорбно сообщил он. — А у меня закончились все трюфели. Там у вас как? Есть еще что-нибудь?
Март завершает трюфельный сезон, и скупщики трюфелей уже покинули окрестные рынки нашей местности, расположенной недалеко от трюфельного края у подножия Мон-Ванту. Нечем мне было обнадежить Фрэнка.
Скорбь его окрасилась ужасом, когда он представил, какие лишения его ожидают. Ни тебе омлета с трюфелями, ни запеченных трюфелей, ни жареную свинину трюфелями не сдобрить. Телефонная трубка, казалось, сейчас изойдет слезами.
— Есть тут один человек, — попытался я утешить скорбящего. — Чем черт не шутит, попытаюсь у него.
Фрэнк оживился.
— Чудесно, чудесно. Мне много не надо, каких-нибудь два кило — и все. Я засуну их в коробки из-под яиц — и в морозилку. Мне только бы на весну да на лето хватило. Пара кило, не больше.
Два килограмма свежих трюфелей по текущим парижским ценам тянули на тысячу фунтов с гаком. Даже здесь, в Провансе, без посредников и торговых наценок, при покупке у охотников в грязных сапогах, прямо из их мозолистых ладоней, сумма окажется внушительной. Я переспросил Фрэнка насчет количества грибов.
— Ну хоть что-нибудь. Не будет двух кило — сколько найдется.
Мой единственный контакт с трюфельной индустрией — номер телефона на обороте счета, выписанного шефом одного из местных ресторанов. Он рекомендовал охотника как un homme sérieux[75] в вопросах, касающихся трюфелей, отличающегося безупречной честностью, что немаловажно в темном мире торговли трюфелями. Случаев жульничества не меньше, чем летних солнечных дней в Эксе. Слышал я о трюфелях, начиненных для веса свинцовой дробью, обмазанных грязью, о подмене местных менее ценными итальянскими. Без надежного поставщика запросто попадешь впросак.
Я позвонил по номеру, указанному на счете, сообщил, откуда мне известен телефон. Рекомендация оказалась весомой, и человек на другом конце линии спросил, чем он может быть мне полезен.
Трюфели. Два килограмма.
— Oh là là… Вы — ресторан?
Я объяснил, что представляю своего друга из Англии.
— Англичанин? Mon Dieu!
Собеседник мой не спешил соглашаться. Он объяснил сезонные затруднения при такой значительной потребности. Ничего не обещая конкретно, мсье Икс (дадим ему такой трюфельный псевдоним) заверил меня, что отправится с собаками «в холмики» и о результатах поисков сообщит. Придется, конечно, подождать какое-то время.
Прошла неделя, пошла другая, и однажды вечером он позвонил.
— Я набрал столько, сколько вам нужно. Завтра вечером можем встретиться.
Он велел мне ждать у телефонной будки на дороге в Карпантра в шесть вечера. Какого цвета и какой марки мой автомобиль? Непременное условие — оплата наличными, чеки не принимаются. Это условие, впрочем, в торговле трюфелями совершенно обычное. Чекам и квитанциям не верят, никакого бумажного учета не ведут, о подоходном налоге никто не хочет и слышать.
К шести часам я подъехал к телефонной будке. На дороге никого, толстая пачка наличных в кармане вызывала у меня повышенное беспокойство. В газетах полно сообщений о грабежах на дорогах Воклюза. Толпы voyous[76] рыскают по вечерним дорогам, и благоразумным гражданам, согласно уголовной хронике «Le Provençal», лучше не высовывать носа из дому.
Я почувствовал себя фаршированной уткой, набитой пятисотфранковыми ассигнациями. Оглядевшись в поисках какого-нибудь оружия, я не обнаружил ничего опаснее корзины для покупок и затрепанного гида «Мишлен».
Маяться мне пришлось минут десять, затем я заметил свет фар приближающейся машины. Помятый фургон марки «Ситроен» остановился с другой стороны будки. Мы с водителем фургона исподлобья оглядели друг друга. Он был один, и я вышел из машины.
Вместо ожидаемого старого чернозубого крестьянина в брезентовых сапогах я увидел перед собой молодого человека с коротко стриженными черными волосами, нетронутыми сединой. Вел он себя любезно, даже улыбался, пожимая мне руку.
— Вам моего дома в темноте без провожатого не найти. Следуйте за мной.
Мы оставили шоссе и по извилистой каменистой дороге углубились в холмы. Мсье Икс привычно гнал, как по асфальту, заставляя меня трястись за ним, подпрыгивая на ухабах. Наконец мы въехали в ворота и остановились перед неосвещенным домом, окруженным зарослями дубов и дубков. Открыв дверцу, я нос к носу столкнулся с мордой крупной немецкой овчарки и понадеялся, что она хорошо поужинала.
Трюфели я учуял, как только мы вошли в дом. Сочный, чуть гниловатый аромат, проникающий сквозь все на свете за исключением разве что стекла да металла. Даже яйца, если их хранить рядом с трюфелями, приобретают их запах и вкус.
Здесь они лежали в корзине, стоявшей на кухонном столе. Черные, узловатые, уродливые… дорогие деликатесные грибы.
— Voilà. — Мсье Икс поднял корзину к моему носу. — Грязь я счистил, теперь мойте лишь перед самым употреблением, не раньше.
Он вынул из буфета древние весы, подвесил их на крюк в балке над столом. Трюфели переместились из корзины в почерневшую от времени чашку весов, один за другим. Мсье Икс тщательно ощупывал каждый гриб, сопровождая процедуру рассказом о своем эксперименте. Он купил миниатюрную вьетнамскую свинью, которую собирался обучить охоте на трюфели. Ведь у свиней обоняние тоньше, чем у собак, сказал мсье Икс, однако обычная свинья размером с малый трактор не слишком удобный спутник в предгорьях Мон-Ванту.
Стрелка весов, поколебавшись, замерла на двух килограммах, мсье Икс упаковал трюфели в два полотняных мешка. Поплевав на пальцы, он пересчитал деньги.
— C'est bieng.[77]
На столе появилась бутылка marc и две рюмки, мы выпили за успешную подготовку трюфельной суперсвиньи. В следующий сезон мсье Икс готов был мне продемонстрировать ее в действии. На прощанье он наградил меня горстью мелких трюфелей и собственным рецептом омлета, а также пожелал счастливого полета в Лондон.
Запах трюфелей заполнил кабину моего автомобиля. На следующий день мой авиабагаж излучал тот же аромат, и когда самолет приземлился в Хитроу, из багажного отсека над головой хлынула такая трюфельная волна, что пассажиры, косясь в мою сторону, жались в сторонку.
В то время как раз поднялся большой шум по поводу доклада замминистра здравоохранения Великобритании Эдвины Кэрри о куриных яйцах, зараженных сальмонеллой, и я уже видел себя припертым к стенке таможенным досмотром, обнюхиваемым собаками и запертым в карантине в качестве угрозы здоровью британской нации. Таможенники, однако, и ноздрей не повели. Зато водитель такси забеспокоился:
— Ух ты… Что у вас там?
— Трюфели.
— Трю… Сгнили, что ли?
Он поднял стеклянную перегородку и спас меня таким образом от обычного водительского монолога. Доставив меня к дому Фрэнка, он вышел из машины и открыл задние окна с обеих сторон.
Магнат-одиночка с энтузиазмом приветствовал меня и сразу набросился на трюфели. Он тут же понесся демонстрировать один из мешков прибывшим к обеду гостям, иные из которых улыбались явно лишь из вежливости, а некоторые вообще не представляли, что они такое нюхают. После этого Фрэнк вызвал своего командующего кухней, шотландца с такой осанкой, что к его должности хотелось добавить через дефис что-то генеральское.
— Надо безотлагательно заняться ими, Воан.
Воан поднял брови, деликатно принюхался.
Он-то понял, с чем имеет дело.
— О-о… Отличный трюфель. Превосходно пойдет с fois gras…[78]
Мсье Икс с ним, несомненно, согласился бы.
Около двух лет я обходился без Лондона, и странным нашел этот город, прибыв в него снова по необходимости. Я чувствовал себя чужим, иностранцем, удивлялся, как сильно изменился. Или как сильно изменился Лондон. Бесконечные толки о деньгах, ценах, имуществе, недвижимости, биржевых котировках, корпоративной акробатике… Погода, когда-то традиционная английская тема, не поминалась ни разу. Она-то, кстати, осталась прежней. Люди и строения затягивала постоянная дождевая дымка. Сверху непрерывно лило или капало, народ сновал по улицам, уткнув носы в асфальт. Движение не заслуживало этого обозначения, но большинство водителей на это не обращали внимания, проводя время в разговорах по автомобильным телефонам — предположительно о деньгах, ценах, имуществе… Мне не хватало света и простора Прованса, я осознал, что не хочу жить в этом городе.
По дороге в аэропорт водитель такси спросил, куда я направляюсь, а когда я ответил, кивнул с видом знатока.
— Был там разок. Фрежюс. С жилым прицепом. Чертовски дорогое удовольствие.
Он взял с меня двадцать пять фунтов, пожелал счастливого пути и предупредил, чтобы я не пил сырой воды. Он раз напился там, во Фрежюсе. Три дня с горшка не слезал. Жена очень радовалась.
Я перелетел из зимы в весну, подивился неформальному приему французской таможней в аэропорту Мариньян. Этого я не смог постичь. Марсель считается одним из крупнейших центров европейской наркоторговли, но пассажиры с чемоданами гашиша, героина, кокаина, английского чеддера и иного противозаконного багажа спокойно выходят из аэропорта без таможенного досмотра. Как и погода, полный контраст Хитроу.
Мсье Икс порадовался теплому приему, оказанному его товару в Англии.
— Ваш друг, должно быть, настоящий любитель и ценитель.
— О, еще какой! Но некоторые из его друзей такой страсти не понимают.
Я представил, как он пожимает плечами. Конечно, вещь совершенно особая. Кому нравится, кому и нет. Что ж тут такого. Tant mieux, тем лучше для тех, кому нравится. Он засмеялся и сменил тон на доверительный.
— У меня есть кое-что интересное. Я сделал фильм, могу показать. Выпьем по рюмочке и поглядим, если желаете.
При свете дня я отыскал его дом, и его собака встретила меня как утерянную кость, которую давно разыскивала. Мсье Икс отозвал пса, зашипев на него так, как охотники это делают в лесу.
— Играет, — заверил он меня. Обычная отговорка любого владельца собаки.
Мы вошли в прохладную кухню, пропахшую трюфелями. Он разлил marc в две толстостенные стопки и предложил называть его Аленом, завершив это имя добрым прованским носовым — Alang. Мы перешли в гостиную, зашторенные окна которой создавали в помещении полумрак. Он вложил кассету в видеомагнитофон.
— Voilà, — сказал Ален. — Я не Франсуа Трюффо, конечно, просто у друга камера… Хочу еще снять, только профессиональнее.
Зазвучал саунд-трек из фильма «Жан де Флоретт», на экране появился Ален с двумя собаками, снятый со спины, шагающий к лесу на фоне возвышающейся вдали Мон-Ванту с убеленной снегами вершиной. На шагающего Алена наложилось название: «Rabasses de Ma Colline». Ален объяснил, что словом Rabasses на прованском диалекте обозначают трюфели. То есть «Трюфели моего холма».
Несмотря на легкую дрожь руки оператора и некоторую категоричность монтажа, фильм увлекал. Собаки принюхивались, чуяли гриб, начинали скрести когтями, энергично раскапывать. Затем рука Алена отодвигала их в сторону и принималась осторожно прощупывать путь в глубь разрыхленной почвы. Каждый раз, когда из земли извлекался трюфель, собаки вознаграждались кусочком печенья или колбасы, камера крупным планом показывала измазанную почвой руку с выпачканным землей собачьим призом. Рассказ Алена сопровождал неозвученную съемку.
— Хорошо она работает, эта, мелкая, — указал Ален на неказистую собачонку неизвестной породы, изучающую почву под трюфельным дубом. — Только уже стара, сдает. — Вот собака врылась в землю, и в кадре появилась рука Алена. Крупный план: собачий нос весь в земле, рука отпихивает морду в сторону. Пальцы углубляются, выбирают камни, выгребают почву, неторопливо выкапывают ямку шестидюймовой глубины…
Затем вдруг в кадре появилась хищная морда хорька. Ален встал и нажал кнопку быстрой перемотки вперед.
— Дальше охота на кроликов. Но впереди еще кое-что интересное, такое сейчас нечасто увидишь.
Он замедлил движение пленки, хорька, несколько этим недовольного, засунули в вещмешок, и на экране появился фургон «Ситроен-2CV», подруливший к дубовой роще и замерший. Из кабины вылез глубокий старик в полотняном картузе и бесформенной куртке, медленно подошел к задней двери фургона. Открыв ее, он вытащил грубо сколоченные деревянные сходни, приладил их к кузову, обернулся и послал в объектив лучезарную улыбку. Снова полез внутрь. В руках у него появилась веревка. Он еще раз улыбнулся камере и потянул за веревку.
Фургон заколыхался, из него постепенно, дюйм за дюймом, высунулась чумазая физиономия здоровенной розовой свиньи. Старик удвоил усилия, и свиная туша неуверенными шажками спустилась по трапу. Свинья поводила ушами, активно замигала, и я не удивился бы, если б и она, подражая хозяину, улыбнулась в объектив. Но свинья комплексов кинозвезды не демонстрировала, вела себя достаточно пассивно.
— В прошлом году, — лаконично, но веско прокомментировал Ален, — эта госпожа нашла под триста кило трюфелей.
Ничего себе! Мы смотрели на животное, заработавшее в прошлом году больше, чем большинство из лондонских предпринимателей, причем не пользуясь автомобильным телефоном.
Старик и свинья неторопливо направились в рощу, как будто на прогулку, два округлых силуэта, подсвеченных зимним солнцем. После затемнения на экране появились сапоги деда, затем свиное рыло, активно разрывающее землю. Этакий увлеченный работой живой канавокопатель.
Голова свиньи дернулась, и камера переметнулась к старику, натянувшему веревку. Свинья, однако, сопротивлялась, стремилась продолжить увлекательное занятие.
— Запах трюфелей для свиньи связан с сексом, — пояснил Ален. — Поэтому она не хочет уходить.
Веревка старику не помогла. Он подошел к животному, уперся плечом в свиной бок. Минута препирательства, и свинья наконец уступила напору. Старик полез в карман и сунул что-то своей кормилице. Конечно же, не трюфель по пятьдесят франков за кусочек.
— Желуди, — устранил мои сомнения Ален. — А теперь смотрите.
Коленопреклоненный старец выпрямился, повернулся к камере и вытянул вперед трюфель размером чуть больше мяча для гольфа. Старик улыбался, сверкая на солнце золотыми коронками. Трюфель пропал в пятнистом полотняном мешке, а старик и свинья проследовали к очередному дереву. В конце — апофеоз. Обе ладони старика наполнены грязными комками. Добрая утренняя охота!
Хотелось посмотреть, как свинью будут уговаривать, уламывать, заманивать желудями обратно в фургон, но вместо этого фильм завершил вид горы Ванту и музыкальный фрагмент из «Жан де Флоретт».
— Видите, какие сложности с обычной свиньей. — Как не увидеть. — Надеюсь, что с моей при таком же чутье будет легче с этим. — Ален развел руки в стороны, показывая габариты. — Пошли покажу. Она у нас англичанка. Звать на английский манер — Пеги.
Пеги занимала квартиру рядом с жилищем двух трюфельных собак Алена. Ростом она слегка превосходила собачью породу вельш-корги, хотя и была, разумеется, вдвое толще. Робкая черная свинка. Мы уставились на нее, она застеснялась, хрюкнула и потрусила в уголок, где и залегла. Ален сказал, что характер у нее завидный и что он вот-вот начнет с ней заниматься, так как сезон закончился и времени достаточно. Я спросил, как он ее станет тренировать.
— Терпением. Я этого научил трюфель искать, — он кивнул на немецкую овчарку, — а у него ни нюха, ни таланта, не его это занятие.
Я высказал желание увидеть свинью в действии, и Ален предложил мне принять участие в его охоте в следующую зиму. Вел он себя совершенно не так, как обычный крестьянин-охотник, недоверчивый, всего опасающийся. Ален — энтузиаст и счастлив поделиться своим фанатизмом.
В этот раз на прощанье он вручил мне плакат, рекламирующий эпохальное событие в истории трюфелей. В деревне Бедуан у подножия Мон-Ванту готовилось побитие мирового рекорда, приготовление колоссального трюфельного омлета, претендующего на занесение в Книгу рекордов Гиннесса. Цифры поражали: семьдесят тысяч яиц, сто килограммов трюфелей, сто литров масла, одиннадцать килограммов соли, шесть килограммов перца. Диаметр сковороды — десять метров. Выручку от мероприятия предполагали направить в благотворительный фонд. Такой день надолго запомнится, уверенно заявил Ален. Ведутся переговоры о приобретении батареи новых бетономешалок для приготовления исходной смеси. Руководить приготовлением омлета будет один из наиболее авторитетных шефов Воклюза.
Я высказал мнение, что такого рода событие нетипично для трюфельного фронта. Слишком оно открытое, слишком отличается от обычного теневого характера рыночных сделок.
— А, это… Да, верно подмечено, есть люди, немного… — он неопределенно повел рукой, — serpentin.[79] — Он посмотрел мне в глаза и улыбнулся. — В следующий раз я вам расскажу кое-что.
Мы простились, и я поехал домой, раздумывая, смогу ли убедить Фрэнка прибыть из Лондона для участия в этом эпохальном событии, побитии омлетного мирового рекорда. Неординарное гастрономическое событие! И, конечно, генерал-мажордом Воан тоже должен принять участие. Я живо представил себе, как он в строгой трюфельной форме управляет трюфельными операциями, распределением ингредиентов между бетономешалками: «Сюда еще ведерко перца, прошу вас…» Может быть, разработать для него шефский колпак в цветах и узоре его клана, а также приобрести штаны для горного туризма. Я пришел к выводу, что не следует употреблять marc по вечерам. Странные мысли приходят в голову.
Наполеоны в недрах сада
У дальнего конца нашего бассейна славные строители Дидье и Клод оставили длинную насыпь из разного рода сувениров их полезной деятельности. Строительный мусор, треснувшие плитки, сломанные плиты мощения, снятая проводка с выключателями… Предполагалось, что однажды они вернутся со своим грузовиком и заберут весь этот хлам. Тогда этот безукоризненный участок земли можно будет засадить розами.
Но почему-то операция по эвакуации у них никак не вписывалась в график. То грузовик в разъездах, то Клод палец на ноге сломает, то Дидье в срочном порядке что-то крушит в Нижних Альпах… Сувенирная гора так и оставалась на месте. Время пошло ей на пользу, смягчило ее грубые очертания свежей зеленью, сквозь которую пробивались дикие маки. Я обратил внимание жены на спонтанную живописность этой детали садового дизайна, но она придерживалась иного мнения. Розы, сказала она, повсеместно считаются более живописными, чем строительный мусор и пивные бутылки. И я начал разбирать завал.
Я никоим образом не чураюсь физического труда. Он мне даже приятен. Ритм работы захватывает, а результаты ее вдохновляют. Каких-то две недели — и земля очищена, можно залечивать пузыри на ладонях. Жене результат тоже понравился. Теперь, сказала она, нам нужны две глубокие траншеи и полцентнера навоза. Она обратилась к творческой работе с каталогами роз, а я заклеил ладони и купил новую мотыгу.
Разрыхлив около трех ярдов твердокаменной земли, я вдруг заметил тусклое поблескивание чего-то желтого меж корнями. Какой-то давний покойник, житель дома, выкинул давным-давно пустую бутылку из-под пастиса, подумал я. Но, нагнувшись, понял, что это не бутылка и не металлический колпачок от нее. Запустив в землю пальцы, я вытащил оттуда монету. Отмыв ее под краном, смахнул капли воды с бородатого профиля.
Монета в двадцать франков, датированная 1857 годом. На одной стороне была изображена голова Наполеона III с козлиной бороденкой и готическим шрифтом обозначено его общественное положение — ИМПЕРАТОР — вместе с именем. На реверсе лавровый венец, увенчанный гордым EMPIRE FRANÇAIS, а по краю утешительная для каждого француза констатация: Dieu protège la France.[80]
Жену находка взволновала не меньше моего.
— Наверняка там еще есть! Копай, копай!
Не прошло и десяти минут, как я наткнулся на вторую монету, тоже в двадцать франков. Эта покинула монетный двор в 1869 году. Наполеон за эти годы нимало не постарел, добавился лишь венчающий его голову лавровый венок. Я стоял в выкопанной мною яме и прикидывал, что осталось мне еще двадцать ярдов и что при такой интенсивности обнаружения — одна монета на ярд — к концу канавы у меня окажется полный карман наполеондоров. Мы сможем себе позволить ланч в «Л'Усто де Боманьер» в Ле-Бо-де-Прованс. Я принялся махать инструментом, пока не затекли руки, сквозь пелену пота вглядываясь в землю и ожидая, когда мне снова подмигнет Наполеон.
Богаче я к концу дня не стал, но яму выкопал достаточную для высадки взрослого дерева. Убежденность, что завтра я наверняка обнаружу клад, не исчезла. Сами посудите, кто же будет зарывать две жалкие монеты! Наверняка они выскочили из увесистого мешка, все еще ждущего обнаружения на разумной глубине.
Для оценки стоимости находки мы заглянули в финансовый раздел «Le Provençal». В стране, где народ по привычке держит сбережения в золоте под матрасом, пресса не может не откликнуться соответствующим образом. И нашли информацию между килограммовым самородком и мексиканской монетой в пятьдесят песо. Наполеондор весил в наши времена триста девяносто шесть франков, а то и больше, в зависимости от сохранности.
Никогда мотыга в руках моих не взлетала с таким азартом. Этот азарт и привлек внимание Фостена. Он задержался на пути к винограднику, где со дня на день, по его твердому убеждению, ожидалась очередная напасть в виде какой-то зловредной плесени. Фостен справился, чем это я занимаюсь. Я, соответственно истине, ответил, что сажаю розы.
— Ah bon? Большие розы, как я понимаю, раз такая под них яма. Розовые деревья, должно быть. Чего только там в Англии не придумают. Тяжелые времена для роз. Черная ржа.
Он скорбно покачал головой, готовый поделиться со мной своим пессимизмом. Фостен на короткой ноге со всеми социальными бедами и природными катаклизмами и не жалеет усилий, чтобы просветить недоумков, надеющихся на лучшее. Чтобы его подбодрить, я рассказал ему о золотых Наполеонах.
Он присел на корточки возле моей траншеи, сдвинул на затылок запятнанную антиплесневым средством кепку, сосредоточился.
— Обычно, — изрек он, — если нашлись два наполеондора, надо искать и другие. Но это не лучшее место их прятать. — Он махнул своей широкой загорелой пятерней в сторону дома. — Колодец гораздо лучше. Камин, дымовая труба…
Я возразил, что монеты, может быть, прятали в спешке. Фостен снова покачал головой, и я понял, что понятие «спешка» он не воспринимает как таковое, а тем более когда речь идет о мешке золота.
— Крестьянину торопиться некуда. Особенно с наполеондорами. Эти здесь он обронил случайно, по неряшливости, а не наспех.
Я отметил, что случайность эта для меня счастливая, и удрученный мыслью о счастливой случайности Фостен отправился искать закономерное предзнаменование катастрофы в своем винограднике.
День проходил за днем, пузыри на моих ладонях процветали, траншея углублялась и удлинялась. Счет Наполеонов застыл на двух. Но это нелогично. Никакой крестьянин не пойдет в поле — во двор — с двумя наполеондорами в кармане. Где-то должен таиться клад. Где-то в паре шагов от места, на котором я стоял. Я твердо верил в это.
И я решил проконсультироваться с самоназначенным экспертом долины, человеком, для которого Прованс — открытая книга, с мудрым, корыстным, хитрым Массо. Если кто и мог сообразить, просто понюхав ветер и плюнув наземь, где старый хитрый селянин закопал свои сбережения, то, конечно же, это Массо.
Я прошелся по лесу, дошел до дома Массо и услышал, как кровожадно залаяли его собаки, уловив мой запах. Я опасался, что однажды они сорвутся с цепей и изничтожат все живое в округе. Надежда лишь на то, что Массо все-таки умудрится до этого продать свой дом.
Массо я застал вышагивающим по своему, как он его называл, палисаднику, представляющему собой голую утоптанную площадку, усеянную собачьими кучами и кочками наиболее нахальных сорняков. Завидев меня, он прикрыл глаза от солнца, щурясь не от света, а от дыма своей толстой желтой самокрутки.
— On se promène?[81]
Нет, я не прогуливаюсь, ответил я. Сегодня я пришел специально, чтобы посоветоваться. Он хмыкнул и пинками попросил собак замолчать. Мы стояли друг против друга, разделенные цепью, отгораживающей его собственность от лесной тропы, достаточно близко, чтобы я уловил мощный дух чеснока и крепкого черного табака. Я рассказал ему о двух монетах, и он отлепил окурок от губы, проинспектировал его внимательно, пнул подвернувшуюся под ногу снова заворчавшую собаку и опять воткнул чинарик под пятнистые усы.
— Кому вы об этом рассказали? — Он огляделся, чтобы убедиться, что рядом нет никого, кроме собак.
— Жене, конечно. И Фостену. Больше пока никому.
— И не рассказывайте, — велел он, постучав кончиком пальца по пятнистому носу. — Может, там еще есть монеты. Пусть это останется entre nous.[82]
Мы отправились к моему дому, чтобы дать возможность эксперту ознакомиться с обстановкой, и он поведал мне, почему французы одержимы золотом. Политики виной всему, политики, начиная с Революции. После этого королей сменили императоры, войны, всякие там президенты — большинство кретины. Тут Массо для подтверждения своих слов сплюнул. Девальвации в мгновение ока превращали сотню франков в сотню сантимов. Неудивительно, что простой крестьянин не верит клочкам бумаги, напечатанным этими salauds[83] в Париже. Другое дело — золото. Массо воздел руки и пошевелил пальцами, обозначая несметные кучи наполеондоров. Золото никогда не обманет, особенно в дни невзгод и тяжких сомнений. А наилучшее золото — золото мертвеца, потому что мертвецы не спорят, не возражают. Очень удачно, сказал Массо, что «мы с вами» — то есть он и я — натолкнулись на такую неосложненную ситуацию. Оказалось, у меня нашелся партнер.
Мы спрыгнули в траншею. Массо потягивал себя за усы и оглядывался. Поверхность участка плоская, часть в лаванде, часть поросла травой. Никакой очевидной приметы не заметно — что, по мнению Массо, и к лучшему, ибо любой намек на сокрытый клад мог быть понят, расшифрован, истолкован и использован для обнаружения сокровищ, и «наше» золото пропало бы. Он вылез из канавы, промерил шагами расстояние до колодца, уселся на каменную стену.
— Где угодно он может быть, — недовольно проворчал Массо и широким жестом обвел пространство двора. — Немало вам придется раскопать. — Очевидно, партнерство наше не предусматривало его участия в физической работе. — Что нам надо, так это machin для обнаружения металла. — Массо изобразил из своей руки металлоискатель и повел ею над травой, языком подражая его щелчкам. — Beh oui. И тогда мы его найдем.
— Alors, qu'est qu'on fait?[84] — международным жестом Массо потер друг о друга большой и указательный пальцы, намекая, что пришла пора обсудить условия нашего сотрудничества.
Мы пришли к соглашению, что я закончу рытье траншеи, а он обеспечит высокие технологии — возьмет напрокат металлоискатель. Осталось распределить прибыли. Я предположил, что десяти процентов за работу с металлоискателем вполне достаточно. Массо, однако, считал, что половина звучит гораздо приятнее. Ведь за металлоискателем надо ехать в Кавайон, плюс к тому надо учитывать рытье на месте обнаружения клада. А главное — доверие, которое я могу ощущать в отношении такого ценного партнера, умеющего хранить секреты. Ведь надо держать язык за зубами, подчеркнул Массо.
Я глянул на его лицемерную физиономию и подумал, что более ненадежного партнера, чем этот старый мошенник, трудно себе представить по эту сторону решеток марсельской тюрьмы. Я уступил до двадцати процентов. Он вздыхал, ахал, обозвал меня скрягой и согласился на двадцать пять. Четверть. Мы пожали друг другу руки, и он на счастье плюнул в выкопанную мною канаву.
После этого убыл, и я не видел его несколько дней. Я закончил траншею, начинил ее навозом и заказал розы. Доставивший их садовник подивился глубине траншеи, но я не стал просвещать его, помня о прокламированной Массо необходимости держать язык за зубами.
Планирование общения в Провансе не в почете. Более того, к нему, похоже, питают глубочайшее отвращение. Здешний народ предпочитает доставить своим появлением приятный сюрприз, вместо того чтобы осведомиться, не заняты ли вы чем-либо еще. Когда провансалец прибывает к вам, он ожидает, что у вас достаточно времени на любезности и на бутылочку, прежде чем поинтересоваться целью визита, и если вы скажете ему, что вам надо уходить, он вас не поймет. Что за спешка? Полчаса ничего не значат. Вы просто-напросто опоздаете, только и всего.
Уже почти в сумерки, entre chien et loup,[85] мы услыхали, как к дому подъехал фургон. Мы собирались на встречу с друзьями, и я вышел, чтобы завернуть визитера, пока не поздно.
Фургон стоял с распахнутыми задними дверьми и интенсивно раскачивался из стороны в сторону. Внутри что-то грохнуло, оттуда раздалось проклятие — Putaing! Мой бизнес-партнер боролся с застрявшей в решетке позади сиденья водителя киркой. Героическим усилием Массо наконец высвободил инструмент и вылетел наружу несколько быстрее, чем намеревался.
Гардероб его полностью изменился. Камуфляжные брюки, камуфляжный свитер, камуфляжная шляпа с полями — все с армейской распродажи. Ни дать ни взять наемник какой-нибудь банановой хунты. Он тут же выгрузил кирку, лопату с длинным черенком и нечто, обернутое мешковиной. Оглядевшись по сторонам, он сдернул мешковину и предъявил металлоискатель.
— Voilà! Лучше не найдешь. Берет на глубину до трех метров.
Он включил прибор и провел им над лопатой и киркой. Естественно, металлоискатель обнаружил инструменты и заскрежетал, как возбужденные вставные челюсти. Массо пришел в восторг.
— Видал? И рыть не надо. Сам найдет и сообщит.
Я сказал, что это очень здорово и что я его надежно запру на ночь, чтобы завтра с утра начать поиски.
— Завтра? — поразился Массо. — Немедленно!
Я указал на то, что через полчаса стемнеет, но Массо это обстоятельство не смутило.
— Именно! Пусть стемнеет. Ни к чему, чтобы все нами любовались. Лучше всего работать в темноте. Пошли! Несите инструменты.
— Но мы уезжаем, — возразил я.
Массо непонимающе на меня уставился.
— Уезжаете? Сейчас? На ночь глядя?
Жена крикнула из дому, что мы уже опаздываем. Массо изумился нашему расписанию, ничуть не удивляясь своему намерению работать ночью. Ладно, он сделает все сам. Фонарь-то хоть у меня есть? Я показал, где подключить фонарь у колодца, и он приладил его, направив свет на участок возле нашего розария, ворча, что все приходится делать самому.
Отъезжая, мы остановились и оглянулись. Удлиненная тень Массо двигалась между деревьями, тиканье металлоискателя ясно слышалось в вечерней тишине. Я покачал головой.
Высшая степень секретности. Можно было повесить у въезда табличку:
ИДУТ ПОИСКИ КЛАДА. ПРОСЬБА НЕ МЕШАТЬ
Мы рассказали друзьям о происходившей на нашем участке разведке зарытых сокровищ. Глава семьи, родившийся и выросший в Любероне, оптимизма не проявил. Он помнил, что, когда появились первые металлоискатели, они мгновенно стали у крестьян популярнее, чем охотничьи собаки. Да, кое-кто действительно обнаружил кое-какое золото, но сейчас вся местность так прочесана, что Массо обнаружит разве что старую подкову.
Однако два золотых оставались фактом, неопровержимым аргументом. Он поднял выложенные перед ним на стол монеты. Как знать, может, нам и повезет. Или повезет моему бизнес-партнеру, а мы и не узнаем, что ему повезло. Он хотя бы заслуживает доверия? Мы с женой переглянулись и решили, что пора домой.
Вернулись мы сразу после полуночи. Массо и след простыл. Фонарь он выключил, но луна светила так ярко, что включать его снова не было необходимости. То, что мы пытались превратить в газон, усеивали беспорядочно навороченные кучи земли. Мы решили отложить оценку ущерба до утра.
Казалось, что гигантский крот, заболевший клаустрофобией, вырвался на поверхность, рассеяв вокруг землю и множество фрагментов металла. Гвозди, куски обода тележного колеса, древняя отвертка, половина серпа, здоровенный ключ, как будто от крепостных ворот, латунные гильзы, болты, гайки, дно от решета, спутанные мотки проволоки, нераспознаваемые проржавевшие куски. Но только не золотые монеты.
Большинство высаженных розовых кустов уцелело, как и вся лаванда. Я подумал, что Массо просто надоело ковыряться в земле.
Я отправился к нему во второй половине дня, чтобы дать человеку выспаться после ночных трудов. Еще издали я услышал щелканье металлоискателя, из-за которого он не заметил меня и не сразу услышал мои оклики. Массо вылез из зарослей смородины, вскинул миноискатель на плечо, как ружье, и направился ко мне. Я подивился его бодрому виду. Может быть, он все же нашел, что искал.
— Salut! — приветствовал он меня, широко улыбаясь.
Я сказал, что по виду его можно заключить, что ему повезло. Оказалось, что пока нет. Ему пришлось прекратить работу на самом интересном месте, потому что соседи принялись орать на него, жалуясь на шум в ночное время.
Я не понял. До ближайших соседей не менее двухсот пятидесяти ярдов. Неужто он так шумел, что мешал им?
— Pas moi.[86] — И Массо похлопал по инструменту. — Куда ни сунься, везде железо, и везде он тарахтит: так-так-так-так-так…
Железо, но не золото, подвел я итог.
Массо приблизился ко мне, как будто собирался меня поцеловать. Он дернул носом и понизил голос до свистящего шепота.
— Я знаю, где оно. Beh oui. Знаю.
Мы с ним вдвоем в лесу, до ближайшего двуногого, пожалуй, с милю, но страх Массо перед свидетелями заразил и меня. Я тоже понизил голос до шепота.
— Где?
— В конце бассейна.
— Под розами?
— Под плитами.
— Под плитами?
— Oui. C'est certaing.[87] Клянусь честью покойной бабушки.
Меня это известие вовсе не порадовало. Мощение вокруг пруда состояло из каменных плит в три дюйма толщиной, уложенных на бетонное основание такой же толщины. Сколько нужно усилий, чтобы добраться до земли!
Массо понял, о чем я думаю. Он снял металлоискатель с плеча и опустил его наземь, чтобы можно было разговаривать двумя руками.
— В Кавайоне можно арендовать marteau-piqueur.[88] Он все возьмет. Паф!
Конечно же, он прав. Такой инструмент пройдет сквозь камень, сквозь бетон, сквозь питающие бассейн трубы, сквозь электрические кабели, идущие к насосу. Вот именно — паф! А то еще и БУММММ! А когда осядет пыль, мы, если останемся живы, обнаружим еще одну половинку крестьянского серпа или пролетарский молот, чтобы пополнить коллекцию металлолома. Нет, сказал я. Очень жаль, но нет.
Массо легко пережил мое решение и удовлетворился бутылкой пастиса, которой я вознаградил его за причиненное беспокойство. Однако время от времени я вижу его, стоящего перед нашим участком, глядящего на наш бассейн, задумчиво посасывающего свой мелированный ус. Бог знает, на что он решится в подпитии, если кто-нибудь подарит ему на Рождество marteau-piqueur.
По объявлению в «Вог»
Возможно, помня свое голодное и бездомное прошлое, Бой использует любую возможность, чтобы продемонстрировать свою преданность. Он то и дело приносит в дом подарки — свалившееся с ветки птичье гнездо, виноградный корень, изжеванную сандалию, пучок веточек — и складывает все это под обеденный стол с очевидным намерением доказать свою щедрость, полезность и выставить себя в более дорогом для нас свете. Он заботится о созданий фронта домашних работ, оставляя пыльные следы на полу, разбрасывая по нему сухие листья. Помогает и на кухне, выполняя функции передвижного улавливателя всего, что падает сверху. Он всегда рядом, вплотную или в нескольких футах, всегда старается угодить, чаще всего, правда, весьма шумно, иной раз и с грохотом, порой что-нибудь опрокинув, всегда неуклюже.
Его попытки угодить не ограничиваются нами. Он выработал собственный неортодоксальный стиль радушного приветствия гостей дома. Выплюнув теннисный мяч, обычно покоящийся в каком-нибудь углу его безграничной пасти, он сует свою не менее необъятную башку в паховую область любого вошедшего в дверь. Это своеобразный вариант мужского рукопожатия, и наши друзья вскоре к нему привыкли, воспринимают это как должное, чаще всего никак, и как ни в чем не бывало продолжают беседу с нами, и Бой, исполнив свой долг вежливости, опускается на ближайшую к нему пару ног.
Реакция на его приветственный жест с некоторой степенью точности отражает смену сезонов. Зимой, когда посетители, как и мы, постоянные жители Люберона, голову, вдруг выросшую в промежности, либо игнорируют, либо удостаивают ответного жеста, не прерывая плавного движения стакана ко рту и стряхивая с вельветовых брюк сухие листья и иной мусор, смоченный собачьей слюной. Если же стакан вздрагивает, вино проливается, а голову встречают лихорадочные попытки защитить чистую белую одежду, мы начинаем подозревать, что наступило лето. И вместе с летом прибыли «летние люди».
Ежегодно их оказывается все больше. Как обычно, их привлекает природа и погода, а в последнее время к обычным притягательным факторам прибавились еще два.
Первый фактор чисто практического характера. Прованс с каждым годом становится все доступнее. Поговаривают, что парижский экспресс TGV скинет еще полчаса с и без того беспрецедентных четырех, за которые он долетает до Авиньона. Крохотный городской аэропорт постоянно расширяют, того и гляди он превратится в «Авиньон Интернасьональ». Перед марсельским аэропортом выросла громадная зеленая модель статуи Свободы, маркирующая открытие прямой линии Марсель — Нью-Йорк, два рейса еженедельно.
Кроме того, Прованс снова «открыли», и не просто Прованс вообще, а конкретно городишки и деревеньки, в которых мы закупаем продукты, роемся на рынках и в лавках. Мода наложила на нас лапу.
Библия прекрасного пола, «Вуменз виар дейли», нью-йоркский провозвестник длины подола, объема бюста и веса обручей, навешиваемых на уши, отважилась в прошлом году на вылазки в Сен-Реми и Люберон. В ней были продемонстрированы объекты поклонения при баклажанах, бокалах, стриженых кипарисах, в амплуа отшельников, отрешившихся от всего — кроме партнера, обычно противоположного пола, а также фотографа, bien sûr,[89] — и наслаждающихся прелестями «простой сельской жизни».
Американский «Вог», символ пресыщенности с пропитанными душистыми парфюмерными объявлениями страницами, втиснул статью о Любероне между афинскими звездными гороскопами и обзором парижских бистро. В первых строках статьи Люберон объявлялся «потайным югом Франции», но уже во вторых строках тайна улетучивалась, а область объявлялась самым модным местом французов-отпускников. Как понимать эти авторские контрапункты, следовало бы справиться у редактора выпуска.
Редакторы французского выпуска «Вог», разумеется, посвящены во все тайны и секреты и готовы поделиться ими с читателями, о чем без утайки заявили в самом начале статьи. С томным, усталым вздохом они сообщили, что с Любероном покончено: le Lubéron, c'est fini. За сим последовали обвинения в снобизме, дороговизне и вообще, «сколько можно!». Люберон вышел из моды — démodé.
Неужто именно это они и хотели сказать? Еще чего! Упаси боже. Следующая дюжина страниц проповедовала прямо противоположное. Люберон по-прежнему притягателен для парижан и для иностранцев, которые, по выражению автора, «часто знамениты». Насколько часто впадают они в пароксизмы знаменитости, сколько раз в неделю, в месяц или в год, «Вог» не конкретизирует, зато знакомит нас с этими персонами. Давайте заглянем в их частную жизнь, приглашает нас журнал.
Прощай, частная жизнь! Двенадцать страниц снимков «часто знаменитых» персон с дочками, собачками, подружками, подушками, сосредоточенных и рассеянных, на диванах и в бассейнах. Приводится карта укромных уголков этого «le who's who», разоблачаются попытки «часто знаменитых» спрятаться от — ах! — мирской суеты. Куда тут спрячешься! Бедолаги не могут сунуться в воду или сунуть нос в бокал, поправить прядь волос или лямку пляжного бюстгальтера без того, чтобы в кустах не щелкнул затвор фотоаппарата. Читатели «Вог» должны увидеть всё.
Среди фото артистов, писателей, дизайнеров, политиков и магнатов затесался снимок господина, который, как гласит подпись, знает все дома в ареале и который принимает одновременно по три приглашения на обед. Читатель может вообразить, что психология господина страдает от последствий голодного детства, либо снедает его страсть к gigot en croûte[90] ан нет. Господин этот трудится, аки пчелка, вкалывает в поте лица своего. Он агент по недвижимости. Он должен знать, кто хочет купить, кто хочет продать, кто просто приценивается, так что никакое количество обедов не покажется чрезмерным, чтобы оставаться au courant, в курсе.
Кипучая пора настала для агентов по недвижимости в Любероне. Мода подняла цены, как три обеда вздувают желудок. Даже за то краткое время, что мы провели здесь в качестве жителей, цены на недвижимость взмыли вверх без всякого на то основания. Живописная развалина с половиной крыши и несколькими акрами земли — три миллиона франков. Одни наши знакомые решили построить, а не перестраивать, и неделю не могли опомниться — пять миллионов только по прикидочной смете. Домик «с возможностями» в «привилегированной» деревне — пожалуйста, миллион.
Соответственно капают жиром и агентские гонорары, хотя насчет процента можно и поторговаться. Мы слышали о комиссионных в размере от трех до восьми процентов, взимаемых когда с продавца, когда с покупателя.
Такие комиссионные могут неплохо обеспечить агента и его семью. И профессия интересная. Разве не увлекательно осматривать дома и участки, знакомиться с продавцами и покупателями, не всегда честными, надежными, порядочными, как мы увидим, но редко скучными… Профессия не только достойная внимания, но и полезная как для общества, так и для посвятившего себя этой профессии индивида, дающая возможность занять время между обедами.
Но света без тени не бывает, везде жизнь понатыкает проблем, препон, рогаток. Главная проблема — проклятые конкуренты. Почти шесть желтых страниц воклюзского телефонного справочника заняты телефонами и объявлениями агентов по недвижимости. Недвижимость стильная, недвижимость с характером, недвижимость эксклюзивная, высокого качества, уникальная, чарующая… брови ползут вверх от изысков терминологии. В чем разница между характером и стилем? Выбрать себе халупу эксклюзивную или уникальную? А то, может, чарующей хижиной поинтересоваться? Единственный способ вызнать — прихватить свое воображение и терпение к агенту, потратить утро, день, неделю на осмотр bastides, mas, maisons de charme[91] и иных белых слонов, от которых возжелали избавиться владельцы.
В наши дни отыскать в Любероне агента по недвижимости не сложнее, чем продуктовую лавку. В старину обычно деревенский notaire[92] был в курсе, что матушка Бертран продает свою старую ферму, что недавняя кончина домовладельца произвела на свет божий бесхозный дом. Сейчас эти функции перенял агент, имеющийся почти в каждой деревне. В Менербе их два, в Боньё три, в более модном Горде аж четыре. Именно в Горде мы наблюдали конкуренцию в действии. Один агент всовывал свои листовки под дворники автомобилей на стоянке; за ним на почтенном удалении следовал второй. Этот деловито удалял визитки конкурента и заменял их своими. К сожалению, у нас не было времени дожидаться появления третьего и четвертого, вероятно затаившихся за углом.
Все без исключения агенты поначалу лучатся улыбками и стремлением услужить клиенту, все охотно продемонстрируют досье с прекрасно выполненными снимками воздушных замков на сухой почве Люберона. Цена на некоторые даже не дотягивает до семизначных цифр. Вот это, это и это, правда, уже продано… И это тоже… Но много еще осталось. Мельницы, монастыри, хижины пастухов, настоящие господские замки, причудливые домики с бельведерами, фермы… Такой богатый выбор у первого же агента!
Но если вы обратитесь ко второму, к третьему, непременно испытаете ощущение déjà vu.[94] Что-то знакомое увидится в снимках. Они могут быть выполнены с другой точки, но объект-то тот же самый, вне всякого сомнения. Те же мельницы и монастыри. В этом еще одна проблема, осложняющая жизнь агента. Не хватает в Любероне недвижимости на продажу!
Ограничения на строительство в Любероне жесткие, и их более или менее соблюдают все, кроме крестьян, которые, кажется, строят как бог на душу положит. Поэтому beaucoup d'allure[95] недвижимости катастрофически не хватает. Спасает охотничий инстинкт. Многие агенты периоды зимнего затишья проводят на колесах, присматриваясь и прислушиваясь, выискивая ниточки, ведущие к потенциальным продавцам, мечтая обнаружить сокровище, готовое появиться на рынке. Если повезет, если агент оперативен и убедителен, он может получить исключительное право на продажу и, соответственно, на комиссионные. Чаще же происходит иное, продавец обращается к двум-трем агентам, оставляя без внимания вопрос их взаимоотношений. Комиссионные часто приходится делить.
Дополнительные проблемы. Кто обнаружил клиента? Кто первым продемонстрировал объект? Мирное сосуществование и сотрудничество не всегда возможны, дух конкуренции часто ведет к недоразумениям, к конфликтам. Следует обмен обвинениями в неэтичном поведении, телефонные перепалки, иногда привлекается в качестве третейского судьи клиент. В общем, складывается неприятная ситуация и вчерашний уважаемый коллега превращается в escroc.[96]
C'est dommage, mais.[97]
Тяжкий крест для агента — клиенты, их ненадежность, непредсказуемое поведение. По какой причине агнец, подставляющий бока для стрижки, вдруг превращается в клацающего клыками волка? Бесспорно, деньги, это неизбежное зло, играют решающую роль. Однако не они одни. Желание спорить с пеной у рта, отстаивать свой кровный интерес опирается не только на франки и сантимы, но и на спортивный азарт, на желание добиться победы, самоутверждения. За счет контрагента. И за счет агента, который оказывается между продавцом и покупателем, между двумя жерновами.
Трения вокруг цены и суммы — феномен общечеловеческий, но в Любероне, как и везде, воду мутят и специфические местные особенности. Покупатель недвижимости здесь чаще всего парижанин или другой иностранец. Продавцы же почти всегда paysans du coin, местные крестьяне. Разный типаж, разное отношение к сделке, разные позиции. Изнуряющая покупателя и агента торговля затягивается на месяцы.
Для крестьянина «да» звучит почти как анафема. Если сумма, которую он запросил за развалюху своей почившей бабки, принимается с ходу, в нем сразу начинают копошиться подозрения, что продешевил он, ох маху дал! И будет грызть его раскаяние до конца дней, и будет глодать сварливая жена, попрекать соседом, который не такой олух, не позволил хитрым иностранцам себя одурачить. И вот, когда покупатель уже уверен, что сделка состоялась, продавец начинает выискивать уловки. Сельский труженик встречается с агентом, чтобы обтолковать кое-что.
Он сообщает, что, может быть, он забыл упомянуть, что лужайка при доме, та самая, с колодцем, единственным источником воды, в цену не включена. Pas grande chose,[98] поэтому вот, он подумал, стало быть, что лучше сразу упомянуть…
Покупатель хмурит чело. Разумеется, лужайка была включена в оговоренную сумму. Как же, ведь это единственное достаточно плоское место, где можно устроить теннисный корт! Теннисный аргумент доводится до сведения крестьянина, который лишь плечами пожимает. Но все же он человек чуткий, может подумать, не уступить ли такую ценную лужайку с такой сочной травой. Можно потолковать.
Покупатель обычно человек занятой, трудящийся, он кует деньги в Париже, Цюрихе или Лондоне, он не может каждые пять минут мотаться в это захолустье. Для крестьянина время не меряно, ему некуда торопиться. Нынче не продаст — в следующем году накинет пару сотен тысяч и снова выставит.
Препирательства продолжаются, в первую очередь за счет нервов агента и покупателя. Но вот сделка заключена, и новый владелец полагает, что все хлопоты позади. В конце концов, прекрасная покупка, дом его мечты, можно сказать. Он отправляется в этот дом один или в компании, возможно, на пикник. Прогуливается по помещениям, планирует изменения.
Но позвольте, куда девалась чугунная ванна на львиных лапах или на орлиных когтях? Покупатель, то есть новый владелец, звонит агенту. Агент звонит крестьянину. Где ванна?
Какая ванна? Священная ванна его обожаемой бабушки? Ценнейшая семейная реликвия? Да как можно помыслить, что от такой вещи можно отступиться! Но он человек разумный, так что можно и потолковать…
Такого рода увертки заставляют покупателей, тоже не лыком шитых, осторожно ступать по тропе войны, уподобляться судейским стряпчим, ограждаться подробнейшими актами с приложениями и перечнями позиций, меняющих хозяина. Проводится инвентаризация, включающая ставни, дверные колотушки, кухонные раковины, бревна в штабеле и дрова в поленнице, ветки на садовых деревьях, плитки кровельной черепицы. Случаются курьезы, показывающие всю глубину взаимного недоверия, не перекрывающегося никакими актами и перечнями.
Опасаясь подвохов, один из покупателей уполномочил местного huissier,[99] мелкого чиновника, учесть все возможное, включая держатель рулона туалетной бумаги. Представляю себе, как huissier впихивает продавца в кабинку туалета, заставляет его поднять правую руку и клятвенно пообещать оставить в исправном состоянии приспособление для удержания бумаги, означенное в перечне под номером таким-то… Прелестная картина!
Но, вопреки всем сложностям, недвижимость в Провансе продается по все возрастающим ценам. Недавно я слышал, как один агент воодушевленно восхвалял Прованс как «европейскую Калифорнию», и не только из-за климата, но и по причине чего-то неопределяемого и неотразимого, что можно обозначить термином, тоже, похоже, изобретенным в стране Калифорнии — стиль жизни, Life-style.
Насколько я смог понять, этот Life-style определяется преобразованием сельской общины в своеобразный лагерь отдыха с высокотехнологичной структурой, городскими удобствами и, по возможности, с полем для гольфа. В нашем уголке Прованса я не заметил такой реорганизации и спросил агента, где можно видеть пример реформы такого типа. Где находится ближайший Life-style-центр?
Он глянул на меня как на выходца из далекого средневековья.
— В Горде давно не бывали?
Впервые я увидел Горд шестнадцать лет назад, он был прелестнейшей из прелестных деревенек округи, медовый городок, взбежавший на верхушку пологого холма, с прекрасным видом на долину до Люберона. Любой агент по недвижимости без колебаний назвал бы его жемчужиной, ожившей пейзажной почтовой открыткой. Ренессансный замок, узкие улочки, мощенные брусчаткой, и все, что полагается в деревне: мясник, два пекаря, простенький отель, кафе без претензий, почта с мрачным почтальоном за окошечком.
Окружающая Горд природа вечно зеленела, пестрели заросли сосны и трюфельного дуба, иссекали местность тропки между стенками из плоского камня. Можно было шагать часами, не встретив живой души, лишь изредка увидишь кое-где сквозь чащу рыжую черепичную кровлю. И никто ничего там не строил, уж запрещено было строительство или нет.
Так было шестнадцать лет назад. Горд и сегодня выглядит прекрасно, во всяком случае издали. Но, подъехав поближе, вы попадаете в частокол плакатов, приглашающих в отель, ресторан, чайную, кофейню — рекламируется все, необходимое туристу, кроме разве что общественных туалетов.
Вдоль дороги торчат фонари а-ля XIX век, выглядящие на фоне выцветших каменных стен вызывающе и нелепо. На повороте, от которого открывается вид на деревню, наверняка застанете хоть один остановившийся автомобиль, водитель и пассажиры которого заняты съемкой панорамы. На последнем повороте заасфальтирована под стоянку значительной величины площадка. Если вы ее игнорируете и проедете дальше, возможно, придется вернуться. Пляс дю Шато тоже заасфальтирована, но обычно полностью заставлена автомобилями со всей Европы.
Старый отель все еще на своем месте, но рядом с ним открыт еще один. Через несколько метров вывеска «Сидни-фуд». Рядом бутик Сулейадо. Прежнее кафе обновлено. Да и все тут освежено. Старик за почтовым окошечком ушел на пенсию, общественные туалеты получили подкрепление, деревня теперь рассчитана не на обитателей, а на туристов. Продаются оригинальные футболки — визитные карточки Горда.
Еще километр — еще один отель, за высокой стеной, оборудованный вертолетной площадкой. Запрещение на строительство на garrigue[100] снято, громадный плакат на французском и английском предлагает приобрести виллы с электронной сигнализацией, полностью оборудованные сантехникой, всего за два миллиона пятьсот тысяч франков.
Где скрываются «часто знаменитые» персоны «Вога», плакаты не указывают, предоставляя пассажирам громадных экскурсионных автобусов гадать, чьи крыши торчат из-за деревьев и заборов. Однажды какой-нибудь всезнайка издаст карту наподобие опубликованных в голливудских путеводителях, с указанием домов знаменитостей, и тогда мы еще больше сблизимся с Калифорнией. Джакузи и массажеры перестанут привлекать внимание, улетучится и экзотичность тюканья теннисных мячиков и сонного жужжания бетономешалок.
Так часто случалось во многих уголках земного шара. Народ обращает внимание на местность, привлекающую живописностью и обе-, щанием покоя. И преобразует эту местность под мир и покой с шумными коктейлями и рычанием внедорожников, с электронной сигнализацией и иными необходимыми атрибутами la vie rustique[101] пасторальной идиллии.
Местные не в обиде. С чего бы им возражать? Пересохшие пастбища едва могли прокормить сотню коз, а тут свалились миллионы. Лавки, кафе, рестораны процветают. Каменщики, плотники, садовники, дизайнеры не успевают принимать заказы. Бум заполняет карманы. Возделывать туризм куда выгоднее, чем ухаживать за виноградом.
На Менербе бум пока не сказался. «Кафе дю Прогрес» шик не затронул. Открывшийся два года назад маленький ресторанчик не выдюжил, зачах, центр деревни выглядит по-прежнему, если не считать знамением появившейся вывески агента по недвижимости.
Но перемены неизбежны. Кто-то уже присвоил Менербу титул «одной из красивейших деревень Франции», и некоторые из жителей уже ощутили специфический привкус массмедиа.
Моя жена заметила сидящих на каменном пристеночке трех весьма пожилых леди, перед которыми столь же чинно восседали рядком три их моськи. Жене эта картина показалась весьма занимательной, живописной, и она спросила разрешения сделать снимок.
Самая старая матрона пожевала сухими губами.
— А вы откуда?
Очевидно, «Вог» здесь уже побывал.
Сухо, местами пожары
Как и наши соседи, возделывающие землю, мы постоянно подписываемся на прогнозы метеостанции в Карпантра и дважды в неделю получаем отпечатанные на ротаторе листки. Они с достаточной точностью предсказывают, сколько придется на нашу долю солнца и дождя, когда нагрянут грозы, когда задует мистраль, какая температура ожидается в Воклюзе.
Пошли первые недели 1989 года, и прогнозы стали выглядеть зловеще. Погода вела себя неподобающим образом. Дождей недоставало катастрофически.
Предыдущая зима выдалась мягкой, так что горные снега выдали по весне вместо бурных потоков жалкие ручейки. И опять зима сухая. Январь подарил девять с половиной миллиметров осадков вместо средних шестидесяти. Февраль и март тоже не порадовали. Летний запрет на открытый огонь в полях ввели раньше обычного. Традиционно мокрая воклюзская весна оказалась лишь слегка влажной, что уж говорить о лете. Майские осадки в Кавайоне — миллиметр! Это вместо средних пятидесяти четырех и шести десятых миллиметра. Июньские — семь миллиметров вместо сорока четырех. Колодцы пересыхали, уровень воды в Фонтен-де-Воклюз значительно понизился.
Засуха в Любероне давит на фермеров, как долговое ярмо. Разговоры в полях и в деревне ведутся уныло, все растущее сохнет, земля каменеет, трескается. И возрастает опасность пожаров, о которых не хочется думать и невозможно забыть.
Достаточно искры — небрежно брошенного тлеющего окурка, непогашенной спички — и мистраль мгновенно превратит искру в пламя, раздует его в огненную стену, бегущую быстрее человека. Мы слышали о гибели молодого pompier[102] под Мюром. Он бился с огнем, стоя к нему вплотную, когда какая-то искра — может быть, от лопнувшей сосновой шишки — упала за его спиной. Секунды — и его охватило пламя.
Пожар и сам по себе трагедия, даже случайный, но ужаснее всего, когда причина пожара — злой умысел. К сожалению, это не редкость. Засуха притягивает маньяков, за которыми трудно уследить. Весной поймали одного молодого человека, поджегшего garrigue. Он хотел стать pompier, но его не приняли, и он решил отомстить при помощи коробка спичек.
Впервые мы заметили дым жарким ветреным вечером 14 июля. Небо весь день сияло безоблачной голубизной, которую часто приносит мистраль, и на фоне этого голубого неба выделялись черные клубы дыма, вздымавшиеся над деревней Руссильон в нескольких милях через долину. Мы настороженно следили за этим зловещим явлением, когда в небе показались низко летящие пожарные самолеты «Канадэйр». За ними появились пожарные вертолеты, bombardiers d'eau. Со стороны Боньё донесся нервный вой пожарной сирены, заставивший нас вздрогнуть. Мы огляделись. От нашего дома до линии деревьев какая-то сотня ярдов, для лесного пожара в ветреную погоду — ничто.
В тот вечер, когда над головой постоянно гудели сновавшие между морем и пожаром самолеты, мы всерьез опасались, что увидим лес в огне. Перед Рождеством нас с профилактическим обходом навещали пожарные, подарили календарь и провели инструктаж. В случае опасности нам следовало отключить электричество, закрыть ставни, облить их водой и не отлучаться из дома. Мы тогда пошутили, что спустимся в винный погреб, чтобы поджариться не на трезвую голову. Но под тревожный гул авиамоторов шутить не хотелось.
Ветер к ночи утих, и зарево над Руссильоном потускнело до интенсивности прожекторов над площадкой для игры в boules. Перед тем как отправиться спать, мы перечитали прогноз погоды. Ничего хорошего: beau temps très chaud et ensoleillé, mistral fort.[104]
На следующий день мы узнали из «Le Provençal» подробности о руссильонском пожаре. Он уничтожил более ста акров соснового леса, прежде чем четыреста пожарных, десять самолетов и армейские подразделения подавили огонь. Газета опубликовала фото спасенных лошадей и коз, силуэт пожарного с брандспойтом на фоне пламени. Сообщалось еще о трех мелких возгораниях. На первую полосу материал, правда, не попал, так как в тот день в Марсель прибыла гонка Тур де Франс.
Через несколько дней мы посетили Руссильон. Вместо прекрасной зелени сосен местность отмечали пни и обгоревшие стволы, торчавшие из рыжей земли безобразными шипами. Несколько домов, ближайших к пожарищу, каким-то чудом уцелели. Мы подивились, неужели их хозяева оставались внутри, когда пожарные воевали с огнем, вплотную подошедшим к их жилищам. Каково это — сидеть во тьме и слушать, как за нагретой стеной трещат в огне стволы деревьев?
В июле выпало пять миллиметров осадков, но мудрецы в кафе предвещали грозы в августе, которые затопят Люберон и дадут пожарным передышку. Особые надежды они возлагали на 15 августа, когда отпускников смоет вместе с палатками, а пироманы, если особенно повезет, перетонут.
День за днем мы ждали дождя, и день за днем палило солнце. Высаженная весной лаванда засохла. Газон окончательно погиб, земля потрескалась, обнажила свои суставы и кости — камни и корни, прежде скрытые под поверхностью, вылезли наружу. Фермеры, обзаведшиеся ирригационными водопроводами, начали поливку своих виноградников. Наш виноград поник. Опечалился и сосед Фостен.
Вода в бассейне нагрелась до температуры супа, но, по крайней мере, оставалась мокрой. Однажды вечером запах воды привлек из лесу одуревших от жары кабанов. Цепочка из одиннадцати животных направилась к дому и замерла в полусотне ярдов от нашего участка. Один кабан воспользовался остановкой и оседлал подругу. Бой не стерпел творившегося безобразия и с нетипичной для него отвагой рванул к наслаждающейся парочке, заливаясь лаем. Не разлепляясь, они сиганули к нему навстречу, и псу пришлось спасаться бегством к дому, откуда он храбро и с безопасного расстояния продолжал облаивать нарушителей. Кабаны не решились приблизиться к дому, сменили курс и направились сквозь виноградники поедать дыни Джеки в поле по другую сторону дороги.
Пятнадцатое августа выдалось столь же сухим, как и все предыдущие дни месяца. Каждый раз, когда поднимался мистраль, мы ожидали звука сирен и гула самолетов. Какой-то маньяк-пироман позвонил в пожарную команду и пообещал устроить пожар при первом же благоприятном ветре. В воздухе постоянно висел патрульный вертолет.
Но уследить за ним не смогли, и в этот раз загорелось в Кабриере. Ветер доносил до нас пепел, клубы дыма затемняли солнце. Собаки пугались дыма, скулили, подвывали, лаяли на порывы ветра. Дым окрасил закат, придав ему зловещий вид.
Вечером заехала жившая в Кабриере знакомая. Она сообщила, что жители окраинных домов деревни эвакуированы. Сама она покинула дом с паспортом и запасными трусиками.
После этого пожары прекратились, хотя поджигатель звонил еще не раз, все время грозя Люберону. Август закончился. Прогноз погоды предсказывал ноль целых ноль десятых осадков против обычных пятидесяти двух миллиметров. Когда наконец в сентябре пролился хоть какой-то дождь, мы вышли во двор, с наслаждением вдыхая влажный воздух. Впервые за долгое время лес задышал свежестью.
Непосредственная опасность пожаров миновала, и местные жители могли вспомнить о других невзгодах, в частности пожаловаться на засуху в желудках. За исключением вина — «Шатонеф» провозгласили особо удачным, — гастрономические новости огорчали. Из-за отсутствия дождей в июле трюфели ожидались мелкие и в малом количестве. Охотникам оставалось стрелять разве что друг в друга, ибо пернатая дичь в поисках воды перелетела на север и возвращаться не собиралась. Осенний стол отличался ненормальной скудостью.
Пострадало и наше образование. Мсье Меникуччи, средь множества талантов которого числилась и способность различать съедобные грибы, обещал захватить нас в лес, пронаблюдать за нами, а затем поруководить и на кухне за бутылкой красного «Керан». Прекрасные грибы. Килограммы грибов!
Но пришел октябрь, и оказалось, что собирать в лесу нечего, грибную охоту тоже пришлось отменить. Столь пустого леса Меникуччи, по его уверениям, еще никогда не видел. Он зашел к нам однажды утром при ноже, палке, корзине, в туго зашнурованных высоких ботинках против змей. В лесу он бродил в течение часа и, ничего не обнаружив, пообещал попытать счастья в следующем году. Конечно, его супругу ожидало разочарование, как и кота соседки, большого любителя лесных грибов.
Кот?
Beh oui, однако что за кот! Экстраординарный нюх, издали определяет, съедобен гриб или нет. Природа полна загадок, науке не всегда под силу их разгадать, развел руками мсье Меникуччи.
Я спросил, что кот делает со съедобными грибами. Что за вопрос! Съедает, разумеется. Но не сырыми, нет. Прежде следует их для него поджарить на оливковом масле под петрушечкой. Такова его маленькая слабость. C'est bizarre, non?[105]
В ноябре лес официально признали пороховым погребом, и его наводнил персонал государственной лесной службы, Office National des Forêts.
Однажды пасмурным утром с расстояния мили в две от дома я увидел поднимающиеся над лесом клубы дыма и услышал скрежет бензопил. В просеке, по которой пролегала дорога, замерли армейские грузовики и шевелилась какая-то желтая механическая громадина ростом футов в десять, не меньше, что-то среднее между бульдозером и ракетным тягачом. Между деревьями передвигались люди, которым защитные очки и каски придавали зловещее обличье. Они крушили подлесок и швыряли все в трескучие, шипящие древесным соком костры. Офицер, командовавший операцией, встретил меня подозрительным взглядом, будто шпиона или поджигателя. На мой «бонжур» он едва кивнул и отвернулся. Очень нужен ему тут штатский пиджак, да еще, судя по акценту, иностранец.
Я завернул к дому, но задержался, привлеченный возней у желтой махины. Управлявший ею механик-водитель, судя по всему, тоже, как и я, оказался штатским пиджаком. Вместо формы его не чрезмерно стройную фигуру украшала кожаная куртка, а на голове косо сидела совершенно невоенная клетчатая кепка. Он выполнял два дела сразу: ругался и пытался ослабить туго затянутую гайку. Гаечный ключ он усилил традиционным прованским многоцелевым инструментом — молотком. Разумеется, невоенный человек. Я пустил в дело еще один «бонжур» и на этот раз добился большего успеха.
Он мог бы сойти за младшего брата Санта-Клауса. Румяные щеки, лучисто яркие глаза, усы с надутыми в них ветром опилками — только что без бороды. Ткнув молотком в сторону военных, он высказал свое мнение о мероприятии:
— C'est comme la guerre, eh?[106]
И по-военному обозначил операцию: débroussaillage.[107] С каждой стороны ведущей в Менерб дороги следовало очистить двадцатиметровую полосу, дабы уменьшить вероятность распространения пожара. Он со своей машиной должен был следовать за военными и крошить в труху все, что они не доломали. Хлопнув свое чудовище по желтому боку, механик пояснил:
— Этот сожрет ствол и выплюнет щепки.
До нашего дома команда добралась за неделю, оставляя за собой расчищенное пространство, отмеченное кучами пепла. Последним двигалась желтая громадина, преодолевая несколько сот метров каждый день и пожирая все с неукротимым аппетитом.
Механик однажды вечером отметился у нас, попросил стакан воды, но не отказался и от пастиса. Он извинился за то, что остановил свою машину вплотную к нашему саду. Стоянка — его ежедневная проблема. При максимальной скорости в десять километров в час сложно возвращать ее в гараж, в Апт, каждый вечер.
Второй стакан пастиса заставил его снять кепку. Он оказался словоохотливым и сразу объяснил это тем, что после вынужденной молчаливости со своим ревущим чудовищем в течение целого дня приятно поговорить с живым человеком. Но работа необходимая, никуда не денешься. Лес надо защищать. Слишком долго этим никто не занимался. Столько сухостоя! Не дай бог, еще и в следующем году засуха… pof!
Мы спросили его насчет маньяка-поджигателя — нет, его еще не изловили. Чокнутый et des briquettes,[108] так обозначил его наш гость и пожелал ему на будущий год отдохнуть в Севеннах.
На следующий вечер механик появился с камамбером и рассказал, как готовить сыр по его оригинальной походной методе, разработанной им в просеке, чтобы подкрепиться и согреться.
— Разводите костер, — начал он, сопровождая рассказ жестами, — вынимаете сыр из коробки и снимаете обертку. А потом кладете обратно, d'accord?[109] — Чтобы мы лучше усвоили, он поднял сыр повыше и постучал по тонкому дереву коробки. — Bon. Теперь кладете коробку на угли костра. Коробка вспыхивает. Корка сыра чернеет. Сыр плавится, но… — указательный палец поднялся вверх, — но он заперт внутри корки. Он никуда не сбежит. — Затем следует глоток из стакана с пастисом, утирание усов, и он продолжает: — Alors, теперь вы берете baguette,[110] разрезаете его вдоль. Затем — attention aux doigts, пальцы берегите! — снимаете сыр с огня, проделываете дырку в корке и выливаете сыр на батон. Et voilà!
Он улыбнулся, щеки его еще больше порозовели, и он похлопал себя по животу. Как я убедился, любая беседа в Провансе рано или поздно перейдет на тему еды или напитков.
В начале 1990 года нам прислали климатическую статистику за предыдущий. Несмотря на необычно мокрый ноябрь, годовой уровень осадков вдвое отставал от нормы.
Еще одна мягкая зима. Уровень воды не компенсировался; как следствие, по оценкам, тридцать процентов подлеска погибло — засохло. Первый крупный пожар уничтожил более шести тысяч акров леса под Марселем, в двух местах перескочив через автостраду. Чокнутый с briquette все еще на свободе, возможно, как и мы, живо интересуется прогнозами погоды.
Мы приобрели толстый стальной ящик и сложили в него все важные бумаги — паспорта, attestations о рождении, contrats, permis,[111] старые счета за электричество — все, что нужно для доказательства нашего существования на божьем свете. Дом сгорит — несчастье, разумеется, но если пламя уничтожит эти бумаги — гибель! Потеря личности. Ящик хранится в дальнем углу винного погреба, рядом с «Шатонеф».
Каждый раз, когда идет дождь, мы радуемся, и Фостен считает нашу радость обнадеживающим признаком того, что мы уже несколько менее англичане, чем прежде.
Ужин с Паваротти
Реклама оповестила о приближающемся событии за несколько месяцев. В газетах и на афишах появились снимки окаймленной бородой физиономии в беретике, и с самой весны каждый в Провансе, кому слон не оттоптал уши, то и дело слышал: «Император Паваротти, — так его титуловал „Le Provençal“, — прибудет летом, чтобы спеть для нас». Более того, благодаря месту исполнения выступление обещало стать концертом эпохи. Петь маэстро собирался не в оперном театре Авиньона, защищенном от всех превратностей природных, не в зале празднеств в Горде, а на открытой сцене, сложенной из грубо отесанных его земляками камней с Апеннинского полуострова девятнадцать веков назад, в Античном театре Оранжа. Воистину, un événement éblouissant.[112]
Древний театр поражает воображение, даже когда пуст. На плане он представляет собой как бы букву D, концы дуги амфитеатра стягивает прямая стена длиной триста тридцать пять и высотой сто двадцать футов,[113] совершенно неповрежденная. Если не считать износа поверхности за почти две тысячи лет существования под открытым небом, сооружение совершенно не пострадало, как будто вчера построено. Перед стеной грунт из склона холма удален, образована выемка, в которой амфитеатром расположены ступени, скамьи для десяти тысяч зрителей.
Когда-то размещение публики соответствовало классовой принадлежности. Впереди восседали магистраты да сенаторы, местное и командированное из столицы начальство, далее храмовые жрецы и члены торговых гильдий, еще выше — простой народ с улицы, а на самом верху, отдельно от почтенной публики, всякое там relitto:[114] бродяги, нищие, проститутки. В 1990 году правила существенно изменились, размещение определялось уже не классовым и даже не имущественным цензом, а прыткостью. Билеты разошлись задолго до концерта, для того чтобы раздобыть билет, требовалась завидная реакция.
Решительные действия предпринял наш друг Кристофер, большой специалист по такого рода операциям. Он с военной четкостью определил распорядок: готовность к шести часам вечера, обед в Оранже под магнолиями в половину седьмого, занять места в театре в девять часов ровно. Обеспечить личный состав подушками, чтобы не отсидеть мягкие места на каменных скамьях. Прогрев внутренностей в антракте. Возвращение на базу ориентировочно в час ночи.
Бывают в жизни ситуации, когда приятно получать и выполнять указания, когда уверенность, что кто-то думает и принимает решения за тебя, приносит облегчение. Такого рода и этот случай. Ровно в шесть мы выехали из дома, через час прибыли в Оранж и обнаружили городок в праздничном настроении. Переполненные кафе жужжали ульями, на мостовую выставлялись дополнительные столики, езда по улицам сопровождалась подсчетом выскочивших на проезжую часть официантов, с которыми удалось избежать столкновения. До представления еще два часа, а к амфитеатру уже тянулась публика с подушками и пикниковыми корзинами. Рестораны представляли особое меню для soirée Pavarotti.[115] Весь Оранж потирал руки в предвкушении события. И тут с неба полилось.
Официанты, водители, народ с подушками — без сомнения, и сам маэстро — все задрали головы вверх, как только на пыльные улицы упали первые капли. Несколько недель до этого прошли без осадков. Quelle catastrophe![116] Неужели ему придется петь под зонтом? Оркестр вынужден будет сопровождать его на мокрых инструментах? Пока шел дождь, тысячи людей как будто затаили дыхание.
К девяти о дожде успели забыть, первые звезды показались над торцевой стеной амфитеатра, мы заняли свои места, проскочив мимо торговой палатки у входа. Здесь продавались компакт-диски, кассеты, афиши, футболки — все что угодно, вплоть до наклеек «Я люблю Лучано».
Толпа из прибывших то и дело останавливалась, как будто запиналась, и когда мы проникли туда, я понял почему. Входящий невольно задерживался, не мог не остановиться, воспринимая амфитеатр таким, каким его должен был увидеть сам Паваротти.
Тысячи и тысячи лиц бледнели в сумерках ярус над ярусом и исчезали в ночи. Возникало головокружение, как будто от взгляда с высоты. Уклон амфитеатра казался немыслимо крутым, зрители как будто нависали над входящим, еще чуть — и живая стена опрокинется на тебя. И жутковатый звук: множество голосов, каждый чуть громче шепота, но много тише нормального уровня; постоянный смазанный перегуд, сдержанный и усиленный камнем стен. Впечатление, как будто попал в человеческий улей.
Мы взобрались на сотню футов по склону, к своим местам, как раз напротив ниши в стене с подсвеченной статуей императора Августа в тоге, стоящего с вытянутой к толпе рукой. В его правление население города составляло восемьдесят пять тысяч человек, сегодня оно уменьшилось до тридцати, и значительная их часть попыталась раздобыть местечко на каменных скамьях.
Мадам оперных габаритов, отдуваясь от долгого подъема, рухнула рядом со мной на свою подушку, интенсивно обмахиваясь программкой. Круглолицая дама проживала в Оранже, много раз бывала в этом театре, но такого столпотворения еще не видела. Прикинув по головам, она провозгласила: «Тринадцать тысяч, не меньше. Dieu merci,[117] что дождь перестал».
Послышались аплодисменты, встречающие оркестр. Нестройные пробные звуки, настройка, фрагменты мелодий наложились на гул толпы. Упражнения оркестра завершил бой барабанов, и снова все взгляды устремились на сцену. Как раз под статуей Августа черный занавес закрывал проем, через который ранее вышли музыканты и теперь появилась на сцене черно-белая фигура дирижера.
Снова взрыв аплодисментов, резкий свист с верхних рядов. Соседка укоризненно покачала головой. Это же не футбол, в конце концов. Что за поведение! Просто épouvantable.[118] Я подумал, что в этом, возможно, нет нарушения традиций, ибо свист доносился сверху, где положено находиться нищим и проституткам, а не с нижних рядов, реагирующих цивильными аплодисментами.
Оркестр безупречно сыграл увертюру Доницетти, музыка заполнила амфитеатр, окутала слушателей. Акустика здесь беспощадная, выделит любую фальшивую ноту.
Дирижер поклонился и отправился к занавесу. На какое-то мгновение, не долее секунды, все в театре смолкло. И после этого молчания звуковой взрыв подействовал как физический удар. Перед зрителями появился этот человек. Черные волосы, черная бородка, белая грудь, белый галстук-бабочка, в левой руке большой белый платок. Он раскинул руки, обнимая толпу, соединил ладони и склонил голову. Паваротти готов петь.
Нищие и проститутки вверху, однако, продолжали свистеть, резко, долго, засовывая пальцы в рот, как будто подзывая такси с другого конца города. Мадам рядом со мной была шокирована. «Ш-ш-ш-ш!» — зашипела она. «Ш-ш-ш-ш!» — вторили ей тысячи других. Нищие и проститутки не унимались. Паваротти стоял выжидая. Дирижер поднял палочку. Оркестр грянул под последние вызывающие свистки.
— Quanto e cara, quanto е bella,[119] — пел Паваротти. Голос его звучал легко, свободно, заполняя весь театр, как будто уменьшая объем до размеров комнаты. Певец стоял спокойно, сосредоточив вес на правой ноге. Левая нога опиралась о сцену лишь носком башмака. Легкий ветерок играл тканью платка.
Закончил он так, как заканчивал каждую последующую вещь в этот вечер: с последней нотой голова слегка приподнималась вверх, широкая улыбка, поклон с распростертыми руками, рукопожатие с дирижером под отражающуюся от стены овацию. Он спел еще, и, прежде чем замерли аплодисменты, дирижер проводил его до занавеса, за которым Паваротти исчез. Я предположил, что ему надо дать отдых уставшим голосовым связкам и проглотить целебную ложку меда. Но мадам соседка выразила совершенно иное мнение, надолго занявшее мое воображение.
— Конечно же, ему необходимо подкрепиться.
— Что вы, мадам!
— Ш-ш-ш… Слушайте флейту.
Флейта отзвучала, и мадам развила свою теорию. У Паваротти не только величайший голос, но и тело немалое. Он большой любитель вкусно поесть, кстати. Концерт длится долго. Так петь, comme un ange[120] — работа нелегкая. Логично предположить, что нужно поддерживать запас энергии, пока он на сцене. Если углубиться в программу, можно увидеть, что она составлена таким образом, чтобы позволить в промежутках, во время оркестровых дивертисментов, принять солидную закуску из пяти блюд. Voilà!
Что ж, я сунул нос в программу. Действительно, мадам рассуждала вполне логично. Почему бы ее не прочитать, к примеру, таким образом, чтобы между ариями проявились строчки меню:
ДОНИЦЕТТИ
(Insalata di carciofi)[121]
ЧИЛЕА
(Zuppa di fagioli alla Toscana)[122]
АНТРАКТ
(Sogliole alla Veneziana)[123]
ПУЧЧИНИ
(Tondello con funghi e piselli)[124]
ВЕРДИ
(Formaggi)[125]
MACCHE
(Granita di limone)[126]
И ЕЩЕ
(Caffè e grappa)[127]
Еще один довод в пользу того, что предположение об ужине с пением не пустой фантом воображения жительницы Оранжа: как и все зрители, я воображал, что ткань в руке маэстро — платок. Но слишком уж велик этот платок. Я поделился наблюдением с мадам, и она уверенно кивнула.
— Конечно же, это салфетка.
И мы продолжили наслаждаться концертом.
Паваротти был неподражаем не только в пении, но и в поведении. Он непринужденным образом контактировал с аудиторией, не боялся иной раз отступить от партитуры, нежно гладя в таких случаях дирижера по щеке, безупречно вступал, выходил и уходил. Однажды он вернулся на сцену в обернутом вокруг шеи голубом шарфе, спускавшемся до пояса. Я истолковал этот шарф как защиту горла от ночной прохлады. Как бы не так! — просветила меня мадам. Маэстро ненароком оросил себя соусом, прикрыл пятно, только и всего. Прелестен, правда?
Официальная программа завершена, оркестр на сцене. Нищие и проститутки скандируют: «Вер-ди! Вер-ди!» В этот раз зрительская масса солидарна с ними, и Паваротти присоединяет к меню добавку: «Nessun Dorma», «О Sole Mio».
Взрыв в публике, поклон оркестра, улыбка звезды — концерт окончен.
До выхода мы добирались полчаса, но успели увидеть два необъятных «мерседеса», исчезнувших в ночи.
— Могу поспорить, это он, — сказал Кристофер. — Куда, интересно бы узнать, он на ужин покатил?
Где ж Кристоферу знать, что происходило за кулисами, ему-то не удалось оказаться рядом со всеведущей мадам из Оранжа. Тринадцать тысяч человек присутствовали на ужине Паваротти, того не сознавая. Надеюсь, маэстро еще вернется в Оранж, и рассчитываю, что в следующий раз в программе отразят и его меню.
Постижение пастиса
Исцарапанные столы и обшарпанные плетеные стулья выставлены в тень раскидистых платанов. Время подходит к полудню, клубы пыли, поднятые полотняными башмаками шаркающего через площадь старика, на мгновение застывают в воздухе, резко очерченные солнцем. Официант поднимает взгляд от «L'Équipe» и прогуливается в вашем направлении, чтобы принять заказ.
Он возвращается со стопкой, заполненной лишь на четверть, да и то если он сегодня в хорошем настроении, и с запотевшим графином воды. Вы доливаете стопку, получаете туманный напиток желтовато-сизоватой мутности, с резким сладковатым запахом аниса.
Santé.[128] Вы вкушаете пастис — молоко Прованса.
С моей точки зрения, наиболее существенный компонент pastis[129] не анис и не алкоголь, а ambiance,[130] то есть где и как вы его пьете. Не могу представить, как его пить второпях. Не могу вообразить, что пастис можно пить в фулэмском пабе или в баре Нью-Йорка, или еще где-нибудь, где погода требует наличия на ногах носков. Не тот вкус. Солнце и тепло — необходимые условия. И иллюзия, что часы остановились. В общем, Прованс.
Перед приездом сюда я считал пастис товаром, продукцией, возникшей из сотрудничества двух гигантов: Перно плюс Рикар, знак равенства, пастис.
Затем я наткнулся на другие имена: Казанис, Жано, Гранье… Подивился множеству марок. В одном баре насчитал пять, в другом семь. Каждый провансалец, которого я допрашивал, оказывался, разумеется, знатоком. Каждый спрошенный давал иной ответ, часто весьма эмоциональный, нередко точный и непременно полный пренебрежительных замечаний касательно марок, которые он бы и теще не налил.
Благодаря счастливому случаю я натолкнулся на профессора пастиса, а так как он оказался еще и заправским шефом, класс этого профессора не оказался мне в тягость.
Мишель Боск родился под Авиньоном и эмигрировал на несколько миль, в Кабриер. С той поры в течение уже двенадцати лет он управляет деревенским рестораном «Бистро Мишель», вкладывая прибыли в развитие дела. Он пристроил обширную террасу, расширил кухню, соорудил четыре спальни для переутомившихся или перегрузившихся клиентов и превратил «Ше Мишель» в удобное и весьма популярное заведение. Но, несмотря на все усовершенствования и даже пароксизмы летнего шика для заезжих отпускников, одно осталось неизменным — бар ресторана все еще является деревенским кафе. Каждый вечер там можно застать с полдюжины загорелых физиономий и рабочих курток, услышать споры об игре в boules за стаканчиком, разумеется, пастиса.
Однажды мы застали Мишеля за стойкой, проводящим импровизированную дегустацию. Местные энтузиасты пробовали семь-восемь сортов, иные из которых оказались для меня новинками.
Дегустация пастиса не похожа на священнодействие в погребах Бордо или Бургундии, и Мишель отнюдь не шептал, дабы его услышали, несмотря на обмен репликами, причмокивание и стук стаканов.
— А вот такой делала моя матушка, — сказал он мне. — Он из Форкалькье.
Мишель подтолкнул ко мне стаканчик и наполнил его из запотевшего металлического кувшина, в котором позвякивали кубики льда.
Бог ты мой, чем занималась его матушка! Еще один или два таких — и я готов поползти на всех четырех в одну из его спален. Я сообщил об ощущениях, и Мишель показал мне бутылку — сорок пять градусов, крепче бренди, но не выше установленного для пастиса предела и куда мягче одной из прежних проб. Две таких, как утверждал Мишель, опрокинут человека, не сгоняя с него улыбки — plof! Но… и Мишель загадочно улыбнулся, дав понять, что с легальностью напитка не все в порядке.
Он вдруг спешно вышел, как будто вспомнил о суфле в духовом шкафу, и тут же вернулся с какими-то вещицами, которые положил и поставил передо мной на стойку.
— Знаете, что это такое?
Передо мной выросли высокий бокал на толстой короткой ножке, украшенный спиральным узором, толстая стопка, узкая, как наперсток, однако вдвое выше, и что-то вроде плоской ложечки с симметричными отверстиями и с загнутой в виде буквы U ручкой.
— Здесь кафе было задолго до того, как я сюда прибыл, — сказал Мишель. — Это нашел, когда стенку ломали. Никогда не видели такого?
Да, вещи эти оказались для меня совершенно новыми.
— Когда-то такие водились в любом кафе. Принадлежности для абсента. — Он загнул указательный палец, поднес его к носу и покрутил — жест, означающий пьянство. Затем взял стопку и сунул ее мне. Она оказалась тяжелой, как будто из свинца. — Это dosette, мерный стаканчик для абсента. — Ложечку он сунул в бокал, зацепив ее изгибом за край. — Bon. В ложечку клали сахар, обливали его водой, и сироп проходил через дырочки, капал в абсент. Очень модный был напиток в конце прошлого века.
Absinth, по словам Мишеля, представлял собой ядовито-зеленый ликер, выгнанный из вина и полыни. Очень горький, очень бодрящий, но галлюциногенный, вызывающий привыкание и опасный. Крепость — шестьдесят восемь градусов! Он мог стать причиной слепоты, эпилепсии, безумия. Под влиянием абсента Ван Гог отхватил себе ухо, а Верлен выпалил в Рембо. Абсент дал имя своей собственной болезни, абсентизму, заболевший которой вполне мог casser sa pipe — откинуть коньки, дать дуба. По совокупности причин производство и употребление этого дьявольского напитка законодательно запретили в 1915 году.
Один из тех, кому это запрещение не пришлось по вкусу, — Жюль Перно, владелец фабрики абсента в Монфаве, под Авиньоном. Ему пришлось проявить расторопность и перейти на состав на базе разрешенного аниса. Новый продукт сразу же получил признание потребителей и имел существенное преимущество перед старым — выпивший его не умирал, а возвращался за новой порцией.
— Так что, видите, промышленный пастис родился в Авиньоне, как и я, — сказал Мишель и предложил мне еще одну.
Он снял с полки бутылку «Гранье», и я смог с гордостью заявить, что у меня такая же дома. «Гранье», «Mon pastis», как означено на этикетке, произведен в Кавайоне. Вкус его мягче, он легче пьется, отличается более нежным цветом, чем хищный зеленоватый «Перно». К тому же надо поддерживать местного производителя — если его продукция тебе по вкусу.
«Гранье», не задержавшись во рту, проследовал в желудок, а я все еще держался на ногах. В продолжение первого урока Мишель предложил попробовать другую grande marque, «Рикар», чтобы сравнить вкус, запах и цвет, оценить вариации.
Сохранять пытливую отстраненность исследователя мне становилось все труднее, аналитические способности притупились. Мне нравились все марки, по вкусу, гладкости прохождения в пищевод, заразительности. Чем-то они, конечно, слегка отличались — пряностью, ароматом, но ротовая полость в результате воздействия алкоголя замлела приятной немотой. Я ощутил зверский аппетит, но критический, вернее, аналитический подход, с которым я приступил к уроку, куда-то затерялся между второй и третьей порцией исследуемого материала. Эксперт из меня никудышный. Блаженный, голодный, но безнадежный.
— Ну, как «Рикар»? — спросил Мишель.
Я ответил, что «Рикар» хоть куда, но я уже утомился и дальнейших знаний усвоить не смогу.
Несколько следующих дней я кропал вопросник для Мишеля. Я нашел странным, к примеру, что название «пастис» так хорошо известно и вызывает устойчивые ассоциации, а происхождение его, как и самого напитка, теряется в тумане. Кто изобрел питье, производство которого освоил Перно? Почему корни пастиса в Провансе, а не в Бургундии или, скажем, в Луаре? И я снова отправился к господину учителю.
О чем ни спроси провансальца — о природе и погоде, о культуре и истории, о пище, привычках и обычаях, о животном мире, — никогда без ответа не останешься. Здешний народ любит просветить жаждущего знаний, обычно с множеством личных добавлений и вариаций и, предпочтительно, за столом. Мишель устроил званое застолье в один из дней на неделе, когда ресторан выходной, и пригласил нескольких экспертов, hommes responsables[131] как он их определил, чтобы наставить меня на тропу знания.
Во дворе ресторана под большим полотняным зонтом собралось восемнадцать человек, меня представили государственному чиновнику из Авиньона, виноградарю из Карпантра, двум служащим Рикара, энтузиастам из Кабриера. Один из присутствующих даже оказался при галстуке, от которого тут же избавился, навесив его на ручку официантской тележки. Никаких более признаков формальности в ходе общения не наблюдалось.
Большинство собравшихся разделяло страсть Мишеля к игре в boules, один из виноградарей привез несколько коробок своего вина с этикетками, отображавшими момент игры. Пока охлаждалось розовое и откупоривалось красное, происходил активный разлив спортивного напитка, источника энергии и усилителя меткости глаза, истинного марсельского пастиса, le pastis Ricard.
Поль Рикар родился в 1909 году, но, если верить присутствовавшим у Мишеля сотрудникам Рикара, все еще искал приключений на свою, скажем, голову. Классический пример неутомимого предпринимательского духа. Отец будущего алкогольного магната торговал вином, и юный Поль с малолетства посещал бары и бистро Марселя. В те времена законы и правила не были столь жесткими, как в наши дни, и многие бары производили свой собственный пастис. Рикар тоже решил попробовать, добавил некий отсутствующий у других ингредиент, имевший успех. «Истинно марсельский пастис» не слишком отличался от остальных, но оказался весьма неплох, к тому же Рикар благодаря своему развитому вкусу несколько улучшил его, а главное — умело рекламировал. И вскоре напиток стал самым популярным, по крайней мере в Марселе.
Рикар стремился расшириться и выбрал для этого верный путь. Конкуренция в регионе Марселя не давала развернуться. Пастис пили повсюду, к тому же марсельцы среди соседей пользуются не лучшей репутацией. Даже в наши дни их воспринимают как blagueur, врунов и хвастунов, выдающих кильку за кита.
Далее к северу, однако, пастис воспринимался как нечто экзотичное, к тому же расстояние смягчало репутацию Марселя как города хвастунов. Реклама напирала на привлекающий северян шарм юга, южное солнце, пальмы и прочий антураж, особенно притягательный под серым северным небом. И Рикар обратился лицом к северу. Сначала Лион, затем Париж. Тактика принесла успех, и в наши дни вряд ли найдешь во Франции бар без бутылки «истинно марсельского пастиса».
Рассказавший мне это служащий Рикара, казалось, относился к своему боссу с искренней симпатией. Мсье Поль, по его словам, каждый день искал в жизни препятствия, чтобы их преодолеть. Я спросил, не занимается ли его босс политикой, как многие крупные бизнесмены, и собеседник фыркнул:
— Политика? Его тошнит от политиков.
К такому отношению я не мог не испытывать симпатии, хотя, с другой стороны, можно было пожалеть, что король пастиса не выставит свою кандидатуру на пост президента Франции. Стаканчик «Рикара» неплохо смотрелся бы на предвыборных плакатах.
Рикар, однако, пастис не изобрел. Как и Перно, он производил, рекламировал и продавал то, что существовало и до него. Но откуда пастис взялся? Кто первым использовал анис, лакрицу, замешал их с сахаром на спирту? Обошлось ли без какого-нибудь безвестного монаха? Монахи оставили яркие вехи в истории питейного дела — от шампанского до бенедиктина.
Никто из присутствующих не смог сообщить мне, когда и при каких обстоятельствах первый стакан пастиса появился в этом жаждущем мире, но недостаток информации не мешает провансальцу относиться к своему мнению как к факту или принимать легенду за историю. Не слишком правдоподобная, а следовательно, самая популярная гипотеза приписывает изобретение пастиса отшельнику — конечно же, отшельник по части аперитивов мало чем уступает монаху.
Этот отшельник подвижничал в лесной хижине на склонах Люберона, собирал травы, варил их в громадном котле, в традиционном жутко булькающем котле ведьм, колдунов, алхимиков. Отвары отличались замечательными свойствами, они не только утоляли жажду, но и спасли отшельника от чумы, налетевшей на Люберон и скосившей значительную часть его населения. Отшельник щедро делился отварами и настоями со страдальцами, которые тут же выздоравливали к вящей его славе. Отличаясь той же деловой жилкой, что и впоследствии Поль Рикар, отшельник совершил то, чего требовал от него ход истории, — переехал в Марсель и открыл бар.
Менее живописная, но более правдоподобная причина возникновения пастиса в Провансе в том, что ингредиенты для него тут под рукой. Травы не то что дешевы, их можно собрать даром. Большинство крестьян испокон веков делало собственное вино, гнало собственные убойные ликеры, и до недавнего времени право дистилляции передавалось от отца к сыну. Права такого рода поужали, однако некоторые distillateurs[132] продолжают на полном законном основании производить то, что пьют, понятие pastis maison[133] не исчезло.
Мадам Боек, жена Мишеля, родилась под Карпантра и помнит, что дедушка ее производил «двойной» пастис, девяностоградусный, способный свалить статую командора. Однажды к нему с официальным визитом на казенном мотоцикле прибыл местный жандарм в полном обмундировании. Не слишком благоприятное предзнаменование. Деду мадам Боск удалось, однако, соблазнить жандарма стаканчиком своей продукции… затем еще одним… и третьим так же точно. О цели официального визита как-то забыли, и деду пришлось совершить на своем фургончике два рейса в жандармерию, доставив туда сначала спавшего сном младенца полицейского, а затем обнаруженные под столом его сапоги и pistolet.
Счастливые были денечки. Возможно, счет им где-то в Провансе еще не завершен.
Flic[134]
Однажды, в очередной период активности дорожной полиции Кавайона, мне не повезло с мелочью для счетчика стоянки. Силы правопорядка проявились в виде пары полностью укомплектованных и оснащенных полицейских, медленно продвигающихся вдоль припаркованных автомобилей, старающихся выглядеть грозно и выискивающих возможные contraventions.[135]
Я нашел свободный счетчик и заскочил в ближайшее кафе разменять деньги. Вернувшись, обнаружил рядом с машиной плотную фигуру в синем, сощурившуюся на счетчик. Полицейский нацелил на меня свои темные очки и постучал рукой по циферблату автомата.
— Не оплачено.
Я разъяснил ситуацию, но натолкнулся на полное непонимание.
— Tant pis pour vous. C'est une contravention.[136]
Оглядевшись, я заметил, что на улице с полдюжины машин стояли вторым рядом, что грузовик каменщика, грязный, груженный строительным мусором, запер въезд в боковую улицу. Фургон на противоположной стороне оседлал пешеходную «зебру». В сравнении с этими вопиющими нарушениями мое казалось совершенно незначительным, и я, по глупости, не утаил своего мнения.
Тут же превратился в невидимку. Полицейский раздраженно фыркнул и направился списывать номер моего авто. Он вытащил блокнот и глянул на часы.
Перечень моих преступлений уже потек на бумагу, когда из кафе, в котором я менял деньги, раздался трубный глас:
— Eh, toi! Georges![137]
Мы с Жоржем обернулись и увидели, что к нам меж столиками, выставленными на мостовую, пробирается плотный господин, покачивая указательным пальцем из стороны в сторону, что в Провансе выражает категорическое неприятие чего-либо.
В течение пяти минут Жорж и примчавшийся меня спасать посетитель кафе обсуждали вопрос, отчаянно жестикулируя и то и дело подкрепляя слова, тыча друг другу в грудь. Мой защитник утверждал, что я только что прибыл и действительно заходил в кафе, чтобы разменять деньги, и тому тьма свидетелей. Он махнул рукой в сторону заведения, откуда за спором с интересом следили три-четыре человека.
Закон есть закон, настаивал Жорж. Явное нарушение, никуда не денешься. Кроме того, он уже начал заполнять протокол, бланк испорчен, что же теперь, выбрасывать его?
Mais c'est de la connerie, ça.[138] Измени протокол, составь его на того болвана, что улицу перегородил своей грязной телегой.
Жорж сдался. Он смерил взглядом грузовик, затем с тоской поглядел в блокнот и уставился на меня, чтобы оставить за собой последнее слово.
— В следующий раз запасайтесь мелочью заблаговременно! — Он постарался запечатлеть в памяти мои преступные черты, подозревая, что я еще проявлю свои противозаконные наклонности, и направился к грузовику со строительным мусором.
Мой спаситель улыбался и качал головой.
— Мозгов у него не густо, — обидел он полицейского. — Мышиный горошек в башке тарахтит.
Я поблагодарил его и предложил опрокинуть стаканчик. Мы вернулись в кафе и уселись за столик в полутемном углу, где и провели следующие два часа.
Звали его Робер. Не слишком высокий, не слишком толстый, в талии, конечно, плотноват. Шея могучая, усы роскошные. Зубы во рту контрастные — блеск золота и никотиновая бурость. Карие глаза улыбаются. Весь исходит этаким ненадежным шармом, обаянием симпатичного негодяя. Я мог бы представить его продающим на кавайонском рынке какую-нибудь вечную, небьющуюся керамику или почти настоящие фирменные джинсы, коробка которых как бы нечаянно, сама собой, без чьей-либо помощи, свалилась ночью с грузовика.
Выяснилось, что он служил в полиции, где и познакомился с Жоржем, не слишком ему, впрочем, симпатичным. Теперь же он трудился консультантом по безопасности, продающим охранную электронику новым владельцам старых домов по всему Люберону. Столько кругом cambrioleurs[139] развелось, кошмар… Того и гляди обворуют. Прекрасно для бизнеса! Есть ли у меня система сигнализации? Нет? Quelle horreur! Ужас, ужас! Он сунул мне визитку. На ней значилось его имя и название фирмы: «Технологии безопасности будущего». Визитку украшало изображение попугая на насесте, в страхе взмахнувшего крыльями, но вместо «Ужас, ужас!» вопившего «Дер-ржи вор-р-ра!».
Я поинтересовался его работой в полиции и причинами ухода оттуда. Он выпустил косматое облако сизого дыма «Житан», откинулся на спинку стула, махнул официанту пустым стаканом, требуя еще pastis, и приступил к повествованию.
Поначалу скука мучила. Жди, когда повысят, работа тягомотная, куча канцелярщины, в бумажках утонешь. Потом он однажды отправился в отпуск во Фрежюс на несколько дней. Каждое утро завтракал в кафе с видом на море, и каждое утро в одно и то же время появлялся на пляже какой-то тип, учился виндсерфингу. Робер лениво наблюдал, как новичок приспосабливался к своей доске, падал, снова вскарабкивался на нее…
Что-то в этом виндсерфере ему показалось знакомым. Робер был уверен, что с ним не встречался, но почему-то крупное родимое пятно на шее и татуировка на левой руке о чем-то напоминали. Полицейских учат тренировать память. И профиль мужчины будил какие-то воспоминания, его нос с горбинкой…
Прошло два дня, и Робер вспомнил. Профиль он видел на черно-белом фото с номером под ним в полицейском управлении. Виндсерфер имел судимость.
Робер отправился в местную жандармерию, и через полчаса он уже смотрел на знакомый снимок. Человек этот год назад сбежал из тюрьмы. Вожак банды Гардана, считается опасным преступником. Упомянуты и пятно на шее, и татуировка на левом предплечье.
Устроили засаду, о которой Робер не мог вспоминать без смеха. Два десятка полицейских в плавках появились на пляже и пытались выглядеть безмятежными отпускниками, невзирая на несколько одинаковый специфический загар — руки загорелые, физиономия и треугольник на шее, соответственно вырезу расстегнутой рубашки, а все остальное слепит белизной.
К счастью, преступник слишком серьезно относился к своему спортивному инвентарю и не обратил никакого внимания на странных бледнотелых, заметив их, лишь когда они окружили его на мелководье. При обыске в его квартире во Фрежюсе обнаружили два «магнума» калибра 0,357 и три ручные гранаты. Робер получил нашивку и повышение в детективы аэропорта Мариньян, где смог применить свои таланты наблюдателя в полную силу.
Тут я не удержался, перебил его и пожаловался на недостаток внимания, оказанного мне официальными службами марсельского аэропорта. Прибывающие, отправляясь за багажом, преспокойно оставляют ручную кладь встречающим, ничего не предъявляя на таможне. Учитывая репутацию Марселя, это кажется странным.
Робер склонил голову и почесал нос. Все не так décontracté,[140] как кажется, сказал он. Полиция и douaniers,[141] чаще всего в штатском, прогуливаются между пассажирами, держат ушки на макушке. Он сам изловил таким образом двоих мелких контрабандистов — так, любителей, ничего особенного — на автостоянке, где они, уже вообразив себя в безопасности, поздравляли друг друга с успехом. С ума сойти.
Но и здесь заедала Робера скука. Скука и его zizi. Он ухмыльнулся и указал пальцем на свою промежность. Пипка.
Остановил он однажды возле машины девицу. Шикарную девицу, внешность, прикид… Одна. Классическая нарко-«лошадка». Машина со швейцарскими номерами. Задал стандартный вопрос: давно ли машина во Франции. Она запаниковала, потом заулыбалась, потом очень-очень заулыбалась, и закончилось все тем, что они проулыбались остаток его смены, сняв номер в отеле аэропорта. Его засекли — и конец карьеры. Fini. Смех да и только. Особенно забавно, что в ту же неделю в Бометт засекли надзирателя за передачей заключенному виски в йогуртовой бутылке. И тому тоже fini.
Робер поморщился и вяло махнул рукой. Чушь собачья, ведь полицейские не святые. Всегда находятся mouton galeux, паршивые овечки. Он задумчиво уставился в свой стакан, кладезь истины, как бы сожалея и раскаиваясь. Один неверный шаг — и все пропало. Я пожалел его, принялся выражать сочувствие. Он рассмеялся, похлопал меня по руке и смазал всю патетику заявлением, что еще один стаканчик — и все путем. Я почему-то сразу засомневался в том, что все, сказанное им, истинная правда.
В момент навеянного пастисом благодушия Робер пообещал как-нибудь заехать ко мне, осмотреть дом на предмет обеспечения его безопасности. Без всяких, разумеется, обязательств с моей стороны, но если мы захотим превратить дом в неприступную крепость, он поможет приобрести и смонтировать все необходимое по вполне приемлемой цене.
Я поблагодарил и забыл. Мало ли кто что посулит за стаканчиком, да еще в Провансе, где обещанного даже на трезвую голову три года ждут. Да и насмотрелся я, насколько старательно закрывают граждане на улицах глаза и уши, заслышав вопли автомобильной сигнализации. Больше, чем в хитрую электронику, я верил в собачий лай.
К моему удивлению, Робер и вправду вскоре появился в ощетинившемся антеннами серебристом БМВ, одетый в черную рубаху и тугие штаны и облитый, вероятно, с головы до ног каким-то одуряющего аромата лосьоном. Вся эта роскошь объяснялась наличием эскорта, его подруги Изабель, так он представил эту молодую — не старше двадцати лет — особу. Они направлялись на ланч в Горд и попутно заглянули к нам.
Половину лица Изабель закрывают громадные блюдца солнечных очков и белые кудряшки. Закрытость лица с лихвой компенсируется открытостью тела, на которое натянут короткий ярко-розовый с переливами лоскут из спандекса. Вежливый Робер уступил спутнице дорогу и последовал за нею по ведущим в дом ступеням, впитывая впечатления от вида сзади и динамики движения дамы. Его полицейские таланты внимательного наблюдателя нисколько не притупились.
Изабель углубилась в изучение содержимого своего мешка с косметикой, а я повел Робера по дому. Оценка безопасности нашего жилища, как я и ожидал, оказалась крайне невысокой. Дом, если послушать Робера, прямо-таки приглашал любого любопытного идиота с воровскими наклонностями, вооруженного хотя бы отверткой. Окна, двери и ставни никуда не годились. А собаки… Aucun problème.[142] Кусок-другой обработанного соответствующим образом мяса — и дом отдан в полное распоряжение воров. Робер припер меня к стене, окатывая волнами своего душного лосьона. «Вы не представляете, на что эти животные способны!»
Он понизил голос, не желая, чтобы моя половина расслышала то, что он собирался мне поведать.
Взломщики, сказал Робер, часто отягощены предрассудками. Во многих случаях — он был тому свидетелем чаще, чем ему бы хотелось, — они, перед тем как покинуть обчищенный ими дом, считают необходимым нагадить на полу, предпочтительно на ковровом покрытии, просто-напросто навалить кучу. Они полагают, что таким образом отводят от себя угрозу обнаружения. Невезение остается в доме вместе с дерьмом.
— Merde partout, — сказал Робер с таким видом, как будто только что ступил в упомянутое вещество. — C'est désagréable, non?[143]
Еще бы не désagréable. Мягко сказано.
Но жизнь иногда выказывает справедливость, расставляет все по своим местам. Однажды из-за этого суеверия захватили целую банду взломщиков. Дом они обчистили, все погрузили в грузовик, и оставалось лишь выполнить прощальную формальность, отдать долг суеверию ради будущего везения. Глава банды, однако, испытал затруднения с выполнением этой задачи. Он пыжился, тужился, но ничего не получалось. Запор! Très, très constipé. Так он и пыхтел, пока не прибыла полиция, заставшая его без штанов.
Захватывающая история, но я уже знал, что, согласно общенациональной статистике, лишь каждый пятый взломщик страдает от запора. На такое везение нельзя было полагаться.
Робер продолжил осмотр снаружи и предложил свой план превращения моего дома в неприступную крепость. Въезд следует оградить стальными воротами с электронным управлением. Территория вокруг дома должна освещаться включаемыми датчиками давления прожекторами. Любое существо тяжелее курицы, ступившее на датчик, включит систему ослепительных прожекторов. Это может оказаться достаточным, чтобы обратить взломщиков в постыдное бегство. Но полный покой может обеспечить лишь последнее слово в охранной технике — la maison hurlante, завывающий дом.
Робер дал мне возможность осмыслить его эпохальное предложение и отвлекся на Изабель, внимательно изучавшую ногти сквозь свои очки-блюдца, идеально подогнанные по цвету к платью-чулку.
— Ça va, chou-chou?[144]
Она передернула медовым плечиком, и Роберу стоило значительных усилий вернуться к теме вопящего дома.
Alors,[145] все это сделает электроника, невидимая и неслышная, защищающая каждое окно, каждую дверь, каждое отверстие больше блюдца. Даже если какой-нибудь легконогий или хитроумный взломщик преодолеет датчики давления, эфирное прикосновение к окну или к двери оглушит его воем сирен. Можно даже, bien sûr,[146] поставить усилитель, чтобы вой разносился на несколько километров по округе.
Но и это еще не все. Мгновенно партнер Робера, находящийся возле Горда, дом которого подключен к системе, выедет на место с заряженным пистолетом и здоровенной овчаркой. Гарантированная многослойная защита. Я могу оставаться совершенно tranquille.[147]
Ничего себе tranquille! Я сразу представил себе, как Фостен в шесть утра грохочет мимо ворот в тракторе, направляясь на свой виноградник и сотрясая датчики; как среди ночи включаются прожектора от пробегающей мимо лисицы или пары кабанов, а то и чьей-нибудь заблудившейся кошки. Да мало ли, вдруг эта звуковая какофония включится от какой-нибудь случайности. И извиняйся потом перед этим господином из Горда под грозным взглядом его собаки. Жить в Форт-Ноксе — благодарю покорно. Даже в качестве баррикады против августовского нашествия вся эта система неприемлема.
К счастью, Робер отвлекся от делового разговора. Изабель, удовлетворенная состоянием ногтей, позицией очков и облеганием одеяния, решила, что пора удаляться. Она негромко проворковала через двор:
— Bobo, j'ai faim.[148]
— Oui, oui, chérie. Deux secondes.[149]
Робер повернулся ко мне и попытался вернуться к теме, но в нем уже включился личный воющий дом, и безопасность нашей недвижимости отступила на второй план.
Я спросил, куда они собираются на ланч.
— «Ля Бастид». Знаете? Там была раньше жандармерия. Когда-то flic — всю жизнь flic, во как.
Я сказал, что вроде это еще и отель, и он подморгнул. Большого искусства достиг он в этом. Складно подмигивал.
— Уж мне ли не знать.
Гастрономический экскурс гурмана — спортсмена
О Режи мы узнали от знакомых. Они как-то пригласили его к обеду, и утром назначенного дня он позвонил, чтобы полюбопытствовать, что будет подано на стол. Даже во Франции такое повышенное внимание к меню показалось хозяйке несколько неестественным, и она поинтересовалась причиной. Почему он спрашивает? Будут холодные фаршированные moules,[150] свинина в трюфельном соусе, сыры, домашние сорбеты. Какая-нибудь проблема? Аллергия на что-нибудь? В вегетарианцы записался? Упаси боже, сел на диету?
— Нет-нет, — ответил Режи. — Все превосходно. Хотя небольшое неудобство все-таки имеется. Видите ли, у меня обострение геморроя, так что высидеть весь обед я не в состоянии, выдержу только одно блюдо. Вот и хочу выбрать. Извините, конечно.
Естественно, хозяйка вошла в его положение. Ради Режи можно многим поступиться. С редкой самоотверженностью всю жизнь свою этот человек посвятил столу, еде и питью. И ни в коем случае нельзя назвать его обжорой. Нет, Режи — гурман с хорошим, возможно, несколько гипертрофированным аппетитом. В нем много занятного, а если послушать его воззрения на отношение англичан к пище… В общем, нам следовало бы с ним как-нибудь встретиться, как только он оправится от своего crise postérieure.[151]
И однажды вечером, по прошествии нескольких недель, мы встретились с Режи.
Прибыл он в спешке, запыхавшись, нянчась с бутылкой шампанского «Крюг», недостаточно, по его мнению, холодного. Первые пять минут он провел в возне с бутылкой и ведерком льда, дабы довести вино до «питьевой» температуры между двадцатью и двадцатью пятью градусами. Нежно поворачивая бутылку во льду, он рассказал нам о недавнем обеде, крайне неудачном, настоящем гастрономическом провале, если не считать одного из моментов прощания, когда одна из покидающих дом дам улыбнулась хозяйке и промолвила:
— В высшей степени необычный вечер. Все было холодным, за исключением шампанского.
Режи заколыхался от смеха и настолько аккуратно извлек пробку, что бутылка издала лишь еле слышный вздох.
Режи почтенных размеров, весьма плотен, с темными кожей и волосами, с неожиданно голубыми глазами, которые здесь, в Провансе, вовсе не редкость. В отличие от всех нас, он оказался одетым в спортивный костюм, бледно-серый с красным и с вышивкой на груди: «Ле Кок Спортиф». Обувь тоже спортивная — разноцветные кроссовки бегуна на длинные дистанции с многослойной подошвой. Режи заметил мой интерес к его обуви и пояснил:
— Мне необходимо удобство, когда я ем. А удобнее спортивного костюма ничего, пожалуй, не придумаешь. Кроме того… — он оттянул резинку пояса, — всегда найдется место для добавки. Очень существенно. — Он улыбнулся и поднял бокал. — За Англию и англичан… С условием, что они оставят свою кухню для себя.
Большинство французов недолюбливает английскую кухню, не имея о ней представления. Режи не таков. Он изучал англичан и их систему питания, так что смог объяснить нам наши национальные заблуждения.
Он начал обзор с раннего детства. Английского младенца пичкают чем-то невразумительным, не имеющим вкуса, что можно было бы скормить цыплятам. К его сверстнику французу, еще даже не отрастившему зубов, уже относятся как к существу, имеющему свои вкусовые предпочтения. Режи сослался на ассортимент фирмы «Галлия», одного из крупнейших производителей детского питания во Франции. Мозг, рыбное филе, poulet au riz,[152] баранина, печень, говядина, сыры, супы, фрукты, овощи, ягоды, пудинги, crème…[153] Все это еще до того, как ребенку исполнится полтора года. Развивается вкус! Режи сделал паузу, поправил салфетку на воротнике своего спортивного костюма и занялся только что поданной курицей в эстрагоне.
Затем он перешел к периоду более позднего детства, когда будущий гурман поступает в школу. Он спросил меня, помню ли я, чем питался в школе. Такой ужас действительно забыть невозможно, я вспомнил и содрогнулся. Он сочувственно кивнул. Английская школьная пища знаменита на весь мир. Серая, печальная, таинственная какая-то. Не знаешь, что тебя заставляют в себя впихивать. А в деревенской школе, куда ходит его пятилетняя дочь, меню на неделю вывешивается, чтобы родители не дублировали блюд дома. И каждый день ланч из трех блюд. Вчера, к примеру, Матильда ела салат из сельдерея с ветчиной, сырный quiche, riz aux saucisses[154] и печеные бананы. Voilà! Продолжается воспитание вкуса! Конечно же, став взрослым, француз лучше оценивает пищу, лучше в ней разбирается и ожидает от нее большего, чем англичанин.
Режи разрезал грушу, чтобы съесть ее с сыром, указал на меня ножом, как будто обвиняя в задержке развития английского вкуса, и предложил перейти к ресторанам. Он печально покачал головой и широко развел руки, положив их на край стола по обе стороны от себя, ладонями кверху. Вот вам le pub — он приподнял на несколько дюймов левую руку. Живописно, но пища в нем — лишь губка для пива. А здесь — он приподнял правую руку — дорогие рестораны для hommes d'affaires,[156] за которых платят их фирмы.
А между ними? Режи разочарованно обозрел пространство между двумя руками. Между ними пустыня. Rien.[157] Где ваши бистро? Где добрые буржуазные рестораны? Где дорожные закусочные? Кто, кроме богача, может позволить себе в Англии нормально питаться?
Я с удовольствием бы с ним поспорил, но крыть было нечем. Вопросы, которые он мне задавал, мы с женой задавали себе, путешествуя по сельской Англии, где выбор ограничивался пабами или много мнящими о себе ресторанами с раздутыми под стать лондонским счетами. В конце концов мы сдались и обратились к микроволновкам и столовым винам в церемониальных корзинах, комплектуемых очаровательными, но не слишком компетентными Джастинами и Эммами.
Режи помешивал кофе и колебался между кальвадосом и высокой запотевшей бутылкой eau-de-vie de poires[158] от Мангена из Авиньона. Я спросил о его любимых ресторанах.
— Конечно, «Лебо», — сказал он. — Но счет у них внушительный. — Он потряс кистью, как будто обжег пальцы. — Не на каждый день. В любом случае я предпочитаю места более скромные, не столь интернациональные.
— Иначе говоря, более французские, — уточнил я.
— Вот-вот. Более французские, где можно найти rapport qualité — prix, справедливое соотношение между качеством и ценой. И такие места здесь все еще можно найти. Я изучил вопрос.
В этом я не сомневался, но он еще не назвал ничего, кроме «Лебо», для которого нам сначала надо было выиграть в лотерею. Хотелось услышать о чем-то менее шикарном.
— Если пожелаете, я мог бы предложить ланч в двух ресторанах такого рода, очень разных, но одинаково высокого уровня. — Он долил себе кальвадоса. — Это для пищеварения. — Откинулся на спинку стула. — Пусть это станет моим вкладом в образование les Anglais. Вы, безусловно, с супругой придете.
Разумеется. Так же бесспорно и то, что жена Режи останется дома, хлопотать у плиты.
Готовясь разоблачить первый из двух ресторанов, Режи назначил нам встречу в Авиньоне, в одном из кафе на пляс д'Орлож. Шумно поцеловав в трубку кончики пальцев, посоветовал на вечер планов не строить. После намеченного ланча ничего более энергоемкого, чем digestifs,[159] себе не позволишь.
Под нашими внимательными взглядами он быстро и удивительно легко для его габаритов пересек площадь. На нем черная баскетбольная обувка и самый парадный из его тренировочных костюмов, тоже черный, с розовой аббревиатурой UCLA на объемистом бедре. В руке у Режи плетеная корзина и сумка на молнии вроде тех, в которых во Франции деловые люди носят бутылки одеколона «на всякий случай».
Он заказал бокал шампанского и продемонстрировал нам несколько мелких дынек-детенышей, не больше яблока каждая. Режи только что купил их на рынке. Он собирался выпотрошить их, залить смесью виноградного сока и бренди и оставить в холодильнике на сутки. После этого, по заверению Режи, они приобретут вкус губ юной девы. В столь оригинальном контексте я эти плоды ранее не воспринимал, но отнес на счет недостатков моего английского образования, гастрономического и общего.
Погладив будущих юных дев, Режи вернул их в корзину и обратился к злобе дня.
— Мы отправимся к Иели. Тут рядом, на рю де ля Репюблик. Пьер Иели — король в своем ремесле. Он у плиты лет двадцать, а то и двадцать пять, но никогда еще не разочаровал клиента. Jamais![160] Он чудо, Пьер Иели!
Кроме небольшого меню в рамочке, вывешенного снаружи, Иели ничем не заманивает клиента. Узкая дверь открывается в неширокий коридор, лестница ведет вверх, в зал довольно большого размера. Паркет выложен елочкой, декор скромный, лаконичный, столы расставлены на удобном расстоянии один от другого. Как и в большинстве французских ресторанов, одиночный клиент здесь не в загоне, обслуживается наравне с компаниями. Столы для одиночек не задвинуты в дальний угол, а находятся в альковах вдоль окон, с видом на улицу. Эти столы почти все заняты людьми в костюмах, предположительно местными бизнесменами. Время на ланч у этих людей ограничено жалкими двумя часами, по истечении которых им предстоит вернуться в свои конторы. Остальные клиенты, кроме нас двоих, сплошь французы, все одеты менее формально, чем деловые одиночки.
По случаю вспомнилось, как меня в Сомерсете не пустили в ресторан без галстука. Во Франции со мной такого не случалось. Режи в своем спортивном наряде вообще напоминал лентяя, сбежавшего из тренажерного зала, но мадам приветствовала его как нефтяного шейха. Он сдал ей корзину со своими рыночными трофеями и спросил, в форме ли мсье Иели, на что мадам позволила себе улыбнуться.
— Oui, comme toujours.[161]
Усаживаясь, Режи сиял и потирал руки, принюхивался, стараясь угадать, что происходит на кухне. В одном из его любимых ресторанов шеф пускает его на кухню, и он выбирает себе блюда по запаху, с закрытыми глазами.
Режи заткнул салфетку под подбородок и пробормотал что-то официанту.
— Un grand?[162] — спросил официант.
— Un grand, — кивнул Режи.
Через минуту на столике перед нами появился большой кувшин, запотевший от холода. Режи посерьезнел, начиная урок.
— В серьезных ресторанах винам всегда можно доверять. Это «Кот-дю-Рон». Santé.
Он перелил в рот разом полбокала, пожевал вино секунды три, проглотил и шумным вздохом выразил полную удовлетворенность.
— Bon. Теперь позвольте сопроводить вас по меню. Что мы видим? Dégustation. Прелестно, но для простого ланча долговато. Не следует забывать, ради чего мы сюда пришли. — Он веско глянул на нас поверх бокала. — Вы должны испытать rapport qualité — prix. За пятьсот франков с носа вас накормит любой опытный шеф. А наша цель — проверить, насколько хорошо нас могут накормить за сумму, в два раза меньшую. Так что предлагаю сокращенное меню. D'accord?[163]
Конечно согласны. Сокращенное меню вызовет повышенное слюноотделение у инспектора «Мишлен», не говоря уж о паре англичан-любителей вроде нас. С некоторыми затруднениями мы определились, в то время как Режи бубнил что-то над картой вин. Он подозвал официанта для консультаций.
— Нарушаю собственные правила, — обратился к нам Режи. — Красные вина дома, конечно, безупречны. Но есть тут, — он хлопнул по листку, — маленькое сокровище, неразбрительное, из Треваллона, к северу от Экса. Не слишком тяжелое, но с характером большого вина. Увидите.
Один официант удалился в погреб, другой, чтобы занять нас в ожидании первого блюда, доставил легкую закуску: нежная brandade в горшочках, накрытых сверху оптимально зажаренными перепелиными яйцами и черными оливками. Режи сосредоточенно молчал, и мы различили приглушенные переговоры официантов, смачный скрип вытягиваемых из бутылок пробок да звон ножей и вилок о тонкий столовый фарфор.
Режи протер опустошенный горшочек кусочком хлеба — хлеб при еде он обычно использовал для направления пищи на вилку — и снова наполнил бокалы.
— Ça commence bien, eh?[164]
И ланч продолжился, как начался, bien. За фланом из foie gras в густом, но нежном спаржевом соусе с лесными грибами последовала домашняя колбаса из систеронских ягнят, шалфей с конфитюром из сладкого красного лука и корочка из картофельного пюре не толще салфетки, похрустывающий налет на тарелке, мгновенно тающий на языке.
Слегка утолив голод, Режи смог вернуться к прерванной беседе и рассказал нам о задуманном им литературном проекте. Он прочитал в какой-то газете, что к Авиньонскому фестивалю искусств приурочено открытие Международного исследовательского центра наследия маркиза де Сада. В программу фестиваля включили оперу, посвященную le divin marquis, «божественному маркизу», на рынок выкинули названное в его честь шампанское. События отражали проснувшийся интерес публики к чудовищу прошедших веков, и Режи резонно заметил, что садисты тоже что-то едят. Его идея предусматривала изобретение специфического садистского меню.
— Я назову это «Cuisine Sadique», «Кухня маркиза де Сада». Все ингредиенты подвергнутся всевозможным издевательствам, их будут отбивать, взбивать, крошить, резать, жечь, томить… В описаниях и наименованиях надо будет использовать кучу жестоких и душераздирающих слов. У немцев этому меню совершенно точно обеспечен бешеный успех. А вот насчет Англии я хотел бы с вами проконсультироваться. — Он доверительно наклонился ко мне и понизил голос: — Правда ли, что все мужчины, посещавшие английские «скулз публик», склонны к… je vous le dirais…[165] телесным наказаниям? — Он пригубил из бокала и выжидательно поднял брови. — К «spanking»,[166] разве нет?
Я посоветовал ему выйти на издателя, посещавшего Итон, и разработать рецепт, включавший flogging.[167]
— Qu'est que ça va dire, «flogging»?[168]
Я постарался объяснить, что представляет собой порка, и Режи кивнул.
— Ah, oui. Пожалуй, к куриной грудке можно применить flogging под острым лимонным соусом. Très bien. — Бисерным почерком он набросал несколько слов на обороте своей чековой книжки. — Un bestseller, c'est certain.[169]
Тему бестселлера отодвинул в сторону кухонный возок с сырами, содержимое которого Режи принялся оживленно обсуждать с официантом, заботясь о соблюдении баланса между твердыми и мягкими, piquant и doux,[170] свежими и вызревшими. Режи отобрал пять из двух десятков предлагавшихся и поздравил себя с верным прогнозом о необходимости второй бутылки «Домен де Треваллон».
Я вонзил зубы в перченый козий сыр и ощутил влагу на переносице, под дужкой очков. Вино само собой проскальзывало в горло. Чудесная еда, прекрасное обслуживание мастерами своего дела. Я выразил Режи свое полное удовлетворение, и он удивленно поднял брови.
— Но мы еще не закончили! — Действительно, на столе появилось блюдо с крошечными меренгами. — О, прекрасная прелюдия к десерту. Маленькие облачка с неба. — Режи подхватил два маленьких облачка с неба, небрежно швырнул себе в рот и огляделся, как будто опасаясь, что официант с десертом о нас забудет.
Подкатило еще одно четырехколесное транспортное средство, большего размера, чем тележка с сырами. Десертный набор представлял явную опасность для персон, следящих за своим весом. Свежие сливки, fromage blanc,[171] трюфельный шоколадный торт, пирожные, vacherins,[172] ромовые бабы, тартинки, сорбеты, fraises des bois,[173] фрукты в сиропе… Режи не смог охватить всего изобилия со своего места, он вскочил и обогнул тележку, как будто опасаясь чего-то недоглядеть за малиной и земляникой.
Моя жена выбрала мороженое с местным медом. Официант, вынув ложку из сосуда с горячей водой, изящным поворотом запястья извлек ей порцию из вазы и замер, ожидая дальнейших указаний по оформлению мороженого сиропами и иными добавками.
— Avec ça?[174] — спросил он, не дождавшись.
— C'est tout, merci.[175]
Режи с лихвой компенсировал воздержанность моей супруги своей, как он ее назвал, «текстурной подборкой» шоколада, мучнисто-кондитерских фруктов и сливок. В порыве гастрономического энтузиазма он закатал рукава. Видно было, что темп застольной гонки начинает сказываться и на нем.
Я попросил кофе. Официант и Режи одновременно уставились на меня с видом несколько тревожным, озабоченным.
— Pas de dessert?[176] — удивился официант.
— Десерт входит в меню, — напомнил Режи.
Оба выглядели обеспокоенными, как будто опасались, не заболел ли я. Но я признал свое поражение. Иели выиграл нокаутом.
Счет составил двести тридцать франков со рта, плюс вино. Удивительно, если учесть объем и состав меню. За двести восемьдесят франков на едока нам предоставили полное menu dégustation.
— Что ж, в следующий раз, — сказал Режи.
Да, пожалуй, в следующий раз, но только после трехдневного поста и десятимильной пешей прогулки.
Вторую часть гастрономического экскурса пришлось несколько отсрочить по причине прохождения профессором Режи ежегодного восстановительного курса. Две недели он воздерживался от излишеств, ограничивался трапезой из трех блюд вместо обычных пяти и промывал печень минеральной водой. Обновлял свои системы функционирования организма.
Отметить окончание курса он предложил ланчем в дорожном ресторане под названием «Ле бек Фин» и приказал мне прибыть туда без четверти двенадцать, не позже, иначе есть риск остаться без столика. Найти кабачок несложно, двигайтесь по RN7 на Оргон, увидите неимоверное скопление всякого большегрузного транспорта — туда и сворачивайте. Фрак-пиджак не обязателен. Жена моя, однако, проявила благоразумие и осталась караулить уровень воды в бассейне.
Когда я прибыл, на стоянке у ресторана действительно скопилось множество фургонов и фур, уткнувшихся носами в стволы деревьев, чтобы изловить крышами кабин хоть какое-то подобие тени. Полдюжины тягачей, груженных легковыми авто, уткнулись нос в хвост, образовав длинную колбасу. Опоздавший свернул с дороги, протиснулся к самому входу и замер, облегченно зашипев пневматикой. Водитель вылез из-за баранки, с удовольствием прогнулся, повторяя изгибом позвоночника роскошную выпуклость живота.
У стойки бара многолюдно, шумно. Крупные мужчины, густые усы, большие животы, громкие голоса. Режи уже здесь, в углу, на фоне столь солидной публики он чуть ли не тростиночка. Одет Режи по-июльски, в беговых шортах и жилетке, на запястье болтается сумка.
— Salut! — Он дососал свой пастис и потребовал добавки. — Здесь все иначе, так ведь? Не как у Иели.
Разумеется, иначе. Над стойкой, влажной от тряпки, которой мадам постоянно ее протирает, висит объявление: DANGER! RISQUE D'ENGUEULADE! — берегись бранных словечек. За открытой дверью, ведущей к туалетам, виднеется другое: DOUCHE, 8 FRANCS.[177] Кухни не видно, но она объявляет о себе бряканьем сковородок и запахом томящегося на жару чеснока.
Я справился, как Режи себя чувствует после периода воздержания, и он гордо продемонстрировал мне линию предполагаемой талии. Мадам, смахивая деревянной лопаточкой пену с пива, бросила на нас инспектирующий взгляд, оценила округлости Режи и кратко справилась:
— Когда рожать?
Мы прошли через зал и у самой стены обнаружили пустой столик. Невысокая брюнетка с милой улыбкой и недисциплинированной, не желавшей прятаться бретелькой от бюстгальтера подошла к нам с вводным инструктажем. Первое блюдо мы присматриваем самостоятельно в буфете, а затем выбираем: говядина, кальмары, poulet fermier.[178] Карта вин предельно лаконична: красное или розовое в литровых бутылках с пластиковыми пробками и миска льда. Официантка пожелала нам bon appétit, кивнула чуть ли не с реверансом и ускользнула с нашим заказом, привычно поправив непослушную бретельку.
Режи откупорил вино, с шутливой церемонностью понюхал пробку.
— Из Вара. Без претензий, но честное. — Пригубил, протянул сквозь сжатые передние зубы. — Доброе винцо.
Мы пристроились к буфетной очереди. Водители подражали цирковым эквилибристам, балансируя тарелками. Обилие закусок позволяло набрать полный обед уже в буфете: двух видов колбаса, яйца вкрутую с майонезом, влажная неразбериха celeri rémoulade — салат из тертого сельдерея под кислым соусом; шафранового оттенка рис с красным перцем, крохотный зеленый горошек с мелко нарезанной морковью, свиное terrine[179] в тесте, паштет из гусятины, холодные моллюски, дольки свежей дыни… Режи удовлетворенно хрюкнул размерам тарелок и прихватил две, с официантской ловкостью пристроив вторую на предплечье, щедро наделяя себя из буфетных кастрюль.
По возвращении к столу возникла маленькая заминка. Как можно есть без хлеба? Режи поймал взгляд официантки, выразительным жестом поднес руку ко рту и клацнул зубами. Официантка тут же выудила из коричневого бумажного мешка батон и сунула его в гильотину. Все произошло с неимоверной быстротой, я даже вздрогнул, когда все еще вздымающаяся, стремящаяся принять прежнюю форму нарезка свежего белого батона оказалась на столе.
Я указал Режи на гильотину-хлеборезку и предложил ему включить этот прибор в свою «садическую» кулинарную книгу. Он замер с куском колбасы у рта.
— Peut-être.[180] Не так все просто, особенно с американцами. Не слыхал о трениях с шампанским?
Оказалось, что, согласно какой-то прочитанной Режи газетной статье, оформление шампанского «Маркиз де Сад» вызвало нарекания на просторах, раскинувшихся за спиной статуи Свободы. Представленное на этикетке поясное изображение фигуристой молодой дамы привлекло внимание блюстителей заокеанской морали. Хотя на изображении этого и не видно, но поза красотки может навести на подозрение, что руки ее, вероятно, связаны или иным способом насильственно удерживаются за спиной.
Oh là là. Представьте себе, какое развращающее воздействие может произвести такая этикетка на моральные устои молодых, да и некоторых взрослых членов общества! Страна отринет незыблемые ценности и с головой окунется в шампанско-садистские оргии от Санта-Барбары до Бостона. А Коннектикут… Бог знает, что может стрястись в Коннектикуте!
Режи с торчавшей из-под подбородка бумажной салфеткой вернулся к еде. За соседним столом клиент, трудившийся над вторым блюдом, расстегнул рубаху, дабы улучшить циркуляцию воздуха, и тем самым выставил на обозрение темные заросли, в которых между объемистых грудей затерялся золотой крестик. Мало кто из присутствующих относился к еде спустя рукава, и я подивился, как они долгие часы напролет выдерживают за штурвалом пятидесятитонных громадин.
Мы тщательно протерли хлебом тарелки, затем ножи и вилки. Приблизилась официантка, сверкая тремя овальными посудинами из нержавеющий стали, от которых поднимался парок. На первой оказались две половинки цыпленка в подливке… увесистого цыпленка. Вторая содержала томаты, фаршированные чесноком и петрушкой. На третьей возвышалась горка мелкого молодого картофеля, обжаренного с травками. Режи, прежде чем мне положить, тщательно все обнюхал — проинспектировал.
— Чем питаются routiers в Англии?
Чем… Яичница из двух яиц с беконом, разумеется, сосиски, колбаска, тушеная фасоль со свининкой, жаркое какое-нибудь… Пинта чаю…
— А вино? А сыры? А десерт?
Насчет этого я усомнился, хотя изучением диеты британских дальнобойщиков специально не занимался. Я сказал, что они могут остановиться у паба, но закон насчет алкоголя за рулем высказывается однозначно.
Режи добавил нам вина.
— Говорят, что у нас, во Франции, нам разрешают аперитив, полбутылки вина и digestif.
Я парировал тем, что, как говорят, Франция — чемпион Европы по дорожно-транспортным происшествиям, а США обогнала вдвое.
— Но алкоголь здесь ни при чем, — возразил не раздумывая Режи. — Все дело в темпераменте, в национальном esprit.[181] Мы вспыльчивы, нетерпеливы, да и какой же француз не любит быстрой езды! Увы, malheureusement,[182] не все мы слишком хорошо водим машину.
Он вздохнул и сменил тему на более приятную.
— Отличный цыпленок, как полагаешь? — Режи подобрал с тарелки куриную косточку и проверил ее на зуб. — Хорошие кости, крепкие кости. Его правильно воспитывали, этого цыпленка. На свежем воздухе, на травке. У цыплят с птицефабрики кости как из papier-mâché.[183]
Цыпленок и вправду оказался хоть куда. Крепыш, но нежный, а главное — прекрасно приготовленный. Как и картофель, как и томаты. Я сообщил свое мнение Режи и подивился заодно размерам порций. Что счет не будет кусаться, я уже понимал.
Режи, очищая хлебом нож и вилку, дал официантке сигнал к сырам.
— Все очень просто объясняется. Routier — хороший клиент, выгодный, не прижимистый и верный. Он может сделать крюк в три десятка километров, чтобы хорошо поесть по умеренной цене, и посоветует другим посетить тот же ресторан. Пока они держат марку, у них всегда будет клиент. — Он махнул вилкой с бри в сторону зала. — Tu vois? Видал?
Я оглядел зал, попробовал считать, сбился. Но уж никак не меньше сотни человек активно работали челюстями за столами плюс человек тридцать у стойки бара.
— У них дело поставлено отлично. Но если вдруг шеф задурит, начнет жульничать, обслуга заленится, то клиент отхлынет. В течение месяца здесь станет пусто, случайный турист, и все.
Снаружи заурчал двигатель, фура откатила от окон, и зал затопило солнце. Наш сосед с золотым крестиком в зарослях, не отрываясь от десерта — мороженое трех сортов, — надвинул на нос солнечные очки.
— Glaces, crème caramele ou flan?[184] — Черная бретелька промелькнула у столика, собрав использованную посуду.
Режи быстро умял свои crème caramele и придвинул к себе заказанную для меня порцию. Нет, не получится из меня routier. Желудок маловат.
Времени еще около двух, зал постепенно пустеет. Народ расплачивается, здоровенными лапами вынимает крохотные кошельки, разворачивает сложенные банкноты. Официантка кивает, улыбается, желает bonne route.[185]
Кофе убойной крепости, горячий, как и положено, укрыт коричневой пенной пеленой, кальвадос в маленьких круглых бокальчиках. Режи наклоняет свой, пока его выпуклый бок не ложится на стол. Кальвадос как раз достигает края наклоненного сосуда — старая традиционная мера заполнения.
Счет на двоих — сто сорок франков. Отличное соотношение между качеством и ценой, как и у Иели, и когда мы вышли под палящее солнце, я сожалел лишь о том, что не захватил с собой полотенце. С удовольствием бы влез под душ.
— Что ж, до вечера продержусь, — сказал Режи, пожимая мне руку, и пригрозил скорой bouillabaisse[186] в Марселе в качестве следующего урока.
Я вернулся в бар повторить кофе и справиться, не снабжают ли они клиентов прокатными полотенцами.
Заметки о моде и спорте с собачьей выставки в Менербе
Стадион Менерба, плоское поле, зажатое виноградниками, обычно служит шумным полем боя для деревенской футбольной команды. Под соснами на время матча замирает с дюжину автомобилей, болельщики делят внимание между ходом игры и провизией, добываемой из огромных корзин. Но раз в году, обычно во второе воскресенье июня, стадион преображается. Флажки и гирлянды исконно прованских красного и желтого цветов натягиваются между деревьями; чтобы расширить автостоянку, вырубают сухостой и валят переросших дуплистых ветеранов. Вдоль дороги воздвигается забор из бамбукоподобного canisse,[187] чтобы не подглядывали желающие сэкономить пятнадцать франков на билете. Потому что событие это масштабное, что-то вроде дог-шоу Крафта или скачек в Аскоте, Foire aux Chiens de Ménerbes — собачья ярмарка в Менербе.
В этом году она началась рано и шумно. Семь часов утра, мы открываем ставни и двери, наслаждаясь единственным утром в неделю, когда не грохочет соседский трактор. Распевают птицы, сияет солнце, долина нежится в лучах солнца. Мир и покой. Как вдруг в полумиле от нашего дома, сразу за холмом, chef d'animation[188] начал проверку своего усилителя, разбудившего половину Люберона.
— Allo, allo, un, deux, trois, bonjour Ménerbes! — Кашлевая интерлюдия. Кашель администратора, как раскаты лавины, отражается от дальних гор. — Bon. Ça marche?[190] — Он чуть убавил громкость и переключил усилитель на «Радио Монте-Карло». Тихое утро полетело ко всем чертям.
Мы решили сходить на выставку ближе к вечеру. Тогда первые этапы отбора останутся позади, сомнительные дворняги и дворовые энтузиасты отсеются, лучшие носы округи примут участие в полевых соревнованиях.
Точно в полдень громкоговоритель смолк, фоновый собачий хор убавил интенсивность до отдельных плаксивых серенад обиженных или тоскующих хвостатых индивидов. Долина снова затихла. На два часа собаки и все остальное уступили место желудку.
— Tout le monde a bien mangé? — снова загавкал громкоговоритель. Микрофон уловил подавленную отрыжку. — Bon. Alors, on recommence.[191]
Мы двинулись по ведущей к стадиону тропе.
Тенистая просека за автостоянкой приютила группу специалистов, продающих своих элитных друзей гибридных пород, отличающихся теми или иными талантами. Собаки, натасканные на кабана, на кролика, на перепелок или вальдшнепов. Живой товар преимущественно спал под деревьями, к которым и был прикреплен при помощи цепочек и ошейников. Собаки вздрагивали во сне, сучили ногами. Владельцы все похожи на цыган — стройные, смуглые, с золотыми коронками, сверкающими из-под густых усов.
Один из них заметил интерес моей жены к морщинистому черно-коричневому псу, лениво скребущему ухо здоровенной задней лапой.
— Il est beau, eh?[192] — обратился к ней владелец, сверкнув золотозубой улыбкой. Он наклонился к псу и сгреб в кулак кожу собачьего загривка. — Он живет в sac à main.[193] Можно его носить.
Пес тоскливо поднял глаза и перестал чесаться. Жена покачала головой.
— У нас уже и так три.
Продавец пожал плечами и отпустил кожу, выросшую на три размера больше собаки.
— Три, четыре… Велика ли разница?
Чуть подальше товар представляли с большими ухищрениями. Над фанерно-проволочной будкой торчал плакатик с печатным текстом: Fox-terrier, imbattable aux lapins et aux truffes. Un vrai champion. Настоящий чемпион, гроза кроликов и трюфелей, толстый коричнево-белый фокстерьер сопел, завалившись на спину и задрав все четыре ноги. Мы едва замедлили шаг, но владелец тут же отреагировал.
— Il est beau, eh? — Он разбудил собаку, взял на руки. — Regardez![194] — Опустив собаку наземь, он вынул из металлической коробки, стоявшей рядом с пустой винной бутылкой на капоте его автомобиля, кусок колбасы. — Chose extraordinaire.[195] Когда такие собаки охотятся, их ничто не может отвлечь. Они сосредоточиваются на своей задаче. Нажмите на его затылок, и он взбрыкнет задними ногами.
Хозяин положил колбасу наземь, засыпал ее листьями и пустил собаку на поиски. Затем он наступил ногой на ее затылок и надавил. Она зарычала и тяпнула его за лодыжку. Мы продолжили обход.
Стадион просыпался после ланча, складные столики под деревьями усеивали объедки, валяющиеся между пустыми стаканами. Какой-то спаниель вскочил на стол и заснул, положив морду на тарелку. Посетители двигались как во сне, отягощенные пищей и жарой, ковыряли в зубах зубочистками, глазели по сторонам — на собак, на ружья, выставленные местным оружейником.
На длинном столе-козлах аккуратным рядком лежали от тридцати до сорока ружей. Сенсацией экспозиции, гвоздем сезона стало матово-черное помповое. Если в лесу вдруг вспыхнет мятеж кровожадных кроликов, это оружие как нельзя лучше подойдет для их усмирения. Но некоторые другие предметы вызвали у меня недоумение. Для чего, к примеру, охотнику латунный кастет или остро заточенная звезда для метания — оружие японских ниндзя, как утверждала поясняющая надпись. Подбор товаров резко отличался от обычных для английских дог-шоу специальных костей и резиновых игрушек-пищалок.
Когда собаки и хозяева собираются вместе в большом количестве, всегда можно найти подтверждение мнению, что сходство между ними с течением времени становится поразительным. В иных частях света это сходство может сводиться к физическим характеристикам: дамы и бассет-хаунды с одинаковыми челюстями, усатые господа с кустистыми бровями и скотти, изможденные бывшие жокеи и их гончие… Но во Франции предпринимаются усилия, чтобы подчеркнуть сходство при помощи моды, подбирая средства, объединяющие человека и собаку в единое целое.
В менербском конкурсе элегантности выделились два явных взаимодополняющих победителя, весьма довольных повышенным вниманием всех остальных участников и зрителей. Среди женщин явным чемпионом следовало признать блондинку в белой блузке, белых шортах, белых ковбойских сапогах с белым миниатюрным пудельком на белом поводке, надменно прошествовавшую по пыльной площадке к бару, чтобы, оттопырив мизинец, испить оранжада. Дамы нашего села, в подавляющем большинстве в скромных юбках и в туфлях без каблуков, взирали на чемпионку с критическим интересом, обычно уделяемым вырезкам на мясном прилавке.
Среди мужчин с отрывом победил необъятный толстяк с датским догом ростом с теленка. Красавец дог, чисто черный, без пятнышка. И хозяин черный: в обтягивающей черной футболке, еще более тугих черных джинсах, в черных ковбойских сапожищах. На доге жесткий ошейник, у хозяина на шее что-то вроде корабельного троса с медальоном — гирей, лупящей его по груди с каждым шагом, на запястье столь же декоративный браслет. На дога он почему-то браслет надеть забыл, но тем не менее впечатление они произвели потрясающее. Мужчина старался выглядеть крутым парнем, управляющим собакой при помощи грубой силы и звериного рыка. Дог, спокойный, как и все датские доги, к сожалению, не смог войти в роль свирепого монстра и, вместо того чтобы сожрать какую-нибудь шавку из тершейся под ногами собачьей мелочи, разглядывал все вокруг с вежливым интересом.
Мы как раз рассматривали этого дога, когда на нас напал мсье Матье со своими лотерейными билетами. За жалкие десять франков он предлагал нам шанс выиграть одно из спортивных или гастрономических сокровищ, предоставленных местными торговцами, — горный велосипед, микроволновую печь, охотничье ружье, maxi saucisson, суперколбасу. Я обрадовался, что среди призов нет щенков, на что мсье Матье рассмеялся:
— Откуда вы знаете, из чего сделана колбаса? — Увидев ужас в глазах моей жены, он засмеялся: — Non, non, je rigole.[196]
Колбасы из представленных на выставке щенков можно было бы наделать горы. Щенки валялись и ползали чуть ли не возле каждого дерева, на одеялах, в картонных коробках, в самодельных конурах, на старых свитерах. Столько соблазнов! Мы переходили от одной пушистой многоногой кучи к другой, жена моя, в высшей степени чуткая ко всему, что обладает четырьмя лапами и влажным носом, подвергалась бессовестной обработке ушлых продавцов. Видя в ее глазах интерес, хозяин просто-напросто совал ей щенка, тот сразу же засыпал на ее руках под комментарий хозяина:
— Voilà! Comme il est content![197] Я видел, что она слабеет с каждой минутой. На выручку пришел громкоговоритель, представляющий эксперта-комментатора полевых испытаний. Эксперт, tenue de chassé[198] — фуражка, рубаха и штаны цвета хаки, — с низким прокуренным басом, к микрофону не привык, к тому же, будучи провансальцем, не мог разговаривать без помощи рук. По этой причине его объяснения прорывались в микрофон непредсказуемыми, плохо стыкующимися между собой отрывками. Он то и дело указывал сжимающей микрофон рукой в поле, и голос его сдувал и глушил свежий ветер.
Участники соревнования выстроились в торце футбольного поля. К финальным состязаниям допустили полдюжины пойнтеров и двух собак неопределенного цвета и происхождения. На поле в произвольном порядке разместились небольшие кучи веток, так называемые боскеты, в которых надлежало спрятать дичь — живую перепелку, продемонстрированную публике одним из членов жюри.
Chasseur[199] освоился с микрофоном, и мы услышали, что обездвиженную перепелку поместят для каждого участника в другой боскет, что птица останется невредимой (если не скончается со страху). Собаки просто должны найти ее как можно скорее, и время выявит победителя.
Перепелку спрятали, первого участника спустили с поводка. Он миновал две кучи, едва удостоив их вниманием, а перед третьей замер, не добегая до нее нескольких ярдов.
— Aha! Il est fort, ce chien,[200] — прогремел chasseur.
Пес, отвлеченный шумом, дернулся, затем решительно направился к куче. Шел он медленно, осторожно, бережено ставя лапы на землю, вытянув вперед голову, не обращая внимания на одобрительные замечания комментатора.
За три фута от окаменевшей от ужаса птицы пес снова замер в классической охотничьей позиции, подняв одну лапу, причем голова его, шея, спина и хвост образовали прямую линию.
— Tiens! Bravo![201] — закричал chasseur и принялся аплодировать, забыв, что в руке у него микрофон.
Хозяин забрал собаку, они рысью вернулись к стартовой позиции, оба вполне довольные. Дама на высоких каблуках и в сложном черно-белом туалете свободного покроя — официальный хронометрист — записала время на доске. Ответственный за перепелку переместил ее в другую кучу, второго участника спустили с поводка.
Тот без всяких колебаний подбежал к боскету, из которого вынули перепелку, и остановился.
— Beh oui, — прокомментировал chasseur, — запах еще силен. Подождем.
Мы подождали. Пес тоже ждал. Но ему ожидание скоро наскучило. Вероятно, он обиделся на дурацкие шутки двуногих. Он задрал у боскета ногу и потрусил обратно к хозяину. Несчастную перепелку засунули в следующий боскет, но, возможно, запах птицы на месте ее первого обнаружения перебивал все остальные, ибо все собаки, одна за другой, останавливались у той же кучи хвороста, недоуменно ее обследовали и отбывали. Стоявший рядом с нами старожил высказал мнение, что перепелку следовало вести на поводке от боскета к боскету, а не переносить. Чтобы она оставляла след. Собаки же не ясновидцы! Старик покачал головой, неодобрительно цокая языком.
Последний участник, пес грязно-рыжего цвета, беспокоился, видя, что остальные покидают позицию, а он остается. Он подвывал и нервно дергал поводок. Когда очередь дошла до него, стало ясно, что ему правила объяснили неверно. Не обращая внимания на боскеты, он совершил круг почета по беговой дорожке стадиона и понесся в виноградники. За ним побежал, размахивая руками и что-то крича, его хозяин.
— Oh là là… Une locomotive. Tant pis,[202] — сокрушенно комментировал chasseur.
Когда солнце уже склонялось, а тени вытянулись, мсье Дюфур, президент охотничьего клуба «Философ», распределил призы и вместе с коллегами принялся за гигантскую паэлью. Уже затемно придя домой, мы все еще слышали в отдалении смех и звон бокалов, а где-то в виноградниках хозяин безуспешно окликал свою собаку.
В чреве Авиньона
Не сказал бы, что пляс Пи, площадь в центре Авиньона, радует глаз в серые моменты перед восходом солнца. Архитектурный ансамбль площади — беспородная дворняга истории градостроительства. Два ряда безвкусных, но довольно экстравагантных старых построек соседствуют с бельмом современной застройки. Некий питомец школы железобетона, béton armé, оставил свой автограф, точнее, увековечился безобразной кляксой.
Центральное бельмо окружают грубые глыбы и скамьи, отдыхая на которых можно наслаждаться лицезрением второго бельма, более внушительного, три пятнистых бетонных этажа коего в течение трудовой недели в восемь утра уже забиты машинами. Причина присутствия автомобилей — и моего собственного — на пляс Пи в столь раннее время в том, что лучше всего покупать пищу в Авиньоне под этим трехэтажным гаражом, в Лез Аль.
Я прибыл еще до шести и втиснул машину на одно из свободных мест на втором этаже. Внизу, на площади, две археологические развалины с кожей цвета скамьи, на которой они устроились, приговаривали литровую бутыль красненького, обходясь без официантов, салфеток и бокалов. К ним подошел gendarme,[203] прогнал одним своим видом, не разжимая губ, не тратя жестов, и остановился, подталкивая взглядом. Под действием облеченного властью взгляда бродяги проволоклись через площадь походкой людей, которым идти некуда и надеяться не на что. Здесь сила взгляда официального лица ощущалась слабее, и изгнанники опустились на поребрик. Жандарм пожал плечами и отвернулся.
После пустынной тихой площади нутро Лез Аль поражало шумом, гамом, суматохой. По одну сторону двери спящий город, по другую — яркие огни, крики, смех и перебранка, разгар рабочего дня.
Я едва отскочил от тележки со штабелем набитых персиками ящиков. Толкавший ее грузчик обогнул угол, вопя: «Klaxon! Klaxon!» За ним следовал целый поезд таких же рыночных тележек с другими продуктами, но с таким же шумом. Я огляделся по сторонам в поисках более безопасного уголка и рванулся к вывеске с надписью «buvette».[204] Если уж меня переедут, то пусть это случится в распивочной.
Владельцы — Джеки и Изабель, как означено на той же вывеске, — трудились в поте лица своего. Народу здесь было столько, что одну и ту же газету читали втроем. Ближайшие к стойке столики оказались все заняты первой сменой то ли завтракающих, то ли обедающих. По пище сразу не скажешь. Круассаны ныряли в чашки густого горячего café crème,[205] рядом поглощались полуметровые сэндвичи с колбасой и изрядные порции пиццы, запиваемые красным вином. Меня потянуло на чемпионский завтрак с полупинтой красного и чем-нибудь основательным, но вино спозаранку допустимо лишь как награда за трудовую ночь. Я заказал кофе и попытался углядеть видимость системы, упорядоченности в окружающем хаосе.
Лез Аль занимает квадрат со стороной семьдесят ярдов, и ни дюйма не пропадает впустую. Три главных прохода разделяют étaux, торговые места разного размера, и в это время утра трудно представить, каким образом тут найдется место для покупателя. Ящики, коробки, кучи стружки и бумаги, на полу раздавленные помидоры, листья салата, кое-где и россыпи гороха или чего иного.
Продавцы, слишком занятые укладыванием товара и надписыванием ценников, не тратя времени на посещение бара, орут, призывая официантку, ловко проскальзывающую между баррикадами с подносом, и получают кофе с доставкой на рабочее место. Она не спотыкается и не скользит даже там, где мужчины в резиновых передниках выгребают лед на сталь рыбных прилавков — там пол блестит от смочившей его воды.
Лед грохочет, как град по жестяной кровле, с другого конца доносится куда более кошмарный звук — мясники пилят и рубят кости, связки, мышцы туш забитого скота. Радея о целости их собственных конечностей, я надеюсь, что за завтраком они воздержались от употребления вина.
Через полчаса можно уже высунуть нос из бара, не опасаясь за свою драгоценную жизнь. Тележки и ящики исчезли из проходов, колеса сменились ногами. Армия подметальщиков наводит чистоту на полу, пластиковые таблички ценников на местах, кассы во всеоружии к приему денег, кофе допит, рынок готов к приему покупателей.
Нигде я не видел такого обилия свежей пищи в подобном многообразии. Я насчитал пятьдесят торговых мест, многие из которых посвящены лишь одному продукту. Двое торговцев предлагают оливки — только оливки, — но во всевозможных вариантах: à la greque[206] в масле с пряными травами, с алыми стружками жгучего перца, оливки из Ниона, из Лe-Бо, оливки, похожие на мелкие черные сливы или на продолговатые зеленые виноградины. Они выставлены в приземистых деревянных кадках, поблескивающие, будто отполирована каждая в отдельности. В конце ряда кадок единственная емкость, в которой содержатся не оливки — бочонок анчоусов из Коллуара, упакованных плотнее любых сардин, острых, пряных. Я нагибаюсь, чтобы понюхать. Мадам за прилавком предлагает попробовать с черной оливкой. Умею ли я готовить тапенад, пасту из оливок и анчоусов? Тапенад на обед — проживешь до ста лет!
Далее иной профиль торговли — все, что при жизни бегало, а то и летало, в перьях, выпотрошенное и скрученное. Голуби, каплуны, утиные грудки и ножки, три разных члена куриной аристократии, poulets de Bress[207] с красными, белыми и синими ярлыками, похожими на медали. На ярлыках надпись: Légalement contrôlée — Comité Interprofessionnel de la Volaille de Bress.[208] Воображаю, как избранные петухи получают предсмертную награду из рук представителя комитета с непременным отеческим поцелуем по обе стороны клюва.
А рыба! Рыба выложена длинным рядом, жабры к жабрам, сорок ярдов блеска чешуи и глаз, еще не успевших помутнеть. Рыбный прилавок тянется вдоль стены, сверкает льдом, пахнет морем. Тут же кальмары и темный тунец, rascasses[209] и loups de mer,[210] треска и скат. Горы всевозможных моллюсков в раковинах, панцирях и без таковых: морские ежи, креветки малые, большие и гигантские. Рыба для жарки и для ухи, стального цвета омары, пятна желтого от разложенного по прилавку лимона. Ловкие руки оперируют длинными узкими ножами, резиновые подошвы скрипят по влажному каменному полу.
Время подходит к семи часам, появляются первые домохозяйки, принюхиваются, прицениваются, ощупывают товар к обеду и к ужину. Рынок открывается в пять тридцать, первые полчаса официально зарезервированы для оптовиков и рестораторов, но попробуйте остановить вставшую пораньше авиньонскую матрону! «Спозаранку купишь лучшее, а перед закрытием возьмешь дешевле», — так нам часто повторяли знакомые.
Но попробуй вытерпи до закрытия. Столько соблазнов! Прогуливаясь по рядам, я десяток раз мысленно пообедал. Миска яиц от кур свободного выгула, преображенная в piperade[211] с помощью сковородки, лучка, перчика и с помидорчиками, с байонским окороком из соседнего свинарника — с соседнего прилавка. Это видение не оставляло меня, пока я не дошел до семги с икрой. Затем сыры, saucissons,[212] крольчатина, зайчатина, свиные паштеты, горы rillettes и confits de canard[213] — выше сил человеческих все перепробовать.
Я был близок к решению отказаться от дальнейших исследований в пользу пикника в парке. Все нужное под руками: хлеб продают тут же, вино рядом, все в радиусе двадцати метров, свежее и привлекательное, слюнки текут. Трудно представить себе лучший зачин дня. Аппетитмой приспособился к окружающей среде, перескочив во времени через несколько часов. На часах полвосьмого, а желудок требует наплевать на часы и подать ему полный ланч. Пришлось прибегнуть к жидкой моральной поддержке в виде кофе.
На рынке Лез Аль расположились три бара: «Джеки и Изабель», «Сирил и Эвелин» и наиболее опасный «Ше Кики», в котором шампанское льется рекой задолго до того, как основная масса населения покинет постель. На моих глазах двое толстяков чокались высокими flûtes[214] с шампанским, казавшимися особенно деликатными в их толстых пальцах-сардельках с землей под ногтями. Грязь на сапогах показывала, что они успешно сбыли еще затемно снятый с грядки салат либо редис.
Публика жужжала в проходах, липла к прилавкам, выбирала, принюхивалась, стремилась купить самое нежное, самое сочное, наилучшее. Какая-то типичная покупательница, насадив на нос очки, присматривалась к совершенно одинаковым, с моей точки зрения, головкам цветной капусты, глазам все же не верила, поднимала то одну, то другую, принюхивалась, прощупывала что-то. Наконец она выбрала одну и с недоверием следила за продавцом, как бы тот не подменил ее избранницу другой, менее ценной, из заднего ряда. Я вспомнил, как мне напоминали о неуместности торга в Лондоне. Здесь бы этого правила не поняли. Тут ничто не покупается, не будучи ощупанным и обнюханным со всех сторон. Продавца, который бы этому воспротивился, с позором изгнали бы с рынка.
Рынок Лез Аль украшает Авиньон с 1910 года, но под гараж он переселился лишь в 1973-м. Это я смог узнать у девицы в конторе администратора. На вопрос, сколько всего продается на рынке ежедневно, она пожала плечами и ответила beaucoup. Много.
Что beaucoup, я и сам видел. Покупатели уносили товар не только в полиэтиленовых пакетах, но и в какой угодно иной таре, вплоть до древних побитых чемоданов. Сумки растягивались до неожиданных размеров и пропорций. Кривоногий старикан в шортах и мотоциклетном шлеме подрулил свой mobylette к самому входу и накупил кучу провизии: пластиковый cageot[215] дынь и персиков, две здоровенные корзины заполнил с верхом, в полотняный мешок затолкал дюжину baguettes. Затем принялся распределять и прилаживать груз к своему транспорту, прикрепляя к багажнику за седлом, навешивая на перекладину руля. Мешок с хлебом приспособил за спину. Он набрал провизии на неделю, но, прощаясь с одним из продавцов, бросил ему: «À demain!». До завтра!
Старик на своем натужно тарахтящем от перегрузки механическом ишаке скрылся за углом, пригнувшись к рулю, выставив вперед baguettes, как золотые стрелы из колчана. Одиннадцать часов, кафе на противоположной стороне площади уже готовило уличные столики к ланчу.
Открытки из лета
Лишь через три года мы поняли, что живем хоть и в одном и том же доме, но в двух разных странах.
То, что мы считаем нормальной жизнью, начинается в сентябре. Никаких столпотворений, если не считать рыночных дней. На второстепенных дорогах почти пусто — ночью совсем пусто. В ресторанах полно свободных столиков, если не считать воскресного ланча. Ритм жизни неторопливый, несложный. У пекаря всегда в продаже хлеб, сантехник не отказывается поболтать, у почтальона находится время опрокинуть стаканчик. После первого оглушительного уик-энда в начале охотничьего сезона в лес возвращается тишина. В полях маячат согбенные фигуры мыслителей, задумчиво созерцающих виноград, прогуливаясь вдоль одного ряда в одну сторону, затем возвращаясь в другую, медленно, размеренно. Два часа после полудня — мертвые.
Но есть еще июль и август.
Мы поначалу считали их двумя рядовыми месяцами года. Жарко, конечно, но ничего особенного, за исключением того, что удлиняется послеполуденная сиеста.
Мы заблуждались. Люберон, в котором мы живем в июле и августе, — не тот Люберон. Это Люберон en vacances, отпускной, и попытки жить нормальной жизнью в эту ненормальную пору обречены на провал. Поползновения эти настолько неуспешны, что мы подумывали, не отказаться ли от этого времени года, от лета, не отправляться ли на этот период куда-нибудь в тихое, захолустное, прохладное местечко. На Гебриды, к примеру.
Но, удрав, мы бы поняли, что нам не хватает обстановки, от которой мы сбежали, недостает дней, превращающих нас в потных, утомленных, раздраженных зомби. И мы решили смириться с летним Любероном, попытаться приспособиться к обстоятельствам, к миру на каникулах, и так же, как все порядочные отпускники, посылать друзьям открытки о чудесном времени в изумительном месте. В разных волшебных местах. Вот некоторые из этих открыток.
Cherchez les nudists! Ищите нудистов! Открыт сезон для любителей природы, и число желающих вступить в ряды полиции Сен-Тропе возрастает.
Мэр городка, мсье Спада, бросил вызов многолетней традиции (именно Сен-Тропе прославил пляжную обнаженность) и во имя морали и гигиены не разрешил загорать в обнаженном виде на общественных пляжах.
— Le nudisme intégral est interdit,[216] — заявил мсье Спада и поручил полиции хватать отступников и искоренять нарушения. Ну, не обязательно хватать в буквальном смысле, однако изгонять и штрафовать. Размер штрафа — от семидесяти пяти франков и до полутора тысяч в случае, если нарушители учиняют беспорядки или сопротивляются. В каком месте нудист прячет полторы тысячи франков, остается интересным вопросом.
Группа воинствующих нудистов, однако, прочно обосновалась где-то в скалах за пляжем де ля Мутт. Представительница смутьянов заявила, что никакая сила не заставит их облачиться в купальные костюмы. Присоединяйтесь, ежели желаете.
Брат Фостена Джеки, жилистый человечек лет около шестидесяти, выращивает дыни в поле напротив своего дома. Поле немалое, но он работает там без помощников и только руками, без всякой техники. По весне я вижу его в согбенной позе, часов по шесть-семь машущего тяпкой, истребляющего зеленых конкурентов, грозящих его урожаю. Никакой химии он не применяет — что за радость жевать химикаты? — и мне кажется, что работа приносит ему удовольствие.
Дыни созревают, и теперь он появляется в поле в шесть утра, чтобы снять готовые для продажи. Он доставляет дыни в Менерб в мелких деревянных ящиках. Из Менерба дыни отправляются в Кавайон, затем в Авиньон, в Париж — по белу свету. Джеки смешит мысль, что люди в ресторанах платят une petite fortune[217] за такую простую вещь, как дыня.
Встав пораньше, я застаю Джеки перед отъездом в Менерб. У него всегда находится пара слишком спелых дынек, чтобы выпустить их в большой мир, и он охотно уступает их мне за несколько франков.
Я направляюсь домой, солнце вылезает из-за гор и принимается поджаривать мою физиономию. Сохранившие ночную прохладу дыни приятно холодят бока. Мы завтракаем дынями, свежими и сладкими, лишь десять минут назад покинувшими место своего рождения.
Наступают дни, в которые бассейн превращается из причуды в объект первой необходимости. Температура в тени достигает пятидесяти с лишним градусов. Когда люди спрашивают у нас совета относительно дома для летнего отпуска, мы всегда выделяем это обстоятельство. Некоторые прислушиваются.
Другие наш совет игнорируют и через день-другой по прибытии звонят, сообщая об открытии, которое мы им предрекали за месяц, а то и за полгода. «О-о, как жарко! — стенают они. — Слишком жарко для тенниса, для велосипеда, для всего, всего. О-о-о, бассейн!»
Следует пауза, исполненная надежды. Кажется мне или я действительно слышу, как капли пота летним дождем тарабанят по страницам телефонного справочника.
Я обдумываю черствый, но осмысленный ответ. Возле Апта имеется общественный бассейн, если вы не боитесь общества нескольких сотен маленьких загорелых дочерна дервишей, избавившихся от школы. Просторы Средиземного моря всего в часе езды… ну, в двух, считая пробки. Не забудьте захватить полдюжины бутылок воды «Эвиан», иначе не избежать обезвоживания.
Можно также закрыть ставни, залечь в доме и дождаться освежающего вечера. Таким образом, правда, сложно загореть, но зато не рискуешь получить солнечный удар.
Такого рода жестокие, антигуманные советы еще бороздят мое сознание, а я уже слышу, как отчаяние в голосе собеседника сменяется ликованием. Конечно! Мы заскочим к вам утром, окунемся и исчезнем. Никакого беспокойства, вы даже не заметите, что мы у вас побывали!
Они прибывают к полудню с какими-то знакомыми. Плавают, загорают, потом неожиданно для себя ощущают жажду. В результате я превращаюсь в бармена, а жена готовит ланч на шестерых. Vivent les vacances![218]
Собаки спасаются от жары, отсыпаясь где-нибудь под навесом во дворе или в розмариновой живой изгороди. Они оживают, когда закат уже гаснет, принюхиваются к ветерку, тычутся носами друг в друга и в наши ноги, приглашают на вечернюю прогулку. Мы прихватываем фонарик и следуем за ними в лес.
Пахнет нагретой хвоей, пропекшейся землей, нас обдает сухой пряный аромат обеспокоенных зарослей трав. Множество мелких существ шныряют под ногами, шуршат листвой, ныряют в заросли дикого самшита, который здесь никто не высаживал, сам по себе растет.
Звуковой фон, сопровождающий нас, — это доносящийся перезвон cigales,[219] лягушек, музыки из открытого окна отдаленного дома, а также звяканье посуды на террасе Фостена — там ужинают. Холмы через долину, необитаемые в течение десяти месяцев, светятся. Огни в холмах погаснут в конце августа.
Возвращаемся домой, избавляемся от башмаков. Теплые камни мощеного двора приглашают в бассейн. Ныряем в теплую воду, после омовения отдаем должное последнему за день бокалу вина. Небо ясное, видна каждая звездочка. Завтра снова накатит жара. Медленная, неумолимая — как сегодня.
Я развлекался, срезая лаванду садовыми ножницами, — медленно, неспешно, по кустику, по травиночке. Когда прибыла Анриетт с корзиной баклажанов, я без сожаления оставил свое увлекательное занятие. Анриетт глянула на лаванду, перевела взгляд на ножницы и покачала головой, дивясь глупости соседа. Неужто я не знаю, как управляться с лавандой? Где мой faucille?[220]
Она вернулась к своему авто и принесла почерневший серп, острый конец которого для безопасности защищала пробка от винной бутылки. Серп оказался на диво легким, острым — хоть брейся. Я лихо взмахнул орудием в воздухе, и на лице Анриетт появилось скептическое выражение. Она снова покачала головой, поняв, что меня придется поучить.
Анриетт подоткнула юбку и атаковала ближайший ряд лаванды, зажимая стебли в кулак одной руки и срезая их плавным движением серпа в другой. В пять минут она сжала больше, чем я за час. Выглядел процесс проще простого: нагнись, захвати, срежь — всего-то, чему тут учиться!
— Voilà! — сказала Анриетт. — Я росла в Нижних Альпах, у нас лаванды гектары были, а машин никаких. Только серп.
Она передала мне острый полумесяц, велела беречь ноги и удалилась к Фостену в виноградник.
Мои первые попытки оказались не слишком удачными. Процесс оказался не столь простым, как виделся со стороны. Я больше мял, чем резал. Потом понял, что серп сделан под правую руку, и пришлось приспосабливаться, резать от себя. Вышла жена, тоже забеспокоилась о моих ногах. Она вообще не любила доверять мне ничего острого и несколько утешилась тем, что я вынужден резать наружу. Таким образом риск ампутации да и вообще ранений резко уменьшался.
Я завершал труды, когда снова появилась Анриетт. В ожидании похвалы я поднял голову и чуть не отрезал себе палец. Обильно хлынула кровь, а черствая Анриетт высказала предположение, что я выбрал неудачное место для маникюра. Ее юмор меня иной раз озадачивает. Через два дня она вручила мне другой серп и велела без перчаток к нему не прикасаться.
Осы в Провансе мелкие, но жало у них в высшей степени неприятное. Неприятна и их подлая манера напасть исподтишка на купающегося в пруду и пуститься наутек. Оса подкрадывается сзади к ничего не подозревающей к жертве, поджидает, пока та поднимает руку, и — tok! — жалит в подмышку. Последствия поражения ощущаются в течение нескольких часов, ужаленные иногда решают купаться в защитной одежде — местная версия конкурса Мисс Мокрая Футболка.
Не знаю, все ли осы любят воду, но здешние ее обожают. Они плавают в мелком конце пруда, копошатся в лужах, поджидают, пока кто-нибудь подставит незащищенную подмышку или какую-нибудь чувствительную оконечность. После одного из наиболее неудачных дней, когда пораженными у меня оказались не только подмышки, но и паховая поверхность бедер — очевидно, некоторые из злобных тварей научились задерживать дыхание и действуют под водой, — меня послали за ловушками.
Я нашел не только ловушки — в droguerie[221] на задворках Кавайона, — но и крупного знатока осиных повадок за прилавком этой аптеки. Он продемонстрировал мне последнюю модель, пластиковую наследницу древних стеклянных висячих ловушек, которые иногда можно найти на блошиных рынках. Конструкция специально разработана для применения в плавательных бассейнах, сказал мне специалист. Никакая оса против нее не сможет устоять.
Ловушка состоит из двух частей. Нижняя — основание — представляет собой круглую миску на трех плоских опорах с воронкой, ведущей от дна кверху. Верхняя часть накрывает нижнюю и не выпускает пчел, попавших вниз по воронке.
Это все просто, сказал эксперт. Более сложно — подлинное искусство — приманка. Как убедить осу, что ей необходимо проследовать внутрь замкнутого сосуда? Что отвлечет ее от воды?
Прожив некоторое время в Провансе, вы привыкнете, что каждая покупка, будь то экологически чистая капуста (две минуты) или кровать (полчаса или более в зависимости от вашей выносливости), влечет за собой вводный инструктаж. В случае ловушек для ос наставление продолжалось около десяти-пятнадцати минут. Я сидел перед прилавком и внимательно слушал.
Оказалось, что осы неравнодушны к спиртному. Некоторые любят сладкий алкоголь, другие фруктовый, есть и предпочитающие анис. В этом вопросе, сказал эксперт, следует поэкспериментировать, выбрать аромат и консистенцию, привлекающие обитающих по соседству ос.
В качестве исходных он посоветовал сладкий вермут с медом и водой, разведенный crème de cassis,[222] темное пиво, сдобренное чуточкой marc, чистый пастис. Дополнительно воронку полезно смазать медом и под ней на дне ловушки оставить лужицу воды.
Эксперт установил ловушку на прилавок и двумя пальцами имитировал летящую осу. Вот ее приманила вода и что-то еще более привлекательное. Она устремляется в ловушку, ныряет в милый ее сердцу коктейль. Voilà! — она обречена. Она умирает, но умирает пьяной и счастливой.
Я купил две ловушки и опробовал рецепты. Подействовали все, что привело меня к убеждению, что у ос серьезные проблемы с алкоголизмом. И теперь, если какой-то гость нашего дома проявляет слабость по части крепких напитков, я говорю, что он надрался как оса.
Большинство летних болезней, будь они мучительными, неудобными или просто беспокоящими, рассматриваются с некоторой долей симпатии. Жертва нежданной встречи с взрывоопасными merguez[223] не рискует показываться на людях, пока ее состояние не нормализуется. То же относится и к поражению солнечными лучами, розовым вином, скорпионами, чесноком, к тошноте и головокружению, проистекающими от контактов с французскими официальными инстанциями. Жертва страдает, но страдает в одиночестве, никого не беспокоя.
Но есть и другая хворь, худшая, чем скорпионы или острые сосиски. Мы от нее настрадались, как и другие постоянные обитатели этого тихого уголка Франции. Симптомы болезни проявляются обычно в середине июля и не исчезают до начала сентября: остекленевший взгляд, синяки под глазами, приступы зевоты, потеря аппетита, вспыльчивость, вялость, легкая параноидальность поведения. Тянет в монастырь.
Такова maladie du Lubéron,[224] или ползучая социальная апатия. Сочувствия страдающий этой болезнью дождется не больше, чем миллионерша, отчаявшаяся отыскать прислугу по вкусу.
Если поинтересоваться пациентами — обычными жителями, — можно понять причины. Постоянные обитатели местности чем-то занимаются, у них есть друзья, выработались неспешные привычки. Они предпочитают жить в Любероне вместо одной из коктейльных столиц мира, они сделали этот выбор, чтобы избежать иного. Эту их привередливость понимают и уважают десять месяцев в году.
Но попробуйте объяснить это летним визитерам, сошедшим с самолета или с autoroute[225] отягощенным общественной активностью. Скорее познакомиться с местными, сойтись с ними, подружиться, полюбиться. К черту книгу в гамаке и лесную прогулку! К черту уединение — общение им подавай! Званый ланч, званый ужин, званый коктейль, приглашения и контрприглашения, ни дня свободного!
Когда отпуск подходит к концу, во время прощального обеда с батареями бутылок, на лицах некоторых отпускников можно заметить следы усталости. Они не ожидали, что здесь, вдали от шума городского, такая оживленная светская жизнь. Им придется как следует отдохнуть, расслабиться после такого напряженного ритма. И всегда у вас здесь так? Как вы только выдерживаете?!
Нет, не всегда так, и выдерживаем мы с трудом. Как и большинство наших знакомых, мы впадаем в прострацию между визитами, стараемся никого не видеть и не слышать, мало едим и мало пьем, рано ложимся спать. И каждый год, когда осядет пыль, обсуждаем с другими членами нашей ассоциации страдальцев, как сделать так, чтобы следующий год принес меньше летних испытаний на прочность.
Все едины во мнении, что лучшее средство — стойкость характера. Привыкни к твердому «нет», не мямли «да-а-а». Отврати сердце свое от настырного визитера, который, видишь ли, не смог найти номер в отеле, ребенок которого страдает без бассейна, от растяпы, который потерял бумажник. Будь тверд. Помочь в пределах разумного — пожалуйста, но жесткость характера прежде всего.
Но я понимаю — полагаю, все мы понимаем, — что следующее лето обернется той же гонкой и теми же вовсе не нежданными сюрпризами. Придется наслаждаться. Может, мы бы и благодушествовали, если бы такой образ жизни не был столь утомительным.
Автомобили с деревенской площади изгнаны, с трех сторон ее окаймляют столы, козлы, стойки. С четвертой стороны площадь ограждает помост-сцена, здесь уже мигает разноцветная подсветка. У кафе выставлен дополнительный ряд столиков и стульев, привлечен дополнительный официант, ибо клиентов множество, толпа гудит от мясной лавки до почты. Дети и собаки гоняются друг за другом, таскают сахар со столиков. Старики беззлобно замахиваются на них палками. Никто не собирается улечься пораньше, даже дети, ибо сегодня деревня празднует ежегодный fête votive.[226]
Торжество начинается традиционным pot d'amitié[227] и официальным открытием базара. Местные умельцы, сверкая свежевыбритыми физиономиями, стоят за своими стойками при стаканах красного или что-то в последний момент прилаживают, раскладывают, прихорашивают. Посетителям предлагаются керамика и ювелирные изделия, мед и лавандовая эссенция, ткани с домашних ткацких станков, сувениры из металла и камня, живопись и резьба по дереву, книги, почтовые открытки, изделия из кожи и штопоры с витыми рукоятками из древесины масличных деревьев, вышитые саше с сушеными травами. Торговка пиццей бойко утоляет разыгравшийся после первого стакана аппетит присутствующих.
Народ фланирует по площади, присаживается к столикам кафе, возвращается. На площадь опускается вечер, теплый и тихий, дальние горы горбами вырисовываются на фоне темного неба. Три музыканта при аккордеоне устраиваются на помосте и начинают первый из многих пасодоблей вечера. Прибывшая из Авиньона рок-группа тем временем репетирует в кафе с помощью пива и пастиса.
Появляются первые танцоры, дедушка и внучка. Внучка уткнулась носом в пряжку дедова ремня, устроившись башмачками на ботинках деда. К ним присоединяется трио — мать, отец и дочь, затем несколько пожилых пар, танцующих с видом серьезным, чуть не траурным, повторяя заученные давным-давно движения.
Пасодобль завершается витиеватым росчерком и барабанной дробью, вступает рок-группа, сотрясая своей электроникой стены окружающих площадь домов. Солистка группы, отличного сложения молодая леди в вопящего апельсинового цвета парике, стала центром внимания мужской аудитории, еще не успев издать ни звука. Древний дед в кепке, козырек которой доставал чуть ли не до выступа его подбородка, подволок стул к самому помосту, под микрофон. Когда певица выпрыгнула к микрофону, примеру деда последовал молодняк. Парни столпились позади его стула, задрали головы и уставились на ведущий себя весьма динамично зад солистки, обтянутый черной лайкрой.
Деревенские девицы, лишившись кавалеров, отплясывали друг с дружкой, иной раз задевая спины парней, загипнотизированных ягодицами из Авиньона. Один из официантов отставил поднос и стал изображать танцевальные па перед сидящей за столиком с родителями симпатичной девушкой. Та покраснела и уткнулась взглядом в стол, но родительница подтолкнула ее локтем: иди, потанцуй, праздник ведь скоро закончится.
После часа музыки, от которой дребезжали стекла в окнах, группа исполнила финал. С чувством, достойным Пиаф в ночь печали, солистка выдала «Comme d'habitude» или «Му Way», закончив надрывом, и склонила свою оранжевую голову перед микрофоном. Старик интенсивно кивал и колошматил палкой по земле. Народ повлекся в кафе, проверить, не осталось ли там пиво.
Традиция предусматривала также использование feux d'artifice,[228] фейерверки, в поле за военным мемориалом, но в этом году ввиду засухи их пришлось отменить. Но все же праздник удался на славу. Обратили внимание, как отплясывал почтальон?
Арестуйте эту собаку!
Один из моих лондонских корреспондентов время от времени информирует меня о событиях международного значения, которые может прозевать «Le Provençal». Недавно он прислал мне статейку из «Таймс», разоблачающую аферу неслыханного коварства, нож в сердце — хуже, в желудок! — каждого уважающего себя француза.
Банда мерзавцев ввозила из Италии белые трюфели, во Франции иногда презрительно называемые промышленными. Негодяи окрашивают грибы красителем, полученным из грецкого ореха, подгоняя их облик под черныетрюфели, намного более ароматные и стоящие неизмеримо больше. В ценах репортер «Таймс», похоже, ошибся на порядок. Он привел в качестве цены килограмма черных трюфелей четыреста франков, что вызвало бы ажиотаж у Фошона в Париже, где я видел своими глазами бриллиантовую цену в семь тысяч франков за килограмм.
Но дело даже не в этом. Дело в сути преступления. Франция, самоназначенный чемпион мира в области гастрономии, оскорбляется подделкой, обижающей вкус и выметающей бумажники, да еще со стороны кого? Не своих мошенников, подсовывающих второсортный товар вместо настоящего трюфеля, а итальяшек! Италия, надо же!
Об итальянской кухне я слышал от французов презрительное высказывание: «Кроме макарон, у них ничего не было и нет». Тем не менее толпы темных личностей, самозванцев из-за Альп, проникают к французскому желудку под теми или иными предлогами. Ситуация складывается — зарыдаешь над своим foie gras.
В связи с этой трюфельной историей я вспомнил об Алене, предлагавшем захватить меня на охоту под Мон-Ванту и продемонстрировать свою новую ищейку-свинью. Я позвонил ему и узнал, что сезон выдался тощий из-за летней засухи, а эксперимент со свиньей не удался. Она оказалась совершенно неприспособленной к работе. Кое-что он все же обнаружил, немного, но хорошего качества. Мы договорились встретиться в Апте, где он должен увидеться с кем-то насчет собаки.
Есть в Апте одно кафе, в котором по рыночным дням собираются трюфельники. В ожидании клиентов они отчаянно мухлюют в карты и обмениваются охотничьими байками, рассказывая, как им удалось надуть «одного лоха из Парижа» и всучить ему полтораста граммов чуть ли не чистой грязи. В карманах у них складные весы и древние ножи «Опинель» с деревянной рукояткой, позволяющие при помощи миниатюрных надрезов на грибе определить, не зачернена ли у него лишь поверхность. К кофейному и табачному запахам примешивается в этом кафе земляной, почти гнилостный аромат содержимого потертых и запачканных полотняных мешков, небрежно брошенных на столы. Хозяева мешков потягивают розовое и что-то бормочут, часто понижая голос до шепота.
Поджидая Алена, я наблюдал за двоими такими, скрючившимися над своими стаканами, почти касающимися лбами, и между фразами оглядывавшими помещение. Один из них вдруг вытащил треснувшую шариковую ручку «Бик» и нечто написал на ладони. Сунув ее под нос собеседнику, он тут же плюнул в нее и принялся стирать написанное, уничтожая улику. Что он написал? Новую цену за кило? Комбинацию цифрового замка ближайшего банка?. Или предупреждение: «Осторожно! Очкастый справа вылупился на нас».
Прибыл Ален, встреченный, как и все входившие, внимательными взглядами из-за столиков. По настроению присутствовавших мне казалось, что я собираюсь совершить нечто противозаконное и опасное, а не приобрести безобидный ингредиент омлета.
Заметку «Таймс» я захватил с собой и показал Алену, но он оказался осведомлен куда лучше репортера, узнал о событиях из первых уст, от знакомого из Перигора, где новости вызвали взрыв праведного возмущения в среде честных торговцев трюфелями и мрачные подозрения со стороны их клиентов.
Ален прибыл в Апт с целью начать переговоры о покупке нового трюфельного пса. Владельца он знал, но не основательно, посему дело требовало фундаментального рассмотрения. Запрашиваемая цена составляла внушительную сумму в двадцать тысяч франков, на веру брать ничего нельзя. Следовало провести полевые испытания, проверить обоняние и выносливость собаки, установить ее возраст, выявить возможные сюрпризы.
Я перевел беседу на мини-свинку. Ален пожал плечами и резанул большим пальцем по горлу. Пока что, сказал он, поскольку не хочется связываться с крупной свиньей, единственное возможное решение — собака. Но найти достойную собаку, отвечающую всем требованиям, за которую не жалко и заплатить, не так просто.
Особая порода трюфельной ищейки не выведена, чаще всего я встречал в этом качестве невзрачных невоспитанных дворняг, выглядевших так, будто много поколений назад в число их предков затесался терьер. Ален одно время использовал в качестве трюфельной собаки овчарку. Все зависело от индивидуальных особенностей, чутья и тренировки. Гарантии, что пес, хорошо работавший с одним хозяином, достигнет тех же результатов с другим, никакой. Ален что-то вспомнил и улыбнулся. Есть одна знаменитая история, сказал он. Я наполнил его стакан, и он приступил к рассказу.
Произошло это в Сен-Дидье. Была однажды у одного человека собака, которая; по его словам, находила кучи трюфелей там, где ни одна другая не могла обнаружить ни одного. Зимой другие охотники приносили с холмов горстку-другую, а этот появлялся в кафе с набитым мешком. Чудо-пес был, хозяин не мог на него нарадоваться. Звали этого чемпиона Наполеоном, как же иначе!
Многие хотели бы заполучить такое сокровище, но хозяин, естественно, не желал с ним расставаться. И все же однажды не устоял. Один из охотников выложил на стол четыре briques,[229] сорок тысяч франков. Цена уникальная, и хозяин, мучимый сомнениями, все же уступил собаку.
И за весь остаток сезона Наполеон не нашел ни гриба. Новый хозяин кипел от негодования. Он привел Наполеона обратно в кафе и потребовал вернуть деньги. Прежний хозяин предложил новому поучиться работать с собакой и деньги вернуть отказался. После обмена комплиментами новый хозяин отправился в Авиньон советоваться с судейскими. Адвокат, как у этого сословия принято, заявил, что дело темное, поскольку прецедентов не имеется за всю историю французского судебного производства. Собака, изменившая своему долгу… гм… Дело достойно рассмотрения самым квалифицированным судьей.
Через несколько месяцев оба противника появились в суде. Судья, человек добросовестный, не хотел оставлять без внимания ни единой детали. Он отрядил жандарма за собакой, привлек ее в качестве свидетеля.
Неизвестно, повлияло ли на решение судьи присутствие собаки, но он вынес вердикт, обязывающий прежнего хозяина принять Наполеона и вернуть половину полученной за него суммы. Вторая половина удерживалась в качестве компенсации за временную утрату столь прибыльной собаки. Воссоединившись, Наполеон и его хозяин переехали в другую деревеньку, к северу от Карпантра. Через два года ситуация повторилась, хозяин снова продал собаку, но, ввиду инфляции, за более крупную сумму.
Одного в этой истории я понять не мог. Если собака столь виртуозно находила грибы, то хозяин мог зарабатывать гораздо больше, не продавая собаку и не лишаясь ее услуг.
Ален усмехнулся и охотно объяснил. Я, как и все другие, полагал, что грибы, с которыми хозяин Наполеона приходил в кафе, действительно находил этот милый песик.
Non?
Non. Грибы эти хозяин держал в морозильнике и раз в неделю вынимал, чтобы сходить с ними в кафе. Его Наполеон свиную отбивную у мясника не смог бы найти своим тупым деревянным носом. У собаки не было никакого чутья.
Ален прикончил стакан.
— Мораль: никогда не покупай собаку в кафе. Надо видеть ее в работе. — Он посмотрел на часы. — У меня есть время еще на стакан. А у вас?
Всегда, заверил я. А еще одна история?
— Еще какая. Вам как писателю понравится. Давнее это дело, но, говорят, не ложь.
Некий селянин владел клочком земли на некотором удалении от дома. Небольшой участок, гектара два, но заросший древними дубами, и каждую зиму снимал с него владелец урожай трюфелей, позволяющий ему жить праздно и безбедно весь год. Его свинья в два счета находила черные самородки. Год за годом трюфели приносили постоянный доход. Деньги, казалось, валялись под деревьями. Бог милостив, так и вся жизнь пройдет, полагал крестьянин.
Можно представить себе его возмущение, когда он заметил, что кто-то рылся на его участке. Возможно, конечно, бродячий кабан или собака. Но вот он обнаружил втоптанный в землю окурок современной сигареты с фильтром не того сорта, что курил сам. Уж конечно, не кабан этот окурок выкинул. Крестьянин не на шутку обеспокоился.
Тщательная инспекция усилила его тревогу. Тут и там ямы, на камнях царапины от металлической трюфельной ковырялки.
Разумеется, никто из соседей такого вытворить не мог. Он знал всех с детства. Значит, чужак, не знающий, что эта драгоценная земля принадлежит ему.
Будучи человеком разумным, крестьянин понимал, что посторонний мог и не знать, что земля эта — частное владение. Заборы и знаки денег стоят, да и нужды в них ранее не наблюдалось. Его земля — это его земля, каждый в деревне знает. Конечно, времена изменились, чужаки нашли дорогу в холмы. Крестьянин поехал в город, накупил табличек «Частная собственность», «Проход запрещен», на всякий случай и «Осторожно, злая собака» прихватил. Вместе с женой он допоздна трудился, развешивая таблички по периметру своих владений.
Несколько дней прошли спокойно, никто не нарушал границ его участка, и крестьянин решил уж было, что рылся в его земле некто добросовестно заблуждавшийся. Хотя с чего бы этот совестливый стал выбирать для промысла ночь — такая мысль тоже посещала голову крестьянина.
И вот — снова. Несмотря на знаки, на его землю опять вторглись и под покровом тьмы похитили драгоценные черные комочки. Ни о какой ошибке речь идти не могла. Действовал браконьер, ночной вор, паразитирующий на чужой собственности.
Крестьянин с женой обсудили проблему вечером за супом на своей кухне. Можно, конечно, привлечь полицию. Но трюфели — точнее, деньги от их продажи — формально не существуют, так что и официальным инстанциям заниматься этим делом не след. Зададут вопрос о ценности похищенного, о сумме ущерба… Кроме того, даже если браконьера упекут за решетку, потерянного-то он не вернет.
И они решили бороться со злом своими способами. Крестьянин навестил два-три соседских дома, где его поняли с полуслова. Соседи согласились ему помочь и несколько долгих ночей дежурили на участке с дробовиками, возвращаясь домой нетвердой походкой в результате усиленного обогрева организма изнутри. Наконец одной пасмурной ветреной ночью они заметили огни фар. Автомобиль остановился за две сотни метров у подножия холма.
Мотор стих, фары погасли, открылись и закрылись дверцы. Вспыхнул фонарик, послышались приглушенные голоса, затем и шаги.
Собака бежала впереди. Она учуяла чужих, нервно залаяла, и браконьер зашипел на нее. Караульные крепче сжали ружья, крестьянин включил прихваченный специально для этого фонарь.
Луч выхватил из тьмы пожилую пару совершенно неприметного обличья. Женщина с мешком, мужчина с ковырялкой и фонариком. С поличным.
Трое стражников, выставив вперед свою артиллерию, бросились в атаку. Враг сокрушен, подавлен, пленен, под дулами дробовиков во всем признался.
«Сколько накопал? — спросил старик-крестьянин. — Два кило? Пять? Больше?»
Молчание. Молчат преступники, молчат крестьяне. Думают, что делать дальше. Справедливость должна восторжествовать, правосудие в денежном выражении. Один из соседей прошептал что-то на ухо пострадавшему, тот кивнул и объявил приговор чрезвычайного суда.
Где находится банк браконьера? В Нионе? Ah bon. Если выйти сейчас, то к открытию как раз дотопаешь. Снимешь тридцать тысяч франков, принесешь сюда. Мы удерживаем машину, собаку и жену в качестве залога.
Браконьер отправился в Нион — четыре часа пешком. Собаку засунули в багажник, жену — на заднее сиденье. Сами тоже влезли в машину, продолжая согреваться при помощи бутылочки marc.
Рассвело. Утро прошло, день…
Ален остановился.
— Вот вы писатель. Как думаете, чем закончилось?
Я предложил два варианта хеппи-энда, оба раза не угадал, и Ален засмеялся.
— Конец простой и без всякой драмы. Разве что для жены браконьера. Тот мудрец явился в свой нионский банк, снял со счета все свои деньги — и только его и видели. Испарился.
— И не вернулся?
— Еще чего.
— А жена?
— Жена ему давно надоела.
— А крестьянин?
— До самой смерти досадовал, как его надули.
Ален заторопился, сославшись на дела, я заплатил ему за трюфели и пожелал успеха с новой собакой. Придя домой, я разрезал один из трюфелей пополам, чтобы убедиться в его подлинности. Ален, конечно, надежный парень, но…
Жизнь сквозь розовые очки
Обаборигенились.
Не знаю, шутка это, оскорбление или комплимент. Услышал я этот перл от приезжего из Лондона. Он свалился на голову неожиданно, на пути к побережью, и мы пригласили его перекусить. Не виделись мы с ним пять лет, и, конечно, его интересовало, как на нас повлияла жизнь в Провансе. Гость задался целью обнаружить признаки нашего морального и физического разложения и все время рандеву провел, активно зондируя бывших соотечественников и соседей.
Мы, естественно, никаких изменений в себе не ощущали, он же заявлял, что перемены очевидны, хотя толком обосновать своих утверждений так и не смог. За отсутствием столь очевидных симптомов, как белая горячка, ломаный английский, преждевременное старческое слабоумие, он и изобрел это новообразование: обаборигенились.
Визитер отъехал в своем прилизанном лимузине, прощально помахивающем телефонной и всякими иными антеннами, и я перевел взгляд на наш пыльный «ситроен», антеннами не оснащенный. Несомненно, транспортное средство аборигенов. Конечно, и одежда. В сравнении с его прикидом Лазурного Берега я просто босяк — в буквальном смысле слова, потому что босиком. Шорты да футболка — весь наряд. Вспомнилось, как во время визита гость несколько раз глянул на часы. У него, видишь ли, на шесть тридцать вечера назначена встреча с друзьями в Ницце. Не «сегодня вечерком», не «после обеда», а в шесть тридцать. Ноль-ноль секунд. Мы же давно забыли о секундах, минутах, да и о часах, за отсутствием понимания со стороны местного населения. Еще одна привычка аборигенов.
По зрелом размышлении нельзя не признать, что мы изменились. Не могу сказать, что нас теперь не распознать от местных, но отличий от прежнего образа жизни множество, так как к новому образу жизни следует приспосабливаться. Это нетрудно. Большинство перемен отнюдь не были мучительными, наоборот. Они приносили облегчение, происходили чаще всего незаметно. Я считаю, что все они к лучшему.
Мы забыли, когда в последний раз глядели на телеэкран, и это вовсе не результат волевого решения снобов, это произошло само собой. Летом телевизор не может предложить ничего, идущего хоть в какое-то сравнение с вечерним небом. Зимой телевизор не конкурент вечернему застолью. Телевизор задвинут в угол, дал место десятку новых книг.
Питаемся мы лучше, а денег на еду тратим, пожалуй, меньше. Невозможно жить во Франции и устоять перед национальным азартом едока, да и стоит ли? Неужто ежедневное удовольствие хуже каждодневного удовлетворения потребности? Мы безболезненно приспособились к гастрономическому ритму Прованса, используем сезонные возможности, предоставляемые природой: спаржа, крохотные, чуть толще спички, haricots verts;[230] крупные, жирные fèves;[231] вишни, баклажаны, кабачки, перцы, персики и абрикосы, дыни и виноград, свекла, лесные грибы, маслины, трюфели — каждый сезон чем-то богат. За исключением трюфелей, все перечисленное стоит сущие гроши.
С мясом ситуация иная, здешние цены на него заставят приезжего вздрогнуть. Прованс не страна скотоводов, и англичанину в поисках воскресного ростбифа следует прихватить чековую книжку, ибо говядина не из дешевых, да и особой нежностью, как правило, не отличается. Но баранины, особенно из окрестностей Систерона, где овцы пасутся на ароматных травах, грех не отведать и замаскировать ее вкус пряными соусами. Свинина тоже отменно хороша — от пятачка до хвостика.
И все же мяса мы едим меньше, чаще всего в виде цыпленка, отмеченного медалями госконтроля из Бресса, диких кроликов, которых Анриетт доставляет зимой, тушеное рагу, когда температура ползет к нулю и дико воет мистраль. Мясо время от времени — чудесно. Но от привычки поглощать мясо ежедневно мы отказались. Его есть чем заменить. Свежая рыба из Средиземного моря, бесконечное многообразие овощных рецептов, десятки сортов хлеба, сотни сыров…
Возможно, в результате изменения диеты и способа приготовления — всегда на оливковом масле — мы оба скинули вес. Немного, но достаточно, чтобы удивить знакомых, ожидавших увидеть два пуза на ходулях — нередкий удел переселившихся во Францию любителей хорошо поесть.
Без особого умысла мы больше упражняемся. Без диких конвульсий, которым подвергают себя решительные дамы в трико, но при помощи непроизвольных упражнений, вытекающих из климатических условий, в которых восемь-девять месяцев естественным образом проводишь на открытом воздухе. И не надо себя заставлять — жизнь вынуждает. Дрова для печи, прополка грядок, расчистка канав, посадка растений и уход за ними, за территорией. И в любую погоду прогулки.
Некоторые из наших гостей отказываются признавать ходьбу упражнением. Пешая прогулка не требует ни драматических усилий, ни напряжения, ни скорости. Кто не ходит! Подумаешь, ноги переставлять. Если они желают проверить на себе, мы приглашаем их на прогулку с собаками.
За первые минуты мы легко и непринужденно преодолеваем пространство у подножия холмов. Дышим свежим воздухом, наслаждаемся видом Мон-Ванту. Но назвать это упражнением? Никто даже не запыхался.
Затем сворачиваем по тропе к кедровому лесу, покрывающему склоны и гребень Люберона. Усеянный ковром хвойных иголок песочек сменяется россыпями камней и булыжников побольше, подъем становится круче. Через пять минут пренебрежительных замечаний в адрес ходьбы как стариковского упражнения уже не слышно, они сменяются пыхтением, а то и кашлем. Тропа протискивается между валунами, то и дело приходится пригибаться под сучьями и переступать через крупные камни. Впереди ничего обнадеживающего, просветов не видать, узкая тропа пропадает в скалах. Колени стукаются о валуны, лодыжки подворачиваются в коварно ползущем щебне, вызывая непечатные возгласы. Ноги и легкие полыхают.
Собаки оторвались, умчались вперед, мы растянулись за ними цепочкой с произвольными интервалами, отстающие держатся за бока и ползут из последних сил. Гордость не позволяет признать поражение, однако после этого моциона они наверняка пересмотрят отношение к пешей прогулке как упражнению.
Награда за усилия — потрясающий вид, прекрасный, чуть жутковатый. Величественные кедры кажутся заколдованными, особенно когда их ветви покрывает снег. За ними южный склон резко спадает вниз, серый и щербатый, покрытый неведомо как зацепившимися за него травами и кустиками самшита. В ясный день, когда мистраль расчищает небо, перспектива в направлении моря вырисовывается четко, как будто смотришь в бинокль. Появляется ощущение, что ты оторван от всего остального населенного мира. Однажды я встретил там, вверху, на дороге, проложенной горной службой, крестьянина на велосипеде. За спиной его болталось ружье, рядом бежала собака. Мы оба испугались от внезапности, не ожидая встретить другое человеческое существо. Обычно ты здесь остаешься наедине с собой, никто не мешает наслаждаться шорохом ветра в ветвях.
Дни ползут медленно, но недели пролетают молниеносно. Год мы подразделяем не по датам и дневникам, но по явлениям природы. В феврале цветет миндаль, сад требует внимания. Пора выполнять задуманное зимой, иногда в приступах панической спешки. Весна знаменуется цветением вишни, но теперь из почвы лезут и полчища сорняков. Весной же появляются первые гости, надеясь, что субтропики не подведут. Но субтропики часто встречают их дождем и ветром. Лето способно начаться в апреле, но может и в мае. О его наступлении мы узнаем, когда появляется Бернар, чтобы помочь нам открыть и очистить бассейн.
Маки в июне, засуха в июле, грозы в августе. Виноград рыжеет, охотники просыпаются после летней спячки, виноград снимают, вода в бассейне начинает покусывать, затем охлаждается настолько, что отваживаешься лишь на один мазохистский нырок в середине дня. Значит, близок конец октября.
Зима переполнена добрыми намерениями, которые иной раз осуществляются. Засохшее дерево спилили, стену соорудили, старые садовые стулья из стальных трубок покрасили. Время от времени мы хватаемся за словарь и с переменным успехом продолжаем борьбу с французским языком.
Французский наш улучшается семимильными шагами, мысль провести вечер в стопроцентно французской компании уже не кажется столь устрашающей, как прежде. Но, как когда-то отмечали учителя по поводу школьных сочинений, есть еще над чем поработать. Надо только постараться. И мы преодолеваем строчку за строчкой, страницу за страницей Паньоля и Жионо, Ги де Мопассана, регулярно покупаем «Le Provençal», вслушиваемся в пулеметную скороговорку дикторов радионовостей и пытаемся разгадать загадки, постичь непостижимые тайны этого языка, который со всех сторон нахваливают нам как в высшей степени стройный и логичный.
Полагаю, это миф, сочиненный французами, чтобы запутать иностранцев. К примеру, не вижу никакой логичности в половой принадлежности системе грамматических родов. Почему Рона мужского рода, а Дюранс женского? Обе они реки, и если уж они должны принадлежать к какому-то полу, то почему не к одному и тому же? Однажды я попросил растолковать мне это одного француза, и он пустился в долгие рассуждения об истоках и источниках, о ключах, дающих жизнь ручейкам, из которых рождаются могучие реки, и ключах ученой премудрости, разъяснив мне все, с его точки зрения, досконально и логично. Я, правда, так и не понял, почему океан мужского рода, море женского, озеро снова мужского, а лужа опять же девушка. Даже вода засмущается от такого смешения.
Объяснения доброго француза не поколебали моего убеждения, что половая система придумана лишь для того, чтобы испортить жизнь иностранцу. Род существительным присваивается совершенно произвольно, с аристократическим небрежением даже анатомических тонкостей. Женское влагалище по-французски мужского рода — le vagin. Где хваленая логика?
Поджидает в засаде андрогинное lui, выскакивающее на пороге многих фраз. Как правило, lui означает он. Но часто «его» род остается в тени до момента, пока не выяснится в ходе речи. Demandez-lui — спросите его, peut-être qu'elle peut vous aidez — может быть, она сможет вам помочь. Маленькая тайна, мелкое неудобство, однако новичка озадачивает, особенно если имя этого поначалу загадочного lui тоже андрогинный компот типа Жан-Мари или Мари-Пьер.
И это еще не худшее. Жуть что творится в живом французском каждый день, всякий час. Недавно в газетной статье, посвященной свадьбе рок-звезды Джонни Холлидея, в самых лестных выражениях описывался его облик. «Il est une grande vedette»[232] — констатировалось в статье. В мгновение пол объекта изменился на противоположный. И это в день свадьбы!
Возможно, из-за этих неожиданных поворотов, ловушек и подвохов французский язык на протяжении столетий считался языком дипломатии — занятия, в котором простота и ясность не только не необходимы, но и нежелательны. Многозначность фразы, всяческие экивоки и уловки чреваты для дипломата меньшими неприятностями, чем ясное, недвусмысленное выражение, понимаемое однозначно. Дипломат, по Алексу Дрейеру, — это «человек, который дважды подумает, чтобы ничего не сказать». Необходимость в многооттеночности и уклончивости и заставила изобрести французский язык, позволяющий утопить смысл сказанного в завитушках.
Однако французский — прекрасный, звучный, гибкий, романтичный язык. Может быть, и не заслуживающий обозначения «введение в цивилизацию», предпосланное курсу французского составителями иных учебников, считающими, что весь мир должен говорить на французском. Легко можно представить возмущение пуристов ползучей заразой иностранщины, внедряющейся в великий и могучий французский язык.
Первым паразитом, поразившим «язык цивилизации», оказался, возможно, «уик-энд», перепорхнувший через Ла-Манш примерно тогда же, когда хозяин ночного клуба на Пигаль окрестил свое заведение «Le Sexy». К вящей досаде владельцев заведений не столь шаловливого толка в Брайтоне и иных менее эротических местах и к восторгу владельцев парижских отелей и ресторанов из этих двух микробов сформировался третий — le weekend sexy.
Вторжение не ограничилось спальней. Паразиты заразили офис. Служащие теперь выполняли не работу, a le job. Если le job отнимал слишком много сил и энергии, служащий обнаруживал, что он все более stressé,[233] возможно, потому, что он выполнял многотрудные обязанности, будучи un leader отдела le marketing. Напряжение трудового дня не позволяло бедняге даже принять нормального трехчасового ланча, и ему приходилось заскочить в забегаловку le fast food. Этот кошмарный Franglais приводил в бешенство старейшин Академи Франсез, и я их вполне понимаю. Такие кошмарные вкрапления в изящный стройный корпус французского языка следует считать scandaleuses[234] или же, воспользовавшись еще одним вкраплением, les pits.[235]
Ползучее распространение «франглийского» облегчается и тем, что количество слов во французском словаре меньше, чем в английском. Это порождает проблему многозначности. В Париже, к примеру, jе suis ravi означает «я в бешеном восторге». В «Кафе дю Прогрес» в Менербе то же выражение утрачивает оттенки восхищения и означает попросту «я деревенский идиот».
Чтобы вернее избежать всевозможных ловушек, на каждом шагу подставляемых языком простаку-иностранцу на потеху всегда готовым повеселиться местным жителям, я обучился многозначительному хмыканью, гмыканью, цоканью языком, всяким beh oui — универсальным средствам, столь распространенным в беседах провансальцев в качестве связующих звеньев при отсутствии тем разговора.
Из всех этих междометий самое гибкое и, следовательно, наиболее полезное — мини-фразочка ah bon с вопросительной или с любой иной интонацией. Поначалу я полагал, что оно должно пониматься буквально. Ан нет. Это «хорошо» может означать и прямо противоположное. Пример диалога:
— Молодой Жан-Пьер попал в беду.
— Oui?
— Beh oui. Вышел, понимаешь, из кафе подшофе, сел в машину, напоролся на флика, с перепугу врезался в стену, вылетел сквозь ветровое стекло, раскроил голову и ногу сломал в четырнадцати местах.
— Ah bon!
По случаю ah bon может означать и ужас, и, конечно же, недоверие, раздражение, наплевательское равнодушие, радость — все, чего требуют обстоятельства, двумя краткими словечками.
Схожим образом возможно поддерживать беседу двумя другими моносиллабическими словечками, ça va, означающими буквально «идет, пойдет». Каждый день в каждом городке и в каждой деревне Прованса знакомые, встречаясь на улице, обмениваются рукопожатием и несколькими фразами:
— Ça va?
— Oui. Ça va, ça va. Et vous?
— Bohf, ça va.
— Bieng. Ça va alors.
— Oui, oui. Ça va.
— Allez. Au'voir.
— Au'voir.
Конечно же, диалог не ограничивается лишь словами, общение немыслимо без жестов и мимики, вздохов и неартикулированных, но выразительных звуков. Контакт занимает две-три минуты, если солнце благоприятствует и некуда особенно спешить. И, естественно, такого рода контакт в течение дня повторяется неоднократно.
Несколько месяцев такого несложного общения могут внушить самонадеянному иностранцу мысль, что он в достаточной степени овладел французским на бытовом уровне. Вы даже способны проводить долгие вечера в обществе французов, с некоторыми усилиями вас понимающих. Они превращаются из знакомых в друзей и в один прекрасный день удостаивают вас дара, выражающегося для вас в возможности с новой силой показать себя дураком. Вместо vous они начинают обращаться к вам на «ты», tu или toi, то есть tutoier, тыкать.
День, в который француз перейдет с «вы» на «ты», следует воспринять с полной серьезностью. Этот переход означает, что, по зрелом размышлении, он решил, что вы ему понравились. С вашей стороны было бы недружественным актом не ответить взаимностью. И вот вы, едва освоившись с употреблением местоимения «вы» во всех положенных формах со всеми сопряженными управлениями, должны разучивать то же самое с местоимением «ты». Разве что вы, как бывший президент Франции Жискар д'Эстен, даже к жене своей обращаетесь на «вы».
Но не отчаивайтесь, бросайтесь в языковые бездны сломя голову, боритесь с родами и числами, объезжайте по ухабам сослагательное наклонение и расхождения в словарях, надейтесь на добрую волю собеседников. Они обычно добродушно утешали нас тем, что наш французский их не убьет. Я тоже надеюсь на это и всегда замечаю их желание подсобить нам изъясниться, помочь почувствовать себя дома, ощутить тепло не только солнца, но и живого общения.
Таков, по крайней мере, наш опыт. Очевидно, он не универсален; некоторые обвиняют нас в излишнем оптимизме, не верят нам, иные завидуют. Нам ставили в укор умышленную слепоту к второстепенным сложностям, игнорирование того, что они называли темной стороной прованского характера. Это зловещее клише изобилует эпитетами типа «лживый, ленивый, лицемерный, жадный, жестокий» — как будто это исключительно местные характеристики, будто бы честный, трудолюбивый, кристальный, незапятнанный, невинный иностранец здесь впервые в жизни столкнется с этими чертами, коих никогда и нигде ранее не замечал.
Бесспорно, не без жуликов и лицемеров Прованс, как и любая другая страна, любой другой край. Но нам повезло, к нам Прованс повернулся доброй стороной. Мы, конечно, всегда останемся постоянно проживающими здесь иностранцами, но мы чувствуем себя желанными гостями. Никаких сожалений, мало жалоб, много удовольствия.
Merci, Provence.