Портреты современников бесплатное чтение
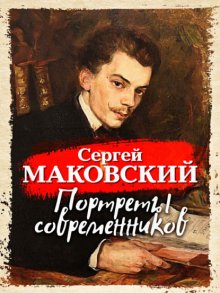
© ИП Воробьёв В.А.
© ООО ИД «СОЮЗ»
Отец и мое детство
Введение
С моим отцом, Константином Егоровичем Маковским, связывают меня одни воспоминания детства и раннего отрочества, хотя было мне уже тридцать восемь лет, когда его не стало. Семья наша распалась еще в 1893 году, с тех пор я встречал отца лишь мельком, издали. Только раз, в сентябрьское утро 1915 года, у его гроба, я пристально всмотрелся в него как взрослый… Смерть произошла от несчастного случая: извозчик, – на нем Константин Егорович возвращался в свою васильеостровскую мастерскую, – был опрокинут трамваем; удар головой о мостовую вызвал поранение, потребовавшее операции. Сначала он пришел в себя. Но сердце не выдержало слишком сильной дозы хлороформа. Он умер, не приходя в сознание.
Крупная голова с обнаженным лбом и седыми кудрями на затылке склонилась к плечу, на правом виске видна была припудренная ссадина… Это когда-то дорогое, по-детски обожаемое лицо, еще моложавое, несмотря на совсем белую, очень густую мелко-вьющуюся бороду, не казалось мертвым; губы затаили что-то похожее на улыбку, на его немного застенчивую, неуверенную улыбку…
Последнее свидание с отцом у его гроба запечатлелось навсегда, может быть – как самое значительное событие жизни. Я не отдавал себе отчета прежде, до какой степени близок ему, невзирая ни на что: всё детство ожило вдруг, пронизанное его образом, а ведь там, в детстве – питающие истоки нашей личности, корни всех последующих и радостей и печалей…
Детские воспоминания – самые неизгладимые. Можно сказать, дня не пройдет и часу, чтобы не померещилось какое-нибудь впечатление детства. Пусть отрывочны, туманны, стерты временем эти впечатления, они глубоко врезаны в сердце, всплывают над пучиной прошлого снова и снова и переживаются всего чаще, особенно к старости, как далекое блаженство… И так понятно это. Безоблачное детство не общий удел, и даже от счастливого – остаются и детские страхи, и детские обиды и разочарования, но ведь известно: хорошее лучше помнится, нежели плохое, на большом отдалении почти и не видать плохого… И еще: в детстве хорошее – безусловнее, в детстве сознанием управляет не рассудок, а воображение, действительность сливается с волшебной преображенностью; иные детские воспоминания в течение всей жизни маячат тенями какой-то страны чудес…
Именно потому нелегко мне писать об отце – дать его образ в полноте, какой он заслуживает. Дело ведь не в моем сыновнем ощущении (тут всё становится автобиографичным, а я меньше всего намерен говорить о самом себе), дело в художнике Константине Маковском на фоне вскормившей его эпохи. Она охватывает три царствования и начинается еще при Николае Павловиче. Но в то же время не по моим силам исчерпывающая характеристика отца и хоть сколько-нибудь полное его «жизнеописание» (далеко от России нет под рукой нужных снимков, нет книг для справок). Мне хочется только отметить некоторые подробности его биографии, поскольку они уцелели в моей памяти или известны мне по рассказам матери и семейным преданиям. Многому я сам был свидетелем в ранние годы, о многом думал и позже, соглашаясь до известной степени с критиками начала века, умалявшими творчество отца, особенно – его живопись последнего периода. Я говорю – до известной степени, потому что оценка этих критиков, под влиянием «модернистских» пристрастий, бывала зачастую неверна, во всяком случае – недальновидна. В борьбе за «новое» искусство забывалась историческая перспектива. Новое перестает, рано или поздно, быть новым и как часто от него почти ничего не остается; в наши русские предреволюционные десятилетия ярко обнаружилось у критиков именно это ослепление быстро умирающей новизной.
Задача моя осложняется еще тем, что вспоминая отца как человека и художника и говоря о значительном и несостоятельном в его творчестве, я невольно вспоминаю и себя в годы, протекавшие когда-то в России и заграницей, куда меня возили с малых лет, вспоминаю и то, что слышал от близких о молодости отца, и семейную хронику моей матери, имевшей немалое влияние на его художническую судьбу, вспоминаю и многих, с кем они водились – и знаменитостей, и просто друзей, знакомых.
Теперь, когда почти все умерли и не только они, но канул в вечность весь старый русский мир, как-то жаль не помянуть к слову этих людей, даже тех, что лишь случайно, смутными тенями, оживают в мемуарах современников.
Уступая желанию закрепить прошлое, как оно мерещится по детским воспоминаниям в связи с творчеством Константина Егоровича, очень трудно написать что-либо стройное. Вперед прошу извинить меня за расплывчатость изложения в этих воспоминаниях, «разросшихся по древу» по мере того, как я писал… Если же окажется, что в этих строках слишком много автобиографических подробностей, оправданием да послужит мне то, что это свое, личное, как бы оно ни было овеяно очарованием детства, я старался оградить от всякой «Dichtung», отмечая одну строго проверенную, «Wahrheit».
Семья
Наша семья, в течение первых пятнадцати лет совместной жизни с отцом, была дружной, гармонически слитной семьей. Нежность к нему, знаменитому, балованному художнику, приобретала оттенок восторженного поклонения. Существом высшего порядка входил он в наш детский быт, не вмешиваясь в мелочи домашних будней, вечно увлеченный своей работой, постоянно исчезавший куда-то, чтобы вернуться опять и всё наполнить и озарить собою. Экспансивно ласков с нами, детьми, он не был, но никогда и не раздражался обидно. Только, бывало, нахмурит густые, мохнатые брови и пристально взглянет своими голубыми немного на выкате глазами; дело редко кончалось легким подзатыльником. Не помню ни одной ссоры его с матерью, ни одного сказанного им резкого слова.
В обществе бывал он неизменно приятен и словоохотлив, на лицах появлялась улыбка, когда Константин Егорович входил в комнату. К людям он относился почти наивно доверчиво; если и настораживался против кого-нибудь, так больше из неприязни ко всякому уродству, от избытка страсти ко всему красивому на белом свете. Как художник, он был скромен на редкость и всегда готов радостно отозваться на чужую удачу. Вращаясь в среде, где так обычна профессиональная зависть, он отличался отсутствием самомнения и доброжелательством к товарищам по профессии, хотя и приходил в отчаяние от уничижительной критики какого-нибудь Стасова или от того, что ему, Константину Маковскому, «никогда так правдиво и ярко не написать, как написал Семирадский». Именно это сказал он моей матери, возвратясь с вернисажа Академической выставки, где Петербург поразила многоаршинная «Фрина» Семирадского: «Что же, после этакой вещи только и остается, что бросить кисти»… А когда его самого хвалили, сравнивали с Тьеполо и Веронезом, он и внимания не обращал. Эта черта характера больше всего, вероятно, сообщала ему столько обаяния. Простодушие, незлобивость, улыбчивая общительность, талантливость щедрая и веселая открывали перед ним все двери. «К.Е. Маковский, – вспоминает Ю.Ю. Клевер, – вообще был истинной душою общества как среди художников, так и в великосветских кружках и в кругах денежных тузов. Он нигде не терялся и всегда приковывал к себе внимание».
Правда, всё изменилось в годы позднейшие, когда он реже бывал с нами, после того, как в 1889 году тяжело заболела мать и всем домом уехали мы заграницу (а у него на стороне началась новая «семейная» жизнь). Он стал ворчлив, подозрителен, вспыльчив… Но это был уже другой отец, хоть мы и не угадывали причины этой перемены, – вместе с нашей детской Россией первоначальный образ его уходил куда-то в далекое прошлое…
И всё же в памяти остался тот, прежний папа – всегда в духе, приветливый, нарядный, холеный, пахнущий одеколоном и тонким табаком, беззаботный, обворожительный папа… Вижу его таким или в мастерской перед очередной картиной (огромная палитра в левой руке, а правая, с длинной кистью, опирается на муштабель), или – уходящим из дому с огромным парусиновым зонтом и на солнечном лугу набрасывающим уголок природы, а то где-нибудь в гостиной среди друзей, у рояля, поющим оперную арию. Музыка была его второй стихией. Напевал он постоянно – беззаботно и узывчиво. Недаром моя мать называла его «человек-песня». Владея удивительным бархатистым баритоном, он пел как заправский артист; был любимым учеником Эверарди, даже заменил его однажды на русской сцене в «Травиате» в роли отца Альфреда (случилось это еще до первого брака).
Вижу отца и за семейным столом после обеда: рисует иглой на медной доске (для офорта) или читает вслух мне и сестре Елене «Сказку о царе Салтане» и «Скупого Рыцаря». С самых юных лет завтракали мы, а затем и обедали вместе с «большими» и особенно любили эти часы общения с отцом; он пошучивал и выделывал какие-то фигурки из хлебной мякоти и тонкие бумажные трубочки с защипками ногтем.
Наша мать, Юлия Павловна, не меньше нас была обворожена им и его славой и смотрела на мир отчасти его глазами… Жизнь в ту пору представляется мне вечным праздником. Это в сущности и было так, тем более, что вокруг матери, красавицы, столько раз появлявшейся на холстах мужа (со сверхъестественными карими очами, классическим овалом и крошечным ртом), тоже создалась атмосфера поклонения, атмосфера не только светского, но и всероссийского успеха.
Они хорошо дополняли друг друга, несмотря на разницу лет (отец был более чем вдвое старше, когда венчался с нею). К искусству они относились одинаково, разделяя вкусы того столичного общества 70–80 годов, среди которого блистали оба, не слишком задумываясь над художественной проблематикой. Культурный уровень этого общества не был высок, истинной просвещенностью обладали очень немногие и всего реже – представители светских кругов: в области изобразительного искусства вкусы не отличались ни остротой, ни благородством. Впрочем и в музыке царила сладкопевная итальянщина, а избранным поэтом петербургских гостиных разве не был Апухтин?
По линии наименьшего сопротивления, по линии салонной эстетики того времени развивалась и деятельность отца, с тех пор как он сделался, уже в шестидесятые годы, знаменитостью, любимцем государя, прославленным портретистом.
В мастерской
А талант был большой, – я разумею, прежде всего, способность легко, уверенно, мастерски воспроизводить «натуру». Никто, пожалуй, из русских художников не владел так виртуозно даром живописной скорописи: far presto! Без колебаний, без самомучительства, с ребячливым азартом, мурлыча себе под нос или посвистывая (кстати – необыкновенно музыкально), брался он за кисти и сразу разрешал задание, находил композицию и цветовую гамму, перенося на холст то, что видел, вернее – то, что хотел видеть в природе.
Помню такой случай. Я был еще ребенком – большеглазым, с золотистыми кудрями. Отец любил пользоваться мною как моделью, и это позволяло мне обозревать его мастерскую в том же доме, на Адмиралтейской набережной, где мы жили с 83 года, но двумя этажами выше, – к ней надо было подниматься по черной лестнице через кухню. Как-то утром (отец работал неизменно по утрам) увязался я за ним, хоть и не предстояло мне позировать… Посреди мастерской на мольберте – холст аршин трех в высоту; рядом передвижная лесенка с площадкой для работы над верхом картины; на холсте, протертом кое-где жидким тоном, лишь намечены контуры фигур…
Как восхищала меня эта очень высокая и просторная мастерская с огромным окном налево от входной двери, пахнувшая скипидаром, вся заставленная старинной мебелью: шкапы, витрины, столики с плоскими ящичками для красок; баулы, ларцы из слоновой кости, кованные рундуки, букеты кистей в китайских вазах, набитые паклей манекены, и на стенах, до самого потолка, картины, гипсовые слепки, оружие. В глубине – арка в соседнюю темноватую комнату, тоже занятую всякими редкостями; оттуда несся многоголосый канареечный щебет, – заморских птиц пестовал ютившийся в каморке рядом старый слуга отца Алексеич, маленький, щуплый, сморщенный, с серебряной серьгой в ухе; он перешел к нам, кажется, по наследству от деда (превосходный портрет Алексеича «за самоваром» попал в Третьяковскую галерею).
Так вот: и часу не пробыв с канарейками Алексеича, вернулся я к отцу, а начатого холста и не узнать: подмалевок ожил, не только цвета обозначились (по предварительным этюдам), но и вся композиция выступила из первоначальной туманности. Вдруг – люди, освещение, воздух, ткани, вспыхнувшие контрасты… Как по волшебству!
Сколько я ни знал художников, никто не работал непринужденнее, с такой непосредственностью, словно и задумываться не над чем, словно сами собой смешиваются на палитре краски, и кисти по холсту порхают, оставляя мазки как раз там, где надо. Много портретов написано отцом alla prima: именно эти-то пожалуй – самые удачные, так же как этюды природы под открытым небом в один присест. С заказчиками бывали такие случаи; после первого же сеанса портрет готов, остается только подписать и, когда высохнет, покрыть лаком (писать еще – только портить). Но заказчик, неискушенный в живописи, протестует: слыхано ли такие деньги платить за какие-то два-три часа работы? Приходилось хитрить:
– Вы меня не поняли, мне понадобится еще с месяц, чтобы закончить от себя…
И через месяц к общему удовлетворению портрет отсылался заказчику в первоначальном виде.
Надо признать: в первой стадии, в стадии этюда или эскиза, работы отца почти всегда изумляли жизненной правдой и техническим блеском. Они делались хуже, за редкими исключениями, после щегольской выписки при помощи характерной для него кудреватой штриховки кистью. Ему решительно не хватало вдумчивой оглядки на себя, конечно не от самодовольства, – я сказал уже о его скромности и требовательности к себе, – а от легкомысленного отношения к живописной сути и от недостаточно вдумчивой влюбленности в чувственные чары природы.
Надо ли повторять, что красивостью не исчерпывается красота и, с другой стороны, что задачи мастерства не сводятся к технической умелости. Ловкость кисти часто во вред живописцу, а не на пользу; виртуозная легкость не дает додумать, а то и выстрадать живописную плоть. Многие холсты отца портит нарядная маэстрия, в особенности – иные портреты светских и несветских красавиц и приторные «идеализованные» женские головки, завоевавшие ему такую обидную популярность.
«Масленица»
В царствование Александра II слава Константина Маковского выросла быстро, его холсты продавались нарасхват. Соответственно увеличивался и заработок, что позволяло жить широко не в пример большинству наших художников. Эта же удача, поощрявшая труд поспешный на непритязательный вкус времени, мешала отдаваться творческим исканиям высшего порядка, хоть и обнаруживаются эти искания во многих его работах. Головокружительный успех, академические навыки и соблазны броской нарядности, подсказанные требованиями общественной среды, влияли губительно на его искусство-понимание, сбивали с пути, от строгого выбора уводили к эффектной дешевке. Это и давало право говорить критикам о позднейших его холстах: «блестящи, но поверхностны и редко правдивы». «В числе других пожилых художников на выставке (1898 г.), – сокрушается В. Стасов, – появился также К.Маковский, художник, в сущности богато одаренный и начинавший когда-то так блистательно, так свежо и размашисто, что всех удивлял и радовал. Но это время давно прошло: он давно пишет всё больше французские будуарные панно и будуарные картины, или французские маленькие конфетные головки»[1]…
Разумеется, Стасов разбирался в живописи плохо. Судил о ней по так называемому «содержанию», увлекали его в русской школе не достоинства письма, а драматическая выразительность или бытовой анекдот. Хвалебные отзывы о многих русских художниках (иногда вовсе слабых) обнаруживают и самоуверенную близорукость Стасова, и темпераментное безвкусие. Но в данном случае он высказал то, что говорили также и критики противоположного лагеря, ценители живописи как живописи: поздние холсты Константина Егоровича упадочны, его мастерство приобрело с годами характер манерности, любовь к пышным «околичностям», к оперной роскоши исторического костюма увлекала в сторону сладкой красивости.
Между тем ряд работ, особенно ранних, свидетельствует о том, что он мог развиться совсем по-иному и достичь непререкаемых высот художества. Стоит напомнить о таких удачах, как напр., «Масленица», за которую он получил в 1869 году звание профессора живописи, не говоря о ряде поразительных портретов.
Картину «Масленица в Петербурге», или «Народное гулянье на Адмиралтейской площади», приобретенную Александром II для русского отдела Эрмитажа, отец повторил для себя в немного уменьшенном размере. Реплика долго висела в нашей детской. Каждая фигура этой типично бытовой композиции, передающей масленичную кутерьму (еще на Адмиралтейской площади), жива в моей памяти…
Александр Бенуа, которого нельзя заподозрить в пристрастии к Константину Маковскому, так отзывается о картине в одном из своих «Художественных писем» (по поводу семидесятилетия отца, т. е. в 1909 году):
«Балаганы» мне до сих пор приятны, причем мне кажется, что их приятность обусловлена не только воспоминаниями юности о наших незабвенных, незаменимых «сатурналиях», но, сдается мне, что эта картина, просто как картина, вещь замечательная и по своему красивая. И вот еще что: эта картина стоит особняком во всей бытовой школе 1860-70 гг. Это единственная картина, в которой литературщина сведена почти к нулю, в которой анекдотические подробности сплетаются в одно гармоническое целое, в которой есть подлинное настроение… В других передвижнических картинах, например, Вл. Маковского, слышится всегда или методическое гнусавление чтеца, «объясняющего картину», или хихиканье гимназиста третьего класса, – на «Балаганах» же К.Маковского передан шум широкого народного разгула, и эта стихийная черта вместе с тем мастерством, с которым так легко и просто всё написано, отводит картине К.Маковского особое место во всём нашем реализме второй части XIX века».
А вот что пишет критический антипод Бенуа, тот же Стасов, в 1883 году:
«После множества картин во всех родах К.Е. Маковский написал большую картину «Масленица в Петербурге». Это лучшее его создание. Тут весь Петербург гуляет и улыбается на морозе, при розовых отблесках зимнего солнца… Никогда, ни прежде, ни после, К.Е. Маковский не достигал такого разнообразия, интереса и меткости типов, как в этом цветном «хоре масленицы».
Также и Репин в письме 1869 года к Поленову, перечисляя несколько «лучших вещей» на Передвижной этого года, называет в первую очередь «Масленицу».
Эта до удивления единодушная похвала Бенуа и Стасова (на расстоянии пятнадцати лет) и Репина представляется мне вполне заслуженной, хотя я не согласен, что «Масленица» лучший холст отца (по живописи были вещи куда более пленительные). Но, сознаюсь, именно к ней сохранилось у меня особое отношение хотя, конечно, и в связи с воспоминаниями о когда-то бушевавшей в Петербурге «широкой масленице».
Каждую зиму по много раз видел я это единственное в мире зрелище в далекие восьмидесятые годы прошлого века, и оно внушило мне и неразлучной моей спутнице сестре Елене (моложе меня на полтора года) чувство неизъяснимого очарования. Удивительно красочно передает сестра это очарование в своих неизданных мемуарах…
Восемнадцати лет, пробыв год в академической мастерской Репина, Елена Константиновна уехала заграницу, в Германию, «совершенствоваться в живописи» (Мюнхен был тогда в моде), вскоре вышла замуж за австрийского скульптора Рихарда Лукша и с той поры почти безвыездно оставалась в Германии (и сейчас, овдовев, проживает в Гамбурге и пользуется известностью как живописец, скульптор и график). Из ее мемуаров, названных ею «Mnemosune», я приведу отрывок: он живописно правдив и рисует одно из «видений» давно ушедшего вдаль предвесеннего Петербурга, совпадая с моими детскими восторгами.
«Она чувствовалась в воздухе, в разговорах, во вкусном запахе блинов, в ускоренной праздничной езде на снежных улицах. Шибко летали барские пары вороных и гнедых, покрытые сетками; прогуливались тройки, поджидая седоков: пристяжные змеями гнули шеи. Масленица тревожила своей народной буйностью чинный Петербург, врывалась деревня, располагалась станом совсем близко от Зимнего Дворца. Чухны со своими мохнатыми вейками звенели колокольцами-бубенчиками, бойко зазывая прокатить на балаганы за «риццать копеек». Сговаривались и мы, садились с гувернанткой, так смешно, прямо на сено, и лихо неслись по набережной. Встречные извозчики добродушно переругивались с чухонскими конкурентами, заливались бубенцы и наши и встречные, и звуком нарастающие издали, и удалявшиеся – целый милый перезвон…
Балаганы. Большие, круглые, коробкообразные с галереями и переходами и свежесооруженными лестницами «театры» всякого рода. Карусели, качалки, панорамы в палатках причудливо обросли площадь, как грибы. Там, на фоне страшных изображений – зверей, птиц, вулканов и арапов – происходило что-то загадочное: двигались, суетились ряженые: вот что-то вроде арлекина с сиплым голосом и повязанной шеей, рядом «казачка» с наигранными кокетливыми ужимками и пером на польской шапочке, а другой арлекин в бубен бьет. Все жмутся и приплясывают от холода, – на морозе легкий пар у рта, – и все громко говорят к народу, сыплют сверху дробные словечки, веселую чушь. Главная же фигура, масляничный дед, верхом на перилах, неподражаем в своем пафосе, мимике, остроумии, импровизации. В ответ то и дело взрывы хохота, «гогочет» толпа… И хоть мало, что можно расслышать, понять, а весело! От дедовских острот, говорили, «солдаты краснеют»… Из разных «театров» одновременно вырываются трубные звуки оркестров и барабанная дробь и громы бубнов, кругом поют шарманки полечки-мазурочки и допотопные вальсы. С визгом взлетают на качелях в прицепных челнах, парами, девушки с кавалерами, вздуваются юбки – а чулки полосами, а сапожки прюнелевые с ушками… Передвигается толпа, покупает турецкие сласти, орехи, маковочки, стручки, постный сахар розовый и белый, халву и пряники. Тут и там столики, – у них горячий сбитень пьют, – купец, рабочий, солдат, гимназист и барышни. Вот столпились под «галдереей» любопытные, головы закинуты: из недр досчатого «театра» выливаются распаленные и счастливые люди с красными от крепкого спертого духа и удовольствия физиономиями. Окончилось представление, но уже опять бьют в колокол, и театральные крикуны зазывают снова…
С самого детства, избалованные образцовым искусством, посещавшие итальянскую оперу, балет, мы с братом всё же чутко воспринимали увлекательное народное творчество, вопреки всяким заграничным боннам и мамзелям. Да еще по какому-то семейному праву шли мы на балаганы, увековеченные картиной нашего знаменитого отца Константина Маковского. Мы шли на наши балаганы. Да!»
«Масленица» как бытовой, нравоизобразительный жанр – не единичное явление в раннем творчестве отца, т. е. начиная с 1862 года, с его второй золотой медали – «Агенты Димитрия Самозванца убивают сына Бориса Годунова». Отмечу кстати: уже тогда, до ухода из Академии, обозначилось влечение Константина Егоровича к исторической живописи и к русскому доимператорскому быту. Он оказался поистине зачинателем в этой области, хоть и коснулся ее несколько раньше суховатый, но даровитый Шварц («Посольский приказ», «Патриарх Никон»), более известный своими иллюстрациями… Ведь нельзя же считать картиной исторической брюлловское «Взятие Пскова»… Однако в молодые годы отец предавался главным образом портретной живописи, одновременно вырабатываясь в бытового художника, в жанриста с уклоном к лирическому повествованию. Не надо забывать, что началась его карьера правоверным «передвижничеством».
Дед Егор Иванович и Академия
В 1863 году вместе с товарищами-академиками Константин Егорович отказался от конкурса на золотую медаль и покинул Академию Художеств (со званием «классного художника второй степени»). Групповой уход подготовлялся довольно долго. Поводом было несогласие конкурентов подчиниться требованию Академии – писать на заданные ее Советом темы. В день торжественного акта четырнадцать «заговорщиков» возобновили коллективное прошение о предоставлении им полной свободы в выборе сюжета. Совет не уступил, Академия (с ректором Ф.Бруни и влиятельными профессорами, как П.Басин и К.Тон) не захотела изменить ложноклассической традиции; конкуренты ушли и всё осталось в Академии по-старому вплоть до радикальной реформы 1893 года. Но демонстрация «четырнадцати» ознаменовала поворот в русской живописи XIX века. Вот имена диссидентов с Крамским во главе: Вениг, Григорьев, Дмитриев-Оренбургский, Журавлев, Корзухин, Крейтон, Лемох, Литовченко, К.Маковский, Морозов, Песков, Петров, Шустов.
Оставшись за бортом Академии, они образовали свою «С.-Петербургскую артель», а из нее выросло Товарищество передвижных выставок. Звание академика было присуждено отцу за бытовые жанры: «Бедные Дети» и «Селедочница». Затем в продолжение шестнадцати лет он участвовал на выставках Товарищества, выставляя также и на Академических (с 73 года): «Странник рассказывает кухарке про святые места» (1868), «Дети катаются на салазках», «Два чиновника в харчевне», «Барин, садящийся в карету, и его лакей» (1869), «Похороны ребенка в деревне» (1872), «Ужин в поле во время жатвы», «Дети в лесу», «Урок пряжи» (1874) и т. д.
Следует вспомнить этого бытового Константина Маковского – картины (по большей части забытые), напоминающие младшего его брата, Владимира Егоровича, но куда более свободные по фактуре и более живописные на «французский лад», особенно после того, как отец побывал в Египте (71–74 гг.) и глотнул свежего воздуха в Париже. Творчество его в эту пору тесно связано с Передвижными, связано и с первым браком его, и с художественной традицией всей семьи Маковских.
Традиция идет от моего деда, Егора Ивановича (род. в 1802 год), художника-дилетанта, собирателя гравюр, любителя музыки, одного из главных учредителей Московского рисовального класса (1832 г.), превратившегося в 1843 году в Училище живописи, ваяния и зодчества. Всю жизнь он оставался скромным чиновником министерства двора, проживая в полуособняке «Дворцовой конторы» в должности «управляющего» (вышел в отставку незадолго до смерти) и, не будучи обременен службой, отдавался страсти к искусству. Егор Иванович был заядлым москвичом, – прадед Иван Егорович (давно обрусевшего польского корня) осел в Москве еще при Екатерине. Бабка моя, Любовь Корнеевна, была немкой по происхождению и воспитанию, отец ее – фабрикант музыкальных инструментов Cornelius v. Mollenhauer, выходец из Померании. Она смолоду готовилась к артистической карьере, пела чудесно и успешно выступала на сцене. По выходе замуж продолжала петь, славилась в домашнем кругу звонким сопрано. Но карьера ее оборвалась, одолели дети. Много было детей. Выжили три сына – Константин (старший), Владимир и Николай, и дочери – Александра и Мария.
Любовь Корнеевна запомнилась мне с раннего моего детства, хотя и не была она близка к нашей семье. Невысокая, изящная, вкрадчивая, в старомодном шелковом платье, – кружевная наколка на гладко причесанных седых волосах с пробором, – она плавно выступала в своих прюнелевых башмаках, потирая с несколько деланной приветливостью красивые морщинистые руки. Отец относился к ней прохладно, мою мать Любовь Корнеевна недолюбливала, хоть и была окружена ее заботой. Разойдясь с Егором Ивановичем после долгих семейных раздоров, проживала она до самой смерти (1893 г.) в Петербурге, вместе с дочерью Александрой Егоровной, добродушнейшей и восторженной старой девицей «Сашенькой» (известная художница-пейзажистка).
Бабушка не любила столичного общества, чувствовала себя в кругу светских петербуржцев не в своей среде, жила по-провинциальному. Я часто приезжал к ней, в год ее смерти, из Александровского Лицея, где пробыл эту зиму на Старшем приготовительном отделении. В ее скромной квартирке, где-то на Лиговке, пахло красками Александры Егоровны и было много комнатных растений и еще больше клеток с певчими птицами. «Сашенька» показывала мне свои тонко выписанные картинки, которые заканчивала обычно по фотографиям (как многие художники тех лет); бабушка угощала меня вареньем и мятными пряниками. Она любила вспоминать далекую Москву, рассказывала, как пела когда-то с лучшими певцами, даже с самим Тамберликом, – знаменитым тенором начала века, и как аккомпанировали ей Варламов и Глинка.
В Москве, в сороковые годы, семья Маковских сделалась для многих москвичей художественно-музыкальным средоточием. Кого только из тогдашних знаменитостей не называла мне Любовь Корнеевна; в ее списке были и Островский, и Самойлов, и Каратыгин, и братья Брюлловы, и Щедрин, и Тропинин, и сколько еще живописцев, прославленных и полузабытых теперь, о ком свидетельствуют лишь стены музеев. Многие из них бывали в доме постоянно, водясь с дедом, отзывчивым на всё «прекрасное». Егор Иванович был энтузиастом искусства, ходил на толкучку в поисках редких гравюр, копировал «маленьких голландцев» и делал всё для того, чтобы дети стали художниками.
Я видел его единственный раз, незадолго до его кончины, в 1886 году, очутившись с матерью в Москве. Егор Иванович был очень высок ростом и слегка сутулился. Гладко выбритый, только полукружием под подбородком – седой пух: голубые глаза на выкате (как у Константина Егоровича), лицо доброе, внимательно-ласковое и чуть лукавое… Но, вероятно, таким представляется мне дед не по впечатлению от этой единственной встречи тогда, в Москве, но оттого, что таков он на овальном портрете, тоже висевшем у нас в детской, одной из удачнейших работ отца еще до Академии. Не таким-то ласковым был дед, по рассказам сыновей, к концу жизни, расставшись с детьми, – упрямый, ворчливый и тугой на ухо.
У меня сохранился его портрет мальчиком лет восьми, миниатюра на слоновой кости неизвестного мастера. Все знавшие меня в детстве настаивали на сходстве этого портрета… со мною. Мать часто говорила:
– Вообще ты вылитый дед и лицом похож и ростом, и сутулишься как он.
По поводу этой миниатюры хочется рассказать забавный инцидент, произшедший у меня с Игорем Грабарем. Года за два до революции мы встретились на какой-то выставке. Грабарь, редактировавший тогда кнэбелевскую «Историю русского искусства», с увлечением повествовал о своих архивных находках. «Кстати, – вдруг обратился он ко мне, пристально в меня всматриваясь, – вы не обидитесь, если я разоблачу одну вашу семейную тайну?» – «Нет, не обижусь, в чем дело?» – «Смотрите, только не сетуйте на меня потом. Знаете ли, кто ваш дед? – «Как будто знаю». – «Нет, не знаете, – с хитрой усмешкой отпарировал Грабарь: – Ваш дед не Егор Иванович Маковский, а Карл Брюллов! Я нашел в московских архивах переписку его с вашей бабкой, Любовью Корнеевной… Даты неопровержимо совпадают. Этой наследственностью многое и в вашем отце, да и в вас, становится понятнее».
Я не стал спорить. Но спустя несколько дней позвал Грабаря к завтраку и показал ему под каким-то предлогом мою дедовскую миниатюру, заявив, что это мой собственный портрет ребенком, исполненный Александром Соколовым «под старинку», во вкусе Петра Соколова-старшего. Грабарь долго разглядывал миниатюру и поражался, как я похож на свое младенческое изображение – «и овал, и глаза, и главное взгляд вдумчивый… сразу узнаешь». Но я не воспользовался поводом для опровержения моего родства с Брюлловым, – Игорь Эммануилович был так доволен своим архивным открытием…
Первый брак
Отец мой (родился в 1839 году) рисовал с четырехлетнего возраста всё, что попадалось на глаза, и сразу выказал способность легко «схватывать природу». Двенадцати лет он поступил в Школу живописи и ваяния, где первыми наставниками его были Скотти, Зарянко, Тропинин. Живописную манеру последнего он усвоил в совершенстве, копию Маковского с тропининского портрета не отличить было от оригинала. Еще находясь в «Школе» он получил от Академии малую серебряную медаль за карандашный этюд (1857), а через год перебрался на самостоятельную жизнь в Петербург, поступил в Академию и стал участвовать на ее выставках. Первая его «программная» картина – «Исцеление слепых Христом после изгнания торгующих из храма». В 1861 году он выставил другую «программу» – «Харона, перевозящего души через Стикс» (я не раз видел ее в каморке Алексеича при отцовской мастерской, где забытый «Харон» нашел пристанище над кроватью старого слуги). На академической выставке 62 года выставлялись портреты – Ушакова и, мастерски написанный, графа Муравьева-Амурского (по заказу жителей Иркутска для Общественного собрания этого города). В следующем году произошел разрыв с Академией и начались выставки Художественной артели и Передвижные: полотна, подписанные Константином Маковским, обращали на себя общее внимание.
Слава отца как портретиста, можно сказать, просияла в эти годы. Со всех сторон поступали заказы. Это дало ему возможность зажить своим домом. В 67 году он женился на юной, подававшей надежды актрисе Александрийского театра – Елене Тимофеевне Лебедевой, «Леночке», внебрачной дочери гр. В.Адлерберга, министра двора при Николае I. У графа (портрет его сохранился в папках Константина Егоровича) была связь с женщиной-латышкой, имевшей на него большое влияние. Эту «фаворитку» (как говорили тогда, – она по-видимому была близка и с Николаем I) звали Минна Ивановна. Леночка, не ладившая с матерью, получила образование в Швейцарии и ездила в Россию к графу в качестве его воспитанницы. Он умер только в 84 году, мой отец не поддерживал с ним отношений. С сыном старого графа Александром Владимировичем (флигель-адьютант еще при Николае I, министр Двора и доверенное лицо Александра II, вышел в отставку в 82 году, скончался в 89) Константин Егорович познакомился за несколько лет до мученической смерти государя.
Первый брак отца был счастлив, хотя недолог. Леночка внесла в его рассеянную «богемную» жизнь много любви и чуткой общительности. Она была хрупка, болезненна и не могла считаться красивой, но от внешности ее и от всей «манеры быть» исходила неизъяснимая прелесть. Так вспоминал о ней отец. Елена Тимофеевна недурно рисовала сама и страстно увлекалась музыкой; композиторы, певцы, пианисты любили бывать в мастерской Маковских запросто, дышалось у них легко и было много музыки, пения. Особым вниманием пользовалась русская музыка задолго до того, как она вошла в сознание широкой столичной публики. С четой Маковских дружила начинавшая тогда новаторскую свою деятельность «могучая кучка»: Мусоргский и предшественник его Даргомыжский, Балакирев, Бородин, Римский-Корсаков, Кюи.
М.Цетлин в очерке, посвященном В.В. Стасову, рассказывает (вероятно, заимствовано из писем Бородина, изд. Госиздатом):
«Кучкисты вообще были в моде. Их известность стала выходить за пределы узко-музыкальных сфер, ширилась, как круги на воде от брошенного камня. Так, популярный уже в то время художник Маковский и вся его семья просто бредили новой музыкой, не знали, как залучить к себе ее представителей. Бородин стал бывать у них, и жена Маковского, тоже художница, рисовала его портрет. В доме Маковских поставили даже «Каменного Гостя» целиком (и «Хованщину» Мусоргского, частями, – С.М.); там только и разговоров было, что о новой музыке, о реализме в искусстве и т. д. Маковские целый день млели и таяли от новой музыки, бранились с ее противниками, плакали от восторга. – Маленькая Маня, дочка художника (ее звали не Маня, а Наташа, – С.М.) долго недоумевала, почему тетя «Сашок» (Александра Егоровна, – С.М.) всё плачет за роялем. Наконец решила, что «Сашок» жалеет музыку. Другая девочка Маня (дочь Марии Егоровны, Смирновой по мужу, – С.М.), ее кузина, пела целый день бородинскую «Спящую Княжну». Она сама подбирала на рояли аккомпанимент и старательно выводила детским фальцетом, ставя ударение на «ли»:
- И никто не знает, скоро ли
- Час настанет пробужденья?
Ей особенно нравились в конце интервалы секунды. «Вот оно молодое поколение, небось сразу всё схватывает, – шутил Бородин, трепля по щечке свою поклонницу»[2].
Из портретов отца за этот ранний период крепко запомнился мне семейный в натуральную величину (он тоже висел у нас в детской). На этом большом холсте, относящемся к 69 или 70 году, за утренним чайным столом расположились Любовь Корнеевна и Елена Тимофеевна, а у них в ногах – те самые девочки, любительницы бородинской музыки: Маня Смирнова, впоследствии певица, дебютировала в 90 годах на Мариинской сцене, и Наташа, внебрачная дочь отца (наследие какого-то студенческого романа, она жила в нашей семье до позднего своего замужества, мы звали ее Татинькой).
Этот портрет, о котором с похвалой упоминает и Стасов, на мой взгляд один из самых пленительных по серьезности и простоте живописной трактовки – портрет, похожий на жанровую сцену, отражающую домашний быт эпохи, быт семьи, жившей уютно, просто, любовно. Очень русский портрет, без всякого уклона к эффекту, к показной роскоши красок, живопись еще провинциально-бедная, зато без «плохого» Парижа. Но больше всего приманивало меня лицо Елены Тимофеевны – задумчивое, ласковое, болезненно-бледное, с черными прищуренными глазами и по-детски пухлым ртом. В лице отразились и нежная доброта, и ум, и обреченность. Такой и была она в жизни, оборвавшейся на четвертом году брака. После рождения сына (умер нескольких месяцев) у нее обнаружился процесс в легких. По совету врачей, отец увез больную жену в Египет: жаркий юг считался тогда целительным для слабогрудых. Там, через год приблизительно, она и скончалась – в Каире.
Отец тяжело пережил ее смерть. Но он не умел горевать продолжительно… Средиземный африканский юг, залитый сверкающим светом, сразу обворожил его и солнцем, и восточной сказочной узорностью, и богатством туземных типов. Задумав большую картину «Перенесение ковра из Мекки в Каир», он вернулся накоротке в Петербург и снова умчался в Египет, на сей раз с братом Николаем Егоровичем, архитектором по профессии, даровитым пейзажистом (всего известнее его городские архитектурные этюды, написанные за эту египетскую поездку в манере отца, но гораздо суше).
Всю зиму ревностно писались в Каире этюды для «Ковра»; закончен там же большой эскиз этой картины, представленной вскоре членам царской фамилии. В ту пору, после «Масленицы», репутация отца при дворе установилась прочно. Один из вариантов «Ковра» приобрел наследник-цесаревич, другой холст на этот сюжет, но большего формата, приобретенный вскоре Александром II для Эрмитажа, отец начал тогда же, но закончил его по этюдам уже в Париже (в Петербурге не хватало света), когда его второй женой стала моя мать Юлия Павловна, рожденная Леткова.
«Перенесение ковра» и второй брак
Надо отдать справедливость «Перенесению ковра» и в особенности бесчисленным масляным этюдам к нему и акварелям, наполнявшим каирские папки отца и альбомы. Что ни говори, солнце тут впервые загорелось в русской живописи, пусть картины, написанные с этих этюдов, и грешат еще академической чернотой. До Саврасова, Поленова, Серова, К. Коровина «плэнэры» Константина Маковского приблизили нашу живопись к природе, к сияющим ее краскам, почувствованным непосредственно, не из мастерской по указке школьных образцов. От яркой светотени его «Каира» повеяло чем-то очень новым, непохожим на сумеречную, «битюмную» заскорузлость передвижнических пейзажей (фальшиво-цветистые панорамы В. Верещагина не в счет, разумеется).
Об египетских поездках отца еще свежо было предание в моем детстве. Стены наших квартир увешивались каирскими этюдами. Эти мастерские «пошады», быстро намеченные ударами кисти по «первому впечатлению», с контрастами резко освещенных плоскостей и теней жгуче-синих, будили во мне мечту о далеком Востоке; жадно слушал я рассказы отца об экзотическом Леванте, и с той поры страны «Тысячи и одной ночи» стали для меня манящей далью…
Каирские этюды оказались ценнейшим подсобным материалом; вскоре были написаны другие картины из восточного быта: «Факир», «Айша», «Свадьба в Каире», «Похороны» и «Арабка с бубном» (вошли в лондонское собрание Джорджа Эллиота), «Пляска дервишей», «Египетский продавец мелочей» и т. д. Одна из картин (было несколько вариантов) – «Арабская школа» – писалась по заказу Третьякова, но почему-то ему не потрафила, и это навсегда рассорило с ним отца: в знаменитую галлерею, кроме «Алексеича за самоваром», так и не попало больше ни одного его холста (до самой революции).
Рассказы матери живо рисуют фигуру Константина Егоровича в эти его молодые годы: обаятельную внешность, беспечную праздничную веселость нрава, привычку к быстрым решениям, трудолюбие и жадность к утехам жизни. Он был статен, ловок, необыкновенно крепок здоровьем; откинутая назад пышно-кудрявая голова с рано облысевшим сжатым у висков лбом сообщала чисто-русскому лицу в темно-русой бороде вид открытый и независимый. Но по-детски застенчивая улыбка выдавала слабость характера, чрезмерную уступчивость, незащищенность от посторонних влияний. С годами, когда погустели усы и борода, он стал похож на Александра III, всех поразил этим сходством (в боярском кафтане, сшитом из старинной парчи) на костюмированном балу во дворце вел. кн. Владимира Александровича.
Зимой 1874 года мать приехала, с благословения своих родителей – Павла Степановича и Анны Павловны Летковых, из Москвы в Петербург для поступления в консерваторию, в класс Ирицкой: у нее был красивый голос, лирическое сопрано. Отец продолжал жить на Гагаринской набережной (в доме Муханова, нижние этажи занимали герцоги Лейхтенбергские с женами – Николай, Евгений, Сергей и Георгий Максимильяновичи). После нескольких лет вдовства он собирался на работу в Париж, вел светский образ жизни и ухаживал напропалую. Встреча их состоялась на балу в Морском корпусе.
Это был ее второй бал; на первом, «лицейском», с великими князьями, Петербург уже заметил ее и танцовала она до упаду. Ей шел всего шестнадцатый год, но казалась она старше уменьем держать себя в обществе и умственной зрелостью. Даже судя по тогдашним плохим фотографиям, напоминающим дагерротипы, она была очень красива. Отец влюбился с первого взгляда и не отходил от нее весь вечер. Представили ей Константина Егоровича Адам Адамович Ржевусский (желтый кирасир) и его первая жена (рожденная Ахматова), у которых, приехав из Москвы, юная Леткова нашла приют. На следующий день влюбленный «профессор живописи» поспешил к Ржевусским с визитом и тут же пригласил всех к себе – «помузицировать». Когда, шапронируемая Ржевусской, моя мать входила в мастерскую Константина Егоровича, где собралось несколько человек (была и Любовь Корнеевна), он пел под аккомпанимент Свирского, талантливого любителя-пианиста, романс Чайковского:
- Нет, только тот, кто знал свиданья жажду,
- Поймет, как я страдал и как я стражду…
К ужину Константин Егорович повел юную Леткову под руку и, усаживая ее за стол рядом с собою, громко сказал – так что все слышали:
– Вот и отлично… Будьте у меня хозяйкой!
Так началась их помолвка… Не прошло и двух недель после вечера на Гагаринской набережной, в течение которых знаменитый «профессор» почти ежедневно посещал Ржевусских, как внезапно из-за неладов с ревнивой Ржевусской мать моя должна была вернуться обратно в Москву. Константин Егорович немедленно помчался следом и попал к Летковым в сочельник, на елку…
Дед мой со стороны матери, Павел Степанович, балтиец родом (говорил по-русски с акцентом), занимал в Москве административный пост по почтовому ведомству. До того, покинув военную службу, он пробыл около двадцати лет с семьей в Вологде начальником почтово-телеграфного округа.
Жена его, Анна Павловна, была существом глубокого сердца, к тому же редкая красавица. В семье сохранился портрет ее, написанный еще до ее замужества популярным тогда французским художником Робильяром. Четыре дочери-погодка – Елена, Александра, Екатерина и Юлия боготворили ее (пятая, Евгения Павловна, Женичка, была еще семилетним ребенком). Все четыре – красивы, в мать, красотой нерусского типа, унаследованной от первого мужа бабки, Марии Федоровны Рахубовской, вышедшей замуж в первый раз тринадцати лет за грека по фамилии Храбро. Эта моя прабабушка умерла очень дряхлой, сама рассказывала мне (в 1892 году), как пряталась с семьей в лесу под Москвой – от Наполеона. Греческая, классически-правильная красота Анны Павловны передалась в особенности моей матери.
Вологда… Детство ее протекло в этом богоспасаемом губернском городке, летом утопавшем в зелени, а в зимние ночи по улицам действительно бродили волки. Средства были скромные, светских развлечений почти никаких, вологодское общество, бывавшее у Летковых, состояло из чиновного люда и окрестных помещиков (Брянчаниновы, Вологодские, Местаковы). Семья, чрезвычайно дружная, была счастлива под крылом беззаветно заботливой и умевшей всё вытерпеть от слабого характером мужа – Анны Павловны. Сестры жили душа в душу и усердно учились. Зимой, чуть свет, – любила вспоминать моя мать, – кучер Иван запрягал Копчика в «кошевни», приземистые на деревянных полозьях сани с низким задком, и отвозил в гимназию всех четырех барышень, укутанных в салопы и платки; выдавалось им по три копейки на завтрак или по булке-розанчику с маслом и сыром. Только и всего. Сестры не любили получать больше, чтобы не отличаться от других гимназисток.
Летковы произвели на отца впечатление чарующее. Понравился и он, хотя родные и находили, что для младшей Юлюши «стариковат» как будто, – в те времена тридцатипятилетняя зрелость считалась уже преклонной. Но сделав предложение, пылкий жених об отсрочке и думать не хотел: решено было сыграть свадьбу, как только невесте исполнится шестнадцать лет. Они исполнились 13 января 1875 года, а спустя десять дней, 22-го числа, в Почтамской церкви состоялось венчание.
В тот же день молодые уехали в Петербург на гагаринскую квартиру, а к весне – в Париж, где отец заранее подыскал мастерскую на бульваре Клиши; жилая квартира была снята на rue de Bruxelles, наискось от четы Виардо, – в их вилле проживал и Тургенев. О встречах с Тургеневым я много слышал от матери; частенько заходил он к Константину Егоровичу (портрет Ивана Сергеевича, поколенный, был написан им еще до Парижа).
У Виардо собиралось смешанное общество – и артисты-парижане, и представители русской колонии. Тогда из русских художников проживали в Париже Боголюбов, Похитонов, Леман, Харламов (написавший портрет Полины Виардо), жил и Репин. Часто устраивались у Виардо вечера, даже маскарады, – на одном из них Тургенев появился русским парнем в косоворотке и шароварах. Это национальное обличие странно не вязалось с его речами, несколько презрительными ко всему русскому, к русской музыке в частности. Он высказывался без обиняков: «Oh, cette musique russe, quelle peste»[3]. Полина Виардо не соглашалась с его нетерпимым западничеством. Она благоволила ко всему русскому.
Дочь ее пела, а сын Поль был скрипачом. Между певцами на этих вечерах выделялась юная Александра Валериановна Панаева, с нею моя мать тотчас сошлась, возникла глубокая и длительная привязанность. До самого своего замужества (за кавалергарда Г.П. Карцева) Татуся, как у нас называли ее, была ближайшей подругой моей матери и потрясала Петербург, бывавший у нас, своим драматическим сопрано с глубокими, за душу берущими нотами, хотя всю жизнь пела как любительница и сценические дебюты ее были неудачны. Фразировала Панаева подчеркнуто-темпераментно, когда она пела «Твой голос для меня и ласковый и томный» (Рубинштейна) или «Ich liebe dich» (Грига), дамы млели, потупив глаза… Панаева и наружностью покоряла: яркая брюнетка с искристо-синими глазами и чуть заметными усиками над капризным ртом, стройная, мужественно-властная, великолепная. Влюбленный в нее уже престарелый гр. А.В. Адлерберг называл ее Очаровательницей и подарил ей обширную музыкальную библиотеку с декоративной буквой «О» на сафьяновых переплетах.
Один из удачнейших женских портретов отца – ее портрет в бальном платье с нотами в руках – долго висел в нашем зале, где устраивались музыкальные утра и балы. Татуся часто исполняла дуэты с отцом и с матерью; не обходились без нее и домашние спектакли (о них речь впереди). Мужчины в нее влюблялись поголовно, даже такие отпетые «романтики», как поэт Николай Александрович Апухтин, неимоверно-тучный, с заплывшим бабьим лицом, но обворожительно читавший свои салонные стихи:
- Она была твоя, шептал мне вечер мая,
- Дразнила долго песня соловья…
Петр Ильич Чайковский посвящал Панаевой романсы, многие уверяли, что и он не на шутку увлекался ею.
Тогда уже, в последние годы жизни гр. А.В. Адлерберга, она устроила свой благотворительный концерт в Дворянском собрании и была приглашена не раз в Зимний Дворец на интимные вечера, где пела перед всей семьей Александра II. После замужества она недолгое время была профессиональной певицей, дебютировала и на Мариинской сцене, выступала в Панаевском театре и заграницей. Потеряв голос, давала уроки до самой смерти.
В Париже, в декабре 1875 года, родилась у матери дочь Марина. На роды поспешила из Москвы Анна Павловна Леткова, в глубоком трауре по умершем незадолго до того муже (сама пережила его всего на год, скончалась сорока четырех лет).
Чета Маковских вернулась в Петербург следующей весной, лето проведя на даче в шереметьевском Останкине под Москвой; здесь постигло семью большое горе: восьми месяцев умерла от менингита маленькая Марина.
С осени была взята квартира в доме Панаева, Валериана Александровича, отца Татуси, будущего основателя Панаевского театра, на третьей линии Васильевского Острова. Семнадцатилетняя мать очень тяжело перенесла смерть перворожденной, доктора опасались за ее легкие… Молодость взяла свое, вскоре она стала опять ожидать прибавления семейства, а на поправку поехала в Ниццу со старшей сестрой Еленой Павловной, вышедшей замуж за московского врача Спримона. Отец, навещавший их, когда отпускала работа в Париже, нашел венецианскую раму и вставил в нее свою молодую жену, обмотав ей голову чем-то вроде тюрбана вишневого цвета, прикрепив к нему страусовое перо. В несколько сеансов был написан первый ее портрет «в красном берете», – он стал чуть ли не родоначальником прославленных женских портретов Константина Егоровича.
Поездка на Балканы
Тем временем, после Египта и Парижа, художественная деятельность отца широко развернулась. Александр II покровительствовал ему, и государю вторило петербургское общество. Константин Маковский сделался модным портретистом в придворных кругах и у денежной знати. Великий князь Владимир Александрович приобрел нарядный портрет красивой иностранки, г-жи Кайля; к этому времени, если не ошибаюсь, относятся и портреты вел. кн. Марии Павловны и вел. кн. Михаила Николаевича. Заказы посыпались как из рога изобилия, на портреты записывались в очередь. Потребовалась квартира попросторнее. Тут как раз Академия сдала отцу одну из своих мастерских, а квартиру посчастливилось найти рядом на набережной, у Николаевского моста, в доме Переяславцева (в этом доме 15 августа 1877 года я и родился).
Год был тревожный, на Балканах русские отчаянно дрались с турками в залитой кровью Болгарии. Многие знакомые уезжали на фронт добровольцами – освобождать «братушек»… В том числе – и будущий муж Савиной, красавец и остряк Никита Всеволожский; очень уж был ему к лицу наряд добровольца: живописный черкесский чекмень, папаха и огромный кинжал за поясом…
Много лет спустя, Марья Гавриловна со свойственным ей лукавым безразличием рассказала мне (помнится, в редакции «Старых годов», у П.П. Вейнера), как удалось наконец Всеволожскому ее «завоевать». Ей, молодой, но уже известной актрисе, он нравился, но она не хотела уступать его ухаживаниям и, не говоря худого слова, сбежала от него в Киев на гастроли; там сняла комнату, играла, а в свободные вечера в полном одиночестве раскладывала пасьянсы и задумывалась, конечно о Никите. И вдруг как-то уже к ночи, только вернулась она домой – звонок. Отворила дверь, а перед ней во всей красе, в папахе, в белом чекмене, с кинжалом, Никита: «Как чорт хорош!»… Савина вздохнула и скороговоркой продолжала:
– Ну, так вот, на следующее утро я и говорю ему…
Константин Егорович, который сам немного увлекался Савиной, поражаясь ее удивительными глазами с озорной искоркой (несколько позже он написал ее портрет по заказу тогдашнего ее покровителя помещика Коваленко), не вытерпел и тоже уехал, хотя без воинственных намерений, на «театр военных действий». В поисках художественных впечатлений, вооружась альбомами, холстами и красками, он ездил за наступающими русскими войсками по болгарским пепелищам и зарисовывал по пути пейзажи и типичные фигуры. Задумал и картину «Болгарские мученицы». Однако, на Балканах Константин Егорович долго не оставался, меньше трех месяцев. Ранней осенью спешно вернулся в Петербург – ко времени моего появления на свет.
Об этом путешествии на Балканы тоже неоднократно говорилось за семейным столом. «Болгарские мученицы» написаны тою же осенью, на злободневную тему: турецкие башибузуки в разгромленной церкви надругиваются над женщинами-христианками. Для одной (прижимающей к груди младенца) позировала моя мать; лицо другой, распростертой на полу уже мертвой женщины, написано с тетки Александры Павловны Летковой. Обе очень похожи, – отец оставался портретистом и в жанровых композициях. У нас была большая фотография с этих «Мучениц». Они выставлялись на академической выставке 77 года и отдельно, вместе с «Перенесением ковра», в пользу Красного Креста.
Особыми чисто-живописными качествами «Болгарские мученицы» не отличаются, но типы османских изуверов схвачены сильно: картина вызвала большой общественный интерес. Тогда же написан и другой не менее патетический жанр на военный сюжет: большая акварель – болгарка над трупом убитого ребенка, на фоне охваченной пожаром окрестности. Болгарку отец писал тоже с жены, так недавно еще оплакавшей свою дочь. Акварель была приобретена значительно позже вел. кн. Владимиром Александровичем.
Курьезна одна подробность: я помню, действительно помню что-то относящееся к году вслед за турецкой войной. Помню спальню, в которой несколько женщин (сестры матери?), сидя около меня, младенца, щипали корпию для раненых. Разумеется, лишь позже я понял, что они корпию щипали, но зрительное впечатление, бесчисленное множество раз возобновлявшееся почему-то в памяти, осталось во мне, и до сих пор я вижу всю эту домашнюю сцену: комната, постель, склоненные над работой фигуры и холстяные нити, всюду вокруг разбросанные белыми клубочками. Мать подтвердила (не так давно), что действительно тогда для прибывавших в столицу раненых в патриотически настроенных семействах щипали корпию. Но мне-то не могло быть больше полутора лет от роду! Между тем, знаю твердо, что это не морок воображения…
«Русалки» и Каченовка
Третьей большой картиной отца были «Русалки». Тотчас после солнечно-яркого «Перенесения Ковра» вздумалось ему создать ночной, залитый луной пейзаж в русском духе, с лесом, мельницей и привидениями сказочных водяниц. В этой третьей картине, из всех самой популярной пожалуй, эффектно сочетается с южнорусским ландшафтом взлетающая к небу вереница озаренных месяцем обнаженных женских фигур.
«Русалки» начаты были давно. Наступило лето 1878 года, отец решил дописать их в нанятой у Свирского усадьбе, на границе Черниговской губернии и Полтавской (недалеко от Диканьки Кочубея), – я уже упоминал об этом музыкальном приятеле отца (позже он завел художественную мебельную фабрику). Имение называлось, помнится, Загоны. Приехали; началась работа; для «Русалок» отец соорудил даже барачную мастерскую в усадебном парке.
Поездка в Загоны была моим первым путешествием. Конечно, я ничего не могу помнить о том, как дописывались «Русалки», мне еще и году не было. Но тут произошел эпизод… О нем надо рассказать, он характеризует эпоху, а его последствия глубоко повлияли на жизнь нашей семьи и, в частности, на творчество Константина Егоровича. Рассказываю со слов матери.
В некое летнее утро к крыльцу подкатила коляска четвериком с форейтором. Из коляски выпрыгнул незнакомый помещик подчеркнуто-малороссийского облика: длиннейшие темные усы вниз и украинский «кабиняк» (тальма) с пряжкой… в алмазах! Лицо сухое, желтоватое. Мал ростом, худощав, порывист. Войдя в дом, он спросил повелительно вышедшего ему навстречу Константина Егоровича: «Вы профессор Маковский?» – «Я». – «А я здешний помещик, Василий Васильевич Тарновский. Мое имение – Каченовка, по соседству. Как вы сюда попали?». Так началось знакомство. Посидели, вспомнили кое-кого из петербуржцев. Не прошло и получаса, как владелец Каченовки, пренебрежительно окинув взглядом полупустую гостиную Свирского, вскочил и недоуменно развел руками: «Да полно, профессор, что вы нашли здесь? Разве это усадьба? К тому же, и парк ни на что не похож». – «Нет, ничего… Помилуйте», – ответил отец неуверенно (Загоны и ему не нравились). Василий Васильевич вскипел, он никак не мог согласиться, чтобы такой художник, как Маковский, работал в этой убогой обстановке. «Знаете что, – стремительно заявил он, – у меня имение большое, отсюда рукой подать, в двадцати верстах. Собирайтесь-ка, да и поедемте на лето в Каченовку, не раскаетесь». Тут вошла мать. Василий Васильевич представился. – «И жена ваша, красавица, наверное одобрит. Будет дружить с моей Соней. Она у меня славная».
Так и решили. Вскоре от Тарковских были присланы экипажи, и вместе с большим эскизом «Русалок» мы перебрались в Каченовку и оставались в этой необычайной усадьбе с ампирным домом всё лето. Тарновские оказались совсем исключительно милыми людьми, особенно Софья Васильевна, жена порывистого помещика с малороссийскими усами, мать Васюка, старшего сына, и Сони, моей ровесницы. В Каченовке жили и сестры хозяйки: Юлия и Александра Васильевны. Первая была вдовой генерала Швебс; вторую, Корбут по мужу, все звали Крошкой. Доживала свой век в одном из флигелей и старенькая бабушка, мать Василия Васильевича.
С первого знакомства Тарковские полюбили и отца моего и мать, и меня в придачу. Вернулись мы в Петербург лишь поздней осенью и перебрались опять на новую квартиру, в дом гр. Менгдена на Дворцовой набережной. Там 1-го ноября того же года родилась моя сестра Елена. С тех пор, с редкими перерывами (когда обстоятельства не позволяли из-за работы отца или отъездов наших заграницу), лето за летом гостили мы в Каченовке. Я помню себя в рамках этого чудесного, сказочно-барского поместья с трехлетнего возраста, вплоть до 1888 года, когда тяжелый недуг матери вынудил нас, прокружив по заграничным курортам, прочно осесть, еще до разрыва с Константином Егоровичем, на лазурном берегу, в Ницце.
Впечатления мои о Каченовке сливаются в одно какое-то призрачно-волшебное чередование – знойных малороссийских полдней, прохладных утр, ярких закатов и лунных ночей, пропитанных теплым запахом черноземной пыли. Вспоминаются скитания no-грибы в роще «Березине» или просто, от нечего делать, по грандиозному парку с липовыми и кленовыми аллеями, с мостиками над искусственными прудами и беседками (одна из них называлась беседкой Глинки, композитор в ней писал «Руслана»); поездки в линейках и шарабанах на сахарный завод Тарновских или на молотьбу в пшеничные поля дубовыми и березовыми лесами; пикники на лесных полянках; церковные службы в высокой шатровой церкви, куда помещикам не приличествовало ходить пешком, хотя стояла она от дома в каких-нибудь двухстах шагах: полагалось ездить к обедне в экипажах, запряженных цугом; длительные чаепития на террасе среди благоухающих цветочных клумб; шумные завтраки и обеды (дети за отдельным столом, «жабокриковка» – величал нас Василий Васильевич) в длинной столовой, где стол накрывали обычно человек на двадцать пять, и за каждым из сидевших ближе к хозяевам стоял лакей-казачок (синий кафтан и пунцовый кушак); оживленные вечера, на которых отовсюду съезжавшиеся соседи то быстро кружились под рояль в вальсе à deux temps, то носились галопом, то выделывали фигуры котильона и, в мазурке, кавалеры лихо отщелкивали замысловатые антраша. Иногда гремел на хорах полковой оркестр стоявших в Прилуках киевских гусар.