Факультет ненужных вещей бесплатное чтение
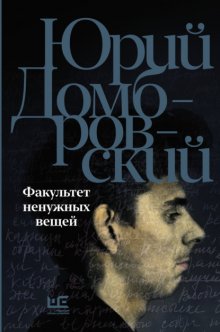
© Домбровский Ю. О., наследники
© Бондаренко А. Л., художественное оформление
© ООО “Издательство АСТ”
Анне Самойловне Берзер с глубокой благодарностью за себя и за всех других подобных мне посвящает эту книгу автор
Когда спросят нас, что мы делаем, мы ответим – мы вспоминаем. Да, мы память человечества, поэтому мы в конце концов непременно победим; когда-нибудь мы вспомним так много, что выроем самую глубокую могилу в мире.
Р. Брэдбери
Новая эра отличается от старой эры главным образом тем, что плеть начинает воображать, будто она гениальна.
К. Маркс
- Везли, везли и привезли
- на самый, самый край земли.
- Тут ночь тиха, тут степь глуха,
- здесь ни людей, ни петуха.
- Здесь дни проходят без вестей —
- один пустой, другой пустей,
- а третий словно черный пруд,
- в котором жабы не живут.
- Однажды друга принесло,
- и стали вспоминать тогда мы
- все приключенья этой ямы
- и что когда произошло.
- Когда бежал с работы Войтов,
- когда пристрелен был такой-то…
- Когда, с ноги стянув сапог,
- солдат – дурак и недородок —
- себе сбил пулей подбородок,
- а мы скребли его с досок.
- Когда мы в карцере сидели
- и ногти ели, песни пели
- и еле-еле не сгорели:
- был карцер выстроен из ели
- и так горел, что доски пели!
- А раскаленные метели
- метлою извернули воздух
- и еле-еле-еле-еле
- не улетели с нами в звезды.
- Когда ж все это с нами было?
- В каком году, какой весной?
- Когда с тобой происходило
- все, происшедшее со мной?
- Когда бежал с работы Войтов?
- Когда расстрелян был такой-то?
- Когда солдат, стянув сапог,
- мозгами ляпнул в потолок?
- Когда мы в карцере сидели?
- Когда поджечь его сумели?
- Когда? Когда? Когда? Когда?
- О бесконечные года! —
- почтовый ящик без вестей,
- что с каждым утром все пустей.
- О время, скрученное в жгут!
- Рассказ мой возникает тут…
- Мы все лежали у стены —
- бойцы неведомой войны, —
- и были ружья всей страны
- на нас тогда наведены.
- Обратно реки не текут,
- два раза люди не живут.
- Но суд бывает сотни раз!
- Про этот справедливый суд
- и начинаю я сейчас.
- Печален будет мой рассказ.
- Два раза люди не живут…
Часть первая
Глава первая
Копали археологи землю, копали-копали, да так ничего и не выкопали. А между тем кончался уже август: над прилавками и садами пронеслись быстрые косые дожди (в Алма-Ате в это время всегда дождит), и времени для работы оставалось самое-самое большее месяц.
А днем-то ведь все равно парило: большой белый титан экспедиции накалялся так, что до него не дотронешься. Идешь в гору, расплеснешь ведро, и лужа высохнет тут же, а земля так и останется сухой, глухой и седой. А однажды с одним из рабочих экспедиции приключился настоящий солнечный удар. Вот поднялся-то шум! Побежали в санчасть колхоза за носилками. Они стояли у стены, и когда Зыбин – начальник экспедиции Центрального музея Казахстана – наклонился над ними, то с серого брезента на него пахнуло йодоформом и карболкой. Он даже чуть не выронил ручку. Ведь вот: сад, ветер, запах трав и яблок, блеск и трепет листьев, на траве чуткие черные тени их, а тут больница и смерть.
Ну а потом все пошло очень быстро – больного прикрыли зеленым махрастым одеялом и стащили вниз. Все бестолково кричали: “Тише, тише! Ну чего вы его так? Это же больной!” – остановили под горой попутную пятитонку – в это время из домов отдыха все машины несутся порожняком, – осторожно вознесли носилки и поставили возле мотора – там трясет меньше, – и сейчас же два молодых землекопа, остро блеснув ботинками, вскочили и уселись по обе их стороны. Они уже успели где-то нагладиться, начиститься, вымыться и расчесаться. Ну а рабочий-то день, конечно, пропал. Все разбрелись по саду, кое-кто пошел к речке, и оттуда, из кустов, ударила гармошка и заорала девка. Орали здесь, как и на всех посиделках, – громко, визгливо, по-кошачьи.
– О, слышите, – с удовольствием сказал Корнилов, поднимая ослепшую, взмыленную голову. – Обрадовались! Вот работников-то мы с вами нашли, Георгий Николаевич, а? С ними как раз клад отыщем.
Их было двое. Начальник экспедиции Зыбин и археолог Корнилов. Они оба – он и Зыбин – с белыми литровыми жестянками из-под компота стояли над горным ледяным потоком (это и была речка Алма-Атинка) и окатывались с головы до ног.
– А, черт с ними, – сказал Зыбин. – Дня-то все равно уже нет.
– Да, конечно, черт, дня нет, – вяло согласился Корнилов и по плечи окунулся в поток. – Но ведь это что значит? – продолжал он, выныривая и отфыркиваясь. – Ведь это значит, что пока мы тряслись над этим Поликарповым, кто-то уже успел сгонять в правление к Потапову за гармошкой, а это, я вам скажу, две версты верных по горам. Я однажды посмотрел на часы, пока шел, – полчаса, верных две версты.
– А вы сегодня Потапова видели? – быстро спросил Зыбин.
– Видел. А как галдели, как они, черти, галдели. Один так ко мне прямо в палатку влетел. Я проявляю, так он, скот, нарочно все настежь! “Наш товарищ доходит, а вы тут разложили свои…” Товарищ у него, чёрта, видишь, доходит. Очень нужен ему товарищ! – И он опять ушел по плечи в поток.
Зыбин подождал, пока он вынырнет, отфырчится, отчертыхается, разлепит глаза, и сказал:
– Надоели мы им до чертиков, Володя. Устали они, разочаровались, изверились. (“Вот-вот, – согласился Корнилов, – вот-вот, они изверились, скоты!”) А помните, как было сначала? Жара, дождь, а они знай грызут и грызут холм. А теперь, когда два месяца прошло впустую, ни горшка, ни рожка, ну конечно… Ну хотя бы вы снова скотские кости откопали, что ли.
Корнилов стоял молча и зло, докрасна растирал ледяной водой живот, грудь и шею. Движения у него были широкие и сильные. Когда Зыбин ему сказал о скотских костях, он вдруг приостановился и спросил:
– А мне, пока я в городе был, никто не звонил?
– Да нет… – скучно начал Зыбин и вдруг всплеснул руками. – Ой, звонили, два раза даже звонили! Потапов приходил за вами. Какая-то женщина звонила. Я велел ей дать музейный телефон. Ничего? Она вас застала?
У Корнилова вдруг остро блеснули глаза.
– Женщина-то? – Он схватил с большого синего валуна мохнатое полотенце и стал им быстро, ловко и весело растирать, как будто пилить, спину. Был он невысокий, загорелый, мускулистый, чернявый и очень подвижный. У него всегда все ходило: руки, спина, мускулы, губы, глаза. “Артист, – подумал Зыбин, любуясь им. – Ох артист же! Это он в Сандунах так”.
– Ничего, ничего, дорогой Георгий Николаевич, – бодро воскликнул Корнилов. – И не только ничего, но даже и очень, очень хорошо. – Он скомкал полотенце и бросил его в Зыбина. – Собирайтесь-ка, натягивайте новые сотельные брюки и потопали. Директор, наверно, уж нас заждался.
Он всегда, когда был возбужден, говорил вот так: “сотельный”, “потопали” или даже “увидишь – закачаешься”.
– Директор? – Зыбин даже сел на валун (к этому бедламу еще и директор!). – Да разве он…
– Ну а как же, – весело и дружелюбно ответил Корнилов, с удовольствием рассматривая его полное белое лицо и светлые водянистые глаза, они даже как-то поглупели за секунду. – А как же, дорогой Георгий Николаевич? Он же вас любит, правда? Ну а если любит, то и сам приедет, и гостей привезет. Да каких гостей! Увидите – закачаетесь. Он так и сказал мне: “Ждите, я приеду”. Ну-ка пошли встречать.
Они взбирались по пологому холму через кустарник. На одном уступе Зыбин вдруг остановился и ласково сказал Корнилову:
– Володя, вы посмотрите-ка туда, вон-вон туда, на дорогу.
– А что?
– Да как старинная гравюра.
Уже смеркалось. Тонкий туман стелился по уступам, и все огненно-кровавое, голубое, темно-зеленое, фиолетовое и просто белое: круглые листы осинника, уже налившиеся винным багрянцем; частые незабудки на светлом болотистом лужке, черные сердитые тростинки; влажное, очень зеленое и тоже частое и чистое, как молодой лучок, поле (с одной стороны его покачивались ажурные белые зонтики, а с другой стороны стояли высокие строгие стебли иван-чая с острыми чуткими листьями и фиолетовым цветом) – все это, погруженное в вечер и туман, смирялось, тухло, стихало и становилось тонким, отдаленным и фантастическим.
– Как старинная гравюра под прокладкой, – повторил Зыбин.
– Да вы поглядите, где вы стоите, – вдруг сердито крикнул Корнилов, – вы же сотельные брюки испортили, ой, горе мое!
Зыбин залез в куст степной полыни, и она обмарала его желтой, плотно пристающей пылью.
– Да что руками, что вы все руками? – еще сердитее закричал Корнилов. – Только еще больше вотрете. Вот придем – надо будет взять сухую щетку и отдраить вас всего. Но только пусть она сама драит. Она, а не вы. А то ничего не выйдет. – Он смешливо покачал головой. – Вот комиссия, создатель. Приедут, посмотрят. Рабочие водку глушат. Одного так уж даже замертво увезли. Научный состав навеселе, а руководитель сидит без штанов в шалаше. Красотища! А научные результаты-то, а?
– А ваши косточки, Володя, – ласково сказал Зыбин. – Ваши рожки да ножки. Вот мы их и предъявим. Ведь вы их еще не зарыли?
Корнилов загадочно посмотрел на него.
– А что мне их зарывать, – сказал он. – Что их зарывать, если…
А история с костями была такая. Когда после первых робких успехов экспедиции началась полоса сплошных неудач, Корнилов по каким-то понятным одному ему приметам вдруг решил, что место, где они копают, конечно, безнадежное, но вот если приняться за небольшой пологий холмик на яблочной просеке…
– Да ведь это же погребение, – убеждал он Зыбина, – очень богатое, вероятно, даже конное погребение. Обязательно надо попробовать. Ну обязательно.
Копали долго и безнадежно. Меняли места, изрыли весь участок и под конец докопались. Отрыли преогромную ямину, полную костей. Видимо, сюда свалили остатки какого-то богатырского пиршества – персон эдак на тысячу. Коровы, овцы, козы, лошади, свиньи! – в общем, такой груды мослаков, пожалуй, еще никто никогда не видал. Ну что ж! Отрыли и зарыли, что еще делать с костями? Но по колхозу уж пополз слушок, что ученые раскопали сапное кладбище. Что тут только поднялось! Сначала взбунтовался колхоз, затем забеспокоились дамы из дома отдыха СНК, за домом отдыха СНК зазвонил и загудел во все аппараты Наркомздрав.
На место раскопок прилетела стремительная комиссия эпидемуправления с молодыми сотрудниками в пенсне террористического вида и с ящиками с крестами, колбами, пробирками. Яму снова раскопали, обвели канатами и поставили мрачного человека с кобурой. А пока шел суд да разбор, двум парням-землекопам где-то на вечеринке просадили головы. “Сап разводите, проклятые! Вот ваш прораб нам попадется! Всем головы поотмотаем!” Головы, правда, никому не отмотали, и комиссия уехала, составив даже акт, что кости по давности времени опасности не представляют, но все равно все могло бы обернуться очень плохо, если бы не бригадир Потапов. Он – умница! – притащил на заре два ведра карболки и залил яму. Вонь, конечно, поднялась страшенная, но она сразу всех и успокоила. Несло двадцатым годом, вокзалом, бараком, сборным пунктом, пропускной камерой – то есть чем-то сугубо житейским, во всяком случае сап, вылезший из тысячелетней могилы, так не пахнет.
Директор узнал об этой истории только через месяц, когда вернулся из срочной столичной командировки. Он вызвал Зыбина и хмуро сказал (а глаза все-таки смеялись):
– Ну то, что вы казенные деньги без меня в землю зарыли, это черт с вами – “наука умеет много гитик”, а что такое гитика, никто не знает, значит, и спросу нет. Ну а если вам колхозники ваши ученые головы посшибают, тогда что? Я за вас, дураков, не ответчик!
Так и стояла яма посередине сада, пахла двадцатыми годами, и, проходя мимо нее, все плевались и поминали ученых.
…Корнилов загадочно посмотрел на Зыбина.
– А что мне их зарывать? – сказал он. – Что их зарывать, если их сегодня же увезут в город?
– Это зачем же? – остановился Зыбин. – На студень, что ли?
– А затем, – ответил Корнилов с великолепной легкостью, – затем, дорогой, что Ветзооинститут у нас покупает костный материал. Так вот, завтра приедет директор с профессором Дубровским, он осмотрит все, заактирует, а затем переведет нам бобики в размере затрат. Но это завтра-завтра, не сегодня, как ленивцы говорят. Это я вам так, для страха сказал, что сегодня.
Зыбин засмеялся.
– Не проходит, Володя. Фамилия подвела. Вам бы выбрать другого кого-нибудь. Профессор Дубровский месяц как арестован.
– Да это не тот, голуба моя, – ласково пропел Корнилов. – Тот историк, голуба, а это – ветеринар.
Зыбин посмотрел на Корнилова, хотел сказать что-то язвительное и вдруг осекся. Он вспомнил, что и правда Дубровских два и один из них, старший, как раз в Ветзооинституте ведает кафедрой зоологии.
– Нет, правда? – спросил он робко (коленки у него были желтые-прежелтые).
– Святая истина, – проникновенно ответил Корнилов. – Мы продали костный материал чистопородных линий скота третьего-четвертого веков. Еще не верите! Знаете что тогда? У Потапова висит натуральный Никола Мирликийский. Идемте – приложусь. Там и водка есть. Пойдемте.
Зыбин наклонился и стал резкими боковыми ударами ладоней отряхивать коленки. Корнилов стоял над ним и смотрел. Брюки Зыбина его больше не трогали.
– Вы гений, – решительно сказал наконец Зыбин, поднимая голову от своих теперь уже безнадежно замаранных темно-оливковых коленок. – Второй Остап Бендер. Выдумать такое… нет, точно гений!
– Не я, – скромно ответил Корнилов. – Я гений, я Остап Бендер, но мне принадлежит только общая идея, а воплощение ее… – он загадочно помолчал. – Завтра вы сами увидите это воплощение. О, там бьют уже в рельсу. Каша готова! Идемте к Потапову. Я сказал, жди, притащу твоего ученого!
Комиссия нагрянула к концу следующего дня в двух машинах. В первой, трескучей, помятой, но известной всему городу “ЭМ-1” ехали директор и дед-столяр. Черт знает зачем везли сюда деда. Но он сидел, гордо курил и озирал окрестность. И по ту сторону, и по эту. Вид у него был трезвее трезвого.
“Орел”, – подумал Зыбин.
Третьей в машине сидела высокая, очень красивая, похожая на индуску девушка с чистым, продолговатым, матовым лицом и черными блестящими волосами. Клара Файзулаевна, завотделом хранения. Она смотрела поверх машины и думала что-то совсем свое. А за “эмкой” шла еще машина – длинная, худая, желтая, стремительная, как гончая или борзая (в машинных марках Зыбин совсем не разбирался). В ней были только двое: высокий тощий старик в чесучовом костюме и полный немчик, белобрысый, нежно-веснушчатый, очкастый, в пробковом шлеме и с фотоаппаратом через плечо. Он и вел машину.
Музейная машина доехала до бугра, урча, взобралась на него и остановилась, покачиваясь и порыкивая. Дед и директор соскочили. Клара осталась. Директор что-то спросил ее или сказал ей что-то (ткнул пальцем в палатки и фыркнул), но она в ответ только дернула плечиком. Оба археолога смотрели на них с вершины другого холма. Вокруг – кто с киркой, кто с лопатой – стояли рабочие. Сейчас раскапывали именно этот холм. Только теперь предполагалось, что это не цитадель, а могила вождя – курган.
– И опять полдня летят! И самые продуктивные, по холодку, – вздохнул Зыбин, смотря на дорогу. – Ну что ж, Володя, идите встречайте, а я пока сбегаю в лавочку. Раз уж деда привезли, без этого не обойдешься. – И он побежал вниз.
Корнилов секунду смотрел ему вслед, соображая, а потом крикнул:
– Но берите только водку! Шампанское есть, стоит в заводи!
– А это как же? – удивился Зыбин, останавливаясь.
– А вот так же, – отрезал Корнилов и покатился вниз.
Зыбин постоял, подумал, пожал плечами.
– С чего ж это он шампанского? – спросил он недоуменно. – Вечно чего-то он…
– А подвела, – радостно объяснил ему парень, что стоял рядом, – не приехала. Вот он и продал вам свои заготовки!
– Кто? Да ну, глупости! – резко отмахнулся Зыбин и пошел было вниз, но тут другой рабочий, Митрич, пожилой, степенный, которого бригадир Потапов втер в экспедицию (толку от него колхозу все равно было чуть), авторитетно подтвердил:
– Нет, приезжала, приезжала. Он с ней из города приехал. Машину там около реки оставили – она сама ее вела – и сразу оба к яме. Он: “Стойте, я вам покажу – вот, вот и вот!” – взял ее зонтик да ка-а-ак начал шуровать, она сразу и нос в платок: “Не надо, не надо, я и так вас поняла”.
Все засмеялись. “А ведь не любят они Корнилова”, – подумал Зыбин и сам не различил, приятно это ему или нет, во всяком случае в эту минуту он понял, что Корнилова можно и не любить.
– Ну а потом что? – спросил он.
– А потом они ко мне пришли: “Митрич, принимай гостей”. Жена им яиченку с луком сварганила, а меня за коньяком послали. Я обратно шел, три яблока ей самых-самых, ну что ни на есть самых крупных сорвал, она даже перепугалась: “Ой, ой, какие, разве такие бывают?”
Зыбин взглянул на рабочих. Они слушали и ухмылялись.
– Да кто же она такая? – спросил Зыбин ошарашенно. – Откуда?
– Вот откуда она! – с удовольствием сказал Митрич. – Откуда – не знаю! Я ведь не прислушивался. Только я вот что понял. Она вроде где-то с вами встречалась. Или вы отдыхали вместе, или куда ездили.
– Я? Нет! – сказал Зыбин. – Этого не может быть.
– Нет, точно, точно, она вас знает, очень она интересовалась! Говорит: “Он меня теперь не узнает”. А он говорит: “Узнает”. Потом он сбегал, какие-то ей два черепа принес, козьи, что ли. Скатерть чистая, так он их прямо на нее! Жена ее потом в золе стирала. Потом они на речку вместе пошли… – Он помолчал и добавил: – Руки мыть!
Все дружно заржали.
– Ну ладно, Митрич, пошли, ты мне поможешь! Пока они там будут…
– А красивая, – сказал Митрич, идя за ним. – Полная! Волос желтый, лет двадцать пять, не больше! Прическа! Цепка! Часики!
Тучи разошлись, проглянуло солнце, и сразу стало очень жарко. Вообще лето было сухим. Дожди прошли только недавно – редкие, косые, мелкие дожди. Такие, если они пролетят где-нибудь около Москвы или Рязани, называются грибными. Но тут истомленная жаром земля принимала их жадно, раскрыто, всеми холмами и ложбинами предгорий, всеми гектарами бурых кашек и белых колокольчиков, пожухлыми листьями кустарников. Белые парашютики плавали в воздухе – отцвели одуванчики. Нежизненные нежные голубые цикории на высоких, узловатых, крепких и прямых, как веревки, стеблях выгорали и становились розовато-фарфоровыми, белыми, серыми, бесцветными. Зной дрожал, как жар над самоваром. Но вовсю заливались кузнечики. В непогодь они притихали, а в солнце выбирали самые что ни на есть сухие, сожженные откосы, и все сотрясалось тогда от их стрекота, он был так убийственно ровен, что Зыбину казалось – не просто тишина, а мертвое безмолвие окружало его все эти месяцы. Но сейчас все вокруг было опять полно осколков – мелких, остро ранящих. Трава пела, стонала, стрекотала. Зыбин различал даже отдельные голоса. Кто-то отчетливо и жалобно просил: приди, приди, приди… А там, выслушав его до конца, отвечали отчетливо и сердито: нет, нет, нет! Проходя мимо зонтика, Зыбин увидел ее – зеленую, большеглазую, словно выкроенную из зелено-белого серебристого листа кукурузы кобылку. “Она? – подумал он. – Но ведь саранча не стрекочет, кажется…”
Директор с профессором Дубровским стояли посреди поляны. И Клара тоже стояла с ними.
– “Орошай вином желудок. Совершили круг созвездья. Тихо нежная цикада, притаясь, от жара стонет”, – сказал Зыбин, подходя, и стиснул Кларе руку. – Стихотворение Алкея, перевод Вересаева, собрание сочинений, том девятый. Здравствуйте, товарищи!
– Нет, с вином мы, похоже, подождем, – жизнерадостно ответил директор, – мы пока с тобой и на квас не заработали. Значит, и орошать желудок нам вроде бы не с чего. Ну, здравствуй, здравствуй, хранитель! Вот за костями к тебе приехали.
Он говорил и смотрел ему в лицо добрыми, смешливыми глазами.
– Но мы-то с вами, пожалуй, заработали, – сказала тихо Клара директору.
– Но мы-то с вами, – махнул рукой директор, – мы-то с вами, известно, – золото! Мы люди деловые, точные, с нами шутки плохи. Так. – Он обернулся к профессору. – Вот представляю – Георгий Николаевич Зыбин. Читали, наверно, его статью в “Казахстанской правде” про библиотеку. Такой скандал там наделал! А по-нашему – хранитель древности. Руководитель всех работ. А это, хранитель, Николай Федорович Дубровский, наш покупатель из Ветзоо. Ну что – уступим ему твои мослы или нет?
“Володя гений”, – подумал Зыбин, но сказал:
– Да что уступать-то? Ведь их карболкой залили. К ним и не подойдешь.
– А неважно! А совсем неважно, – энергично запел седой профессор, похожий на пастора. – Мы, дорогой коллега, их и отмочим, и отмоем. И знаете какие у нас получатся препараты! Ваша неудача для нас превеликое счастье. Такого количества костного материала чистопородных линий скота для Средней Азии начала эры нет нигде! А для Артура Германовича, – он кивнул головой в сторону ямы, – это же самый настоящий клад! Он же лошадник! Сейчас как раз пишет кандидатскую об истории киргизца и его отношении к лошади Пржевальского. Вот смотрите. – Он махнул рукой через поляну. – Видите?
Зыбин посмотрел и улыбнулся. Немчик – так он сразу окрестил его – засучил брюки и полез в яму. За ним прыгнул и Корнилов.
– И наш дурак тоже туда, – осердился директор и закричал: – Владимир Михайлович, будешь копаться в этой гадости, сейчас пошлю к титану руки отпаривать! На них, может, верно сто пудов допотопного сифилиса!
Профессор засмеялся и положил руку на плечо директора.
– Да нет, не может быть! – сказал он задумчиво. – Никак не может быть, дорогой Степан Митрофанович. Вы сами говорите, полторы тысячи лет. Какой уж тут!.. – Он вдруг элегантно, чисто по-профессорски подхватил директора под руку. – Пойдемте-ка лучше посмотрим их…
…Кости лежали сплошным навалом. Сверху они были черные от карболки, но когда их ворошили, они становились белыми, желтыми, кремовыми. Видимо, сперва их долго – столетия, может быть, – обдувало ветром, мыло дождем, засыпало снегом – и вот они сделались сухими, легкими и звонкими. А в общем, в яме под тросточкой вскипало что-то похожее на груду разноцветных кружев – румяный ассистент сидел над ямой и вертел в руках лошадиный череп.
– “Терем-теремок”! – тихонько позвал его Корнилов.
– Обратите внимание, – вдруг поднял голову ассистент, – и затылок цел. И вот, смотрите-ка… – И он сунул в руки профессора лошадиный череп.
Тот взял его, повертел так и сяк и осторожно положил на землю.
– Да, – сказал он, отряхивая щелчком кончики пальцев, – все это очень, очень! Знакомьтесь, пожалуйста. Это хозяин, Георгий Николаевич Зыбин. А это… – И он назвал имя и отчество ассистента.
Артур Германович улыбнулся и встал.
– Здравствуйте, – сказал он. – Извините, руки не подаю. Грязные. У меня для вас письмо от Полины Юрьевны. Только оно там, в машине, в портфеле. Я сейчас, если позволите…
Он с сожалением поглядел на лошадиный череп, встал и пошел. И Зыбин тоже пошел за ним. Он был так ошеломлен, что даже ничего не спросил.
“Боже мой, боже мой, – восклицало в нем что-то. – Боже ты мой, боже”.
Письмо было в конверте узком и тонком, и Зыбин мгновенно вспомнил руку Лины в перчатке.
Дорогой Георгий Николаевич, две недели я уже здесь. Ищу, ищу вас и все не могу найти. Еще в Москве узнала, что вы работаете в музее, но когда зашла туда, ваша очаровательная сотрудница ничего, кроме того, что вы где-то в экспедиции, объяснить мне не смогла. Но есть Бог! Я встретилась с Владимиром Михайловичем. Он мне все и рассказал. Найдите же меня, пожалуйста. Вам это будет, наверное, куда легче, чем мне. У меня в номере есть телефон. Узнаете по справочной. Гостиница «Алма-Ата», № 42. Недели две я еще буду сидеть в нем. Мечтаю выбраться к вам в горы. Я была, правда, там раз с Владимиром Михайловичем, но без вас. Впрочем, может быть, это и хорошо, что без вас. Теперь я имею совершенно точное представление о том, где и как вы живете, а то вы бы совсем меня заговорили. Но знаете, что меня поразило насмерть? Горы! Как и море в том 35-м. Впрочем, вы, может быть, все уже и забыли. А я помню.
Жду ответа, как соловей лета.
Ваша Лина.
P.S. А, верно, помните море? То есть – море, Анапинский музей, краб под кроватью и все остальное. Вот были-то времена, Георгий Николаевич! Подумать страшно! Так звоните же, пожалуйста. Еще раз ваша Лина.
Он сунул письмо в карман.
– Полина Юрьевна вас очень хотела видеть, – почтительно сказал Артур Германович. – Она даже собиралась поехать с нами, мы ее даже специально еще полчаса прождали, но, видимо, что-то там не вышло.
– Вот как? – сказал Зыбин, плохо понимая, что он говорит. – Значит, что… это… – Он не знал, что сказать и о чем спросить.
– Тут вот как все получилось, – солидно объяснил ассистент. – Владимир Михайлович привез в институт эти кости с просьбой определить и дать заключение.
Мы его, конечно, отослали на кафедру зоологии. Тут он встретился с Полиной Юрьевной. Она тогда только что приехала и знакомилась с нашим учебным музеем. Ну, увидела этот костный материал, поговорила с Владимиром Михайловичем и попросила все показать на месте. Приехала, посмотрела, кое-что захватила с собой в лабораторию. Потом подала докладную в ректорат и копию в Институт истории Казахстана: “Обнаружен большой костный материал домашнего скота до всякой метизации. Считаю нужным приобрести всю коллекцию”. Ее поддержал профессор Дубровский. Деньги на это отпустили. Вот мы и приехали посмотреть, что покупаем.
– Так, – сказал Зыбин, уже отдышавшись. – Так! Теперь я все понял. – И вдруг он страшно заторопился и заюлил. – Так я сейчас пойду позвоню Полине Юрьевне, а то контора закроется и… А вы, пожалуйста, идите туда. Я сейчас тоже прибегу. Вот позвоню и прибегу. Это одна минута!
В конторе горела только одна настольная лампа, и счетовод сидел и уныло играл на счетах. Зыбин вошел и, не спрашивая разрешения, снял трубку. В трубке что-то шумело и разрывалось. Порой даже как будто доносились какие-то обрывки слов. Зыбин несколько раз опускал и поднимал трубку, но ничего, кроме гроз и разрядов, в ней не было. А потом и это замолкло, и все заполнил ровный и какой-то пористый шум. “Как в раковине, – подумал он смутно, – как в большой морской раковине”. И сейчас же ему представилось, что вот он опять идет ночью по узенькой тропинке высоким берегом и ничего вокруг нет, одна тьма, и только впереди белым круглым огнем горит какой-то фонарик, а внизу кипит, ухает и закипает море. Однажды вот так он шел и нес в тюбетейке краба. И краб был огромный, черно-зеленый, сердитый и колючий, как кактус. “Да, тот краб был человек”, – подумал он. Но трубка продолжала шуметь, и он бросил ее на рычаг. Счетовод щелкнул последний раз какой-то костяшкой, вздохнул и бросил счеты на стол.
– У нас телефон тугой, – сказал он с удовольствием. – Третий год вот так мучаемся. Иногда нужно срочно связаться – и никак, никак!
Зыбин посмотрел на него и вдруг, разъярясь, изо всей силы ухнул кулаком по рычагу. В трубке что-то с шумом взорвалось, лопнул какой-то пузырь, и опять зашумело. Море снова было тут.
“И какого черта мне загорелось, – подумал он, трезвея. – Нашел время”. И уже почти бессознательно поднял трубку, и тут отчетливый женский голос сказал ему: “Вторая”.
– Вторая, будьте добры, – крикнул он, вскакивая, – дайте Ветинститут!.. Какой номер-то? Да все равно какой! Справочную, справочную дайте!
В трубке помолчали, а потом тот же голос сказал: “Справочная не обозначена. Даю отдел кадров”.
Трубку не поднимали довольно долго. Потом женский голос спросил, кого ему нужно. Он спросил, как ему разыскать Полину Юрьевну Потоцкую. “Одну минуточку”, – сказал голос. И он вдруг услышал дробный стук спешащих каблучков: тук-тук-тук. “Ее в институте звали козой”, – вспомнил он. Звякнула трубка, и ему радостно сказали: “Да”. Он перевел дыхание. Она!
Это ее “да”. Вот оно! Встретились! И еще одно “да” получил он от нее. Такое же радостное и искреннее, как и всегда. И столь же, как и всегда, ничего не значащее и ровно ничего не стоящее.
– Здравствуйте, Лина, – сказал он. – Это я, Георгий. Вы давно приехали?
Как только он назвал себя, она с какой-то даже обидой вскрикнула: “Ну наконец-то!..” И… Впрочем, после конца разговора он так и не мог вспомнить его начало. Помнил только, что все сразу пошло так, как будто тут не пролегали годы, встречи, разрывы, разлуки. Полностью память к нему возвратилась только начиная с ее вопросов.
– Ну когда же вы все-таки приедете? Я очень хочу вас видеть!
– Да, господи, да когда угодно, – ответил он. – Ну хоть сейчас! – И верно, он готов был, как мальчишка, сейчас же сбежать на шоссе и вскочить в любую машину.
Она засмеялась.
– А я ведь боялась, что вы изменились. Да нет, сегодня нельзя. У вас же там наши? Вы сейчас один?
– Один, – ответил он. – А что?
– Ну а с костями что? Порядок? Все благополучно?
– Очень, – ответил он, хотя ровно ничего не сообразил – какие кости? какой порядок? – Очень, очень все благополучно, – сказал он.
– И Володя не подкачал? Ну, передайте ему мой привет. Так нам и не удалось сделать вам сюрприз. Слушайте, хранитель… Вас ведь тут хранителем прозвали. Я так смеялась… После двух я всегда свободна. Так, скажем, завтра, а?
– Отлично, – ответил он решительно. – Где?
И тут она заговорила как-то по-иному, по-старому, вот как тогда на море. Его даже в жар бросило от ее голоса.
– Да где хотите, дорогой, где вы хотите. Может, в музей к вам зайти?
– Да, – сказал он с разбегу. – Зайдите в музей. – Потом опомнился. – Постойте, – сказал он, – не надо в музей. Вот вы знаете главный вход в парк, где фонтан? Так вот, у фонтана. Хорошо? – И сейчас же подумал, что нет, нехорошо, слишком уж там людно.
Но она уже ответила:
– Всегда обожала сцену у фонтана. “Пред гордою полячкой унижаться?” Блеск, как говорит Володя. Только вы уж очень не опаздывайте, а то знаете, стоять на виду у всех… – Тут ей что-то крикнули со стороны. – Видите, тут мне подсказали – молодой, красивой, одинокой. Хорошо, договорились, у фонтана. А теперь попросите к телефону моего профессора. Только скорее – нужен телефон. Здесь все интересуются его покупкой.
Чтоб как следует спрыснуть покупку, они облюбовали отличное место. Поставили стол над самым откосом. Тут к шоссе сбегал влажный песчаный косогор – не желтый, а ржаво-оранжевый, и весь до самой вершины он зарос дудками, колючим барбарисом с круглыми багровыми листьями и эдакими небольшими ладными лопушками, ровными и аккуратными, как китайские зонтики. А за шоссе начинались болота осоки, чистая и частая россыпь незабудок, бурная речка Алма-Атинка, а в ней среди пены и брызг, грохота и блеска лоснился на солнце похожий на купающегося бегемота огромный черный валун. В общем, отличное место!
Тень и солнце, прохлада и свежесть.
И подходя, еще издали Зыбин услышал голос директора. Директор громыхал. Значит, кого-то громил. “Кого же это он?” – подумал Зыбин.
Он подошел, и за яблонями его никто не заметил. Все сидели и слушали. Только дед спал, независимо откинувшись головой на ствол яблони, и чуть всхрапывал. Перед Кларой на скатерти лежало несколько папиросных коробок. “Да ведь она же не курит”, – смутно подумал Зыбин. Клара молчала и играла вилкой. Рядом с Кларой сидела Даша, племянница бригадира Потапова, веснушчатая, нежно-розовая девушка. Она в этом году перешла на четвертый курс театральной студии, и Потапов никак не мог простить ей этого. Все, не отрываясь, смотрели на директора.
А он кончил одну тираду, выдержал этакую эффектную паузу, крякнул, подцепил на вилку колечко лука, истово прожевал его и продолжал уже иным голосом, легким и артистичным:
– И вот еще что, профессор, не думайте, что это пустяк. Сказать на лекции студентам “товарищ Сталин ошибся” – это-таки настоящее государственное преступление.
“Ах вот почему они и молчат”, – подумал Зыбин и тревожно взглянул на Корнилова – сильно ли он набрался? Нет, как будто не особенно, во всяком случае сидит, как и все.
– Но ведь не так же, не так же это было, – чуть не заплакал профессор. – Мой брат на вопрос студентов, можно ли считать, что падение Римской империи – это следствие революции рабов, ответил…
– Это не важно. Это совершенно не важно, – властно отрубил и отбросил ладонью его возражения директор. – Важно, что он сказал “нет”! Он сказал “нет”, когда вождь сказал “да”. А как же иначе? Что значат слова: “Не знаю, что имел в виду Иосиф Виссарионович, но факт тот, что после спартаковского восстания Рим просуществовал еще пятьсот пятьдесят лет и сделался мировой империей”? А ведь товарищ Сталин написал совершенно ясно и просто: варвары и рабы с грохотом повалили Римскую империю. Значит, вот это и есть научная истина. Так или не так?
– Это так, конечно, – уныло согласился профессор. – Но…
– Это так, конечно, но арестован ваш брат, – вдохновенно подхватил директор. – Понимаю, ах как все понимаю. Но ведь это же старая песня. “Молчи, все знаю я сама, но эта крыса мне кума”. А вот у этой девушки, – он грозно, античным жестом, через весь стол показал на Дашу, – забран ее дядя. Так что же, его брат-колхозник, ее отец, разве говорит “не верю, не может быть, не правы органы”? Нет, он говорит: “Раз взяли Петьку, значит, было за что взять”. Вот так думает простой мужик-колхозник про свою родную советскую власть. А мы, интеллигенция, хитрая да лукавая… не обижайтесь, я сам из того же теста, поэтому так и говорю…
– Так ведь, Степан Митрофанович, дядю Петю взяли за клеща, за вредительство, а их брата… – несмело сказала Даша и вся вспыхнула.
– Ай-ай-ай! – закачал головой директор, сипя и поворачиваясь к ней всем корпусом. – Ах ты, такая-сякая, умница-разумница, ты что ж думаешь, что агитация с профессорской кафедры – это не вредительство? Это, милая моя, хуже, чем вредительство. Это идеологическая диверсия против ваших щенячьих душ, и мы за такие вот штучки голову будем отрывать. – Он сурово стиснул кулак. – Потому что дороже вас, веснушчатых да сопливых, у нас ничего на свете нет.
– Но, Степан Митрофанович, – профессор даже руки прижал к груди, – ведь то, что сказал брат, это же частное разъяснение специалиста-историка, которое к учению Сталина…
– А товарищ Сталин – корифей всех наук, – быстро и сурово отрезал Корнилов и взглянул на Зыбина (он один его увидел). – Ему историкам нечего там разъяснять.
– Ну да, ну да, – беспомощно оглянулся на него и залопотал профессор, уже ровно ничего не понимая. – Корифей! Я согласен! Корифей всех наук! Нечего там разъяснять! Я согласен, нечего… Но не может же всякая мелочь…
– А в учении товарища Сталина нет ничего мелкого, – так же сурово изрек Корнилов и слегка покосился на Дашу. – А дай нам волю – хитрым да лукавым интеллигентам – так мы, пожалуй…
Тут профессор уже так смешался, что даже очки уронил на стол.
– А вот ты помолчал бы, – вдруг сурово приказал директор. – Вот помолчал бы ты немного. Смотри, брат, больно языкастый стал! Договоритесь вы со своим хранителем до чего-нибудь хорошего… (“Ну вот, этого еще мне не хватало”, – ошалело подумал Зыбин.) А вот вы ведь меня опять не понимаете, – повернулся он к профессору. – Тут что важно? Важно именно то, чем он меня сейчас пытался уколоть. Нет, не уколешь, дорогой. Да! Учение вождя цельно и нерасторжимо! Да! В нем нет мелочей, сколько бы ты ни смеялся над этим! Его не об-суж-да-ют! Его у-чат! Понимаете, у-чат! Вот как в школе букварь.
“Боже мой, боже мой, что же он говорит, – подумал Зыбин, – ведь умный же мужик, а…” Он вышел из-за яблони, но заметила его только Клара.
– Мы накануне войны, – продолжал директор, помолчав, каким-то совершенно иным тоном, тихим и задумчивым, – самой страшной, беспощадной войны. Враг только и ищет, чтоб нащупать щелку в нашем сознании. Вот в их сознании, – он ткнул на Клару и Дашу, – потому что мы их – девчонок и мальчишек, детей наших – первыми пошлем умирать за наш строй. Так что ж, мы будем разрешать, чтобы какой-то дядя отравлял их только завязавшееся сознание вот такими вот штучками? Ведь если у вождя ошибка здесь, то могут быть ошибки и дальше? Значит, он говорит не подумав, ведь так? Ну, или говорит не зная? Это тоже не лучше. Но ведь как же можно считать вождем человека, который… Нет, нет, это совершенно немыслимо! Это вы, я, он, она могут ошибаться, а вождь – нет! Он не может. Он – вождь! Он должен вести, и он ведет нас. “От победы к победе”, как это написано на стене вашего института. Он мудрый, великий, гениальный, всезнающий, и если мы все будем думать про него так, то мы победим. Ваш брат арестован потому, что он поставил все эти истины под сомнение, хотя бы в одном отдельном пункте. А это преступление, за него судят. Вот и всё. А там уж дело органов. Может быть, верно, посчитаются с возрастом. И не говорите об этом больше никому. Прицепятся, верно, к слову да и… Ну да где же этот чертов хранитель? И никогда его нет на месте, когда нужно!
– Здесь я, – сказал Зыбин. Он пошел и сел на подвинутую ему табуретку.
И все сразу же замолчали, глядя на него.
Молчал и он, облокотясь на локоть и смотря в скатерть.
– И какую же статью предъявили вашему брату? – спросил он профессора.
Тот было открыл рот.
– Да откуда он знает? – сурово и обеспокоенно прикрикнул директор. – Идет следствие. Ладно, про это кончено! Кларочка, покажите-ка хранителю, что нам дед раздобыл, да и поедем. А выпьют они уже, похоже, одни. Это у них никогда не заржавеет!
И Клара открыла первую из лежавших перед ней папиросных коробок.
Это было золото, частички чего-то, какие-то чешуйки, какие-то краешки, пластинки, бледно-желтые, тусклые, мутные. Это было поистине мертвое золото, то самое, что высыпается из глазниц, когда отрывают вросший в землю бурый череп, что мерцает между ребер, осаживается в могиле. Словом, это было то археологическое золото, которое ни с чем никогда не смешаешь. Зыбин, забыв обо всем, молча крутил эти пластинки и бляшки. Самые крупные из них больше всего походили на желтый березовый лист. Такой же цвет, такой же широкий, тонкий, острый конус.
Он осторожно, штука за штукой, брал их в руки и опускал обратно на вату в коробочку. Да, да, это было то самое, что уже несколько раз попадало ему в руки. То шофер привез откуда-то, то буфетчица пожертвовала. Но сейчас тут, на вате, они лежали навалом.
– А вот тут серьга, – сказала Клара, открывая спичечную коробку, – смотрите, какой странный сюжет: мышь вгрызается в брюхо сидящего человека.
– Дай ему лупу, дай! – возбужденно приказал директор.
– Кусок диадемы, – продолжала Клара, открывая длинную коробку из-под сигар. – Всех кусков три. Мы захватили только один.
У Зыбина даже руки дрогнули. До того это было необычайно. Кусок состоял из ажурной золотой пластины, разделенной на два пояса. В верхнем поясе был изображен рогатый дракон с гибкой кошачьей статью и на пружинящих лапах. Он стоял извиваясь и оскалясь. Четко был вычеканен каждый клык зверя. А ниже этажом помещался козлик. Маленький шустрый козлик – теклик, как его называют тут. Он стоял на каком-то бугорке или вершинке и смотрел оттуда вдаль. Так у него были подобраны копытца, такая у него была высматривающая мордочка. Потом еще летели лебеди, поднимались фазаны и утки, порхали мелкие птахи. Отдельно, как будто на капители колонны, стоял ладный крылатый конек – только совсем не Пегас, а суховатая небольшая лошадь Пржевальского. И другой такой же конек несся по небу. На нем сидела молодая женщина. Ветер взметнул ее волосы, и они сделались похожими на шлем. И в самом изгибе всадницы чувствовалась стремительность полета, то, как она врезается в гудящий воздух. Второй пояс занимало что-то длинное, тонкое, льющееся, слегка спутанное – не то водоросли, не то трава, полегшая по ветру.
И во всем этом проступала манера мастера, гениальные пальцы его, привыкшие мять, резать и чеканить. Ничего подобного Зыбин еще не встречал.
– Аналоги? – спросил Корнилов. – Китай?
Зыбин слегка пожал плечами.
– Ну а все-таки?
– Не знаю, – ответил Зыбин, – то есть, конечно, не Китай. Китайские драконы – гады, змеи, а тут рогатая кошка, балхашский тигр.
– А вы обратили внимание на дырочки внизу? – показала Клара. – Диадема кончалась покрывалом. Она ходила с закрытым лицом.
Зыбин как бы в задумчивости посмотрел на нее.
– Златая корона с драконами и свадебная фата, – сказал он, представляя, как это выглядело бы. – Невеста. Принцесса крови и жрица.
– Шаманка, – сказал Корнилов. – Что-то похожее есть у сибирских шаманов.
– Да, может быть, и колдунья, – согласился Зыбин. – Мы это увидим по похоронному инвентарю. И конечно, по черепу. Но если она уж очень молодая, – продолжал он, подумав, – то вряд ли колдунья. Хотя… – Он слегка развел руками. – Что мы знаем о них? О ней? Что она? Почти наша фантазия.
– Нет, оставьте, оставьте шанс и для колдуньи, – попросил Корнилов. – Ведь какое это чудо: молодая ведьмочка бронзового века с распущенными волосами мчится по вечернему небу на драконе. Ж-ж-ж! А от нее во все стороны галки и вороны. “Кра-кра-кра!” А за ней дым, дым бьет в глаза! И над горами – огненный след. А на ней фата и золотая корона. – Он взглянул на директора. – Ведь чудо?
– Я вот тебе! – погрозил ему пальцем и улыбнулся директор. – Ты у меня смотри, договоришься!
– Ну а место вы взяли под охрану? – спросил Зыбин. – Вы сами-то там были? Что это – курган, могила?
– Ладно, – тяжело поднялся директор. – Приедешь завтра и сам все увидишь. Придут и эти голубчики-кладоискатели! Паспорта-то их у меня в столе. Возьмешь с собой пару или тройку рабочих с лопатами! И чтоб завтра ни-ни. Пейте сегодня! Пойдемте, профессор.
– Боже мой, боже мой! – Зыбин чуть не выронил кусок диадемы. – Профессор, да ведь вас там, у телефона ждет Полина Юрьевна. Боже мой, боже мой, как же я забыл! Пойдемте скорее, скорее!
Но профессор уже хмуро вставал с места и прятал очки.
Руки его мелко дрожали. Он опять был весь в своем – строгий, обиженный, может быть, конечно, и чуть пьяноватый: ни археологическое золото, ни рогатый дракон, ни эта ведьма его совершенно не тронули – все это было не по его ведомству.
– Вот Артур Германович уж с вами побежит скорее, скорее, – сказал он вежливо и ехидно. – А мне в мои шестьдесят пять это самое – скорее-скорее… Да и что уж бежать? – Он посмотрел на Зыбина и покачал головой. – Но как же вы так могли, а? – сказал он тяжело. – Это же дело, голубчик, дело! Мы должны были на завтра сговориться о встрече. Где теперь вот я буду искать Полину Юрьевну? Ах, как все это у вас… И потому что все скорее, скорее, скорее…
В конторе никого не было. Трубка по-прежнему лежала на столе. Но была теперь уже совершенно мертва, холодна, без голосов, без шума прибоя. И никто в ней больше не жил и не ждал.
А когда Зыбин вернулся, уже не было и машин. На гребне дороги стоял Корнилов, пошатывался и, улыбаясь, смотрел на него. В руке он держал стакан. Море сейчас ему было абсолютно по колено.
– Хм, – сказал он Зыбину. – Значит, революция рабов, да? И еще ждать мне пятьсот пятьдесят лет, а? А? А не пошли бы вы все в это самое? А? А? А?
Эти дни потом Корнилову приходилось вспоминать очень часто. Все самое непоправимое, страшное в его жизни началось именно с этого дня. А в памяти от него осталось что-то очень немногое: во-первых, яркий белый огонь керосиновой лампы под матовым шаром, ее все прикручивают и прикручивают (что-то, наверно, случилось с ГЭС). Под ним сверкает широкими гранями высокий белый самовар, а на нем чайник, белый и круглый, как свернувшийся котенок. Затем розовая Даша – тонкая, красивая, мягкая, в белом шелковом платье с красными мячиками. Она напевает и ходит по комнате. Тогда он что-то вспоминает и кричит ей: “Артистка, артистка!” Она улыбается, и все смеются тоже.
– Ну, ожил, – ворчливо говорит Потапов.
А потом сразу опять темнота, тишина, умиротворение. Пахнет каким-то соленьем, квасом и плесенью. Не то рядом стоит бочка с огурцами, не то капусту квасят. За перегородкой рукомойник: кап, кап, кап… За минуту одна капля. А когда он утром очнулся окончательно, то увидал над собой тусклое серое окно, и кто-то рядом с ним расположился на двух скамейках. Он поднял голову. И тот тоже зашевелился. Значит, пожалуй, не спал, а следил.
– Ну как вы себя чувствуете? – спросил тот, второй, и тут он узнал Зыбина. Узнал и испугался уже по-настоящему. До этого у него в голове ничего не было, так, плыла какая-то муть, клочки какие-то, что-то туманное и нехорошее. А тут ему вдруг вспомнились все вчерашние разговоры. То есть не все, конечно, но и то, что он помнил из них, тоже было достаточно для всяческих выводов – а дальше что?
“Боже мой, – подумал он, – боже мой, вот попал-то. Я ведь кричал. Они меня вели, а я что-то такое выкрикивал. Два свидетеля. Да по закону больше их и не требуется”.
– Воды дайте, – попросил он хрипло. – Что, я вчера здорово набрался?
– Да нет, чепуха, – беззаботно отмахнулся Зыбин, – мы вас сразу же сюда притащили.
– А кричал? – спросил Корнилов, замирая.
– Да кричали что-то. Пить хотите? Стойте, сейчас. – Зыбин вышел и сейчас же вернулся с огромной эмалированной кружкой.
– Вот пейте, – сказал он, наклонясь над ним. – Сколько только можете, столько и пейте.
– Ой, что это? – Корнилов сделал глоток и оттолкнул кружку.
– Огуречный рассол. Да вы не спрашивайте, а пейте, пейте.
Он заставил его выпить чуть не половину, а потом сказал:
– Ну вот и хорошо. А теперь усните.
Корнилов ушел и кружку унес.
Потом, через полчаса, когда он уже, верно, спал и проснулся от скрипа двери, вошел Потапов в галошах на босу ногу, в незаправленной рубахе и встал над ним. Но он лежал, вытянувшись, с закрытыми глазами, еще сонно посапывал, и тот немного постоял, постоял и ушел. А затем был какой-то мутный бред. Он не то спал, не то просто валялся в забытьи и в жару. А когда уж окончательно проснулся, было полное утро: светло, солнечно, птицы поют вовсю. В соседней комнате разговаривали и смеялись. Потапов что-то резко, но тихо выговаривал Зыбину. Тот отвечал так же тихо, но каким-то странным, не то уговаривающим, не то извиняющимся голосом. Он понял, что это говорят о нем, встал, подошел к двери, накинул крючок и прижал ухо к щели. Последние слова Потапова, которые он ухватил, были: “Вот этого я уж никак не терплю”. Затем заговорил Зыбин. Говорил он медленно, задумчиво, как будто размышляя.
– Так ведь действительно ничего не разберешь.
– У нас вчера одного бригадира забрали, – сказал Потапов.
– Ну вот видишь, забрали бригадира. А за что? Наверное, никто не знает. (Потапов что-то буркнул.) Ну вот видишь. А Владимира выслали из Ленинграда, тоже, конечно, ни за что. Отец у него какая-то там шишка был при царе. А ведь дети за отцов не ответчики – это вождь сказал. Вот Корнилов все время настороже, нервы у него напряжены. Иногда, конечно, и сорвется. Затем еще одно: роем, роем, а ведь, кроме этой помойки, так ничего и не раскопали. Затем эта идиотская история с удавом. Она знаешь сколько крови нам стоила. А ведь все молча переживали.
– Да он-то не молчал, – презрительно усмехнулся бригадир, – он все ходил за мной да агитировал. “В чем дело, Иван Семенович, может, мы вам чем можем помочь?” Так он мне надоел со своим сочувствием. Я однажды ему отрезал: “Отвяжись, говорю, худая жизнь, и без тебя тошно”. (“Ничего подобного, ничего подобного никогда не было!” – быстро подумал Корнилов.)
И вдруг тут в разговор вмешался женский голос:
– Вот вы всегда так, никому не верите. Человек в самом деле вам сочувствовал, хотел помочь, а вы…
Что-то скрипнуло – пол или табуретка.
– У меня этих самых помощничков знаешь сколько развелось? – сказал Потапов с веселым ожесточением. – Вот и ты мне помогаешь. Денно и нощно помогаешь. Как зальешься на сеновал с книжечкой…
– Ну, нашел что сказать, – засмеялся Зыбин. – Она на сеновале как раз и работает. Вот станет великой актрисой, тогда узнаешь.
– Хм! – недобро засмеялся и заворочался Потапов. – Я и так уж все про нее знаю – что было, что есть, что будет. А тот что, все спит? Буди, буди, второй раз кипятить не будем. Ты что? Его с собой захватишь?
– Ну куда же, – отмахнулся Зыбин. – Ведь опять его растрясет дорогой, пусть уж спит.
“Э, какой ты хитренький, раньше меня хочешь с Полиной увидеться. Нет, не проходит”, – подумал Корнилов. Он кашлянул, чертыхнулся, откинул крючок и предстал перед ними. Мятый, всклокоченный, с больной головой, но, кажется, абсолютно трезвый. Предстал и увидел: стол накрыт, самовар блестит. Зыбин, как обычно, вышагивает по комнате. Потапов сидит у окна на табуретке, а Даша у стола перетирает чашки.
– Здравствуйте, товарищи, – сказал громко Корнилов. – Ух и зверский же рассол у тебя, Иван Семенович, как хватил, сразу полегчало. Лег и заснул.
– Рассол у нас мировой, – благодушно согласился Потапов. – Хозяйка его специально держит для таких случаев. Дарья, да брось ты это дело, налей ему чай, да покрепче, покрепче. Одну черноту лей. Это ему сейчас первое дело.
Даша налила ему полный до краев стакан чая – горького и черно-красного, как марганец. Он опорожнил его с двух глотков и подал Даше пустой стакан; она вновь налила доверху. Он поглядел на нее и вдруг опять увидел, что она очень красивая и ладная – этакая тоненькая, длинноногая штучка в легком платьице – и так ласково на него смотрит, так хорошо, ясно улыбается, от нее так и веет свежестью и чистотой. И ведь сразу заступилась за него, и эдак горячо, искренне. От этих мыслей ему стало так тепло, что он вдруг просто так, ни на что не надеясь, спросил: “Ну а если мне полтораста?” – и сам же первый засмеялся, показывая, что это только шутка. И произошло невероятное: Даша молча встала, подошла к буфету, вынула оттуда графин и налила ему полный тонкостенный стакан.
– Пожалуйста, – сказала она ему.
– Дарья, да ты что это? – ошалело выпучил на нее глаза Потапов.
Она, улыбаясь, посмотрела на него.
– Да вы сами, дядя Ваня, когда голова болит…
– Да ты… да ты… в самом деле, что? – зарычал, вскочил, забрызгал слюной и оскалился на нее Потапов.
Но тут вмешался Зыбин.
– Всё, всё! – сказал он. – Всё! Сядь! Молодец, хозяйка! Пейте, Володя!
Потапов взглянул на Зыбина и смолк. С некоторых пор он вообще ему ни в чем не противоречил.
– И правда, – сказал он, хмуро отворачиваясь. – Пей да потом опять ори, вылупя глаза. Может, и наорешь что хорошего.
Корнилов посмотрел на него, на нее, сразу потупившуюся, заалевшую, слабо улыбающуюся, вдруг осушил стакан одним глотком и стукнул его на стол.
– Во как! – сказал Потапов насмешливо. – Уж совсем впился.
И тут Даша закраснелась еще больше, поднесла ему бутерброд с килькой и сказала:
– Закусывайте!
Все это, и Даша в особенности, то, как она смотрела на него, как покорно стояла перед ним и держала тарелку, как улыбалась, взорвало его опять. Он сел и сидел, смотря на них всех, затаившийся, радостно-злой, готовый взорваться по первому поводу. Но повода-то не было. Пошел какой-то мелкий, совершенно незначительный разговор про яблоки, музеи. (Потапова кто-то научил выращивать яблоки, на которых проступали совершенно ясные изображения Ленина или Сталина… Пять из этих яблок экспонировались в музее. Сейчас Потапов вырастил и хотел прислать еще три, с лозунгами и государственным гербом.) Корнилов слушал этот разговор и молча кипел, раскачиваясь на стуле. Наконец Потапов вздохнул и сказал, кивая на шкаф:
– Ну что ж, в таком случае и нам по одной разве.
– Нет, нет, – быстро ответил Зыбин и даже рукой махнул. – Мне сейчас ведь ехать надо. Ну а вы, конечно…
– Я с вами тоже поеду, – сказал Корнилов. Зыбин вскинул на него глаза и медленно, как бы обдумывая, ответил:
– А стоит ли? Не стоит, пожалуй. Я уж в случае чего сам позвоню.
– Почему это не стоит? – спросил Корнилов, готовый кинуться в сражение. – А если у меня есть дела личные, понимаете, личные, так сказать, долг чести? Я обещал Полине Юрьевне…
– Ну как знаете, как знаете, – быстро уступил Зыбин. – Только дайте задание рабочим и поставьте кого-нибудь, ну хоть Митрича. Иван Семенович, – обернулся он к Потапову, – ты их не поторопишь? Уже пора и выезжать.
– Даша, – сказал Потапов, – сходи, милая.
И та уж подошла к двери, сняла с гвоздя косынку, как Корнилов вскочил вдруг и сказал, протягивая руку к ней:
– Сидите, сидите, я сейчас сам схожу. Нет, нет, сидите.
И выбежал.
– Слаб, – сказал Потапов, смотря ему вслед. – Эх, слаб. Ну куда таким пить? – Он посмотрел на Дашу и опять нахмурился. – Слушай, а ты с чего взяла такую волю? Смотри какая героиня! Он и так ходит как занюханный, а ты ему еще подносишь.
Она загадочно улыбнулась, и тут он совсем взвился.
– И смеяться тут нечего, дрянь ты эдакая. Тут и полсмеха даже нет. Вот найдет на него опять лунатик, начнет буровить, я тогда тебе… – Он посмотрел на Зыбина и обеспокоился уже по-настоящему. – Слушай, и ты с ним будь покороче, с ним так можно вляпаться, что и не вылезешь.
– Да что вы такое говорите? – обиженно крикнула Даша.
– То самое, что слышите, – огрызнулся Потапов. – Вот еще нашел себе пьяница заступницу. Кто он такой тебе, что ты так за него свободно рот дерешь, а? Бессовестная! – Он был не только рассержен, но и ошарашен.
– Да он просто хороший человек, – сказала Даша, – хороший, честный, он всюду правду говорит. Другие хитрят, таятся, а он прямо, без никаких.
Потапов быстро взглянул на Зыбина. Тот молчал и неотрывно смотрел на Дашу. Выражение его лица Потапов понять не смог.
– Ну, ну, что ж ты вдруг замолчала? – спросил он. – В чем же это он прав, а?
– Да во всем, во всем. – По щекам Даши уже текли слезы, и она смахнула их рукой. – Он говорит, а все молчат. Говорят одно, а думают другое. Вчера был героем, наркомом, портреты его висели, кто о нем плохо сказал, того на десять лет. А сегодня напечатали в газете пять строк – и враг народа, фашист… И опять – кто хорошо о нем скажет, того на десять лет. Ну какой же это порядок, какая же тут правда? Вот дядя Петя…
Тут Потапов так ухнул кулаком по столу, что чашки зазвенели. Он даже покраснел от злости.
– Ты про дядю Петю, дрянь такая, чтоб не сметь… – сипло зашипел он, – чтоб мне не сметь этого больше слышать… Я тебе за дядю Петю… Я тебе не тетка… Я тебя в лучшем виде… Нет, ты слышишь, ты слышишь, что она буровит? – чуть не плача повернулся он к Зыбину. – Видишь, чему он ее учит? Да за такие слова тут нас всех сразу же… и следа не найдешь.
Тут встал со стула Зыбин.
– Не кричи, – сказал он досадливо, – оглохнуть можно. Даша, вы не правы. То есть вы, может быть, правы – вообще, по-человечески, но сейчас фактически, физически, исторически и всячески – нет. Я не про дядю Петю говорю, тут, конечно, очевидная ошибка. А вот про наркомов и военачальников. Ведь вы решаете вопрос сами по себе. Просто так – может или не может? Может ли, спрашиваете вы, большой человек, преданный делу, жертвовавший за него жизнью, а теперь победивший и осыпанный всем с головы до ног – ну деньгами, почестями, дачами, всякими такими возможностями, о которых мы и понятия не имеем, – может ли вот такой человек оказаться предателем? И отвечаете – нет, то есть никогда и ни при каких обстоятельствах. А ведь все именно и зависит от обстоятельств, от обстоятельств времени, места и образа действия. Не от вопроса – кто он? А от вопросов – когда? во имя чего? где? В сугубо мирное время, в обстановке душевного равновесия? Безусловно нет – не может он быть предателем. Во время величайших исторических сдвигов – войн, революций, переворотов, – к сожалению, да, может! Вся история наполовину и состоит из таких предательств. Ведь вот Мирабо и Дантон оказались все-таки предателями. А ведь революцию делали они! А историю Азефа вы никогда не читали? Ну, начальник боевой организации партии социалистов-революционеров, хранитель самого святого из святых, вернейший из всех верных, тот, у кого ключи от царства Господня, как говорят о папе римском. “Есть ли в революции какая-нибудь фигура более блестящая и крупная, чем Азеф?” – спросили члены суда его обвинителя на партийном суде над Азефом. И обвинитель ответил суду: “Нет, более блестящей фигуры в революции нету”. И добавил: “Если он только не провокатор”. Так вот, он все-таки оказался провокатором.
Даша молчала и слушала.
– Так что видите, насколько все это сложно.
– Для них ничего нет сложного, – буркнул Потапов, – для них все простее простого. И что ты с ней…
– Нет, говорите, говорите, – попросила Даша и даже руки сложила.
– Ведь вы вот что поймите, – продолжал Зыбин. – Дело прежде всего заключается вот в чем: что происходит с идеей, когда она становится действительностью? Очень много с ней неожиданного и неладного происходит тогда. Появляется она совсем не похожей на себя. Иногда такие гады вместо ангелов повыползут, что хочется махнуть рукой да и послать всех к шаху-монаху. Ничего, мол, не вышло, просто напороли чепухи, пора кончать. Ведь вот что порой приходит в голову самым сильным и верным. Они ведь тоже люди, Даша, вот в чем их беда! Кроме того, у идеи в действительности не одно или два лица, а добрый десяток их. Только проявляются они не сразу. Вначале прекрасное личико, а потом хари, хари, хари, и как их увидишь, иногда и жить не хочется. А кому жить не хочется, тому ровно ничего не жаль, он на все пойдет. Ставить смерть в условиях договора – умри, но не сдайся – нигде никому нельзя. Обязательно подведет, и сдастся, и тебя еще продаст.
– Говорите, говорите, – попросила снова Даша, но он больше ничего не сказал, потому что услышал скрип двери. Оглянулся и увидел Корнилова.
– Кончайте-ка трепаться, – сказал тот грубо, – поезжайте скорее в город, там беда. Паспорта пропали.
– Какие паспорта? – удивился Зыбин.
– Те, что оставались у директора под залогом, ну, этих… ну, кладоискателей. Ни кладоискателей, ни паспортов. Клара звонила. Сейчас же просила приехать. Поезжайте. Я останусь тут.
Глава вторая
Вот что случилось в музее: перед самым выездом в горы на директора вдруг накатил приступ великодушия – с ним иногда случалось такое. Он посмотрел на кладоискателей – они стояли понурясь: отдали золото, а деньгами-то и не пахнет, – подмигнул им, сел за стол, вырвал лист из настольного блокнота и размашисто начертал:
Бухг.
Выдать рабочим суконного завода т.т. Юмашеву и Сучкову 300 (триста) руб. в счет покупки экспонатов. Актом оформим после.
Сделал росчерк, промокнул, посмотрел, протянул записку и бодро скомандовал:
– А ну паспорта, ребята, и быстро, быстро валите в бухгалтерию, пока кассир не ушел.
Юмашев, высокий, пожилой, с сухим, желтым, длинным лицом, очень похожий на китайца – он первый обнаружил клад, – дисциплинированно вынул из пиджака книжечку в твердой зеленой обложке с золотыми буквами и положил ее на стол. Деньгам он ровно как бы и не обрадовался.
И Вася Сучков – паренек призывного возраста – поспешно вынул свою книжку и положил рядом.
– Пожалуйста, – сказал он. – Это всегда при себе.
Директор взял книжечки, посмотрел, полистал. Правильно, Василий Сучков, тринадцатого года, рабочий. Юмашев Иван Антонович, 1880 года, прописка, штамп. Юмашев женат. Сучков холост.
Директор хотел спросить что-то еще, но тут зазвонил телефон, и он бросил паспорта, поднял трубку. Говорил заместитель наркома Мирошников. Дело шло о смете. Мирошникову было что-то там непонятно, и против чего-то он возражал. Пока директор вникал, Юмашев и Сучков стояли и ждали. Во время одной из пауз (Мирошников все время прерывался, чтоб что-то найти на столе и прочесть) директор обернулся и сердито спросил:
– Ну что еще?
И Юмашев деликатно ответил:
– Квитанция, товарищ директор, в моем паспорте под обложкой, на ремонт велосипеда, уж пять дней пропущено, а то завтра опять выходной.
Но тут замнаркома Мирошников нашел свой документ и заговорил. Директор крикнул Юмашеву:
– Возьми! – И Мирошникову: – Не туда смотришь, ты смотри графу – научная работа. – Отвернулся и весь ушел в трубку.
Кладоискатели достали из паспорта квитанцию и вышли.
Вот и всё. Паспортов на другой день не оказалось. Вместо них лежали корочки. Позвонили в милицию, назвали фамилии. Милиция запросила адресный стол, адресный стол выписал около десятка справок, и все они оказались не те – не тот Сучков и не тот Юмашев. Тех вообще не числилось ни в Алма-Ате, ни в Каскелене, ни в Талгаре, ни в каких других пригородах. И ни на каком заводе они, конечно, тоже не работали.
– Вот так и учат дураков, – сказал директор, заканчивая рассказ. – И винить некого. Сам все отдал. Теперь как хочешь, так и ищи, хоть цыганке ручку золоти, хоть по тому черепу гадай. – И он скверно выругался.
– Это по какому же черепу? – спросил Зыбин.
Было раннее розовое утро. Еще и петухи не откричали. В парке женщины в серых халатах скребли фонтан. Стулья в кафе напротив стояли вверх ногами на столах. Пальмы вынесли на улицу. Зыбин положил акт, ничего существенного в нем не было. Просто крупным Клариным почерком сообщалось о том, что музей принял такие-то и такие-то экспонаты, обнаруженные на реке Карагалинке. Но где именно их нашли, как? Написано: рядом с останками человека. С какими же именно? Где теперь эти останки? Почему они не вписаны в акт?
– Где же он, этот череп? – спросил Зыбин.
– Да у Клары валяется, посмотри, – сердито усмехнулся директор. Он был страшно раздражен, фыркал, и ему все не терпелось что-нибудь выкинуть. – Ты ведь, кажется, колдун? Ну как же не колдун, если “Масонство” читаешь. Так вот погадай на черепе, куда наше золото уплыло.
Он быстро сделал последнюю затяжку, растер папиросу о дно пепельницы и сказал уже деловой скороговоркой:
– Ты вот что, ты иди сейчас к деду, опроси его и запиши, чтоб хоть один настоящий документ у нас был. А я наверх побегу, а то опять сейчас эти придут по мою душу.
– Кто эти?
– Ангелы! Увидишь кто! Тебя уж они никак не минуют!
И вот что рассказал дед (утренняя четвертинка уже валялась у него под верстаком).
– С нами, дураками, и сам Господь Бог отказался без палки толковать, учит он нас, учит, а мы… Ну, выхожу я, значит, утром из столярки. В парк, значит, выхожу. А энти самые… артисты на лавочке. Притулились. Двое – старый и молодой. Я вышел из столярки, иду, значит, по парку, а они, смотрю, на меня приглядывают. Я сразу обратил внимание, что приглядывают. Кто такие? – думаю. Вот молодой что-то того, старшего, спросил, потом встал, подходит ко мне и здоровкается. “Вы из музея?” – “Так точно”. – “А вот мы кое-какие вещицы принесли”. – “А вон, – говорю, – контора, туда и неси”. Да и пошел себе, значит, по парку. Смотрю, он опять меня через сколько-то догоняет. “Уважаемый, а вы не взглянете?” – и платок мне сует, там вся эта премудрость и была.
– И череп тоже?
– Нет, черепка тогда не было. Я его уже опосля увидел, я сейчас до него дойду, ты не торопи! “Ну что ж, – говорю, – пойдите сдайте, заплатят”. – “А возьмут?” – “Ну, может быть, в помойку выбросят. Так у нас тоже бывает”. И интересуюсь – что это, у тебя в рундучке, что ли, лежало? От матери-праматери досталось? “Да нет, – говорит, – это мы сами нашли”. Ну, значит, и рассказывает мне эту самую байку. Я вижу, что вещи ценные, исторически значимые, и говорю…
– Стой, стой, дед. По порядку, ты по порядку давай. Какую такую байку? Давай рассказывай. Я ж, видишь, пишу!
– Пиши, пиши, раз все уплыло из рук, тогда, значит, ты пиши. А я и так подробно. Куда же еще подробнее? Пошли охотиться на Карагалинку и отыскали все под камнем. Рассказал это и говорит опять: “Может, пойдем с нами по маленькой, у нас закуска мировая – маринка не-ежная, своего копчения”. Ну я вижу – вещи ценные, исторически значимые, а ни директора, ни тебя нет, ну я для пользы дела согласился, конечно. Тот, старый, сразу же поднялся и за нами. “Что, – спрашиваю, – это твой батька, что ли?” – “Нет, – отвечает, – это наш мастер. Мы все сотрудники с одного суконного завода”. Пришли, значит, в чайхану, а там за столом еще один сотрудник сидит, и перед ним три кружки. Вот у него этот черепок в сумке и был, только он ее под столом держал. Конечно, сразу он из мешка вынимает пол-литра, заказывает три пива, разливает водку и говорит: “Ну, дай бог не последнюю! Будем здоровеньки”. Выпили. Хорошо! Закусь у него законная – маринка, тут он ее на газетке и разделал.
– Дед, да потом о маринке! Что они рассказали-то? Ну вот, на охоту пошли, дальше-то что?
– Тьфу! – плюнул дед. – Вот правильно мой дед говорил: с ученым говорить, это надо язык сперва наварить. Он тоже с одним таким еще до империалистической ходил по степу, вчерашний день они разыскивали, так вот ученый спросит что-нибудь, станет дед объяснять, а тот ему и говорить не дает: после каждого слова – да как же это? да что же это? да откудова же? почему же? Вот как ты сейчас. Что рассказали? Рассказали, что пошли на Карагалинку кекликов бить и всю эту арматуру под камнем и обнаружили. Ну что ты выставился? Как надо еще сказать по-научному? Не арматуру, что ли?
– Да не в арматуре дело, а вот как же они поехали на Карагалинке кекликов бить? Какие же там кеклики? Это на реке Или, там – да, там кеклики есть, а на Карагалинке…
– Так ты скажи им это, – обозлился дед. – Найди их и скажи: не туда, мол, ходите. Ну, значит, наврали мне. Значит, лягушек ходили ловить.
– Ну ладно, дальше.
– А дальше дожж пошел, такой, говорит, ливень сыпанул, что мы сразу все наскрозь. Ну куда деваться? А там берега подмытые, смотрят – камень висит, смотрят – под ним пищёра. Пошли притулились, троим, понятно, тесно, стали ворохаться. Смотрят – под ногами что-то блестит.
– А как это камень висит? На чем?
– На небе! Что, не слыхал, как на небе камни висят? Вот ученые! Ну, висит над берегом, и все! Ну, берег вымыло, камень выступил и висит, а под ним вроде как пищёра образовалась. Вот я тебе удивляюсь, ходишь целые дни, смотришь в землю и ничего не видишь. Здесь ведь все, все наскрозь каменья. Тут с гор одное такой сель шел, что дома выворачивало. Валит глыбина с пол этого собора и все, все скрозь валит. Я вот помню, мне тогда лет десять было, пошли мы раз с дедом в извоз – дед мой извозом занимался, в Семипалатку возы гонял, а дожж шел! – три дня и ночи дожж шел! Дед мне и говорит: “Вот, смотри, еще один день такой дожж пойдет – и…”
– Да при чем тут дед? На кой ты мне черт его суешь? Ты мне про дело говори!
– Вот дед ему не понравился! Ты мне, слышишь, черным словом про деда не смей! Я этого терпеть не могу. Я у него вырос! Ему уже под семьдесят было, а он молодую привел, вот вроде твоей – бровастая, аккуратная, быстрая! Фырк, фырк, фырк! Но только тоже без одного винта. Ну как же? Раз она за тебя, такого героя, гения, умирает, а ты с этим идолом в горах без штанов, в трусах водку трескаешь, то, конечно, винта у нее нет. Умная бы девка… да такого бы кавалера… знаешь как? Вот и сам засмеялся – значит, верно!
– Верно, верно, дед! Что правда – то правда! Умная девка такого бы кавалера…
Зыбин встал с верстака и подошел к окну. Утро стояло высокое, ясное, без тучки, без облачка. На белые стены собора было больно взглянуть. Тополя застыли, затихли и словно зажмурились от солнца.
“Тихо нежная цикада, притаясь, от жара стонет”, – вспомнил он. Но цикады не стонали. День все-таки еще не установился. “Ох и жара будет сегодня”, – подумал Зыбин.
Он опять сел к верстаку и задумался.
“Значит, золото и череп принесли в музей, а костей не взяли. Когда же это было? А, воскресенье! Да, да, в воскресенье! И еще сказали, что все они сослуживцы. Тогда им врать было об этом вроде бы незачем. Да, пожалуй, что незачем. Но как же тогда суконный завод? Черт его знает как, но работают они, наверно, вместе. Значит, и на охоте они были тоже в общий выходной. Значит, вещи у них пролежали с неделю. Неделю они все обдумывали, вероятно, куда-то ходили и спрашивали, но продать ничего не продали – боялись, наверно, показать золото, может быть, даже и точно еще не уверились, что золото. Вот и пришли все вместе. Это, пожалуй, понятно, а вот дальше-то как?”
– Так чем же они тебя угощали, дед? – спросил он. – Маринкой? И, говоришь, своего копчения? Это точно, что своего?
– Своего, своего, – поднял дед голову от рубанка. – Я сразу по запаху чувствую, где свое, а где фабричное. Вот попробуй, говорят, мы ее в трубе, говорят…
– Так. – Зыбин встал. “Знаменитая вещь, копченая маринка! Попробовать бы сейчас ее, да где достанешь? Ну ладно, пойду к Кларе, хоть череп посмотрю! Все, может, веселее на душе будет”.
На серой инвентарной карточке было напечатано:
1. Наименование объекта. Количество…………………………….
И от руки: Человеческий череп
2. Происхождение экспоната (с обозначением фамилии нашедшего, места и обстоятельств находки)………………….
И от руки: Найдено на реке Карагалинка под большой навесной глыбой, вместе с 300 предметами ювелирного золота (смотри карточку – №…) за девяносто верст от суконной фабрики – более точно место находки не определено.
3. Описание экспоната……………………………………………….
И от руки: Череп.
Над этой графой Клара сейчас и сидела.
Зыбин хмуро поднял череп со стола. Был он небольшим, желтовато-ореховым и таким же, как орех, сухим и жестким. Челюсть лежала рядом. Зыбин заглянул в глазницы, провел пальцами по зубам, хотел что-то сказать, но вдруг дрогнул и сел.
Так прошло с полминуты. Он молча держал череп перед собой и глядел ему в глазницы.
– Ты что это? – спросил директор почти испуганно.
Это было как припадок или наваждение, что-то щелкнуло, сдвинулось с места, и вдруг нечто большое, мягкое, обволакивающее опустилось на него. Он держал в руках голову красавицы. Ей, верно, не исполнилось еще двадцати. У нее были большие черные глаза, разлетающиеся брови и маленький рот. Она ходила, высоко подняв голову.
Он повернул череп и посмотрел на него в профиль. У красавицы была тонкая светящаяся кожа. Она умела царственно улыбаться – была горда и неразговорчива: ее считали колдуньей, ведьмой, шаманкой, а потом ее убили и забросили на край земли. И в течение многих веков лежал над ней камень тяжелый, чтоб никто ее видеть не мог. А вот сейчас он держит в руках ее мертвую голову.
– Вы написали, – сказал он, – “найден под нависшей глыбой”. Это не погребение!
Он именно сказал, а не спросил, он точно знал, что это было не погребение, а просто дикое поле, глыба и ее тело под ней. Он сам не понимал, откуда пришло к нему это, но это пришло все-таки, и он знал об этом уж все.
Клара пожала плечами.
Он еще постоял, подумал. Вот здесь были ее губы, здесь глаза, здесь уши и эти серьги в них.
– Пишите, – сказал он, – вот в этой графе пишите: “Женский череп молодой особы грациального сложения”. Тут скобка: “Неполное зарастание черепных швов; не стертые жевательные плоскости; в верхней челюсти присутствуют молочные зубы”. Скобка закрывается. Точка.
Он повернулся к директору.
– Всё, всё пока!..
– Ну что тебе рассказал особенного дед? – поспешно спросил директор.
Лицо красавицы стало меркнуть, таять и наконец погасло совсем, когда Зыбин ответил:
– Про маринку собственного копчения рассказал. Эх, поел бы я сейчас маринки собственного копчения, да где ее взять, не сезон ведь. Хотя пошли, пожалуй, Клара, на базар по маринку, а? Поищем?
– По маринку? – спросила Клара удивленно.
– По маринку, маринку, – ответил он ей нежно.
– По маринку? – вдруг рассердился директор, но тут же рассмеялся, и все тоже рассмеялись. – Ладно, – сказал директор, – по маринку потом пойдешь. Ты поднимись наверх, посмотри, что у меня там творится. Ангелы пришли. Теперь уж в полной ангельской форме. Сидят, пишут и тебя зовут. Я говорил, что тебя это не минует. Иди, не бойся. С ними не соскучишься.
А в действительности очень скучные люди сидели наверху. Пришли эти скучные люди еще вчера, заняли комнату научных работников, сперва всех выгнали, потом позвали деда, усадили и стали допрашивать. Допрашивали строго, методически, не улыбаясь и постукивая карандашиком о стол. Спрашивали о том, как выглядели эти расхитители социалистической собственности (иначе как расхитителями они их не называли, потому что, сказал старший, это же Указ от седьмого восьмого, соцсобственность священна и неприкосновенна, а кто этого не понимает – тому десять лет лагеря, и после тоже его нигде не пропишут). Спрашивали они еще о том, как были одеты расхитители, что о себе рассказывали, как друг к другу обращались. Потом, когда все записали, заставили деда расписаться на каждом листе по отдельности. Потом ссыпали все бляшки и серьги в большой белый пакет и припечатали сургучом. Потом они вызвали Клару, велели этот пакет взять и сейчас же спрятать в сейф, потому что это соцсобственность, а соцсобственность священна и неприкосновенна. Они завтра придут и будут Клару допрашивать, и Клара все должна вспомнить и им сказать.
И действительно, они пришли назавтра, взяли у Клары пакет, осмотрели печати и сказали, что пока она свободна, но пусть не уходит, а сидит и ждет у себя, с ней еще будет разговор. Потом они составили акт, в котором вещи именовались изделиями из желтого металла и было сказано, что эти изделия уносятся для экспертизы в следственный отдел прокуратуры.
Зыбина они позвали именно как понятого, чтобы расписаться.
– Стойте, стойте, – сказал Зыбин и положил руку на пакет. – Так обращаться с музейными ценностями нельзя. Это вам не семечки.
Тогда младший поднял серые глаза и очень мягко, не повышая голоса, сказал:
– Это вы, кажется, забыли, что это не семечки. Будьте спокойны, что к нам попало, то уж не пропадет! Вот тут подписывайтесь. И вы, девушка, тоже.
И глаза у него были очень ясные и наглые.
– А ну-ка, – повернулся Зыбин к Кларе, – сбегайте-ка за директором. Да вы не рвите, не рвите из рук, – вдруг сказал он тихо и бешено, так, что у него даже скулы заходили. – Сейчас придет директор, он тут хозяин, а не вы и не я.
– Ну, знаете, товарищ дорогой… – начал обрадованно сероглазый, но тут другой, старший, сухо прервал его:
– Оставь. Все равно директора надо!
Директор пришел сейчас же. Наверно, Клара его и поймала на лестнице.
– В чем тут дело? – спросил он у сероглазого. – Что это такое? Кто разрешил? – Он взял пакет со стола и гневно взглянул на Клару. – А я вот вам, друзья милые, выговор приказом сейчас закачу, – сказал он свирепо. – Как вы обращаетесь с экспонатами? Что за петрушка! Безобразие!
– Да дело-то очень простое, – ответил сероглазый с той же неуловимой мягкой наглостью, которая так и дрожала в каждом его слове, так и сочилась из каждой поры его мягкого, чистого лица. – Вещи эти мы берем для следствия. Вполне возможно, что это золото. Принесли это золото вам неизвестные, которым вы дали скрыться. Если бы вы их задержали и позвонили органам, а это вы сделать были обязаны, – он повысил голос, – то золото было бы тут. Сколько валюты лишилось государство благодаря чьему-то идиотскому благодушию (он с особым смаком произнес это слово – тогда оно было по-настоящему страшным: “Идиотская болезнь – благодушие”, – сказал вождь недавно), пока тоже неизвестно. Вот мы и проводим расследование. Вы руководитель учреждения, человек партийный, заслуженный и должны бы, кажется…
– Я еще и член ЦК и депутат Верховного Совета, гражданин хороший, – сказал директор и твердо сунул пакет Зыбину. – Держи, хранитель. Если кому-нибудь отдашь, голову с тебя долой. – Он слегка тронул за плечо старшего. – Пройдемте к вертушке, – приказал он.
Обратно он вернулся через пару минут с дедом и Кларой. Дед улыбался и был доволен, он страсть как любил строгость.
– Уф! – сказал директор и повалился в кресло. – Какие все-таки среди них попадаются… Ну тот, старый, еще так… еще человек, а вот этот, молодой да ранний… лезет в волки, а хвост собачий. А ведь все равно какой-то институт особый кончил, все про эти дела знает. Ну-ка скажи, хранитель, какие брови были у Александра Македонского? А, не знаешь. А нос у Нерона? Тоже не знаешь. Что ж ты их не спросил? Они б сразу тебе все отчеканили. Дед, какие бывают брови? Ну – как…
– Да ну их к бесу, – отмахнулся дед. – Совсем замучили – какой нос, какие брови, какие губы. У того, у другого. По порядку номеров. Что пристали? Что пристали? Как будто я половину золота к себе в сапог отсыпал.
– А ты бы им сказал – во всем виноват директор. – Директор даже стукнул кулаком по поручню кресла. – Так и отвечай всем: спрашивайте с начальства, я ничего не знаю. Нет, собственной рукой все отдал, старый дурак! Денег выписал, болван! – воскликнул он с каким-то горьким, чуть не мазохическим вдохновением. – Вот эти триста рублей и погубили все. Они сразу почувствовали что к чему. Там ведь этого золота еще должно быть килограммы, килограммы! Чаши, кувшины, зеркала, сбруя. А, хранитель? Как ты думаешь, могло там быть еще килограмм десять?
– Дед, слушай, а я тебе буду рассказывать, – вдруг повернулся к деду Зыбин. – Значит, идут трое охотников по берегу Карагалинки, вдруг ливень. Куда спрятаться? Стали смотреть. Глядят, берег подмыт и из него глыба торчит. Степан Митрофанович, вы, кажется, эти места хорошо знаете? Вот там у вас в акте написано, что случилось это за девяносто верст от суконной фабрики, а они как будто служащие этой фабрики. Значит, они и живут рядом. Как могли они так далеко отъехать от дома? Ведь у них на все про все один день. Может, машину выпросили у директора, дичи пообещали привезти, а?
Директор покачал головой.
– Нет, туда ни на какой машине не проедешь. Я тоже там был. Глыбины, ямы, овраги. Нет, туда только пешком.
– А индейки там водятся?
– А что, разве они про индеек?.. Никаких там индеек нет. Индейки в скалах бывают. Мне они этого не говорили. Я б их сразу уличил.
– Ну вот, а деду говорили. Теперь про золото. Много золота тут, Степан Митрофанович, быть никак не могло. Это не погребение. Под камнями в этих местах никого никогда не хоронили, и вообще никаких погребений, кроме курганных, мы тут не знаем. Значит, камень-то камнем, но женщина была не погребена, а просто положена под глыбу. Убили и бросили.
– То есть как же это? – спросил директор растерянно. – Я что-то не понимаю, – он развел руками, – кто ж ее?.. И в этом уборе еще!
Зыбин молчал.
– Стой, стой! Ведь такой наряд просто так не надевают. Такой на свадьбу надевают или еще на какую-нибудь торжественность. А если торжественность, значит, кругом люди, гости. Так как же ее могли увезти и убить, объясни.
Зыбин пожал плечами. Дед сидел в кресле и демонстративно дремал.
– Нет, это никак не может быть, – решил директор.
– Кларочка, принесите, пожалуйста, археологическую карту Алма-Атинской области, – попросил Зыбин очень ласково. – Я ее у вас тогда оставил прямо на столе.
Клара молча повернулась и вышла. Директор посмотрел ей вслед.
– Вы что это? – спросил он негромко. – Поссорились, что ли?
– Да нет, ровно ничего, – ответил Зыбин.
– То-то – ровно ничего. – Он покачал головой. – Третий день девчонка с опухшими глазами ходит. И вчера – мы к тебе приехали, а ты побежал при ней звонить своей… Уж никакой, значит, выдержки нет… Мне это не нравится, учти, пожалуйста.
– Да что я, – заикнулся Зыбин.
– Вот то-то, что все вы ничего, ничего, и получается-то очень чего! А что твой помощник вчера учудил! Это что он там орал на всю бригаду, а? Тоже ничего? Стой, я с тобой еще серьезно поговорю. Не можешь внушить дисциплину подчиненному. Набрался сопляк и начинает выяснять свои отношения с советской властью. Все прошлое уже начисто позабыто, значит? Это куда годится?
Дед вдруг открыл глаза. В таких случаях он всегда одобрял директора. Хозяин должен требовать. А иначе и дела не будет. Разве мы доброе слово понимаем?
– Молодые, глупые, – сказал он истово. – Даже выпить и то незаметно не умеют. Выпил четвертинку и вообразил, что он уже царь и бог. Начинает себя людям показывать. А вот мой дед, он каждое воскресенье…
– Подожди, я их скоро всех прижму, – пообещал директор, – и того свистуна, и этого его покровителя. Тс! Тише. Вон она стучит каблучками. Кончаем разговор. Переходим на карту.
Карту разложили на столе и прикрепили кнопками. Она была как ковер – огромная, пестрая, заняла собой весь стол, и все, кроме деда, наклонились над ней. Зыбин сказал:
– Ну-с, вот вам весь бассейн Карагалинки. Пусто! За сто лет ни горшка, ни рожка. Белое пятно! На сорок верст кругом степь да степь кругом! Кто же мог в этой степи захоронить нашу маленькую ведьму? И зачем надо было сюда увозить ее труп? Но если это не погребение, тогда что же?
И опять все трое молчали, смотрели и думали, хотя было ясно, что ничего тут уж не придумаешь. И дед тоже смотрел на карту вместе со всеми и думал и так же, как и все, ничего придумать не мог.
– Белое пятно! – повторил он раздумчиво.
– А может быть, – робко предположил директор, – это все-таки погребение, но только, понимаешь, какое-нибудь особенное. Ну, например, саркофаг! Может, охотники спрятались тогда не под глыбу, а под крышку этого саркофага. Сам-то он развалился, а крышка осталась. Может быть так, а?
Он говорил и смотрел на Зыбина – сейчас, перед картой, он безоговорочно признавал его авторитет.
– Да нет, пожалуй, так не выйдет, – покачал головой Зыбин. – Во-первых, саркофаг зарывают, а не просто ставят среди степи, во-вторых, если это саркофаг – то огромный, ведь пряталось-то под ним по меньшей мере трое. Чтоб привезти и выкопать яму для такой махины, надо человек десять по меньшей мере. А это значит, что золото утекло бы. Хоть один вор из десятерых да нашелся бы. Ведь степь-то голая, пустая. Далее, речь идет все время о глыбине, саркофаг же состоит из тесаных плит. И теперь, пожалуй, самое важное: ни о каких погребениях в саркофагах мы здесь никогда не слышали. Вот, пожалуйста, смотрите. “Топографические сведения о курганах Семиреченской и Семипалатинской областей”. Семиреченская область – это мы. Так вот читаем: “Семиреченские курганы сооружены в прослойку с камнями, реже – из чистых камней”. Читаем дальше: “Слой камней нередко с голову, а иногда и больше. Этот слой засыпался землей”. А выглядит это так: “Курган круглый или овальный, с крутым откосом, на верху его довольно значительная площадь углубления”. Всё! С глыбой все это никак не спутаешь. Источник: “Известия Томского университета”, книга первая, за тысяча восемьсот восемьдесят девятый год, отдел, страница сто сорок вторая – вопросы есть?
– Да, черт тебя дери, – сказал директор растерянно. – Действительно! Но все-таки что же это такое?
Зыбин пожал плечами.
– Вот что это такое! Надо во что бы то ни стало найти эту глыбину, и тогда можно будет рассуждать о том, что это такое, но во всяком случае, кажется, точно – не могила! Девушку просто увезли и убили и труп ее засунули под эту глыбу. Но вот вы правильно говорите: при чем же тут диадема? Как же удалось убить или похитить эту молодую царевну или жрицу из дворца да еще увезти труп ее за сто километров? А что такое сто километров? Это значит скакать сутки по степи с трупом поперек седла! Или она тогда была еще живая! И почему золото цело, как на него не набрели до сих пор? Ведь лежало-то оно прямо на поверхности? – Он развел руками. – Ну кто ж тут что знает? Я, например, ничего и предположить не могу. Одно решение: надо разыскивать место.
Наступила пауза.
– Нет, это бывает, – сказал дед. – Это довольно просто бывает. Заманили молодую девку, нафулиганничали, задавили и бросили. Вот и всё. У нас в станице такое тоже раз было. Убили девку. Искали-искали, а это оказался ее сосед – попов сын.
– Где ж ты теперь найдешь это место? – вздохнул директор. – Кто тебе его покажет? Вот что у нас осталось. – Он вынул зеленые корочки от паспортов и зло бросил их на стол. – Нет, видно, это дело уж окончательно потерянное. Так мне и тот, старший, сказал. – Он задумался. – Так какие все-таки были брови у Александра Македонского? – спросил он вдруг. – Не знаешь? А какие вообще брови бывают? У тебя вот какие? Не знаешь? Даже и про свои собственные брови и то не знаешь? Так вот слушай. – Он вынул записную книжку: – Брови бывают короткие, средние, длинные, прямые, дугообразные, ломаные, извилистые, сближенные, сросшиеся, щетинистые, широко расставленные, свисающие наружным концом вверх, свисающие вниз, строго горизонтальные! Ух, дыхания не хватило. Вот что значит следователь, а ты что? Вот ухо твое – ты что думаешь, это так просто ухо, и все? Дудки, брат! В нем ты знаешь сколько примет? Двадцать. В одной мочке их шесть. Вот это наука! Смотри, как они деда замучили. – Он засмеялся. – Так вот, товарищ ученый, шумишь много, а толку чуть! Оказывается, это у вас еще не наука, то есть наука, да неточная. А точная там – в сером домике. – Он встал. – Они тебе наказывали сразу после закрытия музея туда зайти. Зайди. – Он вынул из блокнота какую-то бумажку. – Вот! Товарищ Зеленин, двести сорок вторая комната. Это тот, старый. Он ничего. Придешь – позвонишь ему, вот телефон. Приемный акт на всякий случай захвати. А в случае чего – звони мне. Я сегодня буду дома сидеть. – Он поднялся с кресла и потянулся так, что хрустнули кости. – Ну, разлетаемся, товарищи. А вы, Кларочка, задержитесь-ка. Надо будет потолковать об организации хранения, а то что-то…
Клара осталась, а Зыбин подумал и пошел на базар. Была у него одна думка, и он обязательно хотел ее проверить. Вообще-то он всегда боялся толпы, тесноты, давки, скученности. “«Скучно» – от слова «скученно»”, – говорил он не то шутя, не то совершенно серьезно. И ох как по прошлым годам он помнил эту мертвую, пропахшую креозолом скуку! Скуку ночных храпящих вокзалов, свалочную скуку товарняков, в которых ни сесть, ни лечь, и даже почти уже незапамятную скуку Чистых прудов. Это было лет двадцать назад. Первые воспоминания об этом: липы с пыльными листьями, жара, серый песок. Скука и тоска. Бульварный круг огорожен зелеными раскалившимися скамейками. И семечки, семечки, семечки… Вся земля хрустит от семечек. В середине круга оркестр, вознесенные над землей беседкой сидят солдаты и трубят. Ниже этого круга двигается второй – няньки, бонны, мадемуазели, гувернантки – все важные, благообразные, строго улыбающиеся. На одних чепцы матерчатые, кокошники. На других черные платки с роскошными цветами из тех, что растут на обоях, мануфактурах, трактирных чайниках и подносах. Шали. Накидки. Открытые головы редко. Еще ниже третий круг, это заклещенные намертво за руку несчастные господские дети. И он тоже господское дите, и его тоже заклещили и тащат. Солнце палит, оркестр гремит. Круг движется медленно, медленно, и не выкрутишься, не выпросишься, не убежишь. Иди чинным детским шажком с жестяным совочком в потной грязной ладошке и жди последнего, отчаянного рыка задохшейся трубы. После этого музыканты вдруг дружно опустят инструменты и закашляют, засморкаются, задвигаются, заговорят. А нянька разожмет свою клешню. Ребята из неблагородных носятся вокруг, свистят, кричат, подставляют друг другу подножку, в общем, хулиганят от всей души. Они уличные, на них всем наплевать, и они всё могут. А ты ровно ничего не можешь. Ты сын благородных родителей. От этого скука, зной, все время болит голова, ноет рука от нянькиных клещей.
Зачем кружили эти няньки? Зачем ревел и надсаживался оркестр? Зачем он играл нянькам “На сопках Маньчжурии” и “Оружьем на солнце сверкая”? Ну, наверно, это все напоминало им господские разговоры о высшем свете, снимки в “Огоньке”, обложку на “Солнце России”, бал-маскарад с призами, гулянья в царском саду, еще что-нибудь подобное. Ведь напротив стояло белое здание с колоннами, кино “Колизей”, и там шли салонные фильмы. Вот еще с тех пор Зыбин люто возненавидел всякое многолюдство и избегал его пуще всего. Но года через два именно оно хлынуло на него потоком: революция – ночные поезда и вокзалы, теплушки, платформы! Ох, как он их хорошо узнал за эти четверть столетия!
Поэтому он и боялся толпы и только на алма-атинские рынки ходил охотно. Их было несколько: Сенной, Мучной, Никольский и, наконец, самый ближний – Зеленый, или Колхозный. Этот рынок был веселым, запьянцовским и даже немного юродивым местом. Его Зыбин любил больше всех других. Сюда он и пришел из музея.
Зеленый базар!
Только с первого взгляда он казался толчеей. Когда присмотришься, то поймешь – это целостный, здраво продуманный и четко сформированный организм. В нем все на своих местах. Бахчевники, например, постоянно занимают одну сторону базара. На этой стороне лошади, верблюды, ослы, телеги, грузовики. Очень много грузовиков. В грузовиках арбузы. Они лежат навалом: белые, сизые, черные, полосатые. Над ними изгибаются молодцы в майках и ковбойках – хватают один, другой, легко подбрасывают, шутя ловят, наклоняются через борт к покупателю и суют ему в ухо: “Слышишь, как трещит? Эх! Смотри, борода, денег не возьму!” – с размаху всаживают нож в черно-зеленый полосатый бок, раздается хруст, и вот над толпой на конце длинного ножа трепещет красный треугольник – алая, истекающая соком живая ткань, вся в розовых жилках, клетках, крупинках и кристаллах.
– Да голова ты садовая, сейчас ты белого и за тыщу не найдешь! На! Даром даю! Бери! – кричит продавец и швыряет арбуз покупателю.
То же самое орут с телег, с арбакешек, с подмостков, просто с земли. Здесь же снуют юркие казахские девчонки с сорока косичками. Они таскают ведра и огромные медные чайники и поют, это почти стихи:
– А вот свежая холодная вода!
– Кому свежей холодной воды!
– Вода! Вода! Две копейки кружка. Подходи, Ванюшка!
Рядом мелкая розница – лоток под кисеей, под ней уже мертвые ломти – вялые, липкие, запекшиеся бурой арбузной сладостью, над ними ревет стая больших металлических лиловых мух (здесь их зовут шимпанскими). Тронешь ломоть – и сразу отдернешь руку: среди черных и желтых лакированных семечек замерли три или четыре хищницы с чутко подрагивающими тигриными туловищами.
– В-вот воды, воды! Кому свежей холодной воды! – заливаются чистые девчоночьи голоса, и только иногда среди них прорвется спокойный гекзаметр:
– А вот ароматные сладкие дыни! Кто купит? Ароматную сладкую дыню задаром. Кто купит?
У ароматных сладких дынь свой ряд. Они товар нежный. Их не ссыпают навалом, их раскладывают в ряд на циновках. Есть дыни круглые, четко оформившиеся, с мягкими, обтекаемыми гранями – их зовут здесь кубышками. Но больше всего они похожи на какой-то внутренний орган неведомого чудовища – почку или сердце. Мясо у них оранжево-желтое или насыщенно-зеленое, как шартрез. А есть еще дыни длинные, конические, как мины или межпланетные снаряды (так в то время их рисовали в журнале “Вокруг света”). Есть дыни золотистые, как осень, как листопад, как закат в спокойной воде пруда. Есть дыни, похожие на головы огромных тропических гадов, они в пятнах, потеках, пересветах, в хищных змеиных узорах. От дынь исходит еле уловимый аромат, и каждый, кто проходит по этим рядам, дышит им. И продавцы в этом ряду тоже иные, и покупатели тут не те, что табунятся вокруг арбузных пятитонок. Продавцы в этом ряду старые, солидные люди, узбеки или казахи – аксакалы с истовыми бородами, с бурыми иконописными лицами, в черно-белых тканых тюбетейках. Они не волнуются, не бегают, не кричат, они только поют: “А вот ароматные сладкие дыни”. Подходи, смотри, плати деньги и уноси. Пробовать дыни дают не всякому. Это целый ритуал. Сначала ее секут напополам, потом снимают тончайший прозрачный срез, и к лицу покупателя на острие длинного и тонкого, как жало, ножа возносится прозрачный розовый лепесток, бери в рот, соси и оценивай. И покупатель здесь свой. Около арбузов мальчишки, тетки, сезонники, шоферы, любители выпить. Арбуз, если нет ножа, просто колют о колено, а надколов, разрывают руками. Едят тут же, чавкая, истекая сладостью, урча, уходя в корку с носом, с глазами, чуть не до волос. Повсюду на земле валяются горбушки и шкурки. Дыню под мышкой уносят домой. И когда там ее положат на белое фаянсовое блюдо и поставят среди стола, то стол тоже сразу вспыхнет и станет праздничным. Такая она нежно-цветистая, такая она светящаяся, изнизанная загаром и золотом, в общем, очень похожая на дорогую майоликовую вазу.
А дальше помидоры и лук. Лук – это пучки длинных сизо-зеленых стрел, но лук – это и клубни, выложенные в ряд. Под солнцем они горят суздальским золотом. Но обдерите золотую фольгу – и на свет выкатится сочная тугая капля невероятной чистоты и блеска, беловато-зеленая или фиолетовая. По Перельману, вода в космосе примет именно такую форму. Но фиолетовые они или зеленые, их все равно грызут тут же на месте с горячим мякишем, с серой верблюжьей солью. Они хрустят, их необыкновенная горечь и сладость захватывает дыхание, ударяет в нос, но все равно их гложут, хрупают, хрустят. “Сладкий лук, нигде нет такого лука!” Но и помидоров таких нигде нет, кроме как на Зеленом базаре; они лежат в ящиках, в лотках, на прилавках – огромные, мягкие, до краев наполненные тягучей кровью, туго лоснящиеся тропические плоды. В них все оттенки и красных, и желтых тонов от янтарного, кораллово-розового, смутного и прозрачного, как лунный камень, до базарно-красных грубых матрешек. Их покупают и уносят целыми лотками – круглые тугие мячики, багровые буденовки, желтые голыши. Все равно больше рубля здесь не оставишь. Около лотков с помидорами, луком и разноцветной картошкой (желтой, белой, черной, розовой, почти коралловой!) товарный лоток разделяется надвое. С одной стороны остаются ряды, а другая сторона упирается в стену. Это почтовая контора. Отсюда во все концы страны летит знаменитый алма-атинский апорт. Тут же продают ящики, свежую стружку, холстину для обшивки. В конторе зашивают, надписывают, взвешивают. То и дело мелькают быстрые, оперативные личности с молотками, гвоздодерами и химическими карандашами за ухом. На все разная такса. Одна на то, чтобы уложить и заколотить, другая на то, чтобы красиво надписать, третья на то, чтобы уложить, заколотить, красиво надписать, взвесить, выстоять и отправить. Здесь же печально бродит между ларьками некая туманная личность. Завсегдатаи знают, что это актер и поэт-новеллист. У него страшное, иссиня-белое, запойное лицо. Из театра его сократили, и вот он теперь ходит по рынку и гадает. Под мышкой у него толстый фолиант. “Как закалялась сталь” – издание для слепых. Он кладет его на колени, распахивает и гадает. Рядом старушка продает морских жителей. Место здесь бойкое. Стоит пивная бочка, и над ней взлетают руки с кружками и поллитровками. Крик, смех. Пьют здесь так – полкружки пива, полкружки водки. Морские жители под эту смесь идут очень ходко.
Зыбин больше всего любил именно эти ряды. Но сейчас он не дошел до них, а свернул направо к рыбным ларькам. Рыбу тут выносили разную – копченую, нежно-золотистую, как будто обернутую в увядающий пальмовый лист, даже металлически-фиолетовую. Она лежала на прилавке, висела пучками, плескалась в цинковых чанах и судках. Зыбина хватали за руки, ему предлагали залом с Каспия, сома из Аральска, карасиков с Сиротских прудов. Он ничего не покупал, ни к чему не приценивался, он дошел до конца рядов и повернул обратно.
– А маринки у вас сегодня нет? – спросил он у высокого пожилого торговца. Тот стоял, засунув руки под клеенчатый фартук, и молча наблюдал за ним.
– Ну откуда она сейчас будет? – сказал продавец. – Маринку сейчас вы не найдете. Только если у кого вяленая осталась. Мы такой не торгуем.
– Вяленая, говорите?
– Исключительно вяленая. На другую сейчас запрет. Как же! План не выполнен. Только если украдут где. Вот приходите через месяц – тогда будет.
Помолчали, переглянулись, но еще не полностью поверили друг другу.
– Жаль, жаль, – сказал Зыбин. – А мне как раз позарез надо маринки.
– Свежую?
– Хоть свежую, хоть копченую. Копченую лучше.
Торговец посмотрел, примерился и спросил:
– Много?
– Да сколько есть, столько возьму. Сестра из Вятки просит. – И он достал из кармана какое-то письмо.
– Сейчас не Вятка, а город Киров, – поправил торговец. – Тогда вам только на Или надо ехать. Там ее сколько хочешь. Как пойдете по берегу, так и увидите – тони, тони. Колхоз “Первый май”. Там любой колхозник вам устроит с пудик.
– А к кому там зайти? Не знаете?
Продавец снова подумал, опять они посмотрели друг на друга и наконец окончательно поняли друг друга.
– Тогда, в таком разе, как дойдете до правления колхоза – это у моста, сразу же, – спросите Павла Савельева. Он шофером работает. Скажите, от Шахворостова Ивана Петровича.
– Спасибо, сейчас запишу – значит, от Шахворостова Ивана Петровича, так! А вот скажите, Юмашева Ивана Антоновича вы не слышали? Дружок у меня был такой, он, кажется, и сейчас еще там.
– Как – Юмашев? Да нет, что-то не помню. Я ведь там мало кого знаю из новых, может, не Юмашева вам нужно, а Ишимова? Так такой есть действительно. Весовщик.
– Нет, точно Юмашев, – сказал Зыбин и слегка наклонился. – Ну спасибо, сейчас же поеду. Значит, Павел Савельев! Спасибо.
Он пошел и снова остановился. У резных ворот с надписью “За колхозное изобилие” толпились люди. Курили, чадили, лузгали семечки. Он протиснулся и увидал художника над мольбертом. Зыбин этого чудака знал. Месяц тому назад он подал объяснение в милицию (нажаловались соседи) и подписался так: “Гений I ранга Земли и Галактики, декоратор-исполнитель Балета им. Абая Сергей Иванович Калмыков”. Гением человечества, как известно, в то время на земле числился только один человек, и такая штучка могла выйти очень боком – ведь черт его знает, что за этим титулом кроется, может быть, насмешка или желание поконкурировать. Кажется, такие сомнения в сферах высказывались, но дальше них дело все-таки не пошло. Может быть, кто-то из власть предержащих повстречал Калмыкова на улице и решил, что, мол, на этой голове много не заработаешь. А зря! Голова была стоящая. Когда художник появлялся на улице, вокруг него происходило легкое замешательство. Движение затормаживалось. Люди останавливались и смотрели. Мимо них проплывало что-то совершенно необычайное: что-то красное, желтое, зеленое, синее – все в лампасах, махрах и лентах. Калмыков сам конструировал свои одеяния и следил, чтоб они были совершенно ни на что не похожи. У него на этот счет была своя теория.
“Вот представьте-ка себе, – объяснял он, – из глубин вселенной смотрят миллионы глаз, и что они видят? Ползет и ползет по земле какая-то скучная одноцветная серая масса, и вдруг как выстрел – яркое красочное пятно! Это я вышел на улицу”.
И сейчас он был тоже одет не для людей, а для галактики. На голове его лежал плоский и какой-то стремительный берет, на худых плечах висел голубой плащ с финтифлюшками, а из-под него сверкало что-то невероятно яркое и отчаянное – красно-желто-сиреневое. Художник работал. Он бросал на полотно один мазок, другой, третий – все это небрежно, походя, играя, – затем отходил в сторону, резко опуская кисть долу, – толпа шарахалась, художник примеривался, приглядывался и вдруг выбрасывал руку – раз! – и на полотно падал черный жирный мазок. Он прилипал где-то внизу, косо, коряво, будто совсем не у места, но потом были еще мазки и еще несколько ударов и касаний кисти, то есть пятен – желтых, зеленых, синих, – и вот уже на полотне из цветного тумана начинало что-то прорезываться, сгущаться, показываться. И появлялся кусок забора: пыль, зной, песок, накаленный до белого звучания, и телега, нагруженная арбузами. Солнце размыло очертания, обесцветило краски и стесало формы. Телега струится, дрожит, расплывается в этом раскаленном воздухе.
Художник творит, а люди смотрят и оценивают. Они толкаются, смеются, подначивают друг друга, лезут вперед. Каждому хочется рассмотреть получше. Пьяные, дети, женщины. Людей серьезных почти нет. Людям серьезным эта петрушка ни к чему! Они и заглянут, да пройдут мимо. “Мазило, – говорят о Калмыкове солидные люди, – и рожа дурацкая, и одет под вид попки! Раньше таких из безумного дома только по большим праздникам к родным отпускали”. Вот именно такой разговор и произошел при Зыбине. Подошел, протолкался и встал впереди всех хотя, видно, и слегка подвыпивший, но очень культурный дядечка – эдакий Чапаев в усах, сапогах и френче. Постоял, посмотрел, погладил усы, хмыкнул и спросил очень вежливо:
– Вы, извините, из Союза художников?
– Угу, – ответил Калмыков.
Дядька деловито прищурился, еще постоял и подумал.
– А что же это вы, извините, рисуете? – спросил он ласково.
Калмыков рассеянно кивнул на площадь.
– А вот те возы с арбузами.
– Так где же они у вас? – изумился дядечка. Он весь был беспощадно вежливый, ироничный, строгий и всепонимающий.
Калмыков отошел на секунду от полотна, прищурился, вдруг что-то выхватил из воздуха, поймал на кисть и бросил на полотно.
– Смотрите лучше! – крикнул он весело.
Но дядечка больше ничего не стал смотреть. Он покачал головой и сказал:
– Да, при нас так не малевали. При нас если рисовали, то хотелось его взять, съисть, что яблоко, что арбуз, что окорок, – а это что? Это вот я когда день в курятнике не приберусь, у меня пол там такой же!
Калмыков весело покосился на него и вдруг наклонился над полотном. Кисть так и замелькала. Вдохновили ли его слова дядьки или, может быть, как раз в эту минуту он ухватил самое нужное? В общем, он заработал и обо всем забыл. Культурный дядька еще постоял, посмотрел, покачал головой и вдруг грубо спросил:
– А что это вы оделись-то как? Для смеха, что ли? Людей удивлять. Художник! Раньше такого бы художника сразу бы за милую душу за шиворот да в участок, а теперь, конечно, валяй, маляй!
И ушел, сердито и достойно унося под мышкой черную тугую трубку – лебединое озеро на клеенке.
А Калмыков продолжал ожесточенно писать. Никто его ни о чем больше не спрашивал. Как-то очень хорошо, легко и с большим достоинством он провел этот разговор, и Зыбин тогда же подумал: “Ну бог его знает, что он за художник, но цену он себе знает”.
Он повернулся и вышел из толпы.
Он вспомнил об этой встрече через много лет, когда ему попала в руки записная книжка Калмыкова. Это было уже после смерти художника. Книжка эта валялась на полу в комнате покойного. Зыбин незаметно поднял ее, унес к себе и стал читать. Все записи шли в строго алфавитном порядке (и книжка-то называлась алфавитной). Покойный записывал все, что ему вспоминалось или приходило в голову: старые стихи, строчки из газет, расходы. Так вот под буквой “Н” Зыбин прочитал:
Никто больше меня не любит рисовать на улице. В этом моя сила! Кругом смотрят, зевают, глазеют, кто во что горазд. Младенцы видят первый раз! Другие завидуют, скучают, задирают. Я ораторствую, огрызаюсь, острю – словом, чувствую себя в своей тарелке, в своей сфере! Здесь нет мне равного! Казалось, меня надо было на руках носить за все это, я же всю жизнь делаю это задаром! За десятерых! А всем все равно, и дуракам наплевать, но я задам всем жару!
И еще (уже на букву “К”):
Когда много говоришь о самом главном – все бегут, всем некогда слушать длинные разговоры о серьезных вещах, – то при постоянном ежедневном говорении то с одним, то с другим на улицах вырабатывается вечная манера говорить о всем очень смачно и эффектно, и после этого приходят в голову самые удачные формулировки! Вот! Вернулся с улицы, и в голове есть находка! Я молча шел и говорил про себя…
Да, он был именно таким – очень уверенным в себе, недосягаемым для насмешек, недоступным для критики, скрытым от мира гением, которому и не требуется никакого признания. Положительно только к нему одному из всех известных Зыбину художников, поэтов, философов больших и малых, удачливых и нет он мог с таким полным правом отнести пушкинское “ты царь – живи один”. Калмыков так и жил, так и чувствовал свое первородство. И смущала этого царя только какая-нибудь мелочь. Ну что-нибудь вроде этого: “Есть восковка за 1 р. 54 копейки, событие! А у меня только 80”. Да, и это его огорчало, но тоже не очень, не очень. Из алфавитной книги это видно очень ясно. Нет так нет, и нечего думать об этом. Очень хорошо и твердо он понимал это железное слово – “нет”.
Прошло много лет. Калмыков умер, и первая статья о покойнике кончалась так:
“По улицам Алма-Аты ходил странный человек – лохматая голова в старинном берете, широкие брюки из мешковины, сшитой цветными нитками большими стежками, с огромной расписной сумкой на боку. В последние годы им сделана в дневнике такая запись: «Что мне какой-то там театр? Или цирк? Для меня весь мир театр»”.
Нет, даже не мир, а целая галактика. Однако все это было совершенно неясно в том, 1937 году.
Известно было другое. Именно в это время журнал “Литературный Казахстан” поместил статью о юбилейной выставке Союза художников. Там о Калмыкове говорилось примерно следующее:
Совершенно непонятно, каким образом и зачем устроители выставки пропустили картины некоего Калмыкова. На одной из них стоят два гражданина и размахивают чемоданами. И очевидно, чемоданы эти пустые, потому что набитыми так не помахаешь. Неприятная бездарная мазня.
Вот и всё. Гнать палкой. Неприятная и бездарная мазня, ведь именно в это время художником были исполнены те великолепные серии рисунков, которые он называл странно и, как всегда, не совсем понятно: “Кавалер Мот”, “Лунный джаз”. Об этих листах писать невозможно – надо видеть очарование этих тончайших линий, этих переливов человеческого тела. У Калмыкова в его бесчисленных листах много женщин, и все они красавицы – надо думать даже, что он как художник вообще был не в силах изобразить уродливое женское лицо. Его женщины похожи на пальмы, на южные удлиненные плоды, у них тонкие руки и миндальные глаза (здесь не стоит бояться этих слов). Они очень высоки и стройны. Они выше всех. Стоя или лежа, они заполняют целый лист. У некоторых из них крылышки – и поэтому они, очевидно, феи. Другие просто женщины, и всё. Вот, например (если подбирать специально опубликованные рисунки), красавица в длинном, тяжелом, мягком халате. Он не надет, а наброшен так, что видны нога, грудь, талия. Красавица несет восточный высокогорлый сосуд. На столике горит канделябр. Он похож на распустившуюся ветку с тремя цветками. Рядом раскрытая книга и закладка на ней. Тишина, ночь, никого нет. Куда идет эта одинокая красавица? За ней бежит какое-то странное существо, не то кошка, не то собачка – не поймешь точно кто. И больше ничего нет.
На этом листе музыкально все. Все оркестровано в одном тоне – и три цветка на канделябре, и скатерть, сливающаяся с мягко льющимся халатом, и тело женщины, и это странное существо с собачьими ушами и кошачьей статью. Ритм достигается крайней простотой, лаконичностью и гибкостью линий.
И другой лист. Только он называется “Лунный джаз”. На нем официантка с мотыльковыми крылышками. Это такая же высокая, нежная и холодная красавица блондинка (Калмыков, видно, признавал только один тип женской красоты). Она несет поднос. На подносе узкогорлая бутылка и ваза с веткой. На ней такие легкие одежды, что видно все ее тело. Или иначе: все ее тело – это единая переливающаяся линия, заключенная в овал одежды. Ночь. Лестница, открытая эстрада. По ступенькам спускается слуга в диковинной шляпе и плаще. Вот и опять почти всё. И опять – никак не опишешь и не передашь словами очарование этого рисунка.
И таких рисунков – сюит, джазов, набросков – после Калмыкова осталось великое множество, может, двести или триста листов. Они исполнены в разной технике. Пунктир и линии, пустые и закрашенные контуры – карандаш и акварель. Так, например, между других работ есть лист “Кавалер Мот”. Внешне кавалер очень напоминает Калмыкова. Такой же бурный плащ, такой же берет, такая же мантилья сумасшедшего цвета. И ордена, ордена, ордена! Ордена всех несуществующих государств мира. Идет, смеется и весело смотрит на вас. Но вот этого у Калмыкова не было совершенно – он всегда оставался серьезным. Спрашивали – охотно отвечал на все вопросы, но никогда не заговаривал первым. А вот что “никто больше меня не любит рисовать на улице” – это точно. Но в тот мир, где играли лунные джазы, парили крылатые красавицы и расхаживали бравые кавалеры Мот, он не допускал никого. Там он был всегда один!
Всего этого Зыбин не знал, да и не мог знать, а если говорить с полной откровенностью, и не захотел бы тогда знать. Не очень это время подходило для лунных джазов и кавалеров Мот. Но всего этого Зыбин, опять-таки, попросту не знал. И в тот день на Зеленом базаре, глядя на художника, он тоже ничего не понял и ничего не вспомнил. Статья о пустых чемоданах (которую, кстати, он же редактировал и правил) просто пришла ему в голову. Он только подумал: вот чудак-то! И как хорошо, что на одного чудака в Алма-Ате стало больше. Но встречать Калмыкова он встречал, и вот по какому поводу. Однажды недели за две до этого директор сказал ему:
– Ты в этот выходной что делаешь? Никуда не собираешься? Ну и отлично! Так вот, в выходной я к тебе заеду и поедем на Алма-Атинку. Хорошо?
– Хорошо, – ответил он, хотя немного удивился. Ему даже подумалось, не хочет ли директор пригласить его в шашлычную. В это время лета они вырастают на каждом камешке. Но директор тут же пояснил:
– Мы там филиал около парка Горького строим, “Наука и религия”. Там у меня дед уже со вчерашнего утра с артелью плотников орудует. Так вот, сходим посмотреть, как и что.
Он пожал плечами.
– А что я в этом понимаю?
– В плотничьем деле? – удивился директор. – Да ровно ничего. Ты, я смотрю, и гвоздя как следует не можешь забить. Вон тот тигр у тебя как-нибудь рухнет со стены и расшибется к чертовой матери.
На стене висело “Нападение тигра на роту солдат вблизи города Верного” – картина старинная, темная, сухая, плохая и в музее очень ценимая. С нее даже в вестибюле снимки продавали. Еще бы! Такой сюжет!
– Ее как раз дед-то и вешал, – сказал Зыбин.
– Да? Ах, старый черт! Смотри, прямо в кирпич гвоздь ведь вогнал и погнул. Ну скажу я ему при случае. Видишь, там художник у нас один работает. Калмыков, не слышал? (Зыбин покачал головой. Он действительно не знал, кто это.) Да знаешь ты его, знаешь. Он по улицам в берете и голубых штанах этаким принцем-нищим ходит! Что, неужели не видал?
– Ну, ну, – ответил Зыбин и засмеялся.
Засмеялся и директор.
– Ну, вспомнил. Так вот художник-то он все-таки отличный. И что надо, то он нам сделает. Да и работает он вроде по тому же самому делу. Пишет декорации в оперном. Я ему сказал: “Рисуй так, чтобы посетитель и замирал на месте, и чтоб у него родимчик делался”. Он говорит: “Сделаю”. Завтра обещал прийти и эскизы принести. Так вот поедем посмотрим, что он там сочинил.
На Алма-Атинку они пришли рано утром и сразу увидели, что дело кипит.
На большой синей глыбине стояли дед и художник Калмыков. Дед держал в руках развернутый лист ватмана, а Калмыков что-то тихо и убедительно объяснял деду. Дед слушал и молчал.
– А вот дед, между прочим, его не одобряет, – сказал директор. – Вот все его финтифлюшки он никак не одобряет, дед любит строгость. Он, будь его власть, сейчас бы его обрил наголо и в холщовые штаны засунул. А ну подойдем.
Они подошли, Калмыков приветствовал их строго и достойно. Слегка поклонился, сохраняя полную одеревенелую неподвижность туловища, и дотронулся пальцем до берета. Поклонился и директор. Все трое вдруг стали серьезными и сухими, как на приеме.
– А ну покажите эскиз, – сказал директор.
На большом листе ватмана было изображено золотое небо астрологов. По кругу знаки Зодиака, затем созвездия Девы, Андромеды, Медведица Большая и Малая, еще что-то подобное же, а внизу два черных сфинкса и огромная триумфальная арка с Дворцовой площади. В арку въезжает трактор – обыкновенный “ЧТЗ”, и едет он прямо-прямо в небо, в его золотые созвездия. Все это было нарисовано твердо, четко, с ясностью, красочностью и наглядностью учебных пособий. Но кроме этой ясности было в ватмане и кое-что иное, уже относящееся к искусству. Только художник мог изобразить такое глубокое таинственное небо. До того синее, что оно казалось черным, и до того глубокое, что звезды в нем действительно сверкали как бы из бесконечности, из разных точек ее. А ведь краски-то Калмыков употреблял самые обычные, простые, школьные, и все-таки получилось все: и бескрайность полотна, и огромность неба, и сама вечность, выраженная в этих таинственных, слегка отливающих черным светом сфинксах. А в Дворцовую арку, альбомную, плакатную, запетую и затертую миллионными тиражами, въезжал рядовой трактор “ЧТЗ”, и за его рулем сидел парень в рабочей куртке. Все это разнородное, разномастное – небесное и земное, тот мир и этот – было сведено в простую и ясную композицию. В ее четкости, нерасторжимости и естественности и выражалась, видимо, мысль художника.
– Это что же будет? – спросил директор. – Вход?
– Нет, – ответил художник, – для входа я сделал другой эскиз. А это стенная роспись.
– Так, – сказал директор. – Та-ак. Ну, хранитель, твое мнение?
Зыбин пожал плечами.
– Все это, конечно, произведет впечатление. Но уж очень необычайна сама композиция.
– Чем же? – ласково спросил художник.
– Так ведь это павильон “Наука и религия”? – сказал Зыбин. – Значит, откуда тут взялось звездное небо, понятно. Понятны, пожалуй, и сфинксы. Но вот трактор и эта арка…
– А через эту арку красногвардейцы шли на приступ Зимнего, – напомнил директор.
– И трактор как живой, – похвалил дед. – На таком у меня внучок ездит. Только вот флажка нет.
Опять они стояли, молчали и думали. Зыбин видел: эскиз директору явно нравился, но он чувствовал его необычность и боялся, не пострадает ли от этого доходчивость. Все ли поймут замысел художника.
– Ну, ну, высказывайся, хранитель, – сказал он настойчиво. – Давай обсуждать.
– И пространство у вас какое-то странное, – сказал Зыбин. – Как бы не полностью разрешенное. Это не плоскость и не сфера. Вещи лишены перспективы, все они как бы не одновременны.
Калмыков вдруг остро взглянул на него.
– Вот именно, – сказал он, – вот именно. Вы это очень хорошо подметили. Время я тут уничтожил, я… – Он сделал паузу и выговорил ясно и четко, глядя в глаза Зыбину: – Я нарушил тут равновесие углов и линий, а стоит их нарушить, как они станут удлиненными до бесконечности. Вы представляете себе, что такое точка?
Зыбин представлял себе, что такое точка, но на всякий случай отрицательно покачал головой.
– Вот, – сказал художник с глубоким удовлетворением, – один вы из всех мне известных людей сознались, что не знаете. Точка есть нулевое состояние бесконечного количества концентрических кругов, из которых одни под одним знаком распространяются вокруг круга, а другие под противоположным знаком распространяются от нулевого круга внутрь. Точка может быть и с космос.
Он сказал, вернее, выпалил это одним духом и победно посмотрел на всех.
Но директор недовольно поморщился. Сейчас он понял: нет, до масс это не дойдет. Сложно.
– У нас это не пойдет, – сказал он коротко. – Трактор и арку уберите, а небо можно оставить. Но еще что-нибудь надо, на другие стены. Ну, суд над Галилеем. Битва динозавров. Не Бог сотворил человека, а человек Бога по образу и подобию своему. Завтра зайдете ко мне, посмотрим вместе, подберем.
– Понятно. Будет сделано, – сказал художник и молча отошел к берегу Алма-Атинки. Там у него стоял мольберт, и уже собирались зеваки и ребята. А кто-то длинный и пьяный важно объяснял, что этого художника он хорошо знает и он постоянно ходит в зеленых штанах, потому что у него такая вера.
Подошел к мольберту и Зыбин.
– Можно взглянуть? – спросил он.
Калмыков пожал плечами.
– Пожалуйста, – сказал он равнодушно, – только что смотреть? Ничего еще не закончено… Вот если бы вы зашли ко мне домой, я бы показал вам кое-что. – И вдруг обернулся к нему. – Так, может, зайдете?
– Спасибо, – сказал Зыбин, – обязательно зайду. Дайте только адрес, сегодня же и зайду.
Через много лет он написал:
Попал к нему я, однако, только через четверть века. Потому что в тот день как-то у меня не оказалось времени, а потом он уже и не звал к себе. А затем мы разъехались в разные стороны, и я совсем забыл о художнике Калмыкове. Знал только, что из театра он ушел на пенсию, получил однокомнатную квартиру где-то в микрорайоне (а раньше жил в старых казарменных бараках) и теперь живет один, питается молоком и кашей (он заядлый вегетарианец). Его часто видят на улицах. В прошлые мои приезды я тоже видел его раза три, но он на меня, как и на всех окружающих, никакого внимания не обратил, и поэтому я молча прошел мимо. Я заметил, что он похудел, пожелтел, что у него заострилось и старчески усохло лицо. И еще глубже прорезались у носа прямые глубокие морщины. “Лицо измятое, как бумажный рубль”, – написал где-то Грин о таких лицах. А надето на нем было что-то уж совершенно невообразимое – балахон, шаровары с золотистыми лампасами и на боку что-то вроде огромного бубна с вышитыми на нем языками разноцветного пламени. Ярко-красные, желтые, фиолетовые, багровые шелковые нитки. Он стоял около газетного киоска и покупал газеты. Великое множество газет, все газеты, какие только были у киоскера. Я вспомнил об этом, когда на третий день после смерти художника вошел в его комнату. Газет в ней было великое множество. Из всех видов мебели он знал только пуфы, сделанные из связок газет. Больше ничего не было. Стол. На столе чайник, пара стаканов и все. Да и что ему надо было больше?
Безумно счастливый, целеустремленный и цельный человек жил, двигался и говорил среди этих газетных пуфов и папок с бесконечными романами.
На этих пуфах ему снились раскрашенные сны, и тогда он записывал в алфавитную книгу (на “Э”): “Энное количество медведей, белых, арктических, северных, понесли меня в черных лакированных носилках! Бакстовские негры возглавляли шествие! Маленькие обезьяны капуцины следовали за ними!”
Или же (на “Я”):
“Я видел анфилады залов, сверкающих разноцветными изразцами!”
“Я проходил по палатам, испещренным всякими знаками”.
Да, в очень красивом и необычайном мире жил бывший художник-исполнитель Оперного театра имени Абая Сергей Иванович Калмыков.
И вот тут, среди действительно блистающих изразцов, лунных джазов, фей и кавалеров, я увидел на куске картона нечто совершенно иное – что-то мутное, перекрученное, вспененное, мучительное, почти страшное. Посмотрел на дату и вдруг понял – у меня в руках именно то, что Калмыков писал четверть века назад, в тот день нашего единственного с ним разговора. Крупными мазками белил, охры и берлинской лазури (так, что ли, называют эти краски художники?) Калмыков изобразил то место, где по мановению директора на берегу Алма-Атинки должен был возникнуть волшебный павильон “Наука и религия”.
Глыбы, глыбины, мелкая цветастая галька, острый щебень, изрытый пологий берег, бурное, пенистое течение с водоворотами и воронками – брызги и гул, а на самых больших глыбинах разлеглись люди в трусиках и жарятся под солнцем. Вот в солнце и заключалось все – его прямой луч все пронизывал и все преображал, он подчеркивал объемы, лепил формы. И все предметы под его накалом излучали свое собственное сияние – жесткий, желтый, пронизывающий свет.
От этого солнца речонка, например, напоминала тело с содранной кожей. Ясно видны пучки мускулов, белые и желтые бугры, застывшие в судорогах, перекрученные фасции. Картина так дисгармонична, что от нее рябит в глазах. Она утомляет своей напряженностью. Ведь такой вид не повесишь у себя в комнате. Но вот если ее выставить в галерее, то сколько бы полотен ни висело бы там еще, вы обязательно остановитесь именно перед этим напряженным, неприятным и мало на что похожим. Конечно, постоите, посмотрите да и пройдете мимо, может быть, еще плечами пожмете: ну и нарисовал! Это что же, Алма-Атинка наша такая?!
Но вот что обязательно случится потом: на улице ли или вечером за чаем, а то уже лежа в кровати, без всякого на то повода вы вспомните: “А та речка-то! Что он хотел ею сказать? Мысль-то, мысль-то какая заложена во всем этом?” И примерно через неделю именно это и произошло со мной, я вдруг понял, что же именно здесь изображено. Калмыков написал землю. Землю вообще. Такую, какой она ему представилась в то далекое утро. Чуждую, еще до сих пор не обжитую планету. Вместилище диких, неуравновешенных сил. Ничего, что тут ребята, ничего, что они купаются и загорают, – до них речке никакого дела нет: у нее свой космический смысл, своя цель, и она выполняет его со спокойной настойчивостью всякой косной материи. Поэтому она и походит на обнаженную связку мускулов, поэтому всё в ней напряжено, всё на пределе. И глыбы ей тоже под стать – потому что и не глыбы они вовсе, а осколки планеты, куски горного хребта. И цвета у них дикие, приглушенные – такие, какие никогда не используют люди. И совсем тут не важно, что речонка паршивенькая, а глыбы не глыбы даже, а попросту большие обкатанные валуны. Все равно, это сама природа – natura naturata, как говорили древние: природа природствующая. И здесь, на крохотном кусочке картона, в изображении десятка метров городской речонки бушует такой же космос, как и там, наверху, в звездах, галактиках, метагалактиках, еще бог знает где. А ребята пусть у ног ее играют в камушки, пусть загорают, пусть себе, пусть! Ей до этого никакого дела нет. Вот отсюда и жесткость красок, и резкость света, и подчеркнутость объемов – это все родовые черты неживой материи, свидетельство о тех грозных силах, которыми они созданы. Да они и сами, эти камни, просто-напросто разлетевшиеся и застывшие сгустки ее мощи. Так изобразил художник Алма-Атинку в тот день, когда он развертывал перед нами свой первый лист ватмана с древним астрологическим небом и трактором, въезжающим через Дворцовую арку на самый Млечный Путь. Это Алма-Атинка, увиденная из туманности Андромеды. А сейчас эта картина висит у меня над книжным шкафом, и я каждый день смотрю на нее. Оказывается, от этого можно даже получать удовольствие – до того здорово сделано. А сейчас картины художника Калмыкова находятся в Художественной галерее Казахстана, их свалили навалом и привезли туда. Если когда-нибудь их выставят, советую: посмотрите, многое вам покажется чудовищным или непонятным, но не осуждайте, не осуждайте сразу же, с ходу художника. Так, зазря, не обдумав, художник Калмыков ничего не творил, во всех его набросках есть свой смысл, своя идея, только доискаться до них порой не так уж просто. Что поделать, ведь существуют же такие странные, ничем не управляемые вещи, как мечты, фантазия и просто свое видение мира.
…Он повернулся, выбрался из толпы и пошел в музей. Дверь в отдел хранения оказалась полуоткрытой. Он вошел и увидел, что Клара сидит за столом, облокотилась подбородком на руки и смотрит прямо на него. Лицо у нее спокойное, ясное. А вот глаза больные. В них не осталось даже того сухого, скорбного блеска, что он подметил часа два тому назад, когда они разговаривали о черепе. И череп этот тоже лежал рядом, и из его глазниц уже свисала свежая белая этикетка на красной ниточке. Зыбин вошел и остановился у притолоки. Клара молчала. Он хотел что-то сказать ей, но она прямо смотрела на него, и он никак не улавливал смысла ее взгляда. Так они и глядели друг на друга в страшной неудобности, близости и связанности. И вдруг он понял, что она попросту не видит его.
– Клара, – позвал он тихо.
Она не двинулась и еще какие-то секунды пробыла так в своей отрешенности, а потом вдруг тихо вздохнула и совершенно спокойно, без всякого перехода сказала:
– Проходите, Георгий Николаевич. Я уже заинвентаризировала череп. Можете брать, если нужно.
Тогда он быстро прошел к ней, положил ей обе руки на плечи, слегка встряхнул их и сказал ласково и настойчиво:
– Кларочка, милая, ну что с вами такое? Ну что? Случилось что-нибудь?
Она слегка вздохнула и наклонила голову. Тогда он тихонько примостился рядом и обнял ее за плечи.
– Может, я обидел вас чем-нибудь? – сказал он и сразу подумал: “Ах, дурак, дурак”.
Почти незаметным гибким движением плеча она освободилась и встала.
– Ну что вы, – сказала она спокойно, отметая все. – Так, значит, черепа вам не надо? Тогда я его спрячу в шкаф. Посмотрите только, правильно ли я в карточке переписала.
Он не глядя отодвинул карточку.
– Правильно, моя усуньская царевна, – сказал он нежно. – Совершенно все правильно. А знаете, кто это была?
– Кто? – спросила она.
Он молча взял ее за виски, повернул к себе и поцеловал в оба глаза крепко и бережно. Потом еще и еще. И вдруг ее лицо покрылось испариной и рот дрогнул, как у маленькой.
– Это ваша прабабушка, моя дорогая, – сказал он. – Ваша родная прабабушка, моя колдунья!
Она открыла шкаф, положила череп на полку, снова закрыла дверцы шкафа и простояла так с минуту спиной к нему.
– Вы к директору? Лучше всего, если вы сейчас не пойдете к нему, – сказала она не поворачиваясь. – Он, по-моему, что-то не очень в духе. Я с ним говорила и…
Вот какой разговор у нее произошел с директором.
– Я, Кларочка, потому попросил вас остаться, что хочу серьезно поговорить о нашем хранителе, – сказал директор, смущаясь и не глядя на нее. – Ведь, кроме вас, у него, дурака, никого нет.
Он поднял со стола какую-то папку и сердито бросил ее обратно.
Клара посмотрела на директора. Он поймал ее взгляд и нахмурился.
– Ну я-то не в счет, – сказал он сварливо. – Я человек старый, служебный, и поэтому он смотрит на меня вот так. – Директор сделал кулак трубкой и поднес к глазу. – Оно, конечно, по совести, может быть, так оно и есть, но если взглянуть по-деловому… Ну нельзя так, как он! Ну никак нельзя! Не то время! А он ничего не понимает! Ну вот что вы, например, думаете о Корнилове?
Она сделала какой-то неопределенный жест.
– Ну что он из себя представляет? Ценный работник, знающий товарищ или как? – настойчиво спросил директор.
– Кажется, да, – ответила Клара.
– Ну и дисциплинированный, конечно? Да? День и ночь сидит за книгами, да? Или как? Вот хранитель хоть пьет, да работает. А этот что – пьет и не работает?
Клара подумала.
– Но эта история с костями – ведь это он ее… – сказала она осторожно.
Директор поморщился.
– Ну он-то он, конечно. Но тут и другое кое-что сыграло. Видите, отыскалась одна старая знакомая, так вот она… – Он опять поглядел на Клару и осекся. Клара молчала. – Так вот что я хочу вас попросить, – продолжал он, помолчав, – поговорите с хранителем. Пусть он скажет Корнилову: “Откуси свой поганый язычок ровно наполовину”. Понимаете?
– Нет, – ответила Клара. – Не понимаю. То есть я… А в чем дело?
– А в том, – обозлился директор, – а в том, что они оба загремят, как медные котелки! И следов потом их не сыщешь! Младший загремит за глотку, а старший за дурость, за то, что слушает и молчит. Ну а раз молчит, значит, соглашается, а раз соглашается, то участвует. Ну а как же иначе? Кто не за нас, тот против нас. Знаете, кто это? Маяковский!
Наступила пауза.
Клара стояла и думала.
– Позвольте, Степан Митрофанович, – сказала она наконец. – Я все-таки что-то не пойму. Ну тот кричит, хорошо! А что ж, по-вашему, Зыбин должен делать? Бежать заявлять?
Директор болезненно усмехнулся.
– Что там бежать, без него уж сбегали! Десять раз уж, наверно, сбегали. Он должен был крикнуть ему: “Молчи, дурак, если сам лезешь в яму, так другого не тащи”. Вот что он должен был сделать. Неужели это непонятно? Удивляюсь тогда вам. Умная девушка и ничего не видит. Ну да что там говорить! – Он махнул рукой, гневно прошелся по комнате, подошел к окну, закрыл его, подошел к столу, сел в кресло, выдвинул ящик стола, опять задвинул, схватил телефонную трубку и опустил снова. Он был здорово расстроен.
– Ну ладно, – сказала Клара, сообразив все. – Положим, Георгий Николаевич скажет Корнилову “молчи”, а Корнилов его не послушает, тогда что? Бежать заявлять? Да, может быть, он и говорил ему уже.
– Говорил? – Директор со всего размаху выдвинул и задвинул ящик. – Ни черта лысого он ему не говорил! Пил с ним – вот это да! А говорить надо с Корниловым так, чтоб он послушался. А не слушается – матом его покрой, в морду дай, и хорошенько, чтоб он с час валялся. Вот я и прошу, чтоб вы сказали ему все это. Вас он, может, послушает.
– А вы?
– Ну что я, – нехотя ответил директор. – Я руководитель. Я если что знаю, то должен того… меры принимать, а не предупреждать. Идиотская болезнь благодушие – знаете, что это такое по нашему времени?
Клара подумала.
– Ну и я не буду предупреждать, – сказала она.
– Как? Не будете? – очень удивился директор.
– Не буду, – ответила Клара скорбно и твердо.
– Да ведь посадят дурака, обязательно посадят! – крикнул директор тоскливо.
– Его дело, – вздохнула Клара. – А я ничем тут помочь не могу.
– Здорово, – сказал директор, вставая и подходя к Кларе. – Вот уж чего не ожидал. Да в конце концов, питаете вы к нему хоть какие-нибудь чувства? Ну хоть дружеские, что ли?
Теперь они стояли друг против друга и смотрели друг другу в глаза. Очень редко люди разговаривают так пристально.
– Ну зачем вы спрашиваете? – ответила она, мучаясь. – Вы же…
– Значит, пусть сидит, так лучше? – крикнул директор в запале.
Она вздохнула, но глаз не отвела. Ее мутил и мучил этот разговор, но она понимала – от него не уйдешь.
– Да нет, конечно, хуже. Но что для человека лучше, что хуже – только он один и знает. Никто другой ему тут не указчик.
– Так, – повторил директор. – Так. – И вдруг засмеялся. Как-то очень горестно, даже скорбно, но в то же время и освобожденно. – А я ведь и не знал, что вы такая. Ну что ж, вам, конечно, виднее. Но откуда такие берутся, вот такие, как он, тихие, настырные и дурные? Время, что ли, такое? Ведь знает все и вот лезет, лезет в яму.
– Не знаю, – она вздохнула. – Не знаю, Степан Митрофанович, да, может, ничего и не будет, может, все обойдется.
Директор покачал головой.
– Нет.
– Тогда, может, уволить Корнилова?
– Уже думал, нельзя, – вздохнул директор. – В том-то и дело, что уже ничего нельзя. Два дня тому назад мне звонил Мирошников – Корнилова не увольнять, с места не трогать, раскопки вести. Это без всякого повода с моей стороны. А почему, говорит, не увольнять – ты сам должен понять. Вот и весь разговор. Я понял…
– Лучше всего, если вы не пойдете к директору, – сказала Клара. – Он, по-моему, что-то очень не в духе. Я говорила с ним.
– Это да, – согласился Зыбин. – Конечно, ему сейчас ничего не мило. Заметили, как он бросил эти корочки на стол? Не заметили? Ну ладно – пережду! Слушайте, Кларочка, мне нужна будет ваша помощь. Безотлагательно. Больше взять некого.
– Поедем куда-нибудь? – спросила Клара.
– Да, поедем, – ответил Зыбин беззаботно. – Тут недалеко, часа полтора. Дойдем до реки Или, выкупаемся, полежим на камушках, прогуляемся по течению верст пять-шесть, потом я останусь, а вы вернетесь. Вот и всё.
Клара молча поглядела на него.
– Ну прогуляемся, покупаемся, встретимся с рыбаками, у костра посидим, уху сварим, – пояснил он. – Там у рыбаков маринка есть. Целый рыболовецкий колхоз. “Первое мая”. Только отойдешь от станции – и тони, тони. Там у меня шофер знакомый. Савельев. Ну как, поехали?
– Сегодня? – спросила Клара.
– Ну вот, сегодня, – возмутился он. – Что вы такое говорите! Завтра, завтра с утра, так часиков с пяти. Хорошо? Я вам позвоню, а вы выйдете к фонтану.
– Хорошо, – ответила Клара. – Завтра утром в пять у фонтана. Вы мне позвоните, а я выйду. Хорошо.
Вид у нее был очень утомленный.
После этого он сразу стал собираться. Был еще только полдень, и он с дачным чемоданчиком ходил по магазинам и закупал. Купил бутылку водки себе, купил бутылку рислинга Кларе, купил термос, полкило колбасы одной, полкило колбасы другой. Уже вышел из магазина, но вдруг что-то вспомнил или придумал, возвратился и взял еще целый литр водки. Потом с сумкой он вернулся в музей и полез на чердак. Под старой балкой хранилась у него одна штуковина. Была эта штуковина обернута в промасленную холстину, помещалась на ладони и отливала синей вороненой сталью – увесистая, таинственная и страшная штуковина, которую нельзя было показать никому, даже Кларе. Он наткнулся на нее еще весной, когда осматривал чердак. За самой верхней балкой была проволокой примотана к потолку холстина, а в ней бельгийский браунинг и две коробки патронов к нему, офицерская сумка с биноклем, компас, карта-трехверстка, зажигалка, морской кортик и записная книжка “Врач” (издание доктора Окса). Книжка оказалась совершенно чистой, только на первой странице были какие-то прописи. Зыбин все оставил как есть, а браунинг с патронами снял и перепрятал. Он и сам не знал, почему он сразу не отнес находку директору. Но не отнес, а оставил на чердаке, там же и теперь каждый месяц снимал, развертывал, осматривал, смазывал и клал обратно. Сейчас он достал браунинг, осмотрел и опустил в задний карман брюк.
“Надо будет еще взглянуть на карту, – подумал он. – Хотя ведь будем идти прямо по промыслам”.
Он сошел вниз и пошел по залам музея. “Но и курганы надо будет тоже учитывать, – сообразил он. – Может быть, прихватить с собой саперную лопатку? Есть, кажется, у директора парочка их. Только вот таскаться с ними… Ладно, обойдусь”.
Он зашел в караульное помещение и засунул сумку с провизией в шкаф. Казах-караульщик спал на топчане спиной к нему прямо на голых досках, только под голову положил тюбетейку. “И куда это он дрыхнет? – подумал Зыбин. – И днем спит, и ночью спит, и еще в выходной приходит из дома спать”. Он усмехнулся и вышел на широкие ступеньки храма. До двух часов еще оставалась бездна времени, и он не знал, куда его девать. И тут к нему подошел человек в форме. Тот самый человек с ласковыми глазами, тихим голосом, что еще час назад приходил забирать диадему как вещественное доказательство, чтоб приобщить к чему-то, составленному на кого-то. Тот самый, который любил говорить: “Указ от седьмого восьмого – общественная собственность священна и неприкосновенна, десять лет тайги и пять поражения”.
И всегда вырастал почти физически, когда произносил эту священную формулу.
– Георгий Николаевич, – сказал этот человек, – вас просил зайти начальник всего минут на десять – пятнадцать. Я тут с машиной.
“А браунинг? – быстро и остро подумалось Зыбину. – Зайти к Кларе и сунуть в шкаф, а что она тогда подумает? Да и не пустит меня эта анафема”.
– Ну что ж, пойдемте, – легко согласился он. – На полчаса я могу.
Он всегда был немного фаталистом.
Провожатый велел обождать в коридоре, а сам зашел в кабинет, да почти сейчас же и вышел.
– Вас позовут, – сказал он, – подождите.
Зыбин посмотрел на дверь. Была она высокая, непроницаемая, обитая черной клеенкой.
Зато коридор был уже безо всяких затей – голые стены. И ни скамейки, ни стула. Здесь ждут стоя, понял он. Но ждать ему пришлось всего минут пять. Приотворилась дверь, и его позвали. Он вошел. Кабинет оказался большой уютной комнатой с большими окнами, распахнутыми прямо в аллею тополей. Всю стену занимала карта мира. Под картой стояло несколько мягких стульев в белых чехлах, и в самом углу у двери примостился маленький светлый столик. Такие стоят в уличных кафе. Зато письменный стол около господствовал над всем. Это было огромное чудовище – с зеленым сукном, мощными тумбочками, тяжелым бронзовым прибором и подковкой для ручек. За столом этим сидел душка военный – полный, седой, розовый, благодушный, с каким-то очень почтенным значком на груди. Перед ним на листе бумаги лежали желтые кружки.
Сбоку стоял высокий чернявый человек с великолепным блестящим пробором. Оба смотрели на Зыбина и улыбались.
– А, товарищ ученый, – радостно сказал военный (чернявый был в штатском), – ждем, ждем! Ну-ка, как вам понравятся наши грошики. Товарищ Зеленый, продемонстрируйте.
Штатский слегка передвинул лист по столу.
Зыбин взял кружочки, посмотрел, повертел, попробовал на зуб и сказал:
– Это что же? От зубных врачей?
Начальник взглянул на чернявого. Чернявый оскалился (показались узорчатые порченые зубы).
– Почему так думаете? – стремительно спросил розовый военный и даже слегка привстал.
– Да что ж тут думать! Приготовлены для переплавки. Видите, как их расплющили.
– Логично, – благожелательно улыбнулся чернявый. – Товарищ кое-что понимает.
Полковник сел опять.
– О, они, в музее, все на свете понимают, – усмехнулся он. – Ты знаешь, как они его там зовут? Хранителем древностей. Так вот, товарищ хранитель древностей, как же вы ваши древности-то и не сохранили? Копали вы, копали всякие черепа да кости собачьи, а чуть золото вам принесли, так вы сразу обалдели и все упустили из рук. Нескладно ведь как-то получается, а?
– Вы мне разрешите присесть? – спросил Зыбин и сел на мягкий стул у стены. – Да, очень нескладно.
– Да вы вот за тот столик садитесь, – сказал военный, – там удобнее.
Зыбин сел, и оказалось, что он сидит в самом углу кабинета на жидком скрипучем стульчике, а перед ним встает огромный стол, и за столом этим сидит некто Вяжущий и Разрешающий; судия праведный и неумытный. “Здорово задумано, – подумал Зыбин, – вот тебе и первая психическая, принимай ее, пожалуйста!”
– А ведь так ловко получилось, что и виноватых-то не отыщешь, – развел руками полковник. – А там, может быть, с пуд золота было. Ведь в Прищепинском кладе одного скифского золота нашли двадцать пять килограмм! Да серебра пятьдесят! Это ж мешок валюты! Мешок! И вы его проморгали! Это как?
“Ах ты моя прелесть, – подумал Зыбин. – Скифское золото он знает!” – и сам не заметил, как улыбнулся. Душка военный сразу же на лету подхватил эту улыбку.
– Вам смешно? – спросил он горько. – Да, вот вам смешно, а мы плачем. Потому упустили-то вы, а требуют его от нас. Нам говорят – где хотите, там и возьмите, но чтоб лежало на столе. Ну что ж, будет лежать! В лепешку расшибемся, а положим! Товарищи ученые хранили, да не сохранили, а чекисты из-под земли вытащат да в государственный сейф отнесут. Такова уж наша обязанность. Товарищ лейтенант, столяр здесь?
– Поехали за ним, товарищ полковник, – ответил лейтенант.
– Сразу же его ко мне! – приказал полковник трубным голосом. – Но и на вас, товарищ Зыбин, ложится тяжелая моральная ответственность! Да, тяжелая и большая! Не всё тут нам пока ясно, не всему мы тут можем и поверить. Такая безответственность в государственном учреждении… Ну да лейтенант будет с вами говорить об этом. Так расскажите ему все, что знаете! Все! И честно! Ничего не скрывая! Если есть у вас на кого-нибудь подозрение или вы чувствуете, что совершили ошибку, так прямо и говорите. Мы за это с вас голову не снимем, а поможет это и нам, и вам сильно. Теперь ваше спасение только в правде!
“Вот тебе и пятнадцать минут”, – подумал Зыбин.
– Можете не сомневаться, – ответил он со своего скрипучего стульчика, – что знаю – то скажу.
– А мы нисколько и не сомневаемся, – затряс головой полковник. – Мы видим, с кем имеем дело. Так вот, товарищ лейтенант, заполните бланк протокола допроса свидетеля, а дальше товарищ Зыбин будет писать сам. Товарищ Зыбин, подойдите-ка сюда. Значит, договорились? Все по порядочку – не торопясь, не волнуясь, откровенно, толково, ничего не пропуская. Что думаете, что предполагаете, что могли бы предложить. Договорились?
– Каким образом в музее установились такие порядки, а вернее, беспорядки? – мелодично пропел чернявый. – Были ли до этого случаи пропажи ценностей? Нас все это чрезвычайно интересует.
– Да, да, конечно, – подтвердил полковник. – Ну, я не прощаюсь, товарищ Зыбин. Увидимся. А это все на экспертизу и заключение, – приказал он и протянул чернявому лист с кружками.
И тут Зыбин чуть не вскрикнул. Под толстым настольным стеклом он увидел нечто совершенно невероятное: огромный, в ладонь, глаз, круглый зрачок и в зрачке этом кулак с финкой. И рядом другое фото: тоже глаз, а в нем уже целая композиция – фонарь, стена и зверское лицо бандита. Бандит как в кинематографе: зверский прищур, шрам поперек лба, кепка, надвинутая на брови, клок волос.
Зыбин посмотрел на полковника. Полковник нахмурился – чернявый тронул Зыбина за плечо.
“Шустрят, – подумал он, проходя вслед за чернявым к столу. – Ох и шустрят! Землю роют! Актеры! Фокусники! Поэтому бандиты и глаза у мертвых выкалывают, потому что на милицейских столах появились вот такие фокусы. Скажут бандиту: «Смотри, до чего дошла наша наука! Не будь фраером – колись, пока можно. Говорили так одному: вырази чистосердечное, спаси свою дурацкую башку. Нет, не захотел и получил вышку, вот и ты…» Глядишь, бандит и верно расколется. А нет – что поделаешь? Жалобу прокурору на беззаконие и шантаж он все равно не подаст.
Ладно, какое мне дело до хулиганов. С ними ведь главное – выследить. Поймать зверя и выбросить его из общества. Вот что главное с ними.
Ах, вот как ты заговорил, товарищ Зыбин. Значит, цель оправдывает средства. Значит, как ни вертись, а все-таки цель оправдывает средства. С бандитом можно, а с товарищем Зыбиным нельзя. С ним надо по закону. А собственно, почему?
Слушай, сейчас тебе будет очень трудно. Ты уже это почувствовал и заюлил. Так вот помни: если с бандитом можно, то и с тобой можно. А с тобой нельзя только потому, что и с бандитом так нельзя. Только потому! Помни! Помни! Пожалуйста, помни это, и тогда ты будешь себя вести как человек. В этом твое единственное спасение!”
– Вот сюда, – сказал чернявый и открыл дверь в конце коридора.
Это была очень маленькая комнатка, почти бокс – окно, стол и стул. Чернявый сказал:
– Садитесь, пожалуйста. Вот чернила и ручка. – Он выдвинул ящик стола и вынул оттуда несколько бланков протокола допроса. – Пишите: “По существу дела показать могу следующее: такого-то числа такого-то месяца во столько-то часов я узнал от директора Центрального музея – фамилия, – что в музей поступил золотой клад, содержащий…” – ну и дальше по порядку, что именно поступило. Установочные данные заполним потом. Через полчаса я зайду. Подпишу вам пропуск – сговорились?
Он ушел, осторожно притворив дверь.
И Зыбин подумал и стал писать. Сначала написал об обстоятельствах находки и затем о том, что, конечно, находка уникальна, ничего подобного ни в Казахстане, ни в Средней Азии никогда еще обнаружено не было. Что, однако, все выводы о находке и ее ценности являются только предварительными. Для здравой оценки требуется провести ряд анализов, получить специальные консультации и, в частности, разыскать само место. Дальше он писал о том, что сделать это будет чрезвычайно трудно, поскольку по несчастливой случайности – а они всегда преследуют археологов! – очевидцы исчезли. Но трудно ведь не значит безнадежно. Находку сделали не в пустыне. Имеется археологическая карта Семиречья. Кое-что, может быть, можно будет извлечь из анализа показаний очевидцев: по ряду признаков можно думать, что самое главное – способ захоронения и обстоятельства находки – они изложили правильно. Все остальные их рассказы по ряду причин доверия не вызывают. Но нужна крайняя осторожность. Самое главное теперь – не вспугнуть. Археологическое золото трудно появляется на свет, но очень легко проваливается сквозь землю. Примеров тому тьма. И тут сразу же нужно сказать: конечно, ни о каких двадцати пяти килограммах золота и о пятидесяти килограммах серебра говорить не приходится, ибо мы имеем дело не с погребением, а с тайным укрытием трупа. Какая трагедия произошла в степи почти две тысячи лет тому назад – сказать невозможно. Может быть, что-нибудь прояснится позже, когда будут привлечены письменные источники (например, китайские летописи). Может случиться и так, что по мере пополнения наших знаний о древних усунях мы поймем, что означает такое вот ни на что не похожее погребение (если выяснится только, что это все-таки погребение), но сейчас все, связанное с происхождением находки, совершенно неясно. Поэтому и делать какие-нибудь предположения о ее составе (килограммы драгоценных металлов) – дело крайне рискованное и даже бесполезное.
Он подписался, а потом подумал и сделал следующий постскриптум:
Переходя к вопросу о персональной ответственности, надо сказать, что самая постановка его совершенно бессмысленна. Предугадать поступление случайной находки невозможно. Вряд ли было возможно также предвидеть преступный маневр с паспортами. Впрочем, он при этом не был. Вот все, что он может показать.
Засим: старший научный сотрудник и зав. отделом археологии…
Он отложил ручку и поглядел на часы: времени еще оставалось час. Он снял трубку, вызвал коммутатор, сказал, что ему нужен товарищ Зеленый.
– Номера не знаете? – спросила трубка. – Даю опергруппу.
А опергруппа вдруг в ответ заговорила упругим женским голосом:
– Зеленый будет минут через пять. А кто его спрашивает?
Он ответил кто, и тогда его спросили, а готов ли документ.
Он ответил, что готов и что он очень торопится.
– Я сейчас к вам зайду и подпишу пропуск, – сказала трубка.
Вошла высокая, молодая, тонкая и стройная брюнетка с гладкой прической. На ней был милицейский китель.
– Ну, все готово? – спросила она, улыбаясь.
У нее была ясная улыбка, гибкий полнозвучный голос, спокойное, ясное и чистое лицо. Совсем не верилось, что она из опергруппы.
– Вот, пожалуйста, – сказал Зыбин.
Брюнетка взяла лист допроса, села и стала его читать. Читала и покачивала головой. Но выражение ясности, ласковости и какой-то тихой насмешки так и не сходило с ее лица. Прочла до конца и положила протокол.
– Очень интересно, – сказала она. – Прямо роман. Но я ведь совершенно не в курсе всего этого. Не расскажете ли мне в двух словах, в чем дело? Вот вы пишете про укрытие трупа. Это что, убийство?
Он засмеялся.
– Как ваше имя? – спросил он.
– Валентина Сергеевна, – ответила она.
– Так вот, этому убийству, Валентина Сергеевна, повторяю, уже более двух тысяч лет. Так что им придется все-таки заниматься не вам, а археологам. А суть дела вот в чем… – И он очень коротко рассказал все, что касалось находки.
Она слушала его не перебивая.
– Все это страшно интересно, – сказала она, когда он кончил. – Действительно, совсем по Пушкину – похищение Людмилы Черномором с пира. Очень интересно. – Она подумала. – Вы написали про череп, а он целый? Никаких признаков насилия на нем нет?
Он покачал головой.
– Ровно никаких. Но она была очень красива. А красавиц, очевидно, бьют в сердце.
Она снова улыбнулась.
– Да, если убил мужчина. Если убила женщина – дело обстоит иначе. Соперниц часто уродуют. Но женщина вряд ли могла увезти труп так далеко. И конечно, тело не было брошено просто так – иначе его бы расклевали птицы. Значит, в укрытии тела участвовало несколько человек. Вы же говорите о глыбине. Но опять-таки: как бы тогда уцелело золото?
– Не знаю, – ответил он. – Тут все может быть.
– Это так, – согласилась она. – Но давайте рассуждать и дальше. Убийца отвозит труп за сто верст (кстати, зачем? это, пожалуй, непонятнее всего) и прячет там под камень. Значит, вероятно, место было подготовлено. Тогда это убийство с заранее обдуманным намерением, так?
Он засмеялся.
– Никак не могу привыкнуть к этим вашим бойким словечкам. Нет, тут они не подходят совершенно, и прежде всего: мы ничего пока не знаем. Вот будем копаться в книгах, изучать карты и, конечно, ездить, лазать, искать. Облазаем всю Карагалинку, может, и наткнемся на что-нибудь подобное. Только для этого нужно, чтобы шуму и звону было поменьше, а вот я уже вижу, что вы пошли хватать дантистов.
Она усмехнулась: мы же милиция!
В это время зазвонил телефон.
– Лейтенант Аникеева слушает, – сказала она в трубку. – Да, товарищ Зеленый! Да, написано и подписано! (“Мне некогда”, – быстро сказал ей Зыбин.) Вот товарищ Зыбин говорит, что ему очень некогда. Товарищ Зыбин, пожалуйста…
И она сунула ему телефонную трубку.
– Георгий Николаевич, – сказал Зеленый очень вежливо с другого конца провода, – мне очень жаль, но немного подождать вам все же придется. Мы еще с вами не кончили разговора. Вот в вашем распоряжении телефон. Позвоните по ноль один и объясните, что задерживаетесь. Только, пожалуйста, без всяких подробностей. А я приду сейчас же, как освобожусь. – И Зыбин услышал, как по ту сторону звякнула трубка.
“Боже мой, – подумал Зыбин. – Значит, опять я ее не увижу. Боже мой, боже мой, как у меня всегда по-дурацки складывается. И что им от меня только нужно?” Тут он вспомнил, что в кармане у него браунинг, и его передернуло.
– Слушайте, – сказал он умоляюще. – Мне нужно было бы забежать в музей, ну хоть на пять минут. У меня, понимаете, ключи. Люди не смогут уйти домой. Я вернусь сейчас же.
Она подумала.
– А вы не опоздаете? – спросила она. – А то позвонит полковник, а вас не будет.
– Ну честное-пречестное, – он даже руки сложил на груди.
– Хорошо, давайте тогда пропуск, – решила она и вынула ручку. – Как какой? Ну тот, по которому вы прошли.
Он пожал плечами.
– Нет, должен быть пропуск. Поищите в кармане. Нет? – Она подошла и слегка подергала ящики стола. Они были заперты. – Без пропуска вы пройти никак не могли. Значит, пропуск остался у старшего лейтенанта.
– Что ж тогда делать? – спросил он растерянно. Она слегка развела руками.
– Тогда только ждать. Вот телефон, позвоните кому нужно. Сначала позвоните ноль один.
Он снял было трубку и вдруг положил опять.
– Ах, в какую историю вы меня запутали, – сказал он с горечью, – ах, в какую.
Она слегка развела руками.
Он позвонил директору домой. Ему сказали, что Степан Митрофанович еще не приходил. Позвонил в кабинет директора – к телефону никто не подошел. Позвонил в бухгалтерию – ему ответили, что директор был, но его только что куда-то вызвали. Позвонил электромонтеру Петьке – на месте его не оказалось. Оставалась, следовательно, одна Клара – и та, вероятно, уже ушла.
“Да, уж если не повезет, так не повезет”, – подумал Зыбин. С минуту он просидел так, опустив глаза на крышку стола, а потом вздохнул и взглянул на лейтенанта Аникееву.
– Если уж не повезет… – сказал он ей тяжело.
– А что-нибудь очень важное? – спросила она его сочувственно, даже несколько по-женски.
И от этого его вдруг взорвало окончательно.
– Слушайте, – сказал он запальчиво. – А что это у вас за петрушка там под стеклом? Ну, у полковника в кабинете – под стеклом, что это там? Зрачок, а в нем финка. Универсальное вещественное доказательство на все случаи жизни? Так?
– А что? – спросила она, слегка улыбаясь.
– Да ничего, просто было интересно увидеть, как теперь фабрикуются вещественные доказательства. Заранее, значит, загодя. И много у вас этого добра?
Тон у него был неприятный, колючий.
– Вы что, допрашиваете или просто интересуетесь? – спросила она, все еще продолжая улыбаться.
– Ну что вы, что вы! – поднял он обе ладони, в нем все клокотало и прыгало, про браунинг он уже не помнил. – Какое же я, я имею право вас допрашивать? Нет, это вы меня допрашиваете. Это с меня тут снимают показания, запирают, держат, замыкают – меня, меня, меня! Это я задержан! А когда ж задержанный допрашивал следователя?!
– Вы не задержаны, – обрезала Аникеева, – и я не ваш следователь.
– Да? – весело удивился он. – В самом деле? Я не задержанный, вы не мой следователь? Ну так тогда, может, мне просто встать да и уйти, а?
– Очень, очень у вас странный тон, – сказала она. – Странный, чтоб не сказать больше.
– А вот вы скажите, – попросил он мягко и ненавидяще. – Скажите больше. Назовите это не тоном, а вылазкой, клеветой, дискредитацией органов. Там, где на червячке лжи выуживают рыбку правды – так сказал старик Полоний, – все, все возможно.
– Это вы про лейтенанта? – спросила она. – Он был груб? Уличал вас в чем-то? Это у нас абсолютно не положено.
Он вдруг замолчал. Она приходила ему на помощь: разговор с властей она переводила на лица.
Она пошла и села напротив него.
– Я понимаю, вы куда-то торопитесь, а вас задержали, – сказала она мягко. – Но все равно, разве можно быть таким… ну, нервным, что ли. Ведь это бред какой-то! – Она усмехнулась. – Червячок, рыбка, какой-то там Полоний.
– Слушайте, ради бога, – загорелся он опять и вскочил. – Я вам достану контрамарку в гостеатр, сходите с мужем, или с лейтенантом Зеленым, или не знаю там с кем на “Гамлета”. Хоть раз в жизни да сходите!
Теперь они сидели разделенные столом и смотрели друг другу в лицо.
– А знаете, – вдруг совсем по-женски вспыхнула она, – не пошли бы вы со своим театром и контрамаркой!.. Если я захочу сходить в театр…
– Так вот вы и захотите, – сказал он упрямо и угрюмо и, как бык, наклонил голову. – Так вот вы обязательно захотите. В мое время, например, студенты юридического факультета знали классиков, знали, кто такой Полоний, а вас только и натаскивают: прижми, расколи, уличи, выяви. Эх, даже противно говорить… – Он осекся и махнул рукой.
– То есть что это значит “расколи”? – спросила она сурово. – Не “расколи”, а “установи” – это две разные вещи.
– Но устанавливать-то вы будете как? – крикнул он. – Вот эти подлые фото показывать да лгать напропалую? Да? Так?
Она поколебалась и вдруг решила принять бой.
– Да, так, старший научный сотрудник. Так! Если отбросить слово “подлые”, то так. Назначение следствия – выявить истину. Вы ведь тоже кончали юридический? Да? По истории права. Так вот, ваш факультет был в то время факультетом ненужных вещей – наукой о формальностях, бумажках и процедурах. А нас учили устанавливать истину.
– А как устанавливать – на это наплевать? – спросил он. – Например, вот мне показывают ордер на арест моей жены. Говорят: не подпишешь, кто виноват, – сегодня же твоя жена будет сидеть рядом. Так я подпишу! Так я что угодно подпишу! Потребуйте, чтобы я показал, что убил, ограбил, поезд свернул с рельсов, – так я покажу и это. Но только жену не трогайте.
– И скажете, где спрятано награбленное? – спросила она спокойно. – И выдадите вещественные улики? И назовете всех сообщников? И тем дадите нам возможность прервать вашу преступную деятельность? Да, тогда и подлог имеет смысл, и та “подлая” фотография тоже.
– Какое счастье, что я не женат! – воскликнул он. – Значит, все мое золото останется при мне! Все двадцать пять килограммов плюс пятьдесят килограммов серебра! И сообщников я вам тоже не выдам. – Он снял трубку и через 01 вызвал отдел хранения. Клара подошла сейчас же. Она как будто сидела и ждала его звонка.
– Здравствуйте, моя радость, – сказал он ласково. – Здравствуйте, хорошая моя. Вот какое дело. Меня задерживают в милиции, а у меня деловое свидание с Полиной Юрьевной. Ну, все насчет тех костей. Так вот, сейчас три часа, а в четыре нужно подойти к фонтану, и она там будет. Так вот… – Он быстро оглянулся на Аникееву, но она уже вышла и притворила за собой дверь.
Он просидел до вечера. А вечером пришли они оба: она и Зеленый.
– Извините, – сказал Зеленый хмуро. – Задержали. – Он сел. – Начальство сердится, – сказал он Аникеевой, – директора полковник при мне вызвал, разговор был у них! Беда! – Он засмеялся и покрутил головой.
Усмехнулась и Аникеева.
Очевидно, и она понимала, что значит допрашивать директора.
– Так вот, – сказал Зеленый, делаясь опять совершенно серьезным. – На музей нашим командованием возложена тяжелая ответственность. Он обязан загладить нанесенный ущерб. И в первую очередь это относится именно к вам – руководителю отдела.
– Здорово! – вырвалось у Зыбина. – А я тут при чем?
Зеленый поморщился.
– Вот при чем тут вы! – ответил он ворчливо. – Валюта-то уплыла, и никто не виноват. Вы обязаны были предвидеть такие казусы, на то вы и руководитель отдела. Вы предупреждали дирекцию, что находки золота возможны? Что вот однажды могут прийти и принести его? И как надо тогда поступать? Ведь вы говорили об этом? Зачем же вы сейчас отрекаетесь?
– Нет, – покачал головой Зыбин. – Я ничего не говорил. Не приходило как-то в голову.
– Да? Ну а вот тут у нас есть сведения, что вы несколько раз предупреждали. Как же так не предупреждали? А как только первые кружочки стали попадаться вам в руки, что вы сказали тогда директору? Не помните? А я вот помню. Вы сказали, что надо смотреть в оба. Так? (Зыбин промолчал.) Ну хорошо, вы поставили в свое время в известность дирекцию, – смягчился Зеленый (видно было, что действительно за Зыбиным он никакой вины не находил – для этого он был слишком оперативным работником. Вину понимал прямо и ясно – как действие и бездействие, но не как недостаток ясновидения). – Вы сказали ему, а он ноль внимания, за это тоже на него ложится немалая доля ответственности, но вы же специалист, и раз видите, что директор так наплевательски относится к вашим предупреждениям, вы должны были нам сра-зу же сообщить свои соображения, а мы бы вот директора вызвали да и поговорили бы с ним по-свойски. Вот золото бы и не уплыло. А теперь вы оба в ответе. Но вы археолог, с вас спроса больше.
– Меньше, – вдруг неожиданно сказала Аникеева. – Археолог Зыбин свое сделал, он при трех свидетелях свое мнение заявил, а на его сигнал не обратили внимания, при чем же он?
– Рапорт, рапорт нужно было подать! – крикнул Зеленый. – И копию еще снять! Чтоб документ лежал у него в кармашке. Тогда бы, конечно…
Аникеева покачала головой, но ничего не сказала.
– Ну не я же все это выдумал, в конце концов, – сердито огрызнулся Зеленый. – Его же приятели это говорят. Те самые, кого он поил каждый день. И говорят еще, что картотека черт знает в каком состоянии. Никакого учета. Нужен экспонат, а его не найдешь. Я-то тут при чем? – И вдруг рассердился окончательно. – Ладно, давайте кончать. Если все вокруг проворонили, то, конечно, что же спрашивать с одного человека! Вот подпишите эту бумагу, и всё! Идите отдыхайте. Не бойтесь, это же пустая формальность! Вот пропуск! Спокойной ночи! Идите! Не волнуйтесь!
Город Алма-Ата. 1 сентября 1937 года.
Я, Зыбин Георгий Николаевич, проживающий в городе Алма-Ата, улица Карла Маркса, 62, даю настоящую подписку следователю милиции по Алма-Атинской области Зеленому А. И. в том, что до окончания предварительного следствия и суда в преступлении, предусмотренном 112-й ст. УК РСФСР (преступная халатность), обязуюсь не выезжать с места своего жительства без разрешения следователя и суда и явиться по требованию следственных или судебных органов.
Обвиняемый…
Подписку отобрал…
Вышел он из управления уже в девятом часу. Было совсем темно. Он постоял, подумал и вдруг ринулся на угол к автомату. Назвал нужный номер, телефонистка соединила, и ни-кто не ответил. Он перезвонил, стоял, кусал губы, понимал, что ее нет дома, но все-таки стоял и ждал, пока со станции не ответили: “Абонент не подходит”, тогда он швырнул трубку, вышел и хлопнул дверью так, что все зазвенело. “Опять упустил… – сказал он громко. – Ах ты…” И быстро пошел, почти побежал, добежал до дома и вдруг застыл. В окнах горел свет. Яркий, открытый, наглый. На занавеске стояло округлое черно-зеленое пятно. Кто-то рылся в его столе. Он полез в карман. Ключи были там. Значит, дверь они попросту взломали. В столе лежит коробка патронов. Они их уже нашли. Ну, значит – всё. Он мгновенно сообразил это и еще сотни других мелочей и разностей – и важных, и совершенно не важных, потому что сейчас все было совершенно не важно, ибо ничего нельзя было уже поделать. И вдруг он больно стукнулся головой о дерево: оказывается, он все отступал и отступал, все пятился и пятился, пока не налетел на ограду парка.
Это сразу отрезвило его, и он подумал: “А подписка-то? Зачем тогда они отбирают подписку-то?” Но сейчас же понял, что “зачем” тут ни к чему, и не такое еще сейчас случается, а в общем, никто не знает, что сейчас случается, а что нет, и не об этом нужно думать, и надо что-то немедленно решать. Бежать к директору – ведь он ждет его звонка. Пусть сейчас же он трезвонит по всем вертушкам и требует остановить, отменить, задержать. Да, да – бежать к директору. Он отошел от ограды парка, сделал два шага и тут же почувствовал – именно почувствовал, а не понял, – что все это глупость, ерунда, бред собачий и теперь уже и это ни к чему. У них же ордер! А ордер сильнее всего на свете. И ему вспомнилось, как только месяц назад он был поняты́м и военный ему предъявил ордер на право обыска и ареста его соседа. И как он тогда, увидев эту гнусную зубчатую бумажку с синим факсимиле внизу, онемел, отупел и просидел два часа не шелохнувшись. И таким-то он был тогда смиренным, и все понимающим, и согласным во всем, что просто плюнуть хочется. И как он, когда тот несчастный обращал на него глаза, быстро отворачивался. Вот и директор теперь тоже отвернется. Нет, надо кончать. Чего зря пугать людей?
Он нашел дыру в ограде – ребята выломали один прут, – протиснулся сквозь нее боком и зашагал к могилам. Могил было две: генерала Колпаковского и его супруги. Когда-то здесь находились цветники, стояла ограда, висела неугасимая лампадка. Сейчас ничего не было. Только две огромные глыбины из красного гранита да черная якорная цепь над ними – смертная двуспальная опочивальня! Цепь огораживала этот кусочек парка от мира. Она тоже, конечно, что-то обозначала: вероятно, последнюю пристань, державность брака, нерасторжимость душ, крепость смерти, а вернее всего, как поется в церкви: “Оглашенные, изыдите”. Вот цепь, вот камень, вот крест – на этом месте кончилось земное и началось небесное. Не подходите, оглашенные, – сие место свято! Но оглашенные не ушли, а начисто растаскали все, что только могли. Даже мрамор с фамилиями и то утащили, и только цепь над двумя безымянными могилами по-прежнему висела в древесной сырой полутьме и пугала случайные парочки. Директор не раз собирался убрать или просто взорвать эти глыбины, да руки все не доходили. А потом и он, Зыбин, вмешался. Он сказал: “Все это как-никак, а история, краеведение. Времена меняются. Вот Хабаров уже опять великий человек, и Кутузов тоже великий человек, и даже суворовский музей открыт опять в Ленинграде. Так мало ли что! Повремените”. И могилы остались. Под одной из глыбин у Зыбина был тайник. Как-то очень давно, ранней весной, он обнаружил под одной плитой дыру. Рука уходила в нее по плечо. Бог знает, что это было: нора, правда тайник или просто земля осела под камнем. Тогда, во всяком случае, в дыре была только жидкая грязь, и он забыл о тайнике. А вспомнил о нем внезапно через месяц, когда ему пришлось прятать от деда бутылку коньяка. А потом тайник служил ему верой и правдой по всяким случаям круглый год. И сейчас он опять отыскал его и спустил туда браунинг, фонарик и охотничий нож. “Еще хорошо, – подумал он, – что не обыскали”. А впрочем, сейчас и на это наплевать.
И вдруг он почувствовал страшную усталость – не боль, не страх, не тоску, а именно усталость. “Так вот где таилась погибель моя”, – подумал он. А ведь еще сегодня утром он купался в горной речке, карабкался по пригорку, слушал кузнечиков и стоял под свежим горным ветром. Как это все-таки удивительно! А самые-то две последние мысли его были – первая: “Так, значит, все-таки так и не удалось встретиться с Линой”. И вторая: “А может, все-таки не поддаваться им, сбежать”. До Или верст тридцать пять. Туда ходят порожняки. Вскочил на подножку и уехал, и до утра его не хватятся. А на Или жар, сухая степь, раскаленная земля, желтая река. Склоны, обрывы, уступы – черный, зеленый, синий камень, и по нему мечутся кеклики, те самые жирные круглые птицы, которые никогда не водились на Карагалинке. А сползешь с уступов вниз, и откроется глинистая широкая гладь вся в сухих тростниках и камнях. Безлюдье, тишь, только через каждые семь – десять верст попадаются рыбацкие землянки с белыми тростниковыми крышами. Иди до китайской границы, никого не встретишь. А там, в Китае… И вдруг он понял, что сходит с ума, что сидит на могиле и бредит. Он поднялся, отряхнулся, нашел в кармане зажигалку, щелкнул ею, осветил серую неуклюжую глыбину. Да, действительно, место последнего причала. Тут уж ничего не скажешь! Генерал Колпаковский, генеральша Колпаковская! “Прощайте, покойнички! Ведь каждый день я проходил мимо ваших превосходительств и даже не замечал вас. А вы ведь город этот построили, парк этот разбили, благодетельствовали, покоряли, искореняли, насаждали, а я так про вас ничего и не знаю. Не дошла еще до вас моя наука, слишком вы для нее молоды. Сто лет – разве это срок для археологии? Но все равно вас скоро вспомнят. Вспомнят, черт их побери, помяните мое слово! Притащат мраморные плиты и бронзой насекут на них ваши имена. А вот цепь, пожалуй, отнимут – ни к чему, скажут, она у нас в стране! Все течет, все меняется, дорогие покойнички! И вот истории уже нужны генералы. А ты, молодая, чудная, в короне, фате и золотом уборе, убитая неизвестно кем и за что, ты, чью голову я сегодня держал в ладонях…”
И вдруг необычайное умиление, расслабленность и растроганность овладели им.
Он сел опять на глыбу и обтер глаза.
Посидел, подумал, поулыбался неизвестно чему и кому, потом встал, пересек газон, вышел на асфальт и остановился под фонарем. Свет был желтый, жидкий, противный. Он стоял, опустив руки и голову, и ни о чем и ни о ком уже не думал, а только стискивал и стискивал себя в кулак.
Прошло десять минут, двадцать, полчаса – он все стоял. Ему надо было вживаться, уйти в себя, поверить в то, что произойдет с ним сейчас, сию минуту, во всяком случае, в этот час. Вот он войдет к себе, и сразу окажется, что этот дом уже не его, а их, а ему они прикажут сесть и не двигаться, выпотрошат карманы, посадят в машину между двумя и увезут. И он будет уже не он, а некто с обрезанными пуговицами и без шнурков, которого два раза выводят на оправку и раз на прогулку, допрашивают, ругают, грозят и приказывают в чем-то сознаться, чтоб не было хуже. Вот все это ему надо было себе представить, уверовать в это и решиться.
Веселая парочка прошла мимо него. Он стоял на дороге, и им пришлось его обойти. В конце аллеи они обернулись, и она что-то сказала ему, он засмеялся. Зыбин вспыхнул и пошел. Шел он четкими, уверенными, солдатскими шагами. Раз-два, ать-а! Ничего в нем уже не замирало и не ёкало. Он был спокоен. Он был так спокоен, что и страха в нем уже не осталось. “Ну по-смотрим, посмотрим, господа хорошие”, – вздрагивало в нем что-то злое, решительное и почти радостное. Таким он зашел на крыльцо и со всего размаху пнул дверь. Она сразу же отскочила. В тамбуре было темно и тихо. Крошечная коридорная лампочка освещала три двери – две белые и одну черную. Черная на чердак, правая белая – к соседу, левая белая – его. И только что он занес ногу, чтоб ткнуть со всего размаху эту левую белую, как вдруг запел Вертинский. “Вот сволочи, – подумал он ошалело, – совести у них уж никакой”, – и не пнул, как собирался, а тихонько открыл дверь, так, что она не скрипнула.
На столе, покрытом белой свежей скатертью, стоял патефон, и над ним колдовал Петька, электротехник музея. В кресле сидел дед. “Понятые”, – понял он. И тут он вдруг увидел Лину. Она появилась из глубины комнаты, подошла к Петьке и жарко наклонилась над ним. На ней был алый шарф. В волосах торчала высокая гребенка. Все было беззвучно, как в немом кино. Он так остолбенел, что ухватился за дверь, и она скрипнула.
И тут его увидел дед.
– Появился, – сказал он насмешливо. – Ты мне ведро водки должен поставить. Еле-еле удержал твоих красавиц. Пять раз уж собирались идти. Водку, спрашиваю, принес? А то сейчас к шоферам пошлю.
Все обернулись. Зыбин стоял на пороге. Все было странно и чудно, точно во сне.
– Лина, – сказал он подавленно. – А я сейчас хотел бежать к вам.
Она засмеялась, шарф упал, и теперь свет бил вовсю по ней, по ее голым плечам.
– А вы всегда, Георгий Николаевич, много хотите и ничего не делаете, – сказала она спокойно и радостно. И он вздрогнул от ее голоса, оттого, что все это на самом деле.
– Лина! – крикнул он, бросаясь к ней. – Лина!
– Здравствуйте, здравствуйте, дорогой, – она протянула ему обе руки и этим как бы приблизила и вместе с тем удержала на расстоянии, – ну-ка дайте взглянуть на вас. Ой, похудел, почернел, погрубел, но ничего, ничего! Все такой же красивый.
– Он золото, – прохрипел дед. – Он пятьсот стоит. Если бы пил меньше…
– Да нет, меньше никак не выходит, – засмеялась Лина и наконец развела руки: разрешила себя обнять. – Компания не та. Мы вас с Кларой уже часа два ждем, все около дома на лавочке сидели. А вот встретился молодой человек и привел сюда. Оказывается, у вас один ключ ко всем дверям подходит. Обчистят вас когда-нибудь до нитки, товарищ дорогой.
– А что у него воровать-то? – прищурился дед. – Бумаги? Я ему говорю, дай на пол-литра, я все их на тачке зараз свезу в утиль.
– Лина, милая Лина. – Он обнимал ее и прижимал к себе, и глаза у него были мокрые от слез.
Она немного постояла, потом тихонько отстранилась и ласково сказала:
– Ну, ну, ладно, ладно, потом. Вы вот перед Кларой-то извинитесь, она все время звонила директору.
Вот тут он и увидел Клару. Быть может, на ней горел отраженный свет Лины, может, весь мир сделался для него в эти минуты прекрасным, но Клара сейчас показалась ему очень красивой. Высокая, тонкая, стройная, с матовым спокойным лицом и черно-синими волосами. И платье было на ней черное и глухое.
“Похожая на черное распятье”, – вспомнил он чью-то строчку.
– Ну так все в порядке? – спросила она тихо, подходя. На мгновение он задумался, потому что начисто забыл про все и все это надо было вспоминать сначала, а потом бухнул:
– В порядке, я расписку уж дал.
– Какую? – испугалась Лина.
– Как? – схватила его за руку Клара.
– А это чтоб не убежал, – сказал дед понимающе, – а то заберет золото да и махнет в Америку. Такие события тоже бывают. Вот когда я у Шахворостова купца работал, казначей у него был, такая пьяница горькая, беспортошная, а знаешь как воображал про себя? Так вот раз тоже забрал из магазина выручку за неделю да и…
– Так ведь золота он даже и не видел, – беспокойно сказала Клара и оглянулась на деда.
– А там разберут, разберут, видел он или не видел, – отрезал дед и махнул рукой. – Там все до ниточки разберут – кто он, откуда, когда родился, когда женился.
Вот директора как вызвали туда, так и пропал. Только оттуда допустили позвонить – запри, мол, кабинет, и пусть ученый сразу ко мне бегит, если его не посадят, конечно. В восемь часов велел зайти.
– Что? – вскочил Зыбин. – Так что ж ты…
И как раз зазвонил телефон. Клара подошла и сняла трубку.
– Да, – сказала она. – Да! Вот передаю. – И протянула трубку Зыбину.
– Ты что, живой? – спросил директор жизнерадостно. – А я уж звонил в милицию, что, мол, мучаете нашу ученую часть. Что они там от тебя хотят? Золота?
– Подписку отобрали, – ответил Зыбин.
– Что?! – сразу взвился директор. – Подписку?.. И ты небось сразу и дал? Эх, шляпа! Зачем же было давать? Ты б хоть со мной посоветовался, а то небось оробел и сразу же подписал. Эх, шляпа, шляпа. Ну ладно, беда невелика. Дед у тебя? Всё пьете? И Клару на радостях поите небось? Ты смотри! Я сегодня посмотрел – у нее губы посинели. А кто еще там у тебя?
– Петр и дед, – ответил Зыбин.
– И всё? Ты смотри, брат, все прошляпишь, – сказал директор, – и ту, и эту! Ну ладно. Поговорим. Спокойной ночи. И завтра на службе чтоб как стеклышко! Чтоб весь звенел, понял?
Когда он отошел от телефона, Лина была уже в плаще.
– Вы сначала меня проводите, – приказала она, – а потом Кларочку доведете до дому. – Она подхватила Клару под руку. – Пойдемте, моя хорошая, вы ведь тоже устали и изнервничались. Ух, какие у вас в Алма-Ате ночи!
Дед идти отказался.
– Вы уж одни, вы все молодые, веселые, у вас свои разговоры, а мне завтра с петухами вставать. Мне даром никто деньги платить не желает. Так что прощенья просим.
И ушел, твердо надев картуз и даже не покачиваясь.
– Вы заприте дверь, – приказала Лина с порога, когда все вышли. – Как же так, оставлять дом ночью открытым, что так плохо за вами ваши женщины смотрят?
Луна висела над собором большая, мутно-прозрачная, как кусок янтаря над свечкой. Было светло и тихо, и даже тополя не шумели. Лина вдруг остановилась посредине улицы, откинула голову и несколько раз глубоко вобрала воздух.
– Чувствуете море? – сказала она, хватая Зыбина за руку. – Оно вон, вон за той аллеей! И тополя такие же, только совсем тихие. Помните, как вы их называли? Цыганками! Там, Кларочка, у них каждый листочек дрожит. А здесь они у вас стоят не шелохнутся.
– Но это они до разу, – обиделся за свои тополя Петька, – как ветер налетит, так сразу зашумят, как пена в тазу.
Лина посмотрела на него и рассмеялась.
– Нет, Петр Николаевич, вы просто прелесть, – сказала она и подхватила его под руку. – Как пена в тазу. Жена стирает на ночь в тазике блузку и вешает над примусом, чтоб к утру просохла, а муж ворочается во сне и слышит. Вы женаты, Петр Николаевич?
Петька отвернулся.
– Нет, – сказал он угрюмо.
– Ну и не надо, – весело посоветовала ему Лина. – Еще успеете запрячься. Вот Георгий Николаевич никогда не женится. Сколько бы ни собирался, а не сумеет. Я его знаю. Мы старые друзья. Кларочка, а далеко отсюда до большой воды?
– Да верст, наверное, тридцать пять будет, – ответил Зыбин. – Поезд идет почти полтора часа. – И чуть не добавил: “Отходит в семь тринадцать от городской платформы”.
И сейчас же он снова увидел спокойную глинистую реку, сыпучую гальку, сухой белый и желтый тростник, скалистые берега из синих, желтых, черных, белых, разноцветных камней. Жара, сушь и так сохнет во рту, что даже вода освежает только на минуту.
– Как-нибудь обязательно съездим, – сказала Лина. – Ладно, Кларочка?
Она уже подхватила Клару под руку. А та шла и смотрела через верхушки тополей на горы, на голубые от луны горные леса. Вопрос Лины она так и не расслышала.
А Лина уже опять повернулась к Петьке.
– Совершенно морской город, – сказала она уверенно. – Здесь море живет в каждом доме, в каждом тополе. Я сразу вспомнила – черноморские бульвары такие. Впрочем, их надо видеть. Георгий Николаевич, а помните тот парк, где вы в тире выиграли матрешку? Вы знаете, Кларочка, она и до сих пор стоит у меня на буфете. Такая огромная! Подарочная! С полметра! Вы никогда не были на море, Кларочка?
Клара покачала головой. Она все так же неподвижно смотрела на лунное небо и горные мохнатые перевалы.
– Ну вот и отлично, соберемся все и поедем. Вы еще отпуска-то не брали, хранитель? Ну и не берите! Возьмем вместе в апреле или в мае. – Они остановились перед гостиницей. – Ну вот, товарищи, я и дома. Спасибо. Теперь проводите Кларочку и – спать, спать, Георгий Николаевич, я вам завтра позвоню после работы, хорошо?
– Хорошо, – ответил он. – Только, если можно, попозднее, я завтра еду в одно место и, наверно, задержусь.
– Это куда же?
– Ну по работе надо.
Лина засмеялась опять.
– Вот что значит дикий человек. Не знает ни работы, ни отдыха. Ну ничего. Мы теперь за вас с Кларочкой примемся! Затаскаем вас по горам. Эх, жалко, что мне завтра рано вставать! В такие ночи нужно шляться по улицам до рассвета. Ну, привет, товарищи!
И ушла, помахивая рукой.
Обратно они шли втроем. Он держал Клару под руку и физически чувствовал, как ей не терпится добраться до кровати и рухнуть лицом в подушку. Он молчал. “Дрянь я все-таки страшная”, – подумал он, сказал это слово вслух и сейчас же сгорел от стыда: затряс головой, заулыбался, загримасничал, забормотал что-то. Петька удивленно покосился на него, а Клара спросила:
– Так во сколько вас завтра разбудить по телефону?
– Ну вот еще, – ответил он. – С чего это вы меня станете будить? Я вас разбужу!
Она вздохнула.
– Отлично!
– Часов в семь для вас не очень рано? – спросил он.
– Нет, не очень. Можно и раньше.
Она вдруг остановилась.
– Ну, вот уж мой дом, – вздохнула она со страшным облегчением. – Спокойной ночи.
И она скрылась в глубине двора, даже не простившись.
Дома он опять зажег все лампы – настольную, люстру, боковой свет, – прошел к столу и бухнулся в кресло. Все здесь еще носило ее отпечатки: вот стул – на нем она сидела, вот стакан – она его не допила, вот половина конфеты, вот книжка – она ее просматривала и бросила на диван. И тут он вдруг понял, что совершенно зря позвал Клару. С Петькой было бы все куда проще. А теперь им придется провести целый день наедине. Ведь в самом лучшем случае – если они попадут на семичасовой – он вернется в шесть! Значит, позвонит Лине часов в восемь-девять. Опять неладно! Впрочем, это уж и не важно. Теперь это не самое главное. Самое главное, что она его все-таки нашла. Ведь приехала-то она одна! Стоп! Ты так уверен, что одна? Он вскочил, сел на диван и стал быстро листать книжку. Нет, конечно, все-таки, конечно, одна. Иначе она сказала бы. Кларе, например, обязательно бы сказала. А впрочем, с нее все станется. Может быть, и не одна. Ну что ж, тогда они как встретятся, так и разойдутся. За эти годы он многому научился, он “изучил науку расставанья”. Вероятно, это уже старость подходит. Все стало легко. Вот Корнилов не такой. Он молод, горяч и, как говорит Державин, в правде черт. Зато и своего не упустит. Вот Даша, кажется, уже его. Как она сегодня ринулась за него в бой! Потапов даже засопел от неожиданности. Что ж? Правильно! У Корнилова все ясно, четко, недвусмысленно. Как он думает, так и режет. А вот он хитрит. А Потапов рычит и дрожит, а Клара молчит и прячет глаза. И никто ничего толком не может объяснить, что случилось с людьми. А без этого и жить нельзя. В мире происходит что-то совершенно необычайное. Крутят по миру какие-то черные чудовищные протуберанцы и метут, метут все что ни попадется на пути. Почему, зачем – кто поймет? Хотя читай речи вождей, в них все ясно. “Это и есть истина, – сказал сегодня директор. – Если мы будем в это верить, то победим”. И верят же, действительно верят. Ох уж эта вера! Та самая, что горами двигает и города берет. Где бы и мне ее достать? Верую, верую, Господи, помоги же моему неверию! А впрочем, зачем тебе вера? Помнишь Сенеку, трагедию “Эдип”: “Да будет мне позволено молчать – какая есть свобода меньше этой?” Так вот воспользуйся хоть этой самой меньшей свободой. Так ведь не воспользуешься, опять начнешь все объяснять и подгонять, вот как сегодня ты пел Даше: “Надо знать, когда и кто”. Сознайся, гадко ведь, а? А вот у Корнилова этого нет. За это его и любят. Но только с Линой у него определенно ничего не получится. Она стена для таких, как он. Ее в мире не интересует ничего, кроме ее самой. Вот море, походы, костры из смоляных ветвей, сноп искр над костром, прогулки до зари по берегу – это ее. И она не притворяется – она действительно такая. И ты без памяти влюбляешься в это цельное, бездумное, свободное от страха существование. Оно же по-настоящему прекрасно! Потом наступает, конечно, отрезвление. Она расстается с тобой на вокзале, ты уходишь очарованный, влюбленный, надававший тысячи клятв себе и ей, сидишь один в комнате, вспоминаешь и думаешь, улыбаешься своим мыслям. Так проходит неделя, другая, и вдруг наступает отрезвление. Ты понимаешь, что какая-то невероятная сухость, черствость и даже старчество проглядывает в ее невозмутимой ясности. И самое главное – она ведь проговаривается! Нет, нет, она не особенно умна. Ее гармонию держит инстинкт, привычка, бессознательное чувство равновесия, а никак не разум. Она могла с ясным лицом рассказать о себе что-нибудь такое, что даже в те блаженные дни вдруг заставляло его как бы мгновенно осечься, очнуться, упасть с пятого этажа – посмотреть на нее со стороны. Господи, что же это такое? Но все это и продолжалось мгновение. Она сразу же ловила его настроение и всегда умела заставить забыть его все. Чуткой в этом отношении она была невероятно. Как бы он ни старался скрыть свое настроение, она видела его насквозь. Даже во время разговора по телефону. Но один раз он все-таки взорвался, и тогда они поссорились. И вот теперь…
Он думал об этом и сам не замечал, как клонится долу, дремлет, засыпает, сидя в кресле около окна. Он так ничего как следует и не продумал и не решил насчет завтрашнего утра.
А проснулся он внезапно и сам не понял почему. Поднял голову и поглядел в окно. И вдруг услышал тихое поцарапывание, потом стук, тоже тихий-тихий, “тук-тук, тук-тук”. Он подумал, что это, наверно, ветка качается. Но стук повторился – четкий, ритмичный, и тут из темноты вдруг выплыло и прижалось к стеклу лицо Лины. Она смотрела и делала рукой какие-то знаки. Он вскочил, подлетел к окну и так резко рванул раму, что что-то посыпалось на подоконник.
– Боже мой, – только и сказал он.
И больше у него ничего не нашлось.
– Принимаете гостей? – спросила она весело. – А ну-ка руку. – И, не задев подоконника, она гибко, как на турнике, перекинулась в комнату. – Ну вот и всё. Вот что значит ГТО первой ступени.
Он стоял перед ней и не знал, что и сказать и что сделать. Просто стоял и смотрел.
А она спокойно подошла к зеркалу и поправила волосы.
– Девушку проводили домой? – спросила она, не оборачиваясь. – Великолепная девочка! Серьезная такая, простая и о вас убивается. А вы ничего замечать не хотите. Эх вы! У вас гребенка-то есть? Дайте-ка я причешусь. – Она вынула пудреницу и несколько раз коснулась пуховкой щек. – Больше всего боюсь загореть. Слушайте, подарите-ка мне вот такую белую шляпу с полями, в них, кажется, здесь пастухи ходят. У вас, наверно, есть такие.
– Сейчас, сейчас, – сказал он и кинулся куда-то в угол.
– Да стойте, куда вы? – засмеялась она. – Пойдите-ка сюда. – И она сбросила ему на руки платок. Плечи у нее опять оказались голыми. Он молчал. Она усмехнулась и провела рукой ему по волосам. – Все такой же трепаный. А время два часа! Ну все равно, полчаса я, пожалуй, могу посидеть. Чаем напоите?
И пока он ходил по комнате, возился с чайником, мыл чашки, она сидела на диване. Сидела и смотрела на него молча смеющимися, сияющими, слегка тревожными глазами.
А он, сделав все, вдруг подошел и крепко обнял ее за плечи. Она, улыбаясь, посмотрела на него, тогда он притянул к себе ее голову и поцеловал, расплющивая губы, крепко и больно несколько раз. Потом стал целовать глаза и опять губы. Тут она ладонью слегка уперлась в его лоб.
– Ну, ну, – сказала она. – Не торопитесь! Сядьте, поговорим. (Он все не отпускал ее.) Но ведь вы даже не знаете, одна я тут или нет.
– Одна, – ответил он уверенно.
– И думаю только о вас? – Она легонько освободилась от его рук. – Постойте-ка, художественная часть потом. Рассказывайте про себя. – Она встала, прошлась по комнате, подошла к барометру. – Великая сушь, – прочитала она. – Значит, живете, работаете и, как говорит ваш директор, закапываете в землю казенные деньги. До того уж докопались, что вас таскают в милицию и отбирают подписку – дальше-то теперь что? (Он сделал какое-то движение.) И хорошо, тут вы, положим, ни при чем. За это ответит директор, но вы что? Решили здесь осесть? Остаться навсегда в этой комнате?
– Почему? – спросил он.
– Нет, это я вас спрашиваю почему. Это что – ваше жизненное назначение – грызть эти холмы? А?
Он пробормотал:
– Не знаю. А что?
Она рассмеялась.
– Да нет, опять-таки ничего. Просто я как-то совсем не того ожидала от вас. – Она посмотрела на него. – Я ведь очень, очень часто вспоминала вас.
Он встал, подошел к чайнику, пощупал его ладонью и снова заходил по комнате. Ему надо было собраться с мыслями.
– Раскопки ведутся дилетантски, – сказал он наконец. – Непоправимо дилетантски. Ни я, ни тем более Корнилов не знаем, что творим. Даже какой объект раскапываем, и то не знаем. Если бы здесь появились настоящие ученые, они не взяли бы нас даже в препараторы. Это так.
Она слегка неожиданно развела руками. Он мельком взглянул на нее и продолжал:
– Да, вряд ли взяли бы даже в препараторы. Впрочем, Корнилова, вероятно, взяли бы. Он окончил что-то археологическое. А меня бы, конечно, погнали в шею. Я же даже не историк, и сидеть бы мне да сидеть над изучением первоисточников по истории античного христианства. Вот тогда бы я был действительно на своем месте. Но что делать? Мы хоть понимаем, с чем мы имеем дело. И если что-нибудь не знаем, то уж не знаем по-научному. А здесь просто никто ничего не знает, и все. До сих пор раскопки вели учитель французского языка, статистик, землемер, гидротехник, чиновник особых поручений. Это если брать весь Казахстан в целом. Здесь же вообще, кроме кладоискателей, никого и не было. Если нам и далее повезет так же ослепительно, как повезло этим неизвестным, – я говорю о золоте, – то уже в будущем году сюда приедет экспедиция Эрмитажа и нас всех разгонят. Да еще обзовут, поди, за то, что мы натворили. Но дело-то уж будет сделано. Так что меня как раз интересует не это.
– А что же? – спросила она. – Что же вас интересует, хранитель?
Он подошел к плитке, выключил ее, снял чайник, заварил, укутал его салфеткой и снова заходил по комнате. У него было такое ощущение, что он увидел ее сегодня, рванулся к ней и отскочил, потому что между ними было то же самое оконное стекло и он расшибся до крови. Эта боль его сейчас и отрезвила.
– Я хочу добраться до азиатских пустынь, – сказал он, – там пески засосали замки, усадьбы, города, там обсерватории, библиотеки и театры. Это Хорезм, Маргиана, Бактрия. Вы знаете, что такое раскаленный песок? Заройте в него человека, и он через месяц высохнет, одеревенеет, но останется по виду прежним. Что перед этим богатством Нубия и Египет? А древний Отрар? Вторая библиотека древнего мира? Ее до сих пор не нашли, но она где-то там, в подземелье. И вот в какой-нибудь нише стоит сундук, и в нем лежит полный Тацит, все сто драм Софокла, десять книг Сафо, все элегии великого Галла, от которого не осталось ни строчки. Вот куда хочу я обязательно добраться с лопатой. А это так, начало.
Он подошел к столу и стал разливать чай.
Она вдруг подошла и обхватила его.
– Фантазер вы мой, – сказала она ласково, прижимаясь к нему. – Барон Мюнхгаузен. Как я боялась, что вы уже не тот! А вы… Да бросьте вы этот чай, никому он не нужен. Идите-ка ко мне. – И она бухнула его на диван.
– Ну хорошо, – сказала она. – Все это хоть не особенно логично, но все-таки на что-то похоже. Но ты ведь копаешься не там, в песках, а здесь, в глине, какой уж тут Тацит и Эврипид.
Они оба лежали на диване, и она слегка его обнимала за плечи.
– Стой, стой, не перебивай. Я чувствую, с тобой что-то творится. При чем тут эта девочка с глазами серны, этот дед, водка? По-моему, ты после нашей встречи однажды здорово получил по шее и вот забегал, заметался, так?
Он молчал.
– Ладно, не хочешь говорить – не говори. Тогда я спрошу другое: вот эти люди, которые с тобой работают, кто они? Как они к тебе относятся?
В вопросе был уже и ответ. То есть он понял по ее тону, что это, пожалуй, уже и не вопрос, а ответ.
– Ты о ком спрашиваешь? – спросил он не сразу.
– Не бойся, не о Кларе. Тут уж все ясно.
– Так о ком?
– Не нравится мне твоя дружба с Корниловым, – сказала она после недолгого молчания. Он удивленно посмотрел на нее. – То есть парень-то он ничего, с этим самым, – она покрутила пальцем у головы, – с бзиком, с фантазией, но, милый, плевать он хотел на твои пески. И сидит он там только потому, что ему некуда деться. Но и пить он там может сколько угодно. И девушка у него под боком. Что еще надо? Живет мужчина!
– Ты даже девушку заметила, – усмехнулся он.
– Да не очень большая премудрость, дорогой, заметить девушку. Но если бы ты только присутствовал при нашем с ним знакомстве и поездке в горы…
– А что? – спросил он с любопытством.
– Да то! Пришел, увидел, победил. И сразу же понял, что победил. После того как он на моих глазах сиганул во всем в эту… Ну как называется это ваше недоразумение? Алма-Атинка, что ли? Так вот он нырнул в самый водоворот у камня, достал какие-то там голыши, видел бы ты, как он взглянул на меня. Гром и молния! Цезарь и Клеопатра!
И они оба немного посмеялись.
– Но все-таки, почему он тебе не понравился? – спросил он.
– Наоборот, очень понравился! – ответила она. – Очень. А вот ваши с ним отношения мне не очень нравятся. Ведь вы, наверно, спорите, а? Он тебе что-нибудь говорит такое, а ты ему отвечаешь чем-нибудь этаким? Да? И орете на весь колхоз? (Он молчал.) Вот это мне не нравится. Очень, до крайности не нравится. Просто из самых мелких, эгоистических соображений не нравится. Ты же знаешь, какая я черствая эгоистка.
Он поднял голову.
– Знаю, – ответил он серьезно, без улыбки.
– Ну вот и всё! Я приехала специально к тебе, и если вдруг с тобой случится что-нибудь, для меня это будет страшным ударом – разве непонятно?
– Да, – сказал он, вдумываясь в ее слова, – понятно. – И еще раз повторил: – Да. Понятно. Стой-ка, я закрою окно.
Он ушел в темноту, постоял, повозился, позвенел чем-то, потом подошел к ней, но не лег, а сел рядом. Она почувствовала, что он снова ушел от нее куда-то, и ласково спросила: “Ну что ты?” – обхватила его за талию и притянула к себе.
– Я ж тебя люблю, – сказала она грубо, по-бабьи. – Люблю, дуралей ты этакий. Разве ты не видишь?
– Ты разговаривала с директором? – спросил он все из того же отдаления.
– Ну что ты? – спокойно удивилась она. – Конечно, нет.
– Значит, Клара тебе наговорила, – кивнул он головой. – Но все равно, это очень странно. – Он вдруг положил ей руку на плечо. – Но раз ты уж начала этот разговор. Расскажи все толком, что она тебе наговорила. Только толком, толком. Стой! Ты ведь хочешь, чтоб я что-то понял, так? Ну вот и объясни мне, что и как.
Она помолчала, подумала.
– У Корнилова уже сложилась нехорошая репутация, – сказала она не сразу. – При всех его разговорах присутствуешь ты. Присутствуешь, и слушаешь, и молчишь, то есть одобряешь. Ты понимаешь, что это значит?
– Ну, ну, – сказал он, когда она замолчала. – Я слушаю, что же дальше? Корнилов много болтает, я молчу. Но какой-нибудь разговор конкретно назывался? Фразы какие-нибудь, анекдоты, хохмочки? Конкретно, конкретно. Тогда-то, там-то.
– Конкретно нет.
– И все это Клара тебе рассказала, когда вы ждали сегодня меня на лавочке. Понятно. Значит, вот о чем с ней сегодня говорил директор.
– Директор? – испугалась она. – Неужели и директор что-то заметил? Тогда это очень и очень серьезно. Вот до чего тебя довел Корнилов. Его пьяные выходки. Гнать его надо, и всё!
Он лениво усмехнулся и лег с ней рядом.
– Ладно, теперь уж все равно поздно. Давай-ка спать лучше.
– Ты послушай меня, ты первый и последний раз послушай меня. Я знаю, что ты думаешь про меня. Этого ведь не скроешь. Могу только сказать одно: психолог ты никудышный. Писатель из тебя не получился. Но не в этом дело. Если бы ты имел какую-то цель, что-нибудь захотел, чего-то добивался. Но ведь ты ровно ничего не хочешь, ты только ходишь и треплешься, рискуешь головой за словечко, за анекдот. Высказываешь свое недовольство в формах, опасных для жизни. Ты, как говорят юристы, источник повышенной опасности.
Он открыл глаза.
– Это для кого же я такой?
– Ну хотя бы для тех, к кому ты обращаешься. Пойми, люди попросту боятся. А ты покушаешься на их существование. В мире сейчас ходит великий страх. Все всего боятся. Всем важно только одно: высидеть и переждать.
– Вот как ты заговорила, – сказал он удивленно. – А я-то думал…
– Ай, ты думал! Противно! Ничего ты обо мне не думал и не думаешь! Не знаешь ты меня, и всё! А ведешь ты себя как хулиганистый ученик. Знаешь, всегда находится такой заводила в классе. Встает, задает ехидные вопросы, класс гогочет, а он сияет, вон, мол, какой я умник! Класс он, конечно, насмешит, учителя вгонит в пот, но из школы тоже вылетит пулей – директора таких не терпят. И им наплевать, кто прав – он или учитель, им важна дисциплина. Пойми, не ты опасен, опасно спускать тебе все с рук. Опасно то, что у тебя уже появились подражатели – они пойдут дальше тебя, хоть на пальчик, да дальше, а потом и вообще. Вот почему в наше время и слово считается делом, а разговор деятельностью. Есть времена, когда слово – преступление. Мы живем сейчас именно в такое время. С этим надо мириться.
– Сейчас ты заговоришь со мной о войне – не надо! – сказал он. – Директор с этим уже надоел.
– Не бойся, не заговорю, а просто спрошу. Ты хорошо понимаешь, что ты делаешь? Тебе что, очень дорог этот Корнилов? Все эти его пьяные выходки, тебе они очень дороги?
“Вот баба, – подумал Зыбин, – обязательно надо будет предупредить Корнилова”, – и сказал:
– Ну при чем же тут твой Корнилов? Что ты нас сравниваешь? Корнилову наступили на хвост, вот он и орет дурным голосом. Нет, тут другое. – Он потер себе переносицу. – Ты понимаешь, – продолжал он уже медленно и задумчиво, подбирая слова, – ты говоришь, что я треплюсь, а я ведь молчу, я как рыба молчу, но тут вы все правы, я чувствую, что не смогу так жить дальше. Не смогу, и все, что как-нибудь каркну во все воронье горло, и тогда уж действительно отрывай, как говорит дед, подковки.
– Ну зачем же ты каркаешь, если понимаешь это? – спросила она недоуменно. – Чего тебе не хватает? Тебе-то кто наступил на хвост?
– Стой, послушай – я сегодня целый час дрожал и прощался с жизнью. Бог его знает, что я пережил за то время, пока стоял и смотрел на свое окно. Какой ужас: в нем горит свет! Значит, пришли по мою душу. Да! Ничего другого мне и в голову не пришло! Зачем? Почему? За что? Да разве я мог задавать себе такие вопросы? Только дурак сейчас спрашивает: за что? Умному они и в голову не придут. Берут, и все. Это как закон природы. Только я не могу уже больше переживать это унижение, этот проклятый страх, что сидит у меня где-то под кожей. Чего мне не хватает? Меня самого мне не хватает. Я как старый хрипучий граммофон. В меня заложили семь или десять пластинок, и вот я хриплю их, как только ткнут пальцем.
– Какие еще пластинки? – спросила она сердито. Он усмехнулся.
– А я их все могу пересчитать по пальцам. Вот пожалуйста: “Если враг не сдается – его уничтожают”, “Под знаменем Ленина, под водительством Сталина”, “Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее”, “Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство”, “Лучший друг ученых, лучший друг писателей, лучший друг физкультурников, лучший друг пожарников – товарищ Сталин”, “Самое ценное на земле – люди”, “Кто не с нами, тот против нас”, “Идиотская болезнь – благодушие”. Все это вместе называется “новый, советский человек” и “черты нового, советского человека”. Ух, черт! – Он ударил кулаком по дивану.
– Да, но чего ж ты все-таки добиваешься? – спросила она. – Мир переделать на свой лад ты не можешь, принимать его таким, как он есть, – не желаешь. Он для тебя плох. Необитаемых островов у нас нету, да тебе их и не отдадут, ну, значит?
Она развела руками.
– Значит! – ответил он твердо. – Значит! – Подошел к шкафу и достал простыни. – Значит, моя дорогая, что уж скоро утро и надо спать. Всё! Поговорили!
Она медленно покачала головой.
– Я же тебя люблю, дурак ты этакий, – сказала она задумчиво, – мне будет очень трудно тебя потерять, а ты этого не понимаешь.
Он лег на диван, вытянулся и закрыл глаза.
– Вот ты думаешь, что я всегда не права, – сказала она.
– Напротив, ты всегда права, – ответил он уже сонным голосом. – Всегда и во всем. В этом и все дело.
Он спал и думал: “Тут две беды. Первая – что я тебя тоже люблю, я здорово еще люблю, а это всегда все путает. Вторая в том, что ты права. Пошлость-то всегда права. Помнишь, я тебе прочитал Пушкина:
- Хоть в узкой голове придворного глупца
- Кутейкин и Христос два равные лица.
Да для любого здравомыслящего Кутейкин куда больше Христа, Христос-то миф, а он – вот он. Он истина! И, как всякая истина, он требует человека целиком, со всеми его потрохами и верой. Искания кончились. Мир ждал Христа, и вот пришел Христос-Кутейкин, и история вступила в новый этап. И знаешь, у него действительно есть нечто сверхчеловеческое. А я вот не верю и поэтому подлежу не презрению, а уничтожению”.
Лина ничего не ответила, она только сделала какое-то неясное движение рукой в сторону окна, и тогда он увидел того, кто сидел в кресле и, наклонившись, внимательно слушал их обоих.
– Вы, видно, на что-то намекаете, – сказал третий, и усы его слегка дрогнули от улыбки. – Но, друг мой, на что б вы ни намекали, помните: исторические параллели всегда рискованны. Это же просто бессмысленно.
Зыбин поглядел на него. Он не удивился: присутствие его было совершенно естественным. Да и не первый разговор был этот. Вот уже с месяц как он приходил сюда почти каждую ночь. И вот что удивительно и страшно – они каждый раз разговаривали очень хорошо, по душам, и Зыбин был исполнен любви, нежности и почтения к этому большому, мудрому человеку. Все недоумение, претензии и даже его гнев и насмешка оставались по ту сторону сна – наяву, – а здесь был один трепет, одно обожание, одно чувство гордости за то, что он так легко и свободно может говорить с самым большим человеком эпохи и тот понимает его. Что это было? Освобождение от страха? “Подлость во всех жилках”, – как сказал однажды Пушкин, когда рассказывал о своей встрече с царем, или еще что-нибудь такое же подспудное? Этого он не знал и боялся даже гадать об этом. Но сейчас он решил рассказать все.
– Мир захвачен мелкими людьми, – сказал он, прижав руки к груди. – Людьми, видящими не дальше своего сапога. Они – мелочь, придурки, петрушки, кутейкины, но мир гибнет именно из-за них. Не от силы их гибнет, а от своей слабости.
Гость слегка развел руками, он искренне недоумевал.
– Нелогично, – сказал он. – Опять очень, очень нелогично. Кутейкины? Петрушки? Как же они могут что-то делать против воли народа? Откуда у вас такое презрение к нему? Вот Угрюм-Бурчеев и тот сказал: “Сие от меня, кажется, не зависит”.
– Ах, – ответил Зыбин горестно. – Не в то время пришел ваш Бурчеев, в истории бывают такие эпохи, когда достаточно щелкнуть пальцем, и все закачается и заходит ходуном. А и щелкал-то всего-то карлик, какой-нибудь Тьер. Ведь Гитлер-то карлик, и вокруг него карлики, а умирать он пошлет настоящих людей, молодежь! Цвет нации! Прекрасных парней! И это будет смертельная схватка! Может быть, даже самая последняя.
– Отлично, – сказал гость. – Вы, значит, верите, что она будет последняя. А что мы ее выдержим, в это вы верите?
– Я-то верю, – сказал Зыбин и даже вскочил с дивана. – Я-то в это, как в Бога, верю. Но почему же вы не верите своему народу? Вы же сами говорите, у него есть что защищать. Зачем же тогда аресты и тюрьмы? Ведь это ваша любимая песня: “Как невесту, Родину мы любим”. Так как же связать то и это?
Гость засмеялся. Он как-то очень добродушно, искренне засмеялся.
– Молодой человек, молодой человек, – сказал он, – как же вы мало знаете жизнь, а еще спорите с нами, стариками. Чтобы построить мост, надо годы работы и несколько тысяч человек, а чтоб взорвать его, достаточно часа и десятка человек. Вот мы и добираемся до этого десятка.
– Да, да, знаю, слышал, – поморщился Зыбин. – И не от вас только слышал. Сен-Жюст еще сказал о своих жертвах: “Может быть, вы правы, но опасность велика, и мы не знаем, где наносить удары. Когда слепой ищет булавку в куче трухи, то он берет всю груду”. Видите, он хоть сознавался, что он слепой, а мы тут… Ладно. Теперь у меня вопрос о себе лично. За что вы уничтожите меня?
– За идиотскую болезнь благодушие, – сказал гость любезно. – За то, что вы остаетесь над схваткой. А ведь сказано: “Кто не со мною, тот против меня”.
Зыбин засмеялся тоже.
– Ого! Вы уже стали цитировать Маяковского! Раньше за вами этого не водилось. Неужели и он понадобился сейчас в игре?
– Я, дорогой мой, образованнее, чем вы думаете, – сказал гость. – Это не Маяковский, а Евангелие. Зря вы испытываете меня.
– Да, да, простите, слукавил: Евангелие от Матфея, глава двенадцатая, стих тридцатый.
– Ну вот видите, когда и кем это уже было сказано, – скупо улыбнулся гость, – так что же вы здесь зря прохаживаетесь насчет Христа и Кутейкина? Христы изрекают и проходят, и строить-то приходится нам, Кутейкиным. В этом все и дело. А вы нам мешаете, вот и приходится вас…
И он нажал какую-то кнопку.
Звон был длинный и пронзительный, вошли двое, и один схватил Зыбина за плечо.
Но он все-таки сумел сказать то самое главное, что хотел.
– Весь вопрос, – сказал он, – состоит только в том, можно так или нет. Если нельзя, то вы поставили мир перед ямой. Будет война, голод, смерть, разрушение. Последние люди будут выползать откуда-то и греть ладони около развалин. Но и они не останутся в живых. Но знаете? Я благословил бы такой конец. Что ж? Человечество слукавило, сфальшивило, заслужило свою гибель и погибло. Всё! Счет чист! Можно звать обезьян и все начинать сначала. Но мне страшно другое: а вдруг вы правы? Мир уцелеет и процветет. Тогда, значит, разум, совесть, добро, гуманность – все, все, что выковывалось тысячелетиями и считалось целью существования человечества, ровно ничего не стоит. И тогда демократия просто-напросто глупая побасенка о гадком утенке. Никогда-никогда этот гаденыш не станет лебедем. Тогда, чтоб спасти мир, нужны железо и огнеметы, каменные подвалы и в них люди с браунингами. И тогда вы действительно гений, потому что, несмотря на все наши штучки, вы не послушались нас, не дали себя обмануть гуманизмом! Вы вездесущи, как святой дух, – в каждом френче и паре сапог я чувствую вас, вашу личность, ваш стиль, вашу несгибаемость, ваше понимание зла и блага. С каким презрением и, конечно, с вашими интонациями сейчас у нас произносят “добрый”. Да и не добрый даже, а “добренький”. “Он добренький, и всё”. “Он бесклассово добрый”. “Он внеклассовый гуманист”. “Добрый вообще, справедливый вообще, справедливый ко всем на свете”. Можно ли осудить еще больнее, выругать хлеще? Да, опасное, опасное слово “добрый”! Недаром им Сервантес окончил “Дон Кихота”! Вы поверили в право шагающего через всё и всех и поэтому спасли нас от просто добреньких. А я не верил вам и поэтому проиграл всё. Я действительно разлагал, расслаблял, расшатывал, и нет мне места в вашем мире необходимости. Вы не дали себя расслабить благодушием, как бы хитро ни подсовывали его вам наши общие враги. Поэтому нет сильнее и чище той правды, которую вы внесли в мир. Давите же нас, вечных студентов и вольных слушателей факультета ненужных вещей. К вашим рукам и солдатским сапогам, которыми вы топчете нас, мы должны припадать, как к иконе. Так я скажу, если вы правы и выиграете эту последнюю войну. Ох как будет страшно, если кто-нибудь из вас – фюрер или вы, вождь, ее выиграете. Тогда мир пропал. Тогда человек осужден. На веки вечные, потому что только кулаку он и служит, только кнуту и поклоняется, только в тюрьмах и может жить спокойно.
Он говорил и плакал, плакал и бил себя в грудь кулаком. Он разбросал все подушки, и тогда кто-то, стоящий рядом и невидимый, сурово сказал:
– Ну брось! Что ты разревелся? Ты же отлично знаешь, что не выиграет ни тот, ни другой, ни третий, выиграем мы с тобой. Страна! Народ! Ты! Директор! Клара! Корнилов! Дед! Даша! Ты же повторяешь это себе каждый день! Знаешь, я боюсь за тебя – как ночь, так у тебя этот бред! Нельзя так, нельзя, опомнись!
А звон все продолжался.
От этого звона он и проснулся. Всю комнату заливало раннее, тонкое, прохладное солнце. Соседская черная кошка сидела на подоконнике и в ужасе глядела на него. Он протянул руку, и она мгновенно исчезла. Лины не было. Только на стуле лежала пара ее шпилек. Зазвонил телефон. Он поднял трубку и услышал голос Клары:
– Георгий Николаевич, вы опаздываете уже на полчаса, так поедем или нет?
– Да, да! – крикнул он поспешно. – Я сейчас же… Вы где, у сторожа? Отлично. Он спит?.. Нет, нет, не будите. Там у него в шкафу… Ну хорошо, я сам.
Он опустил трубку на рычаг и с минуту просидел так, неподвижно, стараясь отделить явь от сна. Все стояло перед ним с одинаковой ясностью и достоверностью – окно, разговор за столом, разговор на диване, то, что было раньше, то, что было после. “И что это он зачастил ко мне?” – подумал он.
– Ох, не к добру это! – сказал он вслух и начал собираться.
Клара ждала его. На ней был походный костюм, ландштурмовка и полевой бинокль на ремне через плечо. Рядом на скамейке лежала его сумка с продуктами. Сторож сидел рядом, громко зевал и кулаком растирал глаза. Он всегда просыпался на заре.
– А я боялась, что вы опоздаете, – сказала Клара. – Берите мешок и идемте. В семь тридцать с продуктовой базы отходит на Или колхозная пятитонка. Мы ее еще застанем, если поторопимся.
Он легко поднял сумку, перекинул ее через плечо и сказал:
– Наверняка застанем, пойдемте.
Шофер ссадил их у правления колхоза. Он работал недавно и поэтому никого тут не знал. “Справку, – сказал он, – можно было бы навести у бухгалтера”. Но бухгалтера не было, поехал по точкам, на его месте сидела ларечница, но она никого не знала.
– Савельев, тот со дня основания работает, – сказала она на его вопрос, у кого можно достать списки рыбаков. – У него все ведомости. А я тут недавно. А что, разве на кого жалоба подана?
Так Зыбин от нее ничего и не добился. Когда они с Кларой вышли на улицу (серые сырые пески, рытвины и на самом гребне бугра над обрывом правление – вот эта гудящая от ветра фанерная коробка), – так вот, когда они вышли из правления, Клара спросила:
– Теперь куда?
Он сел на лавку и распустил ремни на сумке.
– У вас никаких экстренных дел нет? Ничего такого сегодня у вас в музее не предвидится? (Она покачала головой.) Тогда сойдем вниз и пройдем по берегу. Там везде рыбацкие землянки. В любой нам скажут, где Савельев.
…Великая тишина и спокойствие обняли их, как только они спустились к реке. Здесь было все иное, чем там, на бугре. Медленные глинистые воды текли неведомо куда, таинственно изогнутые деревья стояли над ними. Узенькая тропинка хрустит и колет ноги. Берег взмыл косо вверх и навис желтыми, зелеными и синими глыбинами. Тихо, мрачно и спокойно. И он тоже притих, замолк и стал думать о Лине. Вернее, он даже не думал, он просто переживал ее снова.
“Открой глаза”, – сказал он Лине, когда все кончилось. Она послушно открыла глаза и посмотрела на него тихим и каким-то исчерпывающим взглядом. Сама пришла и постучала. И влезла в окно. Такая гордая, хитрая, выскальзывающая из всяких рук. И он вспомнил самое давнее – какой она была тогда, на берегу моря, в день расставания, – резкая и злая, все сплошь острые углы, обидные фырканья, насмешки. Как это все не походило на вчерашнюю ночь.
– Георгий Николаевич, – позвала Клара сзади.
Он остановился. Оказывается, за своими мыслями он шел все быстрее и быстрее и ушел так далеко, что пришлось его догонять. Она тяжело дышала. Волосы лезли на глаза. Она провела рукой по лицу, отбрасывая их.
И вдруг почти истерическая нежность и чувство вины охватили его.
Он схватил ее за руку.
– Кларочка, – сказал он, – я ведь совсем… – И он хотел сказать, что он совсем, совсем забыл о ней, и осекся.
Он не забыл о ней. Он просто думал о Лине. Он знал за собой это – когда задумывается, то бежит. Чем больше задумывается, тем быстрее бежит.
– Ничего, – сказала Клара и скинула рюкзак. – Только жарко уж очень.
Зной здесь, у реки, был сухой, неподвижный, сжигающий, как в большой печке.
– Этот человек сзади, по-моему, нас догоняет, – сказала Клара.
Зыбин оглянулся. Человек поднял руку и помахал им.
– Да, действительно, – сказал Зыбин, – догоняет.
– Может быть, это и есть Савельев?
– Может быть. Подождем!
– Ух! – сказал человек, подходя. – Совсем пристал. Ну и шаги у вас. Трудно вытерпеть, а еще с сумками. – Он вынул платок и обтер им лицо.
Это был молодой парень, розовый, круглолицый, синеглазый, похожий на Кольцова.
– Это вы приходили в правление? – спросил он.
– Да, – ответил Зыбин, смотря на него. – Мы.
– А только что вы ушли, и бухгалтер пришел. Он вас ждет.
Зыбин поглядел на Клару.
– Что ж, пойдем? – спросил он ее вполголоса.
– Зачем идти? Поедем, – улыбнулся парень. – Он мне велел за вами бечь, а сам в машине ждет.
Зыбин посмотрел на высокий берег.
– А где же мы поднимемся?
– А вот дальше, у мертвого дерева лесенка есть, – объяснил парень. – Дайте-ка ваши сумки.
Он подхватил обе сумки и улыбнулся.
– О! – сказал он с уважением. – Булькает!
– А там и закуска есть, – ответил Зыбин.
– Неплохо, – засмеялся парень. – А у нас второй день стоит ларек закрытый – переучет.
– А тихо-то у вас, – сказал Зыбин.
Теперь он шел неторопливым шагом и опять чувствовал необычный простор, тишину и спокойствие.
– А ведь сюда город хотели перенести, Кларочка, – сказал он. – Вот в эту степь. Это после землетрясения девятьсот девятого года. Хорошо, что Зенков отстоял. Зенков – это тот, который собор выстроил, – объяснил он парню.
– Замечательный человек, – с готовностью подхватил парень. – Говорят, в соборе этом ни одного гвоздика нет. Все само собой держится.
– Ну, это, положим, враки, – ответил Зыбин.
И вдруг остановился.
Перед ним из-за поворота появилось несколько невысоких деревьев с острыми зелеными листьями необычайной нежности и хрупкости; огромные матово-белые цветы лезли на макушку, сваливались с сучьев. Они висели гроздьями и были пышными, огромными, блестящими, как елочные украшения. То есть каждый цветок не был огромным, он был крошечным, но вся шапка была огромной, как театральная люстра. А цвет у шапки был талого молока: матовый и чуть молочно-желтый. Нигде Зыбин не видел ничего подобного.
– Что это за деревья? – спросил он.
– А мертвые, – ответил парень. – Задушенные.
– Но на них же листья и цветы, – сказал Зыбин.
– А вы подойдите, подойдите, – сказал парень.
Это была действительно мертвая роща, стояли трупы деревьев. И даже древесина у этих трупов была неживая, мертвенно-сизая, серебристо-зеленая, с обвалившейся корой, и кора тоже лупилась, коробилась и просто отлетала, как отмершая кожа. А по всем мертвым сукам, выгибаясь, ползла гибкая, хваткая, хлесткая змея-повилика. Это ее листики весело зеленели на мертвых сучьях, на всех мучительных развилках их; это ее цветы гроздьями мельчайших присосков и щупальцев, удивительно нежные и спокойные, висели на сучьях. Они были так чужды этой суровой и честной смертной бедности, что казались почти ослепительными. Они были как взрыв чего-то великолепного, как мрачный и волшебный секрет этой мертвой реки и сухой долины ее. В этом лесу было что-то сродное избушке на курьих ножках, или кладу Кощея, или полю, усеянному мертвыми костями.
– Страшное дело, – сказал Зыбин. – Вы понимаете, Кларочка, они же мертвые. Их повилика задушила.
Клара ничего не сказала, только мотнула как-то головой.
– И она тоже погибнет, – сказал Зыбин, – только она не знает об этом. Она такая же смертная, как и они. Вот выпьет их до капли и сдохнет.
И вдруг сказал:
– Смотрите, их двое, и машут нам. Сюда идут!
Действительно, с горы спускались два человека. Один, высокий, с плащом через руку, впереди, другой, низкий, в плаще и в шляпе, сзади. Он был кривоногий, как такса.
Зыбин сунул руки в карманы и встал неподвижно, ожидая их. Клара подошла и облокотилась о ствол мертвого дерева. Парень молчал. Два человека! Два человека!! Два человека шли молча, не останавливаясь и не переговариваясь. Походка их была тяжелая и неторопливая.
“Хорошо, что я оставил браунинг, – подумал вдруг Зыбин. – Надо бы…” Но мысль мелькнула и пропала.
“Надо было обязательно встретиться с Линой, – подумал он почти бессмысленно. – Боже мой, как у меня все нелепо получается! И как тогда было хорошо на море!”
И он сейчас же увидел белую стену городского музея на самом берегу, старую рыжую пушку у входа на камнях, маленького человека с указкой в руке – это вдруг на мгновение пришло к нему, согрело его, и он улыбнулся.
Клара стояла у дерева и неподвижно и пристально смотрела на приближающихся. Он к ней обратился с чем-то, она не ответила.
Первым к Зыбину подошел тот кривоногий, что шел сзади, высокий остановился поодаль и с любопытством оглядел Клару. Всю, с ног до головы. У кривоногого были курчавые черные волосы, густые брови, сросшиеся на переносье, острый маленький подбородочек, быстрые, острые мышиные глазки. А в общем – чахлое, ничтожное личико.
– Здравствуйте, – сказал он.
– Здравствуйте, – ответил Зыбин.
– Жарко, – сказал маленький и расстегнул плащ (показались красные нашивки). – Товарищ Зыбин? Мы не дойдем с вами до машины? Нужно поговорить.
– А вы что, из правления? – спросил Зыбин, словно продолжая какую-то игру, и взглянул на Клару. Она молча стояла у дерева и смотрела на них.
– Из правления, – многозначительно улыбнулся кривоногий и, обернувшись, посмотрел на высокого. Тот все так же молча рассматривал Клару.
– Ну что ж, пожалуй, придется ехать, – сказал Зыбин. Он вынул из кармана десятку и протянул Кларе.
– Дойдете до правления, там найдете попутную машину. Поезд будет только вечером, – сказал он деловито.
– Ну зачем же такую красивую девушку заставлять по такой жаре что-то искать, – серьезно сказал кривоногий. – Мы довезем ее. Да, впрочем, вы сами довезете. Нам ведь вас только на пару слов.
– Я сейчас же пойду к директору, Георгий Николаевич, – сказала она. – Они дадут нам проститься?
– Ай-ай-ай! – улыбнулся кривоногий (высокий по-прежнему стоял молча и неподвижно). – Вы смотрите, как они нам не доверяют.
– Ничего, – сказал высокий снисходительно, – постараемся заслужить их доверие.
Клара вдруг ухватила Зыбина за плечо.
– Слышите! Пусть предъявят документы, слышите! – крикнула она. – Так мы никуда не пойдем.
Кривоногий улыбался все ласковее и ласковее. От этого все черты, мелкие, хищные и незначительные, сближались, и лицо теперь казалось почти черным.
– Если предъявлять, то начнем уж с вас, – сказал высокий, приближаясь. – Паспорт у вас с собой?
– Но домой-то вы ее, верно, доставите? – спросил Зыбин.
– Ну конечно, – равнодушно успокоил его высокий. – У нас две машины.
– А ордер при вас? – спросил Зыбин низенького и вынул паспорт. Высокий взял его, открыл, закрыл и сунул в карман.
– Ну а как же? – удивился низенький. – Мы, Георгий Николаевич, свято выполняем закон. Мы сделаем что-нибудь не так, а потом вы нас затаскаете по прокурорам. Знаем мы это! Нет, у нас все в порядке.
Высокий вынул из сумки новенький сверкающий бланк. Слово “ордер” выглядело как заголовок. Подпись была голубая, факсимильная. Его фамилию вписала от руки круглым, почти ученическим почерком какая-то молодая секретарша, нежная мамина дочка.
Зыбин посмотрел, кивнул головой, отдал ордер и повернулся к Кларе.
– Ну что ж? Давайте хорошенько попрощаемся, Кларочка! Можно? – спросил он высокого.
– Да, пожалуйста, пожалуйста, – всполошился кривоногий.
– Да ради бога, – равнодушно сказал высокий.
И они оба слегка отошли к мертвой роще.
Часть вторая
Глава первая
О, муза истории Клио!
Зыбин крепко спал, и ему снились Черное море и тот городишко, в котором он три года назад прожил целых два месяца.
Город этот был маленьким, грязненьким, с улочками-закоулочками, то в гору, то под гору, с лавочками-прилавочками, с садами-садочками и, наконец, с курортным базарчиком над самым-пресамым морем.
До полудня этот базарчик дремал, а после обеда вдруг становился самым шумным и веселым местом города. На середку его выкатывались два дубовых бочонка, устанавливали их на козлы, и усатый грек в белом фартуке, вечно под хмельком, с шуточками-прибауточками угощал всех желающих настоящим портвейном и мадерой. Пара стаканов – полтинник, пять стаканов – рубль; за два рубля – пока назад не пойдет.
Вино было мутное, теплое, пахло оно перегорелым сахаром, и от него, верно, подташнивало, но все равно к вечеру ишачок увозил уже пустые бочонки.
А рядом с бочонками были на циновках разложены сувениры: засушенные морские коньки, похожие на бессмертники, связки белых и желтых ракушек – бусы, плоские сиреневые камешки – с морем, чайками и пальмами и, наконец, крабы. Вот крабов было тут больше всего – наверно, сотни, – всяких: желтых, красных, розовых, багровых, почти черных – их притаскивали из дома на лотках и осторожно расставляли по циновкам… Так они стояли на колючих ножках, сверкали лаком, походили то на туалетные коробки, то на туфельки-баретки, то на огромные круглые пудреницы, и вокруг них всегда толпились курортники. Зыбина они интересовали не слишком, но на базар он ходил – ему тоже до зарезу нужен был краб, но не такой, как тут, а настоящий, черный, колючий, в шипах и натеках, с варварски зазубренными клешнями, в зеленых подводных пятнах на известковом шишковатом панцире, но именно таких на базар-то и не выносили. Вероятно, они были все-таки не ходкий товар, да и то сказать, разве такого поставить на комоде на белое покрывало с мережкой между круглым зеркалом и той же самой туалетной коробкой?
Еще до приезда сюда, в санаторий имени Крупской – Зыбин там занимал одну из пяти коек в угловой комнате, – он, листая каталоги и проспекты, установил про себя три достопримечательности этого городишка. Первая – во время оно здесь существовал крупнейший античный порт, отсюда вывозили в Италию зерно (найдена обширная посвятительная надпись Посейдону, разрыты остатки амфитеатра, работает городской музей). Вторая – возле городка расположен едва ли не единственный на Черном море детский пляж (детский парк, карусель, больница костного туберкулеза, а летом и Центральный детский театр под художественным руководством Натальи Сац). Однако этот пляж и выходил каждое утро Зыбину боком. Просыпался он рано, часов в пять, одевался, брал книгу, бинокль и незаметно прошмыгивал на улицу, к морю. Было тихо, светло, безветренно. Все еще спали – швейцар в дверях, дворник на дворе, привратник у ворот, – и никто не замечал ни как он уходил, ни как возвращался. А возвращался он часов в семь и сразу заваливался спать. Правда, в девять всех будили на завтрак, но он спал все равно. Но еще через час хочешь не хочешь, а приходилось вставать. Угловая комната выходила окнами на детский пляж, на какой-то особенный, специально отгороженный сектор его, и по утрам стекла дребезжали от детского визга. Пока дети баловались и свободно могли упасть и захлебнуться, мамаши сидели на простынях и шумно переживали: “Рудик, ты куда полез! А что я тебе сказала, Рудик, сегодня утром?! Только до грудки, только до грудки, скверный ты мальчик! А, ты вот как!” – и вслед за этим всегда раздавался резкий визг. Конечно, спать было уже невозможно, он вставал, одевался в пижаму, садился перед окном с книжкой в руках, но не читал, а смотрел на море. И через некоторое время наступала тишина, детей уводили. Мамаши вставали с простынь, переговаривались, расхаживали, слегка массировали себе ладонями животы и ляжки. Потом они лезли в море, но так как это были особые мамаши, то купались они без всякого плеска и шума, достойно и не особенно долго. Через полчаса, обалдев от солнца и моря, они уже выкарабкивались на берег и забирались под навес, там они пили из зеленых термосов, похожих на осоавиахимовские противогазы, горячее какао, раздирали багровыми ногтями апельсины и, наконец напившись и наевшись, вяло сваливались на бок и тихо засыпали. И все на пляже засыпали тоже. Ветер бродил по песку, вздувал юбки и блузки, добирался до зонтиков и корябал их спицами песок, колыхал огромные голубые, как глобусы, мячи и, так ничем основательно и не заинтересовавшись, тихонечко уходил с пляжа.
А еще через час в санатории звонили на обед. Зыбин вставал, бросал книгу на тумбочку, переодевался и шел в столовую. И дальше все шло как по-заведенному – обед, купание, прогулки, кино или что-нибудь в этом роде, потом ужин, вечерняя прогулка и сон. Но иногда, перед обедом, случалось необычайное – на пляже (и всегда в одно и то же время!) появлялась тонкая женская фигурка: черное трико, загорелые ноги, короткая светлая гривка. Она шла, болтала руками, смеялась, пинала подвернувшийся мячик, и он летел через весь пляж, бросала кому-то что-то веселое и исчезала так же внезапно, как и появлялась.
Вот это и было второй достопримечательностью города.
О третьей много говорить не приходилось – в городе помещался единственный в Советском Союзе Институт виноградоводства и виноделия.
А море возле городишка плескалось тихое, мутно-зеленое, ласковое, как задремавшая на солнцепеке кошка. Бог его знает, каким оно было две тысячи лет назад, когда к извилистым берегам его подплывали красногривые морские кони и драконы из Афин и Неаполя, но сейчас можно было уйти в море с километр – и все тебе будет по пояс, по грудку, по шейку и только далеко, там, где опускаются на воду бакланы, – с ручками.
Зыбин облюбовал себе одно место и каждый день приходил сюда до восхода, небо в эти часы было еще темное, с прозеленью, звезды прозрачны, тени призрачны, а море пустынно и пляж пустынен, и ничего не было ни в небе, ни на море, ни на суше. А на самом пляже только пустые размалеванные узорчатые теремки, изрытый песок, навесы и тени от них.
Он смотрел с высокого берега на пляж и дальше, на море, и еще дальше, на быстро светлеющий горизонт, и молчал. И все в нем тоже молчало. Легкая дымка лежала на всех предметах мира, и волны катились медленные, бесшумные. Было тихо, спокойно, чуть безнадежно, чуть жутковато – так бывает, когда зайдешь ночью в опустевшую пригородную станцию, где горит под потолком только одна лампа и никого нет, или в ночную аптеку с заспанным провизором или пройдешься по запертому рынку. Только, конечно, здесь все было выше, огромнее, торжественнее и печальнее.
“Как перед лицом Вечности”, – сказал бы он, если бы умел говорить красиво, но так говорить он не умел и поэтому только стоял и смотрел. Что-то очень-очень многое приходило ему в голову в те минуты, но все неопределенно, спутанно, и ничего из этого он не мог ухватить и держать в себе, пожалуй, только вот это: тишина, высота и даль.
Постояв так еще с пару минут, он подходил к деревянной лестнице, клал руку на перила и соскальзывал вниз.
Здесь настроение его менялось снова. Вот тут, думал он, может быть, точно на этом самом месте, где сейчас лестница, а внизу будка мороженщицы, толпились судовладельцы, матросы, рабы, родственники, ждали судов, гонцов, известий о походе Александра Македонского в Индию. Удивлялись, гадали, покачивали головами, ловили слушки и сами небось еще что-то к ним присочиняли. Вот он пересек Сирию, промчался через всю Азию, прошел страшные огнедышащие степи ее, где живут людоеды и амазонки, а кони их жрут человечину, и двинулся к самым границам мира. Достиг Инда. Переплыл его. Встал лагерем и провозгласил Всемирную империю, родину Новой нации персогреков. Что-то будет, что-то будет! Земной шар свалился ему в ладонь, и он играет им, как яблоком. Теперь – всё! Прекратятся все войны, утихнут все распри, сами собой исчезнут границы, и будет едина земля и едино небо, и на небе Бог, а на земле этот божественный юноша, сверхчеловек, ее хозяин; счастливое время, в которое мы живем, счастливые наши дети.
Ни беса лысого из этой дурацкой петрушки, разумеется, не вышло. Мир не яблоко и не мячик, и его – шалишь! – в кулаке не сожмешь!
Хозяин вселенной непостижимо скоро отдал концы (а может, и помогли – подсыпали чего-нибудь), а слуги, сразу ставшие царями и тоже богами, передрались, перерезались и стали провозглашать. Они провозглашали, они провозглашали, они провозглашали до тех пор, пока не перестало что им провозглашать, тогда они все рухнули, пожгли города и библиотеки, высунули языки и отреклись от всего. А кончилось все это безнадежным и страшным утомлением мира. Волны этого утомления доходили, конечно, и сюда, но вряд ли оно тут особенно чувствовалось. У истории в то время были слишком короткие руки и так далеко они не протягивались.
А потом наступила Римская империя. Войны, кризисы, убийства и безнадежие – Август, Тиберий, Нерон, Христос и христианство – город стал римской колонией. Теперь из его бухт отходили транспорты с зерном (став Великими, империи почему-то всегда начинают голодать), и навстречу им шли суда с бронзой, мрамором, статуями императоров, льняными и шелковыми тканями, порченой монетой, которую в ту пору таскали за собой мешками. Потом империя затрещала по всем швам – она ведь из Великой сделалась Всемирной, – кого-то убивали, что-то жгли, кому-то что-то доказывали и, конечно, ничего доказать не могли. А певцы и поэты творили, а императоры воевали, а юристы кодифицировали, а философы подводили подо все базу – город же прижался к земле и ждал, ждал, ждал, чем же все это кончится! Э! Да ничегошеньки он не ждал, он просто жил, как тысячу лет до этого, и все! Ловил и солил рыбу, сеял хлеб, давил вино, справлял свадьбы и ни о чем больше не думал. “Да, вот так, – сбрасывая туфли и заходя в воду, думал он, – вот так именно и было. Жили, любили, деток рожали и больше ни о чем не думали. Это мы теперь что-то за них придумываем, а они просто жили, да и всё тут. Ведь и я тоже живу сейчас, и всё. А может, через тысячу лет и про меня начнут что-то выдумывать, какие-то необычайные мысли мне приписывать, провидение, трагедийность, чувство истории, потому что буду я уже не человеком, а памятником – и не просто памятником, а памятником чего-то, а вот чего – они уж придумают сами”.
Это была его навязчивая идея, он думал об этом каждый день то зло, то грустно, то равнодушно, но никогда не весело, потому что понимал, что это бред и он начинает уже бредить.
Иногда он встречал в эти часы таких же, как он, праздношатающихся, их было немного, любителей одиноких утренних прогулок, всего два или три человека. Но все они были какие-то особые люди, совсем не похожие на тех, кого он встречал днем. Впрочем, что ж? Он ведь и сам был не совсем дневной.
Но особенно его поразил один человек. Он на этот раз шел по пляжу и увидел: в море, далеко от берега, стоит человек. И даже не человек стоит, а просто торчит из воды голова. “Вот еще чудило”, – усмехнулся Зыбин и остановился. Прошло пять минут, семь, десять, Зыбину уж надоело стоять, а голова все не двигалась. “Что он там делает, – подумал он уже сердито, – на море, что ли, смотрит?” Человек действительно смотрел на горизонт – на ясную, широкую и почти зеленую ленту рассвета. Вверху было тяжелое темное небо, внизу черная вода, а в глубине ленты как будто что-то происходило, назревало, рвалось вовне, стреляло искрами. И Зыбин тоже стал смотреть, но скоро это ему надоело и он пошел дальше.
И встретил второго человека.
Человек этот сидел на камне и швырял в море гальку – небольшой круглолицый толстячок с лысиной. Когда Зыбин подошел, он, не оборачиваясь, произнес:
– Когда бросаешь камни в воду, следи за кругами, иначе твое занятие будет бессмысленно – так сказал Козьма Прутков.
– Мудрые слова, – вздохнул Зыбин сзади.
– Еще бы! – Толстячок примерился и бросил плоский камешек. – Эх, сорвалось, а раньше и до шести блинов пек. – Он посмотрел на Зыбина. – Слушайте, а где же я вас видел? Вы не из “Дзержинского”?
– Нет.
– Черт, где ж я тогда вас видел? – Он смотрел на Зыбина пристально и напряженно. – И не из “Худфонда”?
– Нет, не из “Худфонда”. Я вообще не художник, – усмехнулся Зыбин.
– Хм! Жаль! Хотя, положим, в этот час мы все художники! Да! Но альбома-то у вас нет! Значит, вы точно не художник, так откуда же, а?.. А, вспомнил! Так я на рынке вас видел! Вы еще какого-то там особого краба искали! Так? Ну конечно! Ну что, нашли?
– Нет, – ответил Зыбин. – Такого, как надо, не нашел.
– А какого же вам надо? – усмехнулся толстячок.
– Натурального.
– То есть как это натурального? – весело удивился толстячок. – Да они и все не из папье-маше.
– Мне надо было настоящего, черного, прямо из моря, – объяснил Зыбин.
– Ах, вот какого! Да такого вы там не найдете! Это надо вам у рыбаков искать. Хотя нет! Они теперь крабов тоже не ловят, у них артель, план. Не знаю, не знаю, где вы такого найдете. Слушайте, а я вот вспомнил, я вас второй раз здесь встречаю – ведь это вы вчера сидели на скамейке около лестницы? Так? Ну вот, ну вот, что, тоже не спится?
Зыбин улыбнулся. Ему этот толстячок почему-то сразу понравился, он был весь какой-то совершенно свой, мягкий, округлый, добродушный и в мешковатом костюме, в туфлях на босу ногу.
– Да нет, не то что не спится, – сказал он, – а просто грешно просыпать такую красоту.
– Правильно, – толстячок даже с места вскочил, – очень правильно вы сказали: грешно. Только сейчас ее и увидишь, а как мамаши придут да деток приведут, да еще наши пьяницы с бутылками пришествуют – то будет уж не море, а парк культуры и отдыха. Или, как сейчас говорят, парк отдыха от культуры! Это точно! Это совершенно точно! А я вот, знаете, приду еще затемно, сяду на этот вот камешек – я его специально со склона скатил – и сижу, сижу. И вот туда гляжу, на турецкий берег. Ведь там восход. Восходы тут, я вам скажу, замечательные, совсем не такие, как в книгах. Там ведь “игра красок”, борьба тьмы и света, пожар и еще что-то, нет, тут ничего этого нет. Тут все совсем иное – покой. И вот сидишь, смотришь и до того засмотришься, что утеряешь всякое представление о часах. И вдруг в пионерском лагере горн заиграет. Это значит, ты часа три как пенек на одном месте проторчал. Вот вы сейчас снизу идете, не обратили внимания, стоит там человек, в море? Или нет? А, стоит! А знаете, кто это? О, это знаменитая личность. Это один румынский коммунист. Его пять лет в одиночке продержали, и он за эти пять лет дальше вот этой скамейки ничего не видел – такая камера была. Тут стена, тут стена, тут стена, в углу параша, вверху окошечко – вот и все. И лампа в решетке. Слепнуть даже стал. Всего неделю тому назад его на самолете привезли, хотели положить в больницу – он ни в какую! Везите к морю! – вот и привезли, поместили в санаторий ЦК, а теперь директор не знает, что с ним делать, ему же режим предписан, по звонку ложиться, по звонку вставать, не перекупаться, не перегреться, не переутомиться, – а ему все нипочем! Уходит ночью, приходит ночью – ну что ж, вязать его, что ли? Я его, знаете, понимаю. Ведь простор! Смотрите, какой простор! На сотни верст только море, море, море – вот оно, вот! – Он откинул голову, раскинул руки и глубоко вобрал в себя воздух. – Простор!
Сзади заиграл горн.
– О! – сказал толстячок. – “Бери ложку, бери хле-е-еб и садися за обе-е-ед!” Так моя племяшка поет. Значит, уже десять. Пора! Вам к маяку? Ну и отлично, по дороге, значит. Пошли. Значит, вы не художник, а если не секрет, кто?
– Историк я, – объяснил Зыбин. – По Риму.
– А-а, – сразу посерьезнел толстяк. – Ну, ну. А тут есть на что посмотреть. Вы, конечно, в музее уже были? Нет? Как же так? Обязательно зайдите. Там директор много что собрал – вазы, монеты, три статуи. А я ведь… – Он вдруг остановился и продекламировал: – “Квоускве тандем Катилина абутере пациенция ностра”. Вот! На всю жизнь врезалось! Так тогда врезали. Я ведь в тысяча девятьсот шестнадцатом году Первую классическую минскую гимназию окончил! Клингер Макс Адольфович – такую фамилию вы никогда не слышали? Он у нас древние языки преподавал. Вот уж знал предмет. Еще бы, из образованнейшей семьи! Культурнейшие люди! Он у нас ученическим хором дирижировал. Помню, раз учили мы “Коль славен”. Ну, ребята у нас в то время уже были со всячинкой. С идеей! Кто поет, кто только рот раскрывает. И я тоже рот раскрываю. Вот он наклонился и в самое ухо пропел: “Жи-и-ид! Что ж ты не поё-ё-ёшь?” Ну, я и запел! – Толстяк расхохотался, засмеялся и Зыбин.
– Так, значит, вы в классической учились? – спросил Зыбин. – А я ведь думал, что…
– Что все евреи в коммерческие и в реальные шли, – подхватил толстячок. – Правильно, так и было. Но мой папа обязательно хотел, чтоб я стал адвокатом. Ну хотя бы помощником присяжного поверенного. Тогда евреев-то небольно в самое сословие пускали. Но мой предок однажды в Киеве Оскара Грузенберга слышал, с тех пор словно слегка тронулся. Портрет его у себя повесил, речи покупал и по-особенному переплел-то. Да вот обманул я отца, не вышло из меня адвоката! Не вышло! – И толстячок даже немного погрустнел.
– Да! – вздохнул Зыбин. – Да! – И только что хотел спросить толстячка, так кто же он будет, как тот сказал:
– А в музей вы обязательно зайдите. С директором познакомьтесь. Это такой человек – вот увидите, на каждого отличного специалиста как на Господа Бога смотрит. Он сам многое что порасскажет. Вот, кстати, и насчет краба, может, что дельное посоветует. У него все десятиклассники на подхвате.
– Я зайду, зайду, – поспешно заверил Зыбин. Ему и в самом деле стало неудобно: десять дней как приехал и еще не был в музее.
– Зайдите, зайдите, – серьезно посоветовал толстячок. – Ну а засим позвольте пожелать вам всего наилучшего – вот мы уж и дошли. Звать меня – Роман Львович, я тут рядом с вами в доме отдыха имени Цюрупы. Очень было приятно познакомиться… Если, может, когда надумаете зайти в шахматы сгонять. – Он слегка поклонился и быстро ушел.
А Зыбин вдруг остро подумал: “А откуда же он знает, где я нахожусь, ведь мы только что случайно познакомились?!”
Была и еще одна встреча – тоже очень ранняя, – но не на этом месте, а много дальше, там, где уж начинался дикий берег без пляжей и скамеек. Вот там однажды он и повстречал ее – ту самую, в черном трико и с гривкой. Только об этом он боялся вспоминать. И она ему, верно, не снилась.
Хлопнула дверь. Зыбин вскочил. Горела тусклая тюремная лампочка. Стекло за решеткой было фиолетовым. На кровати напротив сидел высокий худой старик, поросший щетиной, и смотрел на него.
– Ну и долго же вы спали, – сказал старик.
Зыбин вздохнул и уселся на кровати.
– А сколько сейчас времени?
Старик слегка пожал плечами.
– Да кажется, что ужин привезли, вон слышите, визг – бачки по полу передвигаются. Значит, уже шесть часов. А ведь здесь днем спать не полагается. Это для вас сегодня почему-то сделали исключение. – Он привстал и протянул руку. – Ну что ж? Давайте знакомиться. Буддо Александр Иванович, доставлен в сию смиренную обитель из городской колонии. Шьют новую статью. А вас как прикажете именовать?
Зыбин назвался.
– Из музея?! – радостно удивился Буддо.
– Да-а! А откуда вы…
– Господи, да я же из колонии! Там мы каждый день “Казахстанскую правду” читаем, от корки до корки. А вы там часто статейки помещали: о Библии, о музее, о раскопках. “Г. Зыбин”. Это вы?
– Я.
– Ну вот. Ну, страшно рад! То есть, конечно, плохая радость, но-о… Да, провел я, Георгий Николаевич, в этой колонии пять лет незаметных. Можно сказать, как у тещи на печи пролежал. Я ведь там топливным складом заведовал. Саксаул выдавал. Все надзиратели передо мной на лапочках ходили! Ну а как же? Захочу – вместо полтонны семьсот пятьдесят им отпущу, а захочу – он и своих пятисот недоберет. Весы же у меня дрессированные! В общем, жил! Газеты, книги, радио! По выходным кино! Жить можно!
– Ну а потом что?
– А потом забрали. Теперь вот новое дело шьют.
– Язык?
– Да, начали с языка, а теперь кое-что и посерьезнее клеят. Пятьдесят восемь-восемь через семнадцать. Вам это ничего не говорит?
– Нет.
– Террор через соучастие. Сочувствовал убийцам Сергея Мироновича Кирова. Вот как!
– А свидетели – заключенные?
– А кто же еще? Они, милые, они, мои родные! Весовщик да подсобный рабочий. Я же его и пригрел. Такой хороший мальчик: красивый, вежливый, культурный, из порядочной семьи – музыковед. Дядя – академик, агрохимик! Вот он мне, сукин сын, и удружил! Написал цидулю. Показал, что я восхвалял Николаева. Говорили, конечно, мы и про Николаева, но совсем не в том смысле.
– А в каком же?
Зыбин знал, что в тюрьме расспрашивать не полагается, но ведь Буддо сам лез на разговор.
– Да просто я сказал, что странно мне все это дело-то, то есть не то странно, что Кирова убили, – нашелся сумасшедший и убил, такие происшествия всегда были и будут, – а то странно, как дальше-то все развернулось!
– А как развернулось?
– А так, что приехал Сталин, и сразу два главных гэпэушника полетели к белым медведям. Говорят, он даже тут же на перроне нашивки с них сорвал и по мордам нахлестал, ну это хорошо, они это заслужили. А вот после-то пошло что-то непонятное.
– Что же непонятного-то?
– То, что вдруг кинулись на дворян. Стали хватать и высылать. Позвольте, их-то за что? Они же мимо этого Смольного небось и проходить боялись! Партиец же стрелял! Партиец! С пропуском в Смольный и с разрешением на браунинг! Значит, вот какая категория причастна к убийству, а взяли правнука Пушкина и выслали в двадцать четыре часа. “А что, разве Пушкин не дворянин?” – это прокурор по надзору одному пушкинисту так ответил. Очень все это непонятно – очень! И потом вот в сообщении такое, например, проскользнуло: “У убийцы при обыске забрали дневник, где он пытался объяснить убийство личными мотивами”. Какими же именно? Договаривайте уж до конца! Может, он свою бабу приревновал, может, Киров мужа прогнал, а бабу его оставил. Тот и озверел! Может так быть? Может! С Котовским именно так и было. Вот я это сказал, меня и забрали. Соучастие через сочувствие! То есть моральное участие в убийстве. В теракте! Что ж? Я сознался.
– Ну и что же вам за это будет?
– Что? Да ничего! Сунут еще червонец – и всё. А так как сроки не складываются, то возобновят старую десяточку и пошлют куда-нибудь подальше. Ладно! Поедем! В Колыму уж не погонят. Мне шестьдесят. А там надо землю рыть, лес сводить, тачку-пертачку гонять. Вот вам сколько? Тридцать? О, это самый их возраст! Они этот возраст обожают! Это верное СФТ, а то ТФТ – знаете, что это такое? Пригоден к среднему или тяжелому физическому труду. Первая и вторая категории: шахта, дамба, тачка! А что они вам предъявляют?
– Не знаю.
– И даже приблизительно не догадываетесь?
– Нет.
– Ну, значит, агитацию. Если сами не знаете, то, значит, обязательно агитация. Пятьдесят восемь, пункт десять. Универсальная статья! Всем подходит. Полчаса поговорил, сексот написал, слово прибавил, слово отбавил – и готово, пригоняй “черный ворон” и забирай. Но сейчас за это больше пяти не дают. Восемь – только уж когда что-нибудь действительно есть. Если только разговоры предъявят, то советую: берите. А то они еще что-нибудь присочинят! У них фантазия богатая! А что вы улыбаетесь? Не верите?
– Да нет, верю, – ответил Зыбин ласково, продолжая улыбаться (хорошо, право, что он не один в камере, хорошо, что ему попался старик лагерник, а не юнец, которого пришлось бы утешать и разговаривать, хотя, с другой стороны, есть, есть в этом Буддо что-то очень неприятное, и наверно, вот это самое: “Что ж тут поделать? Ладно, поеду”. Кого Зыбин никогда не мог выносить – это вот таких непротивленцев). – Да нет, верю, что слово прибавил, слово отбавил – и вызывай “черный ворон”, но только со мной-то у них так не получится.
Буддо невесело усмехнулся.
– Да? Ну дай вам бог, дай вам бог! Желаю всего самого хорошего, но только у меня и этого утешения нет. Я знаю: они не для того берут, чтобы отпускать. Они человека навечно приваривают.
– То есть как это навечно? – удивился Зыбин. – Так, значит, если бы вы и кончили срок…
– Так ведь не кончил же я, не кончил же! – болезненно улыбнулся Буддо. – Забрали же! Только, конечно, что-то рано забрали. Обыкновенно они в последний год это проделывают, а со мной что-то поспешили.
– Значит, из вашего лагеря никто еще на волю не выходил? – воскликнул Зыбин.
– Почему не выходил? – улыбнулся Буддо и слегка кивнул на дверь. – Только вы не кричите, а то вот он стучать в дверь будет. Если срок кончил, так и на полчаса не задержат, но только вот сколько ты на воле-то пробудешь? Тут тоже нужно иметь масло в голове, а то и месяца не продержишься. Вот если поступишь кассиром или, скажем, ночным сторожем и ни с кем не будешь компании водить, а самое главное, не женишься – ох, жены и здоровы сажать! – а так, отсидел и домой, в постель! – то года два, ну три, ну три с половиной, может, протянешь.
– А там?
– А там все равно заберут.
– Да за что же?
– За что. За… Эх, чуть было не сказал вам по-лагерному! За ту же антисоветскую агитацию и заберут. Они новых статей не любят придумывать. Зачем? И старых на всю жизнь хватит.
– Это даже если я воды в рот наберу?
– Даже если и наберете. Да ведь не наберете, не наберете же! Ну год, ну два промолчите, а потом что-нибудь да и ляпнете. Нет? Чудак вы! Ну вот, скажем, книжку вы ночью на дежурстве читали. Поинтересуются у сменщика, что за книжка, а вы сказали: да ничего, интересная. Понравилась. Или в кино пошли, вас увидели, спросили, как понравилась картина, а вы ответили: скучная. А вот автора книги через полгода взяли да посадили; а режиссера в Кремль вызвали, руку пожали и патефон ему подарили. Вот вам и всё. С одной стороны, восхваление врага и вражеской литературы, с другой стороны – клевета на советское партийное искусство. Вот уж хорошее начало есть. А дальше вы с соседкой поругались. Вы что же думаете, она не знает, где на вас искать управу? Господи, да она такое туда напишет! Вот уж два свидетеля! И хватит! Сидите!
– Но позвольте, ведь нужны еще какие-то доказательства?
– Какие? Кому? Кому они нужны, Георгий Николаевич? Какие еще доказательства? Все и так доказано! Вы сидели? Сидели! За что? За антисоветскую деятельность. Хорошо! А вот за этой самой патриоткой ничего, кроме вытрезвителя, не числится. Это доказано? Доказано. Ну вот и точка. И органам все ясно. Распишитесь, что читали ордер.
– Ну а если за эти годы я перековался? Осознал свою вину?
Буддо засмеялся и погрозил пальцем.
– Экий вы шустрый! Нет, это вы бросьте! Осознал он, перековался! Шутить изволите! Это кто же вам, разрешите спросить, позволил перековываться, а? Вот Рамзин – тот да! Тот начисто перековался! Ему разрешили! Или вот – читали вы в сообщении о процессе троцкистско-бухаринской банды, что бандиты, боясь разоблачения, убили инженера Бояршинова, а был он не просто инженер, а лицо, ранее судимое за вредительство? Читали? Вот он-то перековался. Ему после смерти это разрешили. Для наглядности. А мы с вами – шиш! Как были врагами, так врагами и сдохнем. Так-то, батенька!
– Так что же это, по-вашему, это каиново клеймо, что ли? – крикнул Зыбин, этот разговор раздражал его по-настоящему.
– По-моему! – усмехнулся Буддо. – Что выходит по-моему, это мы помолчим, а вот по товарищу Ежову и товарищу Вышинскому, выходит точно так! И не клеймо, то хоть каленым железом да сводится, а болезнь крови, порочная наследственность, гены от отца к сыну, от сыну к внуку. Вот потому и высылают из Ленинграда не только дворян, но и дворянчиков. Это и есть классовый подход. А я этого, дурак, не понял и трепался. Почему? Да за что? Все мне нужно было знать, болвану. Вот за это и попал!
– Значит, вы считаете, что вас сейчас взяли за дело?
– А как же! Конечно! А здесь невиноватые не сидят, Георгий Николаевич. Кто делом, кто словом, кто мыслью – а все виноваты. Вот и вы виноваты будете.
– Я не буду, – ответил Зыбин и отвернулся.
Буддо с сожалением посмотрел на него и покачал головой.
– Да ведь не выдержите вы, Георгий Николаевич, не выдержите! – сказал он страдальчески. – Измотаетесь! У них же в руках все, а у вас ничего. А главное – ни к чему всё это! Что они задумали, то и сделают!
И никто на свете им не помешает. Страна в их распоряжении, и разве только хуже себе сделаете.
– Это как же так?
– А так! У них ведь и лагеря всякие. Ведь одно дело – городской топливный склад или сельхоз, там бахча, там заключенные вечером в реке купаются, коней поят, и другое дело Колыма, “Колыма, чудная планета” – там из ватников и ночью не вылезают, потому что спят зимой в палатках. Заживо сопреешь. Опять качаете головой? Эх, Георгий Николаевич, не знали вы еще горя, а вот…
Дверь отворилась внезапно и бесшумно – высший шик, освоенный только немногими из тюрем, – на пороге стоял разводящий.
– Кто здесь на букву “З”? – спросил он. – Собирайтесь на допрос.
Его провели по узкому тюремному коридору, как будто сплошь состоящему из железных дверей (перед одной из них, с откинутой кормушкой, стоял надзиратель и о чем-то разговаривал с заключенным; когда они поравнялись, он повернулся и спиной прикрыл кормушку), потом через другой коридор, где было только две двери, но огромные, глухие, похожие на церковные ворота, они были заложены на засовы, – и наконец вывели на лестницу, каменную, узкую, похожую на черный ход. На ее площадке стоял столик, лежала большая канцелярская книга и сидел солдат. Надзиратель протянул ему квитанцию, солдат взял ее, посмотрел и занес что-то в книгу. Они поднялись еще на этаж, вышли на лестницу, но это была уже совершенно иная лестница, с большими площадками, со стеклянными дверями, просторная, мраморная, с ковром и перилами. Через нее они вышли в другой коридор. Он был пуст и тих, как глетчер. Горели лампы дневного света. От стерильных стен веяло нежизненной чистотой и холодом. Большая высокая дверь, обшитая черной кожей, замыкала коридор.
– Руки назад! – прошипел разводящий и постучал.
– Попробуйте, – ответил ему сочный благодушный голос.
Открылся большой уютный кабинет с кадками зелени. Всю стену занимала карта Советского Союза. На окнах висели волнистые кремовые шторы. В углу рогатая вешалка-стояк.
Хозяин кабинета, широкоплечий здоровяк, курчавый и губастый, приподнялся из-за письменного стола.
– Здравствуйте, Георгий Николаевич, садитесь, – пригласил он. – Вон на тот стул, у стены. – Он кивком отпустил разводящего. – Что ж! Давайте знакомиться. Начальник Второго СПО Яков Абрамович Нейман. Ну, прежде всего, как вы себя чувствуете-то?
– Спасибо, нормально, – ответил Зыбин, усаживаясь за крохотный столик в углу кабинета.
– Ну и отлично! Я было уже забеспокоился, вид у вас был неважнецкий, хотя, конечно, жара, дорога, волнение. Так что ж, будем, значит, разговаривать? Вообще-то с вами будет заниматься другой человек, но… Вы курите? И отлично делаете, лучше уж пить мертвую, чем отравлять себя этой гадостью. Так вот, у меня к вам один вопрос, и не следственного, а чисто познавательного характера. Фамилия Старков вам что-нибудь говорит? Говорит! Тогда скажите, какое отношение вы имели к его делу.
Зыбин усмехнулся и пожал плечами.
– Ровно никакого!
– Ровно никакого? Отлично! – Яков Абрамович выдвинул ящик стола и достал оттуда синюю аккуратно подшитую папку. – Так как же вы тогда объясните, что в августе тысяча девятьсот тридцатого года вас вызывало по этому делу Московское отделение ГПУ и допрашивал вас тогда товарищ Разумный? Вот протокол допроса. Зачитать?
– Просто случилось недоразумение. Меня допросили и сразу же отпустили.
– Но ведь под подписку?! Ах, идеалистические времена тогда были! Теперь так не отпустишь! Да! Отпустили! Вот тут и постановление есть с резолюцией! Но раз отпустили, значит, все-таки брали, так? Вот слушайте, я читаю протокол допроса: “Вы обвиняетесь в том, что 14 августа сего года сорвали общее собрание студенческо-преподавательского состава вашего института, обсуждавшее статью «Известий» о групповом бандитском изнасиловании студентки второго курса университета Вероники Кравцовой”. Что вы можете сказать по этому поводу? Вот видите, какая формула обвинения? Групповое изнасилование.
Нейман откинулся и насмешливо поглядел на Зыбина. (И тогда Зыбин подметил: в его глазах стоит выражение хорошо устоявшегося ужаса.)
– Хорошо. Читаем дальше. Ваш ответ:
“Собрания я не срывал, а просто изложил свое мнение об этом деле”.
Вопрос следователя: “А в чем же оно состояло?”
Ответ: “В том, что резолюцию с требованием расстрела обвиняемых, предложенную парткомом, мы ни обсуждать, ни тем более ставить на голосование на этом собрании не можем”.
Вопрос: “Объясните, почему?”
Ответ: “Во-первых, потому, что в Уголовно-процессуальном кодексе прямо сказано: «Судьи независимы и подчиняются только закону». А это было бы прямое давление на суд”.
Нейман усмехнулся и покачал головой.
– Вот ведь какой вы законник! – сказал он. – “Во-вторых, потому, что до суда мы вообще ничего не знаем. Все трое обвиняемых наши товарищи, вину свою они начисто отрицают. Свидетелей нет, обвинения строятся всецело на предсмертной записке Кравцовой Старкову. Вот и все, что нам известно. Ничего более конкретного нет”.
Вопрос: “Следствие предъявляет вам эту предсмертную записку: «Сто раз я тебя проклинаю за то, что ты меня вчера напоил и выдал на издевательство. О! Никому я не желаю столько зла, как тебе!» – разве это недостаточно конкретно?”
Ответ: “Нет. Конкретна здесь только злоба. Что такое напоил? Что такое выдал на издевательство? Как это могло быть реально? Кравцова не девочка. Она жена видного человека, бывшего руководителя края. Какая же ей была нужда идти в номер гостиницы и напиваться до потери сознания? На все эти вопросы должен ответить суд, а его еще нет. Так дождемся хотя бы первых его заседаний. Вот что я сказал. После этого выступило еще несколько человек, и собрание не стало голосовать”.
Вопрос: “Значит, вы не отрицаете, что собрание не стало голосовать после вашего выступления?”
Ответ: “Нет”.
Вопрос: “В каких отношениях вы были с покойной?”
Ответ: “Встречаясь, мы здоровались”.
Вопрос: “Где и когда это было в последний раз?”
Ответ: “За два дня до ее самоубийства, на том самом собрании, на котором и зародилось все это дело”.
Вопрос: “Поясните, что это было за собрание?”
Ответ: “Это было собрание студенческого литературного кружка. Я сидел возле Кравцовой и видел, как ей посылали записки. Потом я узнал, что сговор встретиться в гостинице «Гренада» около памятника Пушкину произошел именно тогда и через эти записки”.
Вопрос: “От кого вы это узнали?”
Ответ: “От следователя прокуратуры, который меня вызвал тогда же. Кроме того, раз записки к Кравцовой шли через мои руки, то, когда мне их предъявили, я их узнал по почерку”.
Яков Абрамович оторвал голову от дела и засмеялся.
– Вот овечья задница! А тоже называется следователь! Все секреты наружу! Попался бы мне такой!
– Выгнали бы? – спросил Зыбин.
– С волчьим билетом! – огрызнулся Яков Абрамович. – Хорошо. Читаем дальше.
Вопрос: “А не могли бы ваши товарищи этими же записками пригласить и вас в свою компанию?”
Ответ: “Нет”.
Вопрос: “Почему же?”
Ответ: “Они не были моими товарищами”.
Вопрос: “Но разве вы их не называли только что товарищами?”
Ответ: “Я и вас назвал только что товарищем”.
Яков Абрамович бросил папку и расхохотался.
– Ах осел, осел, – сказал он весело, – и ведь главное – все записывает! Материал собирает! Не протокол допроса, а пьеса из великосветской жизни! Нет! Зыбина голой рукой не возьмешь! Он не такой! Правда? Так! “Протокол писан с моих слов и мной прочитан…” – Он захлопнул папку. – Так! Ну, Георгий Николаевич, ныне все осужденные давно на свободе, они и отсидели-то не больше двух лет, версия об изнасиловании Верховным судом отвергнута, так что вы и формально оказались правы! И все-таки в вашем участии в этом деле есть что-то не вполне понятное. Так вот, не пожелаете ли что-нибудь сказать в дополнение к этим протоколам?
Он сидел, смотрел на Зыбина, улыбался, а в глазах стоял тот же привычный, хорошо устоявшийся ужас. И все замечали это, только он не замечал и честно считал себя весельчаком.
Зыбин подумал и начал говорить. (“А что я теряю? Ведь это все давным-давно известно. Старков-то действительно на свободе”.)
– Дело было маленькое, грязненькое, запойное, и весь антураж его был соответственный, – сказал он, – свинский антураж: то есть номер в гостинице сняли на чужой паспорт, а встретились на бульваре – две бабы, трое парней, началась попойка. Суд интересуется, когда бабы ушли, сами они ушли или под руку их выводили, сколько пустых бутылок нашли, заблевана была уборная или нет. В общем, сцена из “Воскресения”, и свидетели такие же – швейцар, коридорный, буфетчик, горничные.
– Да, но самоубийство-то все-таки было самое настоящее, – строго напомнил Яков Абрамович.
– И самоубийство бульварное, с пьяных глаз, вероятно. Наутро она сказала соседке: “Вы пока ко мне не заходите, я буду мыться”. Ушла, как говорит соседка, затем словно форточка хлопнула, вот и все. Когда муж взломал дверь, она лежала в луже крови, рядом валялся браунинг, а на столе вот эта записка. Ну чем не сюжет для какого-нибудь Брешко-Брешковского?
Яков Абрамович слегка улыбнулся.
– В гимназии мы им увлекались, – сказал он. – Слушайте, она была красивая?
– Она? – Зыбин задумался. Все, что он говорил и слушал до сих пор, не вызывало у него ровно никаких образов, а сейчас он вдруг увидел женское лицо почти неживой белизны, точности и твердости очертаний, короткие блестящие черные волосы и злые губы. – Да, она была очень красивой, – сказал он убежденно. – Но красота у нее была какая-то необычайная, тревожная. Может быть, обреченная. Такую раз увидишь и не забудешь.
– Иными словами, она и на вас произвела впечатление человека незаурядного? – спросил быстро Яков Абрамович и сделал какое-то короткое движение, как будто хотел ухватить эти слова. – Ну хотя бы по наружности? Так как же с ней могло случиться, как вы сказали, вот такое? Такое, как вы сказали, брешко-брешковское? (Зыбин пожал плечами.) Да, но все-таки почему? Почему? Вы не задавали себе таких вопросов?
– Пути Господни к человеческой душе неисповедимы, Яков Абрамович, – вздохнул Зыбин, – а дороги дьявола тем более.
– Это Старков-то дьявол? – фыркнул Яков Абрамович.
– Ну да, дьявол! – отмахнулся Зыбин. – Простой парень, работяга. И меньше всего богема. Что везло ему, это да. У нас его считали гением. Он даже выпустил книжонку в два листа. Вы знаете, что это тогда было?
– Хорошо, а второго, Мищенко, вы знали? Его, кажется, тоже печатали?
– Даже очень здорово! У него были стихи даже в “Молодой гвардии”. А это же толстый журнал.
– Так. А третий?
– Ну а третий был просто хороший парень. От сохи. Писал что-то, печатался где-то, а где и что – никто толком не знал, наверно, в таких изданиях, как “Жернов”, “Крестьянская газета”, “Земля советская”. С ним я был просто хорош, да и все. Его гением никто не называл.
– Ну а муж? Вы его видели?
– А как же! Муж и был виновником всего торжества. Он на первой скамейке сидел. Целую неделю этот болван слушал все, что говорили о его жене и о нем самом.
– А что ему оставалось еще делать? – Яков Абрамович резко остановился перед Зыбиным.
– Вот именно! – воскликнул Зыбин. – Что делать? Раз ты полез мордой в помойную бочку, тогда ничего не поделаешь, хлебай уж досыта. Ведь это он настоял, чтоб ребят судили за изнасилование его жены. Именно так и толковалась предсмертная записка; защита же, наоборот, стояла на том, что никто ее не насиловал – сама все организовала, сама пришла в номер, сама перепилась и легла под кого-то. Что же еще? Прокуратура же уперлась намертво: не сама напилась, а напоили. Помните три знаменитые японские добродетели? Ничего не вижу, ничего не слышу, ни о чем не рассказываю – вот так себя и вели судьи. Ой, кто только не прошел тогда перед судом! Писатели, околописатели, редакторы, агенты угрозыска, дельцы, студенты, профессура. Допрашивали пристрастно, глумились, сбивали, угрожали, ловили. В общем, я представляю, что такое вдруг с улицы предстать перед таким вот трибуналом. И вот тут мне два свидетеля вспоминаются… Один мужчина и одна женщина… Хотя это не особенно по существу…
– Да нет, уж расскажите, пожалуйста, – попросил Яков Абрамович, – кто же она была такая?
– Лучшая подруга Кравцовой, некая Магевич – красивая черная девушка с матовым лицом, похожая на турчанку. Ее пригласила и привела сама Вероника. Писатели, мол, придут, весело будет, пойдем. Ну та и пошла, а потом почувствовала неладное, верно, поняла, что это не попойка, а еще что-то, и ушла. Господи, ну что ей за это было! Ей чуть в лицо не плевали: то зачем ты пришла, то зачем ты ушла. Задавали вопросики, знаете, как это умеют прокуроры? С усмешечкой. Обрывали, орали. Прокурор дул воду стаканами, и у него пальчики дрожали. Кончилось тем, что ее с запарки чуть не усадили рядом со Старковым, но кто-то, наверно, вовремя опомнился. Как же женщине пришить соучастие в изнасиловании? Впрочем, в этом чаду все было возможно. Так вот, я поражался этой Магевич. Как она сидела! Как отвечала! Как слушала! Не плакала, не кричала, а просто сидела и слушала. А вокруг нее визг, смех, рев, прокурорская истерика! Весь шабаш нечистой силы! А она ничего! Очевидно, адвокаты ей сказали: “Молчи. Они сейчас всё могут. На них управы нет”. И она молчала. Вот это первая свидетельница защиты, которая мне запомнилась.
– Но вы говорили, что их было двое.
– Да нет, их было много, человек двадцать. Но запомнились-то мне особенно эти двое. Второй был мужчина, Назым Хикмет. Я его знаю. Он постоянно ошивался у нас в буфете, в коридорах, на переменах. Вот его вызвала защита и попросила рассказать о его знакомстве с Кравцовой. Ну что ж, он рассказал. Однажды, рассказал он, стоит он на задней площадке трамвая – дело было позднее, – и вот подходит к нему красивая рослая женщина, представляется и говорит, что ей очень хочется с ним познакомиться. Ну что ж? Он мужик что надо! “Я очень рад”, – отвечает Хикмет. Тогда она сразу, с ходу, зовет его к себе: я, мол, одна, муж в Крыму, идемте, выпьем, потолкуем. Все это Хикмет рассказал просто, спокойно, не спеша, с легким приятным акцентом. Впечатление от рассказа осталось тяжелое. Даже муж что-то заверещал. И тут прокурор, спасая, конечно, положение, спрашивает: “Ну и какое впечатление произвела на вас она? Студентки, изучающей литературу и желающей познакомиться с видным революционным поэтом, или просто наглой проститутки?” Хикмет слегка пожал плечами и эдак певуче, легко, просто ответил: “Наглой – нет, но проститутки – да”. Весь зал как грохнет!
– Ой, как неприятно! – строго поморщился Яков Абрамович. – Но вам, конечно, и это понравилось.
– Да нет, я был просто в восторге! – воскликнул Зыбин. – Наконец-то хоть на минуту среди этого чада, ора и казенной мистики я услышал человеческий голос. Ведь Хикмет сказал только то, что все, ну буквально все, включая прокурора, судей и мужа, в ту пору твердо знали. Да, шлюха! Да, злая, неудовлетворенная, несчастная шлюха, для которой своя жизнь копейка, а на чужую и вовсе наплевать. И вот в зале Политехнического музея в публичном заседании происходит ее канонизация. Она превращается в святую. Произнесено страшное слово “богема”. Студентка, казненная богемой! Государству нужны такие жертвы, и поэтому трое талантливых, молодых – отнюдь не богема и не пьяницы, – здоровых парней должны сложить свои головы. Но они сопротивляются, негодяи, и прокуроры гробят и гробят их. Еще бы, какая наглость! Оправдываются! Перед пролетарским судом можно только признаваться, разоружаться и просить пощады: “Клянусь, что если государство сочтет возможным сохранить мне жизнь, то я…” Вот так нужно говорить, а они льют грязь на покойницу, спорят с обвинением, адвокатов себе наняли! Жалкие козявки! Они думают, что можно что-то доказать! Да все уж давно доказано и подписано! Пролетариат должен увидеть звериное лицо богемы! Ваш долг перед обществом помочь в этом, а вы, как слепые котята, барахтаетесь, выгораживаете свою шкуру, отстаиваете свою правду. Да кому она нужна? Вот что было на суде, понимаете?
– Нет, – вздохнул Яков Абрамович, – не понимаю. Объясните.
Он вернулся к столу, сел и твердо положил перед собой оба кулака.
И вдруг Зыбину что-то расхотелось говорить, то есть начисто расхотелось. Ему даже стало стыдно за то, что он сейчас вдруг так распелся. В самом деле, разве его затем взяли и привели в этот кабинет – руки назад! не оглядываться! по сторонам не смотреть! – чтоб что-то понять, выяснить, в чем-то разобраться? Господи, кому тут это нужно? Он буркнул что-то и отвернулся.
– Что? Вы не хотите? – Он сразу же понял, что больше Зыбин говорить не будет, но это было уже и не важно. Теперь он окончательно уяснил себе все, даже и то, кому следует поручить это дело. И, покончив с этим, Яков Абрамович откинулся на спинку кресла и закурил.
– Итак, Кравцова была красивая, – сказал он задумчиво, не глядя на Зыбина. – Даже вызывающе красивая, а ведь тот глупый следователь прокуратуры прав, Зыбин ведь тоже мог пойти в эту “Гренаду”, мог бы.
– Мог бы, – ответил он с вызовом, – ну и что из этого?
– Да нет, ничего, но мог бы! И тогда был бы четвертым и получил бы ту же статью и меру, что и те трое. И вероятно, тогда сегодня бы я с вами не беседовал. К человеку, осужденному за изнасилование, политические статьи почему-то не прилепляются.
Он подмигнул и добродушно рассмеялся.
– Да, но тут, конечно, возникает другое, – сказал он, – не было бы этого дела – не было бы и вашей речи, не было бы и всего дальнейшего, в том числе сегодняшней нашей беседы. Ведь вы же кому-то говорили, что вам на все открыло глаза именно дело Старкова.
– На что на всё? – спросил Зыбин.
– Ну хотя бы на нас, на нашу деятельность. Вы ведь считаете, что этот суд был делом рук органов. Что ж! Вполне, вполне допускаю! С половой контрреволюцией мы боремся так же энергично, как и с любой другой. С лозунгами “наша жизнь – поцелуй, да в омут” нам не по дороге. Это факт! Трудность тут, конечно, в том, что не сразу во всем разберешься, пока все это только стихи да водка, притом стихи-то эти продаются в любом магазине ОГИЗа. Но в результате получается-то что? Люди ничего незаконного как будто не творят, пьют и стихи читают, а мы теряем и теряем кадры. Ведь после этаких стихов становится действительно на все наплевать. Как это? “Здравствуй, ты моя волчья гибель, я навстречу тебе выхожу” – так, кажется? Ну вот и в этот раз тоже была пьянка, читали стихи, и после этого одна из участниц убежала, а другая покончила с собой. И не просто покончила, а с запиской… “Сто раз я тебя проклинаю…” А борьба с богемой к этому времени стала нашей идейной задачей. Значит, и дело надо было провести так, чтобы полностью выявилось лицо богемы. Для этого процесс вели при открытых дверях в одной из самых больших аудиторий страны. Мобилизовали все лучшие силы суда и прокуратуры. Так ведь? Газеты каждый день печатали отчеты. Защищали лучшие адвокаты – Брауде, Рубинштейн, Синайский! Кажется, чего еще требовать? А вы и тут оказались недовольны. В вашем институте, где училась покойная, собрались ее товарищи и потребовали высшей меры. Вполне понятное требование. Ну пусть оно не по форме, пусть оно юридически несостоятельно! Пусть! Понятно, что суд при вынесении приговора с этой резолюцией и не посчитался бы, у него свой порядок. Никто по-настоящему этого и не требует, но общественное, товарищеское внимание ведь находило выход в этой резолюции? Так ведь? И тут вылезаете вы – правдолюбец! – и, будто заступаясь за закон, за право, за Уголовно-процессуальный кодекс и черт знает еще за что, срываете собрание. Видите ли, судьи независимы и подчиняются только закону! Да кто против этого спорит? Кто? Кто? Кто? Вы что? Что-то новое вы открыли? Беззакония не допустили? Чью-то оплошность поправили? Вы просто-напросто сорвали обсуждение. По какому праву, позвольте вас спросить? Почему вы захотели перечеркнуть весь политический смысл процесса? Все, над чем трудились сотни наших людей – прокуроров, журналистов, работников райкома, юристов? И вы говорите, что не понимаете, почему вас тогда арестовали и доставили в ГПУ? Не понимаете? Так тут непонятно действительно только одно – почему вас отпустили?
– Да, – ответил Зыбин, – это действительно непонятно! Тогда я считал, что только так и может быть, а сейчас сам удивляюсь. Действительно – взяли и отпустили! Чепуха! Но ведь для того, чтобы выработался такой тип следователя, какого вы хотите, для этого нужно некоторое время, Яков Абрамович!
И тут Зыбин вспомнил Эдинова. Идя с допроса, он думал: “Нет, надо было бы ему все-таки рассказать про Эдинова. Пусть бы знал. Потому что не с курсового собрания у меня все началось, а с председателя учкома седьмой образцово-показательной школы Георгия Эдинова, с Жоры, как мы его звали”.
Он пришел в камеру и лег – Буддо спал и похрапывал. Зыбин лежал тихо, вытянувшийся, подобравшийся и зло улыбающийся.
“Эх, Жора, Жора, разве я могу тебя когда-нибудь забыть? Ты ведь один из самых памятных людей в моей жизни. Я ведь даже повесть хотел, Жора, о тебе написать, несколько раз садился, брал тетрадку, исписывал несколько страниц, но только что-то ничего путного у меня не выходило.
А сейчас бы вышло! Сейчас у меня выкристаллизовался ты весь! Вот слушай, как бы я начал”.
В одном из кривых арбатских переулков стоит и до сих пор большое красное кирпичное здание. Когда меня впервые привели туда, это была уже обыкновенная советская школа одного светлого, но теперь уже совсем забытого профессорского имени. А лет семь до того тут была гимназия, принадлежавшая тоже профессору, и тоже именитому. Гимназию эту профессор построил по последнему слову тогдашней педагогической индустрии – высокое светлое парадное с разлетающимися дверями, триумфальная лестница под красными дорожками. Двусветные рекреационные залы с турниками (“В здоровом теле здоровый дух!” Профессор преподавал римское право). Классы. Лаборатории. Школьный музей. А вверху, на пятом этаже, на этаж выше, чем учительские, святая святых – кабинет директора. Там висело авторское повторение Репина (Державин слушает молодого Пушкина), стоял стол стиля ампир с бронзовым прибором и наполеоновскими безделушками и под прямым углом к нему другой стол, весь уставленный сухарницами и продолговатыми фаянсовыми блюдами в виде большого листа. Здесь собирался педагогический совет. А рядом была другая комната – лакейская, что ли, то есть я не знаю, как ее называли тогда, но в ней на полке рядком стояли орденоносные самовары, причем один необъятной величины; был буфет с посудой, мельхиором, ведерочками для шампанского и подносами. Отсюда во время совета чинно и величественно выходил личный служитель профессора с бакенбардами, а за ним его жена, спокойная тощая старушка, и они разносили чай. (Я их хорошо помню, они жили где-то рядом и часто приходили посидеть в передней и поговорить о прошлом.) На этот пятый этаж, по словам старых служителей, не смел подыматься без вызова ни один из учащихся. Здесь и воздух был иной. По утрам кабинет спрыскивали хвойной водой из пульверизатора. Так вот, когда я пришел в школу, самой страшной комнатой был не этот кабинет – в нем сидела заведующая, – а лакейская комната с бумажкой, написанной от руки: “Учком. Ячейка РКСМ”. Ты был председателем учкома. Заведующая все наши немощные души поручила тебе и ни во что не вмешивалась. Учителей тоже отсылала к тебе – ты один казнил и миловал. И скоро каким-то ловким маневром переселил заведующую в лакейскую, а сам занял кабинет директора. Заведующая была старая дама, фальшивая и лживая, она носила на шее бархоточку и черный медальон с алмазным сердечком. Любила, когда на школьных вечерах читали Бальмонта и “Белое покрывало”, но нюх у нее был собачий, то есть она боялась тебя так же, как свое прямое начальство. А впрочем, кем же ты был, как не ее прямым начальством? Ты, Георгий Эдинов, председатель учкома, секретарь комсомольской ячейки, руководитель драмкружка, еще кто-то, сильный, здоровый, скуластый, высокий, с бескровным кремовым лицом (у меня был такой башлык), в крагах и кожаной куртке! Никто не знал, откуда ты взялся и кто тебя взял. Официально тебя, конечно, выбрали, но мы все отлично знали, что тебя никто не выбирал. Ты просто появился, и всё тут. Ты появился и стал ходить по школе, по всем пяти этажам ее, все засекать, все усекать, во все проникать. Ты говорил, проходя мимо кого-нибудь из нас: “Зайди-ка ко мне во время большой перемены”, – и мы сразу же обмирали. А чего нам, кажется, было бояться? Ведь все это происходило не в царской гимназии с ее волчьими билетами, педелями, фискалами, с беликовыми и передоновыми, а в честной советской трудовой школе. И вызывал нас опять-таки не классный инспектор, а товарищ, наш товарищ. Вот это была первая и самая гнусная ложь. От нее шли все остальные лжи – и крохотные, и побольше, и, наконец, та наибольшая, во имя которой ты и возник, Эдинов. Я ведь потому ничего и не сумел собрать и написать о тебе, что так и не понял – кто же ты в самом деле? Просто, как пишет Достоевский, “мальчишка развитой и развращенный” (этот тип я постиг вполне) или чудовищный гибрид будущего кандидата педагогических наук Передонова с Павликом Морозовым – тоже еще на свет не родившимся (писатели двадцатых годов еще не были так умудрены, как их знаменитые и увенчанные коллеги тридцатых и пятидесятых годов). Во всяком случае, ты был весь обращен в будущее. И на Павлика, пожалуй, походил не по прямой, а по какой-то очень-очень косвенной линии. Кто этот в самом деле бедный, злодейски убиенный пацанок? Не о таких ли написал Гёте: “Du, armes Kind, was hat man dirgethan”. Представь, я до сих пор не знаю этого. Я только вижу, чем все это кончилось. А начиналось все вполне невинно. Вот, скажем, санитарная тройка. Сначала это были действительно только девчонки с чисто вымытыми розовыми лапками. На переменах они ловили нас и осматривали наши ногти и воротнички. Но ведь девчонки что? Кто их слушал? От них выворачивались, откупались обещаниями, просто показывали язык и убегали. Ты быстро покончил с этой кустарщиной. “Во-первых, – приказал ты, – надо составлять акт и подавать в учком”, во-вторых, вслед за девочкой шел верзила – он хватал меня за шиворот и волок в учительскую. Вот в этом и была твоя гениальность. Ты ввел порядок и понял, из кого должны состоять твои тройки. Вместо первых и законопослушных учеников ты стал набирать в тройки самых отпетых – хулиганов, ловчил, тупиц, – было бы мальчишеской совести поменьше да кулаки побольше. И все переменилось. Эта шобла была тебе предана, как шайка молодых щипачей своему тертому пахану, и поэтому они из самых последних превратились, само собой, в самых первых. И исчезли все безнадежные, успеваемость скакнула чуть не на сто процентов (наши бедные педагоги боялись тебя больше, чем мы). Так ты весомо, грубо и зримо продемонстрировал силу товарищеского воздействия, мощь коллектива и талант руководителя. И что по сравнению с тобой, действительно, стоили все демоны и бесы старой гимназии, все эти педели, инспекторы, директора – бездарные беликовы, параноидные передоновы! Да гроша медного не стоили они – стукачи и фискалы! Они были просто глупы и беспомощны! Им лгали с истинным упоением и вдохновением. А тебе не врали. Ты быстро покончил с этим ремесленничеством. Любой староста отвечал на любой твой вопрос: о чем ты его спрашивал, о том он и рассказывал. О родном брате и то рассказал бы. И попробовал бы тот его тронуть! Ого! Ты и с этим покончил сразу же. Правда, старички постарше, из тех, кто еще от отцов слышал о каких-то былых традициях товарищества – не об этих, которые так успешно насаждал и насадил ты, а о тех допотопных, когда человек был еще человеку не “друг”, а иногда враг и друзья объединялись и блюли друг друга, – те могли еще увернуться от ответа или просто соврать. Но малыши были честны, неподкупны и суровы – они всё несли в учком к его председателю в кожанке и поскрипывающих крагах… Бог знает, куда ты все это нес, Георгий Эдинов. Но, во всяком случае, все наши немощные души ты крепко держал в кулаке. Вернее, в клеенчатой общей тетради, этакой книге живота нашего. Мне тоже однажды пришлось ее увидеть. Тогда в нашем классе случился криминал, и мне пришлось говорить с тобой. Это был первый в моей жизни разговор меня с государством, один на один, в казенном пустом кабинете, по казенной надобности. Правда, история была на редкость неприятная. Как-то после последнего урока у нас в классе появился и пошел по рукам револьвер. Конечно, без единого патрона, со сбитой ручкой, но с бойко вращающимся барабаном. Все крутили его по очереди. Подержать в руке настоящий бельгийский кольт – о-го-го!
Это чего-то стоило! А потом после уроков кто-то с этим кольтом подбежал к чинной стайке девчонок в углу двора и прицелился в них. Те, разумеется, бросились врассыпную, а потом быстро успокоились, вместе с нами гоняли этот барабан и целились друг в друга. После этого кольт пропал. Кто его принес – так и осталось нераскрытым. Но прошла неделя, кто-то стукнул, и началась паника. Боевое оружие! Заряженное! Оставшееся от белых! С полной обоймой! С гравировкой “За веру, царя и отечество”! Двуглавым орлом! (Ни орла, ни надписи этой, конечно, не было, но шептались именно о них – ты был и правда большим талантом, Эдинов!) Немедленно найти и выяснить, чей он. Выяснить, выяснить, выяснить! Выявить, выявить, выявить! Сначала собрали старостат просто. Потом старостат с тройками. Потом заседал педсовет совместно с учкомом. А раз после занятий пришел в класс физкультурник и провел беседу. (Это был вялый высокий блондин с красными полосками бровей и постоянно лупящимся носом. Мы к нему относились как к своему.) Бесполезно. Никто ничего не знал (к счастью, староста наша болела). А через три дня объявили нечто чрезвычайное – общее собрание обеих смен. Явка обязательна. Мы пришли. На сцене стоял стол под красным сукном, и сидел за столом под пальмами костистый дядька лет сорока, во френче и в пронзительном троцкистском пенсне. Кто-то из учкома объявил собрание открытым и предоставил слово тебе. Ты скромно поднялся с одной из средних скамеек и взошел на сцену. Ровно такой же ученик, как и мы все. “Вот, ребята, – сказал ты, – нашу школу посетил один из руководящих работников райкома партии. Он хочет с вами поговорить”. Товарищ из райкома поднялся и заговорил. Голос у него был мягкий, переливчатый, но с этаким металлом. “Меня что больше всего удивляет в этой нехорошей истории с кольтом? – сказал он просто. – Не он сам, нет. Больше всего удивляет ваше отношение к своим же ребятам, своим товарищам. Они вас спрашивают, а вы либо молчите, либо говорите им неправду. Зачем лгать своим друзьям? Вот это совсем мне непостижимо! Обманывать Жору Эдинова? Водить за нос Благушина? (Был у нас такой подонок, раньше из самых отпетых, сейчас самый ответственный.) Ведь вы с ними на одной парте сидите, на переменах в футбол играете, вместе домой идете, завтраками делитесь – и лжете им? Почему? Не верите, что ли? Никак не умещается это у меня в голове, ребята! И другое совсем непонятно – вот я узнаю, у вас начались разговоры о фискалах, доносах, доносчиках, ябедниках. Какие фискалы? Какие ябедники? Ведь это же давным-давно умершие понятия нашего проклятого прошлого, и я не пойму, кто и зачем их воскрешает. Мы давным-давно осиновый кол в них забили. Среди вас не может быть доносчиков, нельзя же доносить на самого себя. Верно, ребята? – Тут он даже немного посмеялся. – Но, – и тут он сразу, мгновенно построжел, – вы должны быть сознательными друзьями, и если ваш друг вольно или невольно повел себя не так, как следует в нашем социалистическом обществе (были тогда действительно сказаны эти слова о социалистическом обществе? Сейчас я уже сомневаюсь. Может быть, это просто историческая аберрация, обман слуха, и я услышал то, что говорилось много позже), вы обязаны во имя его самого же довести до сведения ваших старших товарищей, ваших старших товарищей!” На эту тему он говорил еще с час. Так вот, после этого собрания ты и вызвал меня, Эдинов. В учкоме никого не было. Уже горело электричество. Ты сидел за столом, я сидел поодаль. “Ну так что скажешь?” – спросил ты. А чего я мог сказать, я молчал – и все! Тогда ты сказал: “Ты знаешь, кто принес кольт. Учти – у тебя плохая успеваемость по математике и отвратительное поведение. А школа держит первенство по Москве. Сейчас самое время тебе об этом подумать!” Я молчал. “Верно?” – спросил ты. Я опять-таки молчал, потому что и это была правда. Ты посидел, посмотрел на меня таинственно и сказал, что вызвал меня только потому, что хотел, чтобы я сам во всем честно разобрался. Вот я только что слышал прекрасную речь ответственного товарища. Товарищ этот мне объяснил все, так неужели я и дальше буду запираться? И губить себя? В нашей стране не может быть неисправимых. Помню ли я, каким был Николай Благушин хотя бы в прошлом году? Хорошо! А сейчас? Вот он все осознал и исправился по-настоящему. А я? Нет, так советские учащиеся себя не ведут. Во всяком случае, учащиеся советской образцовой школы, носящей такое светлое имя великого ученого Михаила Ковалевского (ей-богу, ты сказал именно так, может быть, и издеваясь), так не могут себя вести. Так ты говорил, строго и ласково, глядя прямо в мои лживые глаза. Пятнадцатилетний капитан – тебе вряд ли было больше – нашего бестолкового школьного корабля. А я изворачивался, мекал, не знал, куда себя девать, просто сгорал от конфуза и злости. Я ненавидел себя, тебя, всех, кто тебя поставил над нами. А ты уличал меня на каждом шагу, не особенно настаивая, но и не отступая, – ты просто преследовал меня по пятам. Наконец мне все как-то осточертело, на его “ты должен…” (подумать? решить? сказать?) я рявкнул: “Ничего я тебе не должен, и пошел бы ты от меня…” Вот тогда ты выдвинул ящик, вытащил книгу живота и ласково погладил ее. “Ну зачем же так, – спросил ты с мягкой наглостью. – Все равно ведь скажешь, некуда тебе деться. Вот где ты у меня. Прочитать?” – “Прочитай!” – крикнул я. “Да, я прочту, пожалуй, – сказал ты с той же ласковой ненавидящей улыбкой, – но тогда тебя на следующем заседании педсовета исключат из школы. С чем ты придешь домой? Ведь тебя бить будут. Ремнем. Тебя бьют дома, я знаю. Бьют, а?” – ты подмигнул мне. Ты был прав, дома меня били, но если бы у меня был этот самый кольт, да еще если бы он стрелял, – я бы не задумываясь разрядил его весь в эту наглую ухмыляющуюся морду. Но у меня не было его, и я молчал. Я дошел до такой грани отчаяния и унижения, что дальше идти было уже невозможно. Теперь мне уже было все равно. Я просто ничем не мог помочь себе. И тут вдруг ты, Эдинов, обнял меня за плечи. “Ну и дурачок же, – сказал ты ласково и простецки, – ненормальный и не лечишься. Смотри!” Он снова выдвинул ящик стола, вытащил кольт и бросил его на стол. “На! Смотри! Герой! У него же курка нет! Мы в тот же день его и забрали, но нам важно было сознание, сознание! А тут круговая порука. Разве это в советской школе терпимо? Закуришь?” – он вынул кожаный портсигар и протянул мне.
Это было актом величайшего доверия. За курение исключали на три дня, на неделю, совсем. Ходили, правда, слухи, что Эдинов курит, но видеть этого никто не видел. Впрочем, может быть, один исправившийся Коля Благушин… Так мы и расстались, выкурив перед этим, как он сказал, “трубку мира”, и ты больше никогда не вызывал меня в учком, лишь, встречаясь, заговорщицки улыбался. Ведь у нас с тобой была тайна, да и весь ты жил в этих тайнах – ответственный, осведомленный, все понимающий с высшей точки зрения, – таинственный… Где ты сейчас? Жив ли? По-прежнему ли улавливаешь души или и твою уже успел кто-то уловить? А это вполне может случиться. Ведь над твоим столом висел портрет Льва Давыдовича, да и тот, кого ты приводил к нам, носил звонкую партийную фамилию, но лет через десять я прочел ее с таким титулом: “ныне разоблаченный враг народа”, – а ты потом, кажется, у него работал, так что всё в конце жизни может быть.
Он уже спал и видел все это во сне. А между тем совсем рассвело. Полоска неба за решеткой стала сначала белой, потом голубой, потом розовой. Кусты около окна стрекотали уже по-дневному отчаянно и развязно. Из коридора слышались ясные утренние женские голоса – это ходили по камерам фельдшерица и сестра.
Буддо сидел на кровати и листал самоучитель английского языка 1913 года.
– Ну, с боевым крещением вас, Георгий Николаевич, – сказал он, когда Зыбин поднял голову. – Вот ваш ужин остался от вчера, ешьте, пока не убрали. Сечка.
Зыбин молча встал, прошел к столику, сел, но есть не стал.
– Ну что же это вы? – упрекнул Буддо. – Так разволновались? Ничего, ешьте, ешьте, а то ведь и ноги протянешь. Хотя нет, во время следствия не дадут, а вот потом – это уж как сочтешь. Кушайте, кушайте. Сечка-то с мясом! Знаете, как ее тут зовут? – Он покосился на волчок. – Сталинская шрапнель!
– Остроумно, – улыбнулся Зыбин и зачерпнул ложку.
– Ну вот и на здоровьичко, – похвалил Буддо. – А заключенные вообще, Георгий Николаевич, люди острые и находчивые. Только вот следователи-то еще понаходчивей их! Посвыше, как говорят в лагере. Так что? Со статейкой вас? Как, еще не предъявили? Что же вы тогда делали? Анкетой занимались. О, это они любят, умеют! Тут они психологи. Ты дрожишь, кипишь, а они тебе – где родился? где учился? когда женился? И точат, точат кровь по капельке. У вас кто следователь-то? Не знаете? А у кого были? Как, у самого Неймана? – Буддо даже учебник положил. – А какой он из себя? Ну правильно, курчавый, небольшой, толстогубый. Э-э, дорогой, значит, они всерьез вами занялись. О чем же он вас спрашивал?
Зыбин усмехнулся и развел руками.
– То есть?
– Да чепуха какая-то. Дела давно минувших дней. Да и со-всем не мои даже.
– Ну а все-таки, все-таки?
– Ну понимаете… – Зыбин подумал и начал говорить.
Он рассказал то же, что и Нейману, а потом и прибавил еще кое-что от себя. Так, он сказал, что самоубийство Кравцовой ему очень понятно. Резкая, во всем разочаровавшаяся женщина. Была личной секретаршей, стала женой. К мужу питала почти физическое отвращение. Изменяла ему нагло, явно, с каким-то даже отчаянием. На суде это выяснилось полностью. Любила ли она Старкова или нет – не поймешь, но то, что ее бросили, она переживала тяжело. А почему он ее бросил – тоже ясно: приехала жена с ребенком, и надо было что-то решать. И если бы он сразу оборвал все, то, конечно, ничего бы и не было, но он тянул, врал, что-то выгадывал – словом, гнался за двумя зайцами сразу. От прямого разговора уклонялся. Вот тогда она и выдумала эту злосчастную вечеринку. Здесь, в передней номера, состоялось их решительное объяснение. Старков, прижатый к стене, выложил ей все. На выражения, наверно, не постеснялся. В общем, они смертельно поругались. Кравцова была женщиной решительной, а тут еще водка, и вот… “А ну-ка, Володя, идите сюда”. Володя подошел. Огонь потух, потом зажегся. Старков посмотрел, плюнул, выругался и ушел. Но опять все, вероятно, сошло бы, если бы Володя догадался ей утром позвонить. Вот тогда и “хлопнула форточка”. А в общем, пьяная мерзость и гадость, о ней и говорить противно!
Пока Зыбин говорил, Буддо молча листал самоучитель, а потом поднял голову и спросил:
– Хорошо, а вы тут при чем?
Зыбин рассказал о собрании и своем выступлении.
– Понятно! Так знаете, как будет начинаться ваша обвиниловка? – Он на минуту закрыл глаза и задумался. – Вот, значит, так: “Следствием установлено, что, еще будучи студентом такого-то института, Зыбин Гэ Эн, пытаясь выручить своих собутыльников, арестованных за бандитизм, сорвал студенческое собрание, посвященное обсуждению и заклеймению их преступной деятельности. Арестованный и допрошенный тогда же органами ГПУ, он дал уличающие себя показания, однако следствие, стремясь быть к нему максимально объективным, в то время не нашло нужным привлекать его к уголовной ответственности. Воспользовавшись этим и приняв великодушие за слабость, он…” – ну и пошло, и пошло! Да, с самого начала нехорошо у вас сложилось. Нейман, это дело! Очень, очень погано! Хотя…
Он вдруг отбросил книгу, ахнул и даже всплеснул руками.
– Слушайте! Дорогой! Великолепная же мысль! Да, да! Я бы так и сделал, свел бы все исключительно к этому! Да, да! – Он засмеялся. – Именно так. Ах, черт возьми! Нет, есть у меня все-таки что-то в башке, есть! Вот будет чудно! Воспользуйтесь! Обязательно воспользуйтесь!
– Что чудно? К чему к этому? – не понял Зыбин.
– Господи боже мой! – воскликнул Буддо. – Да как же вы не понимаете? Они же вам руку протянули! Ведь в том деле, кроме пьянства, хулиганства и бытового разложения, они вам ничего не предъявляют! Так? Ну чего же вам еще желать? Сознавайтесь, и все! Говорите: “Да, признаюсь, что я выступал на собрании потому, что хотел выгородить своих собутыльников. Мы вместе пили. Я и сейчас такой. Пью, гуляю, баб к себе вожу, работу заваливаю, но вот политики – нет, политики я не касаюсь! Она мне ни к чему. А просто я богема, аморальная личность!” Вот и всё. И ничего вы больше знать не знаете. Они от вас наверняка тогда отвяжутся.
– То есть как же отвяжутся? – удивился Зыбин. – Ведь это же готовая статья! Завал работы! Хорошее дело!
– Какая статья! – воскликнул Буддо в азарте. – Какая? Статьи за богему, Георгий Николаевич, нету, а есть литера СОЭ – социально опасный элемент. И полагается за это СОЭ по Особому совещанию три года без поражения и конфискации! И поедете вы по этой литере не на Колыму, а в местную колонию. А там получите расконвойку и через года полтора выйдете с чистыми документами на свободу. Красота! Послушайте меня, времена сейчас поганые, отсидитесь за высоким забором. Сведите все к пьянке, и конец.
– А три года как же?
– Вот вы какой, ей-богу! – рассердился Буддо. – Да что вы, вчера родились, что ли? Вы что же, отсюда прямо на свободу хотите выйти? Ни в чем не виноват! Опять зазря посадили! Так, что ли? Да ведь это значит, вы туда, а следователь сюда, на вашу койку? Пойдет ли кто-нибудь на это? Как вы не понимаете, освободить вас им сейчас попросту невозможно.
– Это почему же? – запальчиво спросил Зыбин.
– Вот святая простота! Да потому, что вы уже сидите! Стойте, стойте, ведь вы считаете себя невиновным? Так? Ну вот, вас тогда, семь лет назад, например, выпустили – ну и что же? Вы раскаялись? Благодарность к органам почувствовали? Да черта с два! Вы небось всюду ходили и орали: “Сволочи! Негодяи! Ночь продержали! За что? Провокаторы!” Так? Ну так или не так? – Он засмеялся. – “Ночь продержали”! Вот поэтому-то вас и нельзя выпустить. Виновного можно, а невиновного нельзя. Виновный в ноги упадет, а невиновный ножом пырнет. Значит, исходя из этого, статью они вам приварят обязательно. Теперь вот вопрос: какую? Если будете брыкаться да злить их – они вам такую подберут… да еще в такое место направят… Это они умеют. Вы знаете, есть лагеря, где зэки больше полугода не живут. Так вы послушайте меня, Георгий Николаевич, вырывайте у них СОЭ – и всё! В нем ваше спасение. Они поупрямятся, поорут да и согласятся.
“Черт бы побрал этого сумасшедшего, – подумал Зыбин, – и ведь не разыгрывает, искренне говорит. Вот чертовщина-то!”
– Бог знает, что вы такое говорите, Александр Иванович. Ведь это же с ума надо… – начал он сердито и вдруг осекся, вспомнил – и Нейман сказал: “И тогда, вероятно, сегодня я бы с вами не беседовал. К человеку, осужденному за такое, политическую статью не прицепишь”.
“Да, да, – подумал он, – да, да. Так оно, верно, и есть. Это сумасшествие, но оно имеет свою систему. Все это знают, и все притворяются, и следователи и подследственные, все они играют в одну и ту же игру”.