Ночной принц бесплатное чтение
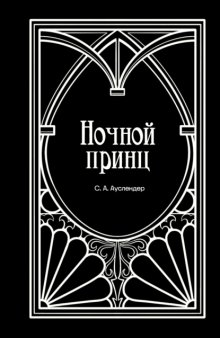
I[1]
Камни мостовых, стены старых домов, площади, дворцы и церкви много таят в себе загадочных, странных историй. Страшные преступления, прекрасные подвиги совершались здесь когда-то.
Никто не знает, что было, как было.
Когда в сумерках брожу я, отуманенный чарами вечернего города, по этим же улицам, мимо этих же дворцов, вдоль блестящих каналов – мне начинает казаться, что слышу далекие голоса, вижу давно забытые лица, воскресает в призрачном очаровании то, что когда-то жило здесь.
Томные вздохи любовников в аллеях Летнего сада, предсмертные стоны декабрьских романтиков на великой Дворцовой площади, грозные трубы Петра – все еще не замерли, не заглушены суетой нашей жизни.
Прими, любезный читатель, несколько историй, навеянных грезами о славном, веселом, жестоком и необычайном Петербурге минувшего.
То, что вычитал в старых книгах с пожелтевшими страницами, то, что пригрезилось в странные часы сумерек, то, что рассказали мне безмолвные свидетели великих тайн, – соединил я в этих историях для того, чтобы, насколько хватит слабых сил моих, прославить тебя еще раз, о, Петербург!
С. А.
Ночной принц
Романтическая повесть
Глава первая,
в которой говорится о странных мечтаниях Миши Трубникова, о купальщице, разбитой тарелке и желтой даме
На оных изображены персоны.
Из аукционных публикаций
«Государь мой. Всякий поступок должен иметь свои причины. Чем прикажешь извинить вчерашнее твое поведение? Сервиз, из коего ты разрознил рыбную смену, стоил мне 500 рублей ассигнациями, но ты знаешь, что не убыток возмутил меня. Наденька и я с тревогой ожидаем твоих объяснений, так как припадок твой охотнее считаем мгновенным затмением разума, чем дерзостью.
Остаюсь преданным слугой твоим
Князь Григорий».
Уже не слишком раннее утро тусклого, метельного петербургского дня и письмо на толстой серой бумаге, надписанное почерком тонким и строгим – «Милостивому Государю Михаилу Ивановичу Трубникову в красный дом противу Вознесенья, в собственный руки», – разбудили молодого человека в большой квадратной комнате, соединяющей в себе некоторое притязание на роскошь и заброшенность почти нежилого помещения.
Было ему на вид лет пятнадцать. Тонкие черты его не были лишены приятности, хотя их несколько портили коротко и неровно подстриженные волосы и бледность лица.
Смущенно скомкал он полученное письмо, сунув его под подушку, почти не читая. Тяжелая растерянность охватила его. Беспокойный блеск глаз говорил о каких-то тайных, мучительных тревогах. Еще не совсем отошли ночные видения, каждую ночь одни и те же в этой комнате, а письмо с досадной живостью напомнило ему все события вчерашнего дня и за ними длинную цепь других дней, тоскливых и тягостных. Все смешивалось, и все томило: и скучный наставительный голос князя Григория, и розовое личико Наденьки, в которую он еще недавно считал себя влюбленным, и завешенная купальщица на стене в дядином кабинете, и разговоры с Пахотиным, тягостные и влекущие, и вечер в ресторации, и она, своей улыбкой переполнившая чашу всех мучительств и сомнений, обольстительное наваждение, лукавая прелестница, от которой остались после вчерашнего обеда одни черепки, но странными чарами живая теперь навсегда в беспокойных снах, в сумеречных видениях, колдунья в желтых шелках, с тайным намеком трех мушек, носящая пышное и роковое имя – она, Маркиза Помпадур.
– А вы бы, сударь, вставали, – со сдержанным осуждением сказал, наконец, Кузьма, потому что Миша, натягивая одеяло на голову, делал отчаянную попытку отвратить несносную минуту вставанья, в чем старый слуга справедливо находил непорядок.
Как бы пойманный на месте преступления, Миша начал одеваться с покорной поспешностью, не решаясь даже поставить на вид Кузьме нечищенные сапоги и нерасправленный мундирчик. Почтительная наглость избалованного лакея угнетала его и приводила в раздражение, которое он, впрочем, всеми силами старался скрыть, равнодушно задавая вопросы о погоде и делах несложного дядиного хозяйства, над коим был он теперь поставлен временным господином.
Миша наскоро окончил незамысловатый свой туалет, даже не пригладив смешно торчащие кустики волос, обезображенных небрежной рукой лицейского цирульника Ефимыча. Кузьма подал ему на исцарапанном подносе убогий завтрак; помахав метелочкой по диванам и столу, исполнил обряд уборки комнат и, наконец, уплелся на людскую половину, что-то ворча себе под нос о непорядках.
Жареная картошка с селедкой и вчерашнее пересушенное в мочалку мясо отбивали аппетит. Во рту было гадко; вялость после тяжелого сна не пропадала. По привычке Миша стал ходить по комнатам – их было пять, и каждая странным убранством своим походила одна на другую. Казалось, хозяин их, сделав удачный набег на дворец Бахчисарайского султана, не знал, куда поместить награбленные богатства, и заполнил все комнаты свои оттоманками, мягкими коврами, парчовыми занавесями с полумесяцем и арфами, цветными фонарями, золочеными саблями и кинжалами – словом, всем, что дает обстановке название «восточной». Затейливыми ширмами с огненными птицами и золотыми драконами были тщательно заставлены все принадлежности домашнего обихода, обеденный стол, кровать, умывальник, чтобы ни один из презренных сих предметов не выдавал, что это мирное обиталище почтенного, правда, холостого чиновника 5-го класса, а не легкомысленный приют для каких-нибудь нескромных утех молодого повесы. Такова была фантазия Мишиного дяди, Дмитрия Михайловича Трубникова, в квартире которого проводил он одиноко свои Рождественские каникулы, преследуемый странными, часто самому ему непонятными мыслями, мечтами и даже видениями.
Тихо раздвигая свешивающиеся над каждой дверью занавеси, переходил Миша из комнаты в комнату; останавливался у замерзших окон, за которыми густо валил снег и в пустынном переулке спешно пробегал редкий прохожий, представляя своей закутанной фигурой, какой стоит на улице мороз; и уже сладкая, знакомая томность ранних сумерек и пустых комнат овладела им.
У Вознесенья изредка звонили. Еще раз постояв у окна, Миша тихо-тихо, как бы прокрадываясь по мягким коврам, прошел ряд комнат, помедлил у последней двери, огляделся и вошел.
Это была большая комната с четырьмя диванами по стенам, называвшаяся почему-то кабинетом. С притворной небрежностью Миша побродил по комнате, потрогал замысловатые чубуки, стройным рядом выставленные в бронзовой подставке, погрел руки у жарко натопленной печи и, только развалившись в шелковых подушках дивана, наконец поднял глаза.
На противоположной стене висела завешенная купальщица.
Уезжая, дядя прикрыл картину двумя концами окружающих ее занавесок, сказав со смешком: «Это для тебя еще рано». Только голова в голубом венке в полуоборот и кончик голого плеча были видны на зеленоватом небе.
Сначала Миша не поддавался власти этих ласковых глаз; равнодушно даже что-то посвистывал и твердо убеждал себя, что все это чушь и дребедень, но незаметно для себя скоро он уже не отрывался от задорного и слегка как будто удивленного лица купальщицы. Все тело сделалось сухим, как в лихорадке, и только шелк подушек холодил приятно и нежно. Так пролежал он на низком диване до самой темноты. Почти сливались очертания мебели и едва-едва смутно выступало розовое плечо и лицо задорное и вместе с тем печальное и напряженное.
Вдруг ему показалось, что портрет пошевелился.
Совсем слегка дрогнули углы губ, и Миша узнал вчерашнюю улыбку желтой дамы, взглянувшей на него в ту минуту, когда он в смущении тыкал ножом рыбную котлету.
Стыд окрасил его щеки. «Погоди же, проклятая колдунья», – прошептал он со злобной горечью, вспомнив о вчерашнем позоре и разбитой тарелке.
Порывисто вскочил он и трепетной рукой сорвал занавеску.
Плотная туника покрывала все тело ее, кроме кончика плеча, и еще явственней различил он насмешливую улыбку. Быстро, едва задерживая шаги, чтобы не побежать, вышел Миша из кабинета. Нежный, как звон тысячи серебряных колокольчиков, смех преследовал его из темноты комнат. Кузьма храпел в передней. На ходу натягивая шинель, Миша бросился на улицу.
– Ба! Куда? А я вчерашний вечер… – Улыбающийся, весь в снегу стоял в подъезде Пахотин, хлопал рука об руку и, захлебываясь, уже что-то рассказывал, нимало не обращая внимания на растерянный вид приятеля.
Глава вторая,
в которой говорится о роковой встрече, Мишиной неловкости, о балете и многом другом
Кончился второй акт балета «Торжество Клектомиды, или Ленивый обольститель». Сделав прощальный пируэт, Истомина улетела в розовые кулисы. Кордебалетки улыбались каждая своему обожателю.
Пахотин неистовствовал. Сорвавшись со своего места в тринадцатом ряду, он подбежал к оркестру, бесцеремонно растолкав нескольких штатских старичков, и хлопал, перевесившись через барьер, пока пухленький амур из веселой толпы воспитанниц лукаво не погрозил ему золоченой стрелой. Тогда он возвратился на свое место, потный и торжествующий, мало стесняясь насмешливых улыбок гвардейских франтов и дам, наводящих на него из бельэтажа язвительные лорнеты.
– Цыдулька моя возымела действие. Знатную протекцию себе я составил. Ты заметил ли, как она сложена? Только шестнадцатый год пошел, а князь Василий уверяет, будто…
Пахотин говорил громко и хвастливо. Миша слушал его, восхищаясь и завидуя. Он то краснел от стыда, что к их разговору прислушиваются любопытные соседи, то бледнел от волнения, когда слова его друга становились слишком нескромными и увлекательными.
– Полно, полно. Что ты, – смущенно бормотал он, вместе и боясь, и желая продолжения соблазнительных речей.
– Да что. Я тебе такое покажу! Поедем сегодня с нами ужинать. У меня карета припасена, прямо отсюда и поедем, – уговаривал Пахотин приятеля и, нагибаясь, рассказывал шепотом последние подробности, так что старичок, сидевший спереди, не удержался, громко крякнул и потянул ухо в их сторону.
Миша вспомнил, что у него в кармане шесть рублей, которых должно хватить к тому же до конца праздников, и решительно отказался. Пахотин обиделся и ушел курить.
Пышная зала с нарядной публикой, с золотом и светом томила Мишу. Рассказы Пахотина, нимфы и амуры в полупрозрачных одеждах, открывающих розовое трико, обманно манящее воображение, модницы в ложах с открытыми для жадных взоров шеями и руками, самый воздух, сладкий и теплый, исполненный соблазна, – все сливалось в одно томительное желание.
– Благодарствуйте, – с чопорной улыбкой сказала девица в сиреневом платье, когда Миша поднял оброненную афишку и, весь пунцовый, на несколько секунд заградил ей проход. Она с изумлением посмотрела ему прямо в глаза, не понимая его смущения.
– Благодарствуйте, – еще раз произнесла она и слегка отодвинула его локоть, мешавший пройти. Миша долго стоял, как в столбняке, хотя он даже не разглядел, красива ли она или нет. Соседи посматривали на него пренебрежительно – он отдавил им ноги, оказывая неловкую услугу барышне.
– Что я тебе покажу. Пойдем-ка, пойдем-ка, – вновь тормошил его Пахотин, таща за руку из залы, хотя музыканты уже готовились начать прелюдию, а капельдинеры тушили свечи.
В узеньком корридоре прогуливались, толкались и волочились. У третьей ложи с левой стороны было как-то особенно тесно. Около колонок толпились несколько уланов и штатских. Дамы, проходя, оглядывались презрительно. Миша еще через головы разглядел высокий, с белыми перьями ток из серого меха.
Пахотин ловко протолкнул его вперед. На ступеньках к ложе стояла дама. На ней было платье темно-розового бархата; драгоценное колье ослепляло и мешало разглядеть камни подробнее, сережки – крупный жемчуг в золотых полумесяцах – свешивались почти до плеч. Черные, слегка вьющиеся волосы и нежная смуглость лица говорили о южной родине дамы. Пудра, ярко накрашенные губы и глаза, тонко подведенные голубой краской, преднамеренной искусственностью своей придавали лицу невыразимую соблазнительность. Она была стройна и тонка, как мальчик. Казалось, она не обращала никакого внимания на глазеющую публику. Серые, томные глаза ее были равнодушны и печальны. Как королева, она спустилась со ступенек, подобрав тяжелый подол в золотых звездах; толпа расступилась перед ней с шепотом. Медленно прошла она по корридору и скрылась в дамской уборной.
– Кто она? – толковали в кучке мужчин.
Никто точно не знал.
– Испанка. Граф Н. вывез, – сказал кто-то неуверенно.
– Неправда, та была толстая.
– Похудела…
– С чего бы ей худеть?
Все смеялись возбужденно. На проходящих красавиц даже не смотрели. И правда, все женщины после нее казались грубыми, непривлекательными и одетыми бедно и без вкуса.
Когда Миша входил в полутемную залу, помраченный, взволнованный, на сцене уже танцовала Истомина, расплетая желтую вуаль, поднимаясь на носки, кружась, изнемогая и маня; ленивый Гульям лежал на одиноком ложе, а девять муз, ссорясь в сторонке, готовили победу своей любимице.
Во время действия Миша не раз украдкой посматривал на третью ложу с левой стороны.
Дама сидела совершенно одна, облокотясь в небрежной позе на барьер. Развернутый веер закрывал нижнюю половину лица, и только глаза, как бы исполняя докучливую работу, равнодушно наблюдали возню, происходившую на сцене.
В эту минуту Клектомида уже соблазнила ленивого Гульяма, и, поднявшись, он выражал в быстром танце пламень страсти, Клектомида – свою радость, а все участвующие (девять муз, амуры, нимфы, пейзане и пейзанки, турки и Аврора), кружась в grande valse finale, – общее удовлетворение. Наконец кавалер упал на одно колено и, подав руку балерине, помог ей взлететь ему на плечо; все застыли в живописных позах.
Занавес медленно опустился, скрывая блаженство торжествующей Клектомиды и ее нерешительного возлюбленного.
В корридоре Миша потерял Пахотина. Он не помнил, в какой стороне оставил свою шинель, и машинально пошел налево. Лакей уже накинул даме синюю на соболях шубку и, прокладывая ей дорогу, толкнул Мишу весьма неучтиво. Тот гневно оглянулся и встретился с ней лицом к лицу. На одну секунду она приостановилась под его почти безумным взглядом. Ему показалось, что совсем слегка углами губ она улыбнулась. Это была та же проклятая улыбка. Миша отступил на шаг, отдавил чей-то подол и, оступившись, полетел через три ступеньки головой вниз. Когда он поднялся, дамы уже не было. Два лакея, взявшись за бока, хохотали, указывая на него пальцами. Сконфуженный, потирая ушибленное место, Миша поспешил спрятаться в толпе и найти свою шинель.
Гвардейцы в тяжелых бобрах громко сговаривались, куда отправиться. Дамы, выставляя из-под шуб ножки в золоченых туфлях, жеманно пищали. У подъезда гарцевали с факелами два гайдука. Дворники бегали и выкрикивали кареты.
– Иван с Галерной, – кричал кто-то пронзительно.
– Завтра, милая, завтра.
Кого-то подсаживали; кому-то целовали ручку; из быстро захлопнувшейся дверцы кареты вывалилась записка, и офицер ловко поймал ее на лету.
Миша пробирался сквозь веселую толпу, одинокий и сумрачный. На площади он едва перелез через сугробы, навалившиеся за вечер. Отбиваясь от наезжающих ванек, он вышел на Невский.
– Пади, пади, – раздался свирепый крик, и Миша едва успел броситься из-под кареты в снег.
У тусклого фонаря он ясно разглядел в промелькнувшем окне две соединенные поцелуем тени.
Глава третья,
в которой заключены скучные, но необходимые рассуждения на мосту
Миша шел, уткнувшись в воротник и засунув руки в карманы. Охваченный тяжелым волнением, он не замечал ни мороза, ни снега, задавшегося, казалось, целью засыпать весь город по самые крыши, ни улиц, которые он быстро проходил одну за другою, поворачивая за углы, возвращаясь назад, опять идя прямо, как бы предавшись какой-то посторонней силе, благой и премудрой.
Наконец, он остановился на высоком мосту над канавкой.
Снег густой сеткой заплетал дома, и, казалось, кругом расстилалась глухая площадь, на которой бегали, кружились, сплетались существа, то угрожающие и злобные, то манящие и ласковые. Облокотясь на парапет, Миша прислушивался к причудливой их игре. Снег замел почти весь мост с высокими статуями и нежно ложился на плечи, голову и руки.
Так стоял он, вглядываясь в мятель, пока не почувствовал острой боли в отмерзающих пальцах.
Тогда Миша попрыгал на середине моста и, прячась от ветра, обернулся к противоположной стороне. Сквозь снег светился второй этаж углового дома по набережной. Танцующие пары проходили одна за другой в освещенных окнах.
Как зачарованный, не мог оторваться Миша от праздничного зрелища. За полузамерзшими стеклами призраками казались ему легко скользившие, приседавшие и кружившиеся пары. В плавных движениях их передавалась и неслышная музыка, и нежные улыбки, и томные вздохи, и все они казались ему веселыми, нарядными и влюбленными.
– Кавалеры стараются изрядно, но дамы уж слишком заглядываются на нас. Разве вы не находите такое поведение их не совсем приличным?
Высокий незнакомец в меховом картузе, неизвестно откуда взявшийся, стоял совсем рядом с Мишей, тоже пристально вглядываясь в окна, и говорил таким тоном, будто только одну минуту тому назад прервали они длинный разговор, который он и возобновил опять этим обращением.
– Вы думаете, они замечают нас? – спросил Миша, оборачиваясь к нему.
– Замечают ли они нас? Какая невинность! Для кого же, по вашему мнению, тогда все эти пышности? – воскликнул тот с веселым смехом, который чем-то не понравился Мише.
Несколько минут они помолчали. Незнакомец заговорил первый, вкрадчиво касаясь плеча Мишиного.
– Дорогой принц, я знаю, что не простой мальчишеский каприз ваши меланхолические настроения, но неужели нет никаких средств против ваших печалей? Неужели я, в преданности которого, надеюсь, вы не сомневаетесь, не могу ничем помочь вам?
Миша прервал его весьма нетерпеливо:
– Прежде всего, сударь, вы, очевидно, введены в заблуждение, называя меня почему-то принцем, а во-вторых, позволю себе заметить, что никогда я не имел даже случая где-либо с вами встречаться, а не только давать вам право задавать вопросы, которые кажутся мне более чем странными.
И порывисто повернувшись, он намеревался покинуть неучтивого собеседника.
– Штраф, штраф, – воскликнул тот с такой простодушной веселостью, что Миша невольно остановился, заинтересованный его речью. – Я плачу штраф. Я нарушил ваше инкогнито. Я преступил мудрое правило не замечать чужого раздражения. Конечно, сударь, мы никогда не встречались с вами и даже самое имя ваше мне неизвестно, как и вам мое. Только поэтому я приплел случайно попавшийся на язык титул. Только поэтому. Но пустая обмолвка моя ведь не помешает же нам провести эту ночь вместе, так как ни я, ни вы, кажется, не имеем пока ни малейшей охоты возвращаться в наши конуры.
И он вдруг засмеялся так пронзительно, что Миша опять сделал нетерпеливое движение, которое сразу успокоило странного шутника, и он продолжал, хотя и не без усмешки:
– Итак, мы проведем эту ночь, печально вздыхая о нашем бедственном положении. Мечтательно будем наблюдать с моста сквозь тусклые стекла чужое веселье. Там у дома еврейского банкира на набережной бедный поэт, прислонясь к столбу и заведя глаза к двум окнам второго этажа, еще раз со слезами поведает мне трогательную повесть о прекрасной Джессике и жестоком жиде. Не так ли?
– О каком жиде толкуете вы? – пробормотал Миша, достаточно спутанный и заинтересованный бессвязной болтовней, смысл которой совершенно ускользал от него.
– О, в прекрасную Джессику влюблены все бродячие, печальные поэты, как мы, с блаженной памяти времен господина Шекспира. Но я ничего не утверждаю. Может быть, таинственная испанка будет предметом сегодняшних импровизаций или даже вечно очаровательная Маркиза Помпадур, часто не дающая спать воображению некоторых молодых людей.
– Откуда вы знаете об этом? – крикнул Миша в гневном ужасе.
– Вот вы и выдали себя, мой друг, – дотрагиваясь до Мишиной шинели, засмеялся он. – Впрочем, тут нет ничего удивительного. Поэты любят мечтать о невозможном.
– О невозможном, – повторил Миша с глубоким вздохом.
– Но, дорогой принц, – заговорил незнакомец неожиданно серьезно. – Ведь именно невозможного хотели вы. Наш уговор был именно промечтать эту ночь о невозможном. Да замолчите же вы! Надоели. Тсс-с, – закричал он, замахав руками по направлению освещенных окон.
И вдруг, как будто по условленному знаку, все они разом погасли, и снег окутал тусклой своей пеленой танцующих, самый дом, набережную – все, что освещалось ярким огнем залы.
Миша, пораженный, молчал. Незнакомец продолжал свою речь ласково:
– Да и стоит ли желать чего-нибудь, кроме невозможного? Стоит ли даже терять время, чтобы сказать: «Я хочу возможного, земного, простого»? Нет, дорогой принц, это только роковая ошибка – ваша печаль, что не сойдет к вам пленительная купальщица, чтобы замкнуть круг ограниченный и глухой и не оставить никаких просторов для ваших мечтаний. Госпожа Помпадур, вероятно, охотно бы исполнила все ваши желания, но ведь вы сами истребили ее, как только она попробовала воплотиться и выйти из своего фаянса. Впрочем, не буду вспоминать этого неприятного почему-то вам случая, – поспешил закончить он примирительно, чувствуя опять неудовольствие своего собеседника.
Миша упорно молчал. Незнакомец опять заговорил с воодушевлением, мало стесняясь этой неучтивостью.
– Вы даже не можете себе представить, какая бы скучная путаница произошла, если бы все наши мечтания сбылись. Благородная профессия поэтов была бы упразднена. Все пылкие, бледные от томности любовники соединились бы, и прекратились бы веселые ночи вздохов, печальных свиданий через окна, робких клятв, слез, серенад, переодеваний, погони, мрачных разлук, всего, что поют поэты и что, в сущности, только постоянная мечта о невозможном. Хмурьтесь, плачьте, дорогой принц, но не изменяйте нашим профессиональным обязанностям. Мы поэты – нам надлежит быть не слишком веселыми. Положим, последний совет для вас вполне бесполезен. Вы добросовестны в этом отношении, как десять поэтов, которые готовятся излиться в элегиях, стансах или даже грянуть грозной балладой.
Но наконец даже у него истощился весь запас словоохотливости, и оба они замолчали – Миша безнадежно и обидчиво, незнакомец насмешливо и ожидающе.
Метель унималась, и только по временам, поднятые ветром, пролетали бесчисленными стройными рядами снежные искры, как мягкие волны, и опять успокаивались, спадая. Снег же падал медленными, тяжелыми, ровными хлопьями, и неясно выступали редкие фонари улиц.
– А вот и барон, – воскликнул незнакомец, уж давно беспокойно как будто кого-то поджидающий.
Действительно, в ту же минуту на мост вступил еще человек, роста ниже среднего, в цилиндре и модной шубе. Он не только вежливо поклонился Мише, сурово обратившемуся к нему на возглас, но даже попытался расшаркаться по бальному уставу и едва не упал, поскользнувшись, поддержанный первым незнакомцем, который весело представил его.
– Господин барон, прошу любить и жаловать. Большой филозóф, покровитель искусств и человек весьма рассудительный. Надеюсь, с его помощью мне удастся скорее убедить вас в вашем призвании довольствоваться благородной профессией печального поэта, мечтающего по целым ночам о прелестях разбитой маркизы, и не желать сделаться самодовольным шалопаем, услаждающим себя ограниченными и грубыми утехами с какой-нибудь девкой.
– Шут, – прервал его барон, впрочем, скорее все-таки одобряющим голосом.
– Ловлю вас на слове и напоминаю наше условие, – ответил тот, как бы задетый за живое, и весьма неуважительно хлопнул собеседника по цилиндру, надвинув его на самый баронский нос, на что его милость только весело рассмеялась, еще раз воскликнув:
– Шут.
– Мы еще поговорим с вами, любезнейший, – оборачиваясь опять к Мише, многозначительно оборвал незнакомец и с прежней живостью заговорил:
– Однако прежде чем начать веселую ночь печальных приключений, я думаю, не худо будет слегка подкрепиться. К тому же «Розовый Лебедь» не заставит нас делать особенного крюка. Ваше мнение, барон?
– Шут, – крикнул тот почти злобно, но, будто пропустив мимо ушей обижавшее его слово, незнакомец подхватил обоих собеседников под руки и потащил их, не прерывая болтовни, с моста в переулок, заваленный сугробами.
Глава четвертая,
в которой описано все, что случилось в «Розовом Лебеде», а также появление «Ночного Принца»
В «Розовом Лебеде» было светло, тепло и достаточно оживленно, потому что хотя ставни и были уже закрыты, но посетители и не думали расходиться. Особенно шумно было в одном углу, где пировало несколько студентов, поснимавших мундиры и то и дело затягивавших латинскую песню, которую, слышную за два дома на улице, можно было принять за отдаленный вой волчьей стаи. Впрочем, когда наши путники приближались к ресторации, кроме студенческой песни оттуда несся еще невообразимый гам свалки, так как именно в эту минуту услужающие выводили, стараясь соблюсти вежливость, одного из забуянивших посетителей; два студента вступились за него и вытащили из-под стола свои шпаги; другие унимали их и тянули свою песнь; хозяин, стараясь успокоить всех, кричал всех громче, а оркестр из гитары, двух скрипок, барабана и арфы играл вовсю.
Только что спустившись в погребок, незнакомец как-то сразу вмешался в скандал и через минуту прекратил шум. Только вытолкнутый пьяница кричал из сугроба за дверью:
– Погодите. Будет вам на орехи. Я тоже знаю кое-что про ваши фокусы, и подмигивающим валетом меня не удивишь. Выходите-ка сюда, господин Цилерих, выходите-ка.
Как будто придавая какое-то значение пьяной болтовне, незнакомец быстро взбежал по лестнице, постоял несколько секунд на улице, притворив за собой дверь, и больше уже ничто не нарушало благочиния, если не считать того, что оркестр по временам, по знаку хозяина яростно принимался разыгрывать польку из «Лонжюмоского Почталиона», а студенты затягивали свои куплеты, обрывая их второй строчкой.
При свете Миша впервые разглядел своих спутников.
Тот, который назывался бароном, оказался еще совсем молодым человеком, очень розовым, очень упитанным и очень белокурым. Волоса его были тщательно расчесаны и завиты на височках. Одет он был изысканно, и из-под щегольской шубы, отороченной серым мехом, выглядывали шелковый с розами жилет, тонкие кружева, модные пуговицы и лорнетка слоновой кости.
Другой тоже был не стар, хотя и название молодого к нему не подходило. Насмешливый тонкий рот не по-стариковски свежим казался; глаза из-под тяжелых век блестели весело, но желтый, сливающийся с низкой лысиной лоб весь в морщинах, редкие волоса на височках, выкрашенные и полинявшие, узловатые руки – все это придавало ему вид старческого убожества. Скромная и поношенная, но опрятная одежда его ничего не говорила. На острой макушке имел он под картузом маленькую зеленого бархата ермолку.
– Так, – хлопнув ладонью о стол, начал он, усаживаясь. – Так, благородные господа. Наконец-то мы можем познакомиться поближе. Как вы находите, молодой человек, нашего барона? Да и вообще нашим обществом вы, кажется, не совсем довольны?
– Да нет. Право, нет, – при свете потеряв всю решительность своей грубости, возражал Миша. – Конечно, согласитесь сами, наше знакомство состоялось несколько неожиданно и странно. Но я очень рад, очень рад. Моя фамилия Трубников.
– Вы все еще упорствуете? Ну, пусть будет по-вашему.
– Как же вы хотели бы, чтобы я назывался? – робко возразил Миша, будто сам не совсем уверенный в своем имени.
– Ваше Высочество, – начал барон, изящно нагибаясь. – Я очень ценю вашу затею. Я восхищен, но Цилерих груб и материален. Он знает несколько штук уличного шарлатана и думает себя всемогущим. Доверьтесь мне. Я умею ценить тонкие чувства.
– Браво, браво, барон. Вы отличный дипломат, но ссориться со мной я вам не советую.
– Если вы не замолчите, я вышвырну вас, как последнюю собаку. Мои полномочия, – пронзительно закричал барон.
– Плевать я хотел на ваши полномочия. Моя находка, – прервал его старик и сделал хищное движение, как бы желая оттащить Мишу в свою сторону.
– Почтенные господа, потише. В моем заведении десять лет не было такого шума. Не ссорьтесь, ради Господа, – подкатился на возвышающиеся голоса собеседников толстый запыхавшийся хозяин. – Дома разберете ваши ссоры. Пейте вино. Сейчас Степанида споет «Верныя приметы», наимоднейший романс. Не ссорьтесь, почтенные господа.
Музыканты потеснились на своем возвышении, и двое цыган, низко кланяясь и приветливо кивая знакомым, выбежали, звеня серебряными подковами. Цыган, немолодой, необычайной толщины, в белом с позументами кафтане, даже как будто не плясал, а так просто, стоя на месте, пошевеливал плечами, повертывал в руках шляпу, изредка причикивая и притоптывая одной ногой; выходило же прекрасно, ловко, живо, благородно.
Взвизгивая и руками всплескивая, начала Степанида:
- «Ах, зачем, поручик,
- Сидишь под арестом,
- В горьком заключеньи
- Колодник бесшпажный».
Цилерих казался живо заинтересованным. Он подпевал цыганке, хлопал рукой по столу в такт и только иногда взглядывал на Мишу, которому, нагибаясь через стол, барон шептал:
– Одно слово, Ваше Высочество, одно слово, и все будет исполнено. Не только высшею мудростью соединены мы, но и постоянною готовностью во всем, не щадя живота, помогать взалкавшему брату. Доверьтесь мне. Откройте ваши желанья.
Миша разглядывал белую с отточенными ногтями руку барона; на левом мизинце заметил он черный перстень.
– Вы и ваши друзья – массоны? – спросил он вместо ответа.
– Видимость, только видимость, – нагибаясь еще ниже от Цилериха, заговорил тот, – не все ли равно, «Петр к Истине», «Владимир к Порядку»? Все это только оболочка. «Ночного Принца» ищем мы, и находим, и служим. В исполнении воли его последняя истина. Избранный не должен противиться.
Лицо барона не менялось, розовое, в белокурых локонах.
Цыганка кончила, красной шалью размахивая, соскочила с возвышенья и обходила зрителей с тарелкой. Смеясь, она отбивалась, когда кто-нибудь из студентов старался слишком упорно задержать ее, схватив за талию. Подойдя на знаки Цилериха к столу, она заговорила, улыбкой показывая белые зубы:
– Щедрый барин, счастливый. Дай ручку, погадаю.
Миша тупо и пристально смотрел на женщину. Из-под платка выбились черные косы. Смуглое лицо с накрашенными губами наклонилось к нему.
– Что смотришь, красавчик, ручку пожалуй – всю правду скажу.
– Робок он у нас, – засмеялся Цилерих.
– Молодой барин, пригоженький, чего бояться меня, не съем, угости – погадаю, – не унималась цыганка. – Сесть рядом позволишь?
– Пожалуйста, пожалуйста, – заторопился Миша, сконфуженно отодвигаясь к барону, который с брезгливой гримасой смотрел на приставанье, очень радовавшее старика.
– Не утесню тебя, не утесню, – улыбалась Степанида и, сев совсем рядом, обняла Мишу, прижала одной рукой его голову к своей, другой взяла Мишину руку и, раскачиваясь, начала обычные предсказательные приговоры:
– Счастливый будешь, сахарный мой, меня любить будешь, а уж я-то тебя буду на пуху носить.
– Комедианты, – услышал Миша баронов голос. Жарко ему было и стыдно; чувствовал, что смешно было бы отбиваться от пригожей цыганки.
– Ай-да Степанида, – слышалось в зале, и множество народа с кружками и трубками собралось около их стола; пересмеиваясь, слушали гаданье, на которое скупа считалась Степанида.
– А еще скажу тебе, голубь мой, последнее слово, – кончила она и надавила вдруг мизинцем кончик носа Мише. – Не двоится; знаешь, что значит? – шепотом, нагнувшись, сказала на ухо. – Любови не знаешь еще, а сильно думаешь и ночью, и днем.
Сделав вид, будто еще что-то шепчет, губами дотронулась пониже уха.
– Оставьте меня, – странную новую решимость чувствуя, поднялся Миша.
– Принц, – воскликнул барон встревоженным голосом. – Смотрите, смотрите. – Миша повернулся и в небольшом овальном зеркале увидел в короне и далматике, как рисуют Императора Павла, с пылающим строгим лицом юношу, почти мальчика. В первую минуту он не узнал чудесно изменившихся черт своего лица. Узнав же, почти потерял сознание и, отвернувшись от зеркала, пошатнулся на руки подоспевших барона и Цилериха.
Глава пятая,
в которой описано коронование Миши Трубникова и все, что этому предшествовало
Очнулся Миша в сугробе. Он лежал, побледневший, с закрытыми глазами, как убитый, на меху шубы, совсем маленьким мальчиком. Барон растирал ему виски снегом. В переулке было тихо и звездно. Шум и духота ресторации казались приснившимися.
– Ну вот, ну вот, и все прошло, – проговорил барон ласково и просто. Цилериха же не было.
Миша встал. Слабость и пустоту чувствовал он, будто после угара. Очень хотелось спать и есть.
Барон взял его под руку. Медленно они шли по переулку с темными окнами и едва протоптанной тропинкой между сугробов.
– Не привык я, – сказал Миша, как бы извиняясь. – Простите, что утрудил вас. Куда же мы пойдем?
– Не беспокойтесь, пожалуйста, я думаю, вам хорошо бы передохнуть и погреться. Трактиры все уж закрыты. Вот разве согласитесь зайти к другу моему. Его дом сейчас за углом. Там не спят всю ночь, а мешать нам не будут. Можно расположиться, как дома.
– Хорошо, – согласился Миша, испытывая сладкую безвольность.
В дом вошли, не стуча, так как дверь барон открыл своим ключом. Слуга спал в передней на шубах. Синие свечи горели в низких подсвечниках, и ладаном навстречу входящим пахнуло.
Проведя Мишу коридором, барон ввел его в большую комнату, видимо, библиотеку, сплошь заставленную шкапами. В глубине стоял маленький стол со свечой, накрытый на две персоны; в камине пылали дрова.
– Видите, нас ждали, – промолвил барон, жестом приглашая сесть в кресло у стола.
Острые, незнакомые на вкус блюда быстро подавались и убирались бесшумно входящим и снова уходящим слугой.
Лицо Мишино горело от вина и близкого огня камина. Барон оставался простым и милым собеседником, ни одним жестом, ни одним словом не напоминавшим тех странных и страшных минут. В разговоре старался он не обращаться к Мише, чтобы никак его не называть. Говорили о предметах посторонних. Миша с непривычным оживлением рассказывал о лицейских проделках. Барон слушал, улыбаясь и мешая догоравшие поленья в камине.
– Ну, а как же, однако, мы решим, – сказал вдруг барон, не изменяя тона, но так, что Миша понял, о чем он спрашивает, и все-таки трусливо переспросил:
– Что вы хотите решать?
– Три святых амулета. Красный рубин – любовь, зеленый изумруд – власть высокая, мутный опал – мудрость. Выбирать час пришел, Ваше Высочество, выбирать.
– Хорошо, – тихо и задумчиво ответил Миша, не удивляясь и глядя на пламенные цветы угля, – хорошо. Рубин, изумруд, опал, – и еще тише добавил: – Рубин.
Барон встал, Миша тоже поднялся.
– Я готов, Ваше Высочество. Не угодно ли вам будет за мной последовать.
Он отпер незаметную, под цвет стены окрашенную дверь между двух шкапов. Зала открывалась перед ними. Два старика, беседуя на диване в углу, не обратили на вошедших никакого внимания. Все люстры и канделябры блестели, зажженные и отраженные в зеркалах.
– Сию минуту, Ваше Высочество, – шепнул барон и, плавно скользя по паркету, быстро удалился, оставив Мишу посередине ярко освещенной пустой залы с колоннами и розовыми амурами по стенам. Миша не знал, что делать ему. Он оглянулся на стариков; те по-прежнему шепотом говорили, кивая друг другу седыми напомаженными головами.
Через минуту шум быстрых шагов донесся из соседней комнаты. Дверь распахнулась. Прямо на Мишу вышла высокая, несколько полная дама под руку со стариком. За ними следовало много гостей.
– Милый принц, вот и вы пожаловали к нам. Я так счастлива, – говорила дама, смотря на Мишу. – Я очень счастлива.
Опуская смущенно глаза, Миша все-таки успел невольно как-то рассмотреть улыбающиеся губы и локоны высокой прически.
– Что же вы молчите, Ваше Высочество, – услышал Миша голос, напомнивший ему Цилериха. Гости обступили его тесным кругом.
– Вы даже не хотите поздороваться со мной.
– Сударыня, – сказал Миша, багровея. – Сударыня, – и, нагнувшись, он поцеловал протянутую руку, не поднимая глаз на говорившую.
Хорошо запомнил Миша в беглом взгляде нежные, прекрасные руки, которые дама обе протянула ему навстречу, прикоснувшись же губами к руке, ощутил он дряблую холодную кожу, наполнившую его нестерпимым отвращением.
Подняв глаза, увидел Миша стоящим перед собой Цилериха в зеленой ермолке. Его руку держал, только что поцеловав; дама же в смущении отступила.
Миша так и остался, не опуская руки Цилериха, а тот улыбался ехидно:
– Ошибочка вышла, Ваше Высочество.
Все заговорили, стараясь замять неприятный случай, и дама, опять ласково взяв Мишу под руку, прошла в другие комнаты, показывая его всем и говоря:
– Какой прекрасный у нас принц.
Но Миша не мог забыть и успокоиться; гадко было ему, и голова кружилась, и хотелось бежать, но нельзя было.
Комнаты большие и маленькие, залы, гостиные, диванные, все были освещены, как для праздника, но музыка не играла, громко говорили только там, где были дама и Миша, а в соседних покоях стояло молчание, так что странно было даже, открыв двери, находить полную комнату гостей. Тревога овладевала Мишей, хотя ничто не предвещало опасности; дама ласково пожимала его локоть; все гости учтиво кланялись и старались при приближении принца принять вид веселости. Раза два в толпе мелькало лицо Цилериха. Мише хотелось ему что-нибудь крикнуть, броситься на него, но, как бы угадывая это намерение, тот быстро скрывался. Барон тоже изредка попадался и улыбкой старался ободрить Мишу. Дама редко обращалась со словами к Мише, что позволяло оставаться и ему молчаливым.
– Разве вам не нравится наш праздник, на котором вы повелитель? – спросила она. – Все желанья, все желанья должны свершиться сегодня. Скажите, чего вы хотите?
– Я хочу уйти отсюда, – сказал Миша вяло.
– Но почему? Но почему? – заволновалась дама, пожимая Мишин локоть все сильнее. – Что случилось? Что отталкивает вас? Вы не хотите празднества, – будет тишина и молитвы. Вы хотите?
– Я хочу уйти отсюда, – не делая никакого движения, повторил Миша.
– Это невозможно, – сказала дама и с тем же нежным видом повела Мишу дальше, повторяя всем уже не в первый раз: – Какой прекрасный у нас принц сегодня!
Гости кланялись и улыбались, приветствуя, как привычные придворные, принца, который шел среди них с лицом гордым и печальным.
Наконец дама сказала громко:
– Почему же музыка не играет и никто не танцует?
Будто услышав условленный пароль, все стали выходить из залы в коридор, мужчины в одну сторону, дамы – в другую. Барон подошел и, взяв Мишу под руку, увел его от дамы. Когда они проходили коридором, Миша сказал:
– Я хочу уйти отсюда.
– Одну минуту, Ваше Высочество, – ответил тот.
В маленькой комнате перед зеркалом лежали корона, мантия и цепь из драгоценных камней. Барон возложил их на Мишу.
– Теперь все исполнилось. Вы коронованы. Нет запретов перед вами.
Миша чувствовал, что теряет сознание. Ему хотелось посмотреться в зеркало, чтобы еще раз увидеть того пылающего и прекрасного отрока в далматике, но вдруг как бы холодный ветер вернул ему силу желания, и он твердо сказал:
– Я узнал теперь все. И сейчас я уйду один. Так нужно и так будет.
Барон несколько удивленно посмотрел на Мишу, как бы не узнавая его, но покорно поклонился и бросился подбирать мантию, которую Миша небрежно сбросил к ногам.
Миша вышел в переднюю. Слуга проснулся.
– Уходите, сударь? – спросил он и нашел Мишину шинель среди вороха других военных, штатских и дамских шуб.
Глава шестая,
в которой описано последнее приключение этой ночи
Так расставшись со спутниками, Миша медленно стал подыматься по улице. Костер, у которого недавно занимал своими шутками все общество господин Цилерих, потух. Будочник, напугавший Мишу, спал на тумбе, опять похожий на медведя.
Карета, скрипя по снегу, перегнала Мишу и остановилась у подъезда.
Замедлив шаги, он ясно различил, как из нее вышла дама в синей шубке. Он узнал серый ток и лакея, толкнувшего его в сенях театра. Поразительней всех событий сегодняшней ночи показалась Мише эта встреча. Прислонившись к стене, переждал он, когда карета отъедет, и подошел к крыльцу. Света в круглом окошке привратника не было. Снег так замел дверь, что Миша уже сомневался, эту ли он видел открытой минуту назад.
– Твое дело, поганый, – пробормотал он, плюнув с досадой, и намеревался идти, как в сугробе увидел желтую розу, какие были в волосах дамы. Миша поднял цветок и, боясь передумать, быстро поднялся на ступеньки и громко постучал в дверь.
– «Ночному Принцу нет преград», – вспомнил он слова Цилериха, замирая.
Высокий молодой слуга открыл дверь тотчас же, как будто ожидая посетителя. Заслонив ладонью свет, несколько секунд рассматривал Трубникова. Сказав: «Бождите», – поставил подсвечник на пол и ушел по темной лестнице, широко шагая через ступени.
Страх почти до обморока почувствовал Миша в просторных сырых сенях, освещенных оплывавшей свечой.
«Бежать, бежать», – было его мыслью, но дверь оказалась уже замкнутой. Как пленник покорился он своей участи и сел на скамью, опуская голову к коленям.
– Пожалуйте. – Слуга, освещая путь, стоял перед ним.
Проходя, Миша заметил много дверей и за одной расслышал голоса. Один мужской:
– Луиза, Луиза.
Другой женский:
– Неправда, я не могу больше.
– Не угодно ли будет вам раздеться, сударь, – спросил слуга, ставя свечу на стол с остатками ужина в комнате большой и почти свободной от мебели.
Миша сбросил шинель на ручку стула; слуга стряхнул снег концом ливреи с сапог.
Арапка в красном нескромном платье вышла из-за занавеси, отделявшей соседнюю комнату, и произнесла что-то хрипло и весело. Слуга засмеялся, но, сдержавшись, сказал:
– Ихняя камеристка. Она вас и проведет. Тоже выдумает всегда, – и, прыснув еще раз, быстро ушел, унеся свет.
В темноте Арапка подошла к Мише, шатаясь, как пьяная, и сказала нечеловеческим голосом попугая:
– Ти милий. – Засмеялась, взяла за руку и повела, что-то бормоча. Запах от нее, смешанный с запахом вина и сладкой смолы, кружил голову.
За узкой низкой дверью оказалась неожиданно большая комната, тоже пустая. Огромная кровать стояла посередине. На возвышенье пышный туалет с глубоким креслом освещался двумя свечами в серебряных шандалах. Первую минуту покой показался Мише пустым. Не сразу разглядел он в зеркале туалета отраженную женщину. Она сидела глубоко в кресле, беспомощно опустив до пола руки в кольцах. Не двигаясь, не открывая глаз, подведенных тонко голубой краской, дама спросила на непонятном языке. Служанка ответила хриплым лаем и, недовольная, вышла.
Ощипывая желтую розу, Миша стоял, опустив голову, но его смущение было непритворным только наполовину.
Наконец дама встала и заговорила. Ласковы и печальны были слова того же незнакомого, сладкого, протяжного языка. Слабый знак руки понял Миша за позволение приблизиться. Подошел и встал коленями на ступеньки возвышения. Сделалось легко, торжественно и любопытно.
Казалось, что понимал медленную речь. Казалось, она говорила:
– Это хорошо, что вы пришли ко мне. Я жду вас давно. Вы будете любить меня.
– Да, да, я буду любить вас, – отвечал, улыбаясь, сам не зная, от какой радости.
Она тоже улыбнулась, и уже не пугала ее улыбка Мишу. Легко складывались его слова. Он говорил:
– Всю ночь я искал вас. Да не одну ночь. Давно знал я вас. Знали ли вы?
– Знала, милый, – продолжала она разговор, различно понимаемый, быть может, каждым.
Ничто больше не смущало Мишу, и не удивлялся он пустой комнате в странном доме, даме в розовом с цветочками капоте, стройной и томной, склоняющейся к нему с амвона, своим собственным речам, свободным и нежным.
Не прерывая ласковых слов, дама продолжала свой туалет: сняла кольца, распустив прическу, спрятала волосы под круглый чепчик с широким бантом; бегло, но пристально оглядела себя в зеркало, спрыснула руки и платье духами и, потушив одну свечу, высоко держа в руке другую, прошла по комнате. Сев на постель, снимала лиловые чулки, нежно что-то приговаривая.
Некоторое несоответствие слов и улыбки дамы с ее действиями поставило Мишу в тупик, и он не знал, что отвечать ей. Она же, видя его нерешительность, побежала к нему, села, поджимая голые ноги, рядом на ступеньки, обняла одной рукой за шею и ласково уговаривала; расстегнула пуговицы жесткого его мундира и, засунув пальцы за ворот Мишиной сорочки, смеялась невинно и коротко. Смутился Миша неожиданной шалости печальной дамы, но темные, тяжелые мечтания последних дней даже не вспоминались.
– Я щекотки не боюсь, – тряхнув головой по-мальчишески, сказал он.
Веселость, буйная и небывалая, охватила Трубникова, который и мальчиком-то был всегда скромен и тих.
Странные игры начались в пустой комнате. Бегали друг за другом, боролись, толкались, смеялись, как расшалившиеся дети.
Запыхавшись, дама упала на кровать. С блестящими глазами наклонился Миша над ней. Со смехом привлекала она его к себе, и он со смехом в первый раз осмелился поцеловать ее.
Арапка, тихо войдя, потушила нагоревшую свечу.
Глава седьмая,
в которой описано все, что произошло утром, следующим за ночью
Миша проснулся поздно. Солнце на красных ширмах горело пламенными пятнами. Открыв глаза, Миша вскочил, как под ударом. Босиком, в ночной рубахе бросился на середину спальни, сам не зная для чего. Знакомое запустение знакомых комнат; солнце прямо в окно, блестевшее снежными крышами напротив; тишина; большая дядина кровать, с которой он только что встал; разбросанные вещи его собственные – все казалось необычайным.
С досадным страхом не мог вспомнить Миша, где сонные видения разделялись с событиями действительными. В большом зеркале увидев свое собственное испуганное и бледное лицо со спутавшимися волосами, не узнал он себя. Вошедший Кузьма заставил его принять вид спокойствия. С непривычной медлительностью одевался Миша.
Кузьма, растапливая печку, начинал почтительную свою воркотню:
– От князя вчерась и сегодня опять присылали. Велели сказать, что ждут ответа. Что сказать прикажете? Поздно вчера пожаловать изволили.
– Да замолчи же, старый хрыч. Пошел вон. Чтоб духу твоего не было, – сам не узнавая своего звонкого голоса, сам удивляясь и радуясь своему гневу, крикнул Миша, будто хлыстом ударили его по лицу. Отвернувшись к зеркалу, на минуту увидел он желтую парчу и почти незнакомые черты тонкого, пылающего лица, как короной увенчанного сиянием. Одну минуту продолжалось смутное, вчерашний вечер сладко напоминавшее видение.
– Что же это, Господи? Что же это? – бормотал он, задыхаясь восторгом и ужасом опять, как вчера.
Но комната в солнце, неубранная кровать, Кузьма с разинутым ртом на корточках перед печкой – все это привело его в себя.
С колебанием взглянув в зеркало, увидел он себя обычным, слегка разрумянившимся, смущенно улыбающимся, в высоком воротничке, в желтых с цветочками подтяжках. Сдерживая дрожь гнева и внезапного восторга, Миша старательнее, чем всегда, причесался. По-новому строго сказал Кузьме:
– Подавайте завтрак. И чтоб порядок был у меня, а не то я сегодня же дяденьке напишу.
Удивленный Кузьма прислуживал быстро и почтительно.
Чувствуя себя стройным и как-то особенно красивым, окончательно оправился Миша перед зеркалом, принял от слуги чистый платок и перчатки и веселым, преувеличенно замедленным шагом прошел в переднюю по ярко освещенным комнатам, ликующе блестевшим празднично вычищенными полами.
Быстро шел Трубников вдоль канала, радуясь не только морозному солнцу, зимнему небу, солдатам, с музыкой возвращавшимся по Гороховой с парада, но и еще чему-то смутному и слегка страшному, тайному и торжественному. Милостиво улыбался он встречным, и казалось ему, все думали и даже говорили про него: «Какой прекрасный молодой человек. Кто бы он был?» – Уже почти у самого Невского Миша остановился на углу против моста. Всю улицу занимали возы, загораживая проход.
Пережидая их, Миша поднял глаза и вдруг узнал перекресток, на котором встретил он вчера господина Цилериха. И статуи на мосту, и покосившиеся тумбы, и тысяча других мелочей вдруг напомнили ему вчерашнее. Не без волнения отыскивал Миша дом, в освещенных окнах которого видел он вчера бал, послуживший как бы началом чудесных приключений прошедшей ночи.
– Эй, берегись, барчук, – крикнул на зазевавшегося возчик, и Миша, сторонясь лошади, вбежал на высокий мост. Напротив стоял длинный облупленный дом, выкрашенный когда-то в зеленую краску, но теперь посеревший. Оборванные ставни, сломанная водосточная труба, грязный вход придавали ему вид неопрятный. Подойдя ближе, рассмотрел Миша широкую белую доску с надписью:
«Гамбургская ресторация для почтенных посетителей, освобождается зало под свадьбы, обеды и семейные вечера по вольной цене».
– Какие глупости, – воскликнул Миша, прочитав. – Какие глупости, – и засмеялся так громко, что встречные останавливались и глядели ему вслед.
Нанимая извозчика, все еще не мог удержаться Миша от смеха, еле выговаривая:
– На Литейный.
– Веселый барин, – ухмыльнулся кучер, застегивая полость.
От быстрой езды и мороза у Миши дух захватило. Мелькнули на Невском кареты, офицеры в санках. У Френделя Пахотин окликнул его, но он только рукой махнул, зажимая рукавом лицо от смеха и холода. Весело и вольно было так скакать по рыхлому снегу. Все мысли, тяжелые и мрачные, куда-то уплыли. Всю дорогу без причины радовался и улыбался сам себе Трубников и думал только: «Хороший извозчик попался, надо полтину ему дать».
У темно-голубого дома на Литейном, в который с самого детства входил он с чувствами противоречивыми и всегда взволнованный, весело и легкомысленно выскочил Миша из саней и вбежал, бросив шинель швейцару, на площадку второго этажа. Лакей поднялся со стула и как-то почтительнее, чем всегда, выговорил:
– С праздником, Михаил Иванович.
Получивши же неожиданный рубль на чай, совсем удивленным голосом, выпрямившись в струнку, доложил:
– Его Сиятельство ждут вас и просили обождать в гостиных. Княжна-с там.
Равнодушно и быстро вошел он в белую с золотом залу. Холодный порядок стульев, тщательно расставленных вдоль стен, задернутых чехлами люстр, венецианских зеркал в простенках нарушен был богато разукрашенной елкой посередине. Ее сладким и ободряюще праздничным ароматом была наполнена комната.
По далекому ряду комнат шла к Мише навстречу Наденька. Без тени былого смущения ответил он на ее задорную улыбку улыбкой и так сжал ее руку, целуя, что княжна на минуту потупилась, удивленная и даже смущенная.
– Где вы пропадали, кузен? – слегка грассируя, спросила она. – Мы были так обеспокоены вашим припадком.
– Да, да, теперь все это прошло.
– Что прошло? Что было? Не томите, Мишенька? – вспыхнув от любопытства, воскликнула княжна.
Миша с улыбкой рассматривал вздрагивающую мушку, обозначающую «согласие», на румяной щеке и чувствовал, что больше никакими улыбками, никакими неуместными словами его не смутить.
Глядя на розовое личико, задорное и любопытное под легкой прической à la grecque, на праздничное, зеленое с лентами цвета заглушённой жалобы платье, открывавшее локотки, делалось ему еще веселее и свободнее перед этой девочкой, недавней насмешницей, недавним предметом тайных вздохов.
– Странные встречи бывают, кузиночка. Я могу позабавить вас удивительной сказкой в стиле, столь любимом вами, – полушутя и намекая с подавляемой гордостью, что многое должен он пропустить, начал рассказывать Миша у большого окна, в котором виднелся на зимнем, пылающе закатном небе тонкий розовый месяц.
– Ах, как это хорошо, – вздыхала княжна, увлеченная.
– Да, забавный случай, но я не очень-то поддался их штукам.
– И вот вы принц. Это правда. Сегодня, как только вы вошли, я заметила, что вы изменились.
– Но ведь принц одной только ночи, – насмешливостью скрывая свое волнение, возразил Миша.
– Нет, теперь навсегда для меня вы принц. Я завидую вам, Мишенька, – шепотом кончила она, робкая и восхищенная.
– Но ведь вы знаете, что сделаться принцессой – ваша власть, – наклоняясь, тоже шепотом ответил Миша и с небывалой, самого его испугавшей смелостью он поцеловал княжну в розовую щеку.
Князь Григорий, из каких-то сложных расчетов давно желавший подобного оборота дела, помедлил в соседней гостиной и, кашлянув, вышел в залу, возможную ласковость придав лицу.
– Я очень рад, очень рад, – начал он, растроганно обнимая Мишу.
Эпилог,
в котором все невзгоды и чудесные приключения Миши Трубникова являются только смутными воспоминаниями
В праздничные и именинные дни, когда князь Григорий приказывал сервировать стол голубым фаянсом, рыбную тарелку, с много от склейки пострадавшей госпожой Помпадур, дворецкий всякий раз зорко наблюдал, чтобы ставили никому другому, как сидевшей на самом краю Эмилии Васильевне, бывшей бонне княжны, особе, по положению самой низкой из допускаемых к княжескому столу.
Миша же надежды князя не оправдал и на княжне не женился, что вызвало большой скандал и служило пищей светскому злоречию не менее двух недель.
Получив наследство, которого для него ожидал только князь Григорий, Трубников вышел в гвардию, лицея не кончив. Томный вид застенчивого мальчика нашел он нужным не оставить и в офицерском мундире, хотя общая молва указывает на него как на затейника многих отчаянных и нескромных шалостей. Решительным ударом в атаке на благосклонных к нему дам, хвастаясь товарищам, называл он трогательный рассказ о посвящении его господином Цилерихом в ночные принцы.
Ноябрь, 1908 г.
С.-Петербург.
Ставка князя Матвея
I
– Это вы, князь, напрасно изволили ко мне обращаться. Потворщиком шалостей ваших никогда не состоял и впредь, прошу точно запомнить, состоять не намерен. Нарекания и замечания выслушивать за недостойное и неприличное – да, милостивый государь ваше сиятельство, – неприличное поведение ваше не согласен. Первый буду ходатайствовать о применении строжайших мер к обузданию вашему. Только этим могу оказать вам родственную услугу и исполнить свой долг перед покойной вашей матушкой, поручившей мне тяжелые заботы о вас. В остальном же не извольте питать никаких надежд. Достаточно было снисходительности.
Князь Евтихий Александрович, уже одетый к выезду, в придворном мундире, язвительно расшаркивался перед своим племянником князем Матвеем, брызгал слюною, захлебывался, стучал маленьким кулачком по столу и был доволен собою, думая, что похож на безжалостного героя трагедии.
– В каторгу когда вас будут посылать, – чему не удивлюсь, – пальцем не пошевельну, милостивый государь, – задыхаясь, взвизгивал князь Евтихий.
С тупым равнодушием выслушивал князь Матвей гневные дядины речи.
Все было знакомо до тоски ему – и этот большой, с холодной роскошью убранный кабинет, и визгливый голос князя Евтихия, и его коричневый, сбившийся немного набок парик, и купидон на бронзовых часах, посылающий стрелу, и замысловатый бой курантов, и широкая площадь, видная в окно, затуманенное тоскливым осенним дождем.
После вчерашней попойки болела голова, было непереносимо скучно стоять у дверей и ждать, пока пройдет припадок ярости у князя Евтихия и он, в тысячный раз повторив опостылевшие упреки, успокоится, подойдет к конторке, достанет деньги, кинет их на стол и скажет брезгливо:
– Ступай. В последний раз это делаю. Не для тебя, а для спасения чести рода Повариных, среди которых не числилось до сей поры бесчестных мотов и безобразников.
Долее обычного продолжал сегодня злобствовать князь Евтихий.
Уже куранты проиграли и четверть, и половину одиннадцатого, и княжий камердинер несколько раз выглядывал из-за двери, чтобы доложить, что карета подана, а Евтихий Александрович бегал по кабинету, делал выразительные паузы и опять принимался стучать кулачком по столу и выкрикивать язвительные слова.
Казалось князю Матвею, что конца этому не будет, и несколько раз нетерпеливо крутил он черный ус и подергивал плечами, совсем уже готовый какой-нибудь безобразной дерзостью окончить эту становившуюся нестерпимо скучной сцену.
Но вдруг тяжело бухнула пушка с крепости, и Евтихий Александрович, оборвав свою речь на полуслове, испуганно забеспокоился.
– Ужели уж полдень? Во дворец опоздал…
Стороживший у дверей камердинер решил вмешаться.
– Никак нет, ваше сиятельство. Должно, по причине наводнения стреляют, с вечера еще вода прибывала; сказывают, в гавани изрядно подмокли. А время, ваше сиятельство, без четверти одиннадцать будет скоро.
– Пора, пора! – заторопился князь Евтихий. – Скорей шинель да шляпу и бумаги в карету снеси. Завтракаю сегодня во дворце, – горделиво закинув голову, добавил он и уже в дверях бросил племяннику:
– К тетке ступай. Она даст. Но, честью клянусь, в последний это раз.
Камердинер накинул на плечи князя бархатную шинель, подал красный шелковый шарф окутать горло и, схватив тяжелый княжеский портфель, побежал за князем Евтихием, который не бежал, а несся к выходу.
Князь Матвей, тупым взглядом проводив дядю, подошел для чего-то к окну и долго без мыслей смотрел на унылую, в огромных лужах площадь, серое безнадежное небо, едва выступавший в тумане памятник, на канцеляриста в раздуваемой ветром шинели, осторожно пробирающегося по камешкам через непролазную грязь. Скука и беспричинная тоска давили князя Матвея; он даже не вспоминал ни унизительной воркотни дяди, ни грозящего большими затруднениями скандала, героем которого вчера он сделался, ни огромного проигрыша, ни предстоящего разговора с теткой, ни всех прочих неудач и неприятностей.
Он не думал ни о чем, и туманная, беспросветная слякоть, царившая за окном, окутывала его чем-то слизким, противным до тошноты и тоскливым.
– Вот вы где, а я вас жду, – раздался за спиной князя Матвея жеманный голос.
Он обернулся.
Кокетливо улыбаясь, в прелестном утреннем туалете, но уже тщательно причесанная, с мушкой на правой щеке стояла перед ним тетушка его, княгиня Анна Семеновна.
Будучи лет на сорок моложе своего мужа, считалась Анна Семеновна одной из первых петербургских красавиц, но сейчас князю Матвею показались противными и приторно-сладкая улыбка ее тонких злых губ, и ее жеманный голос, и подозрительная белизна полных, намеренно едва прикрытых тонким шарфом грудей, и вся она, сделанная будто из марципана и обсыпанная сахаром.
Он едва коснулся кончиками усов ее холеной, в дорогих кольцах ручки и на нежное пожатие ответил тем, что вырвал свою руку.
Княгиня улыбнулась только на эту грубость, чуть-чуть приподняв крашеные брови, и промолвила по-французски ласково, но не без насмешки:
– Вы в очень плохом настроении, мой друг. Но пройдемте ко мне, там мы поговорим, и я надеюсь, вы успокоитесь, бедный мой мальчик.
Она повелительно взяла под руку князя Матвея, и они молча прошли по ряду гостиных и угрюмому двухсветному залу на княгинину половину, где комнаты были меньше, обставленные причудливой мягкой мебелью, где топились печки и зеленый попугай в золоченой клетке, картавя, кричал:
– Здравствуй, здравствуй, здравствуй!
Анна Семеновна усадила князя Матвея на низкую, обитую зеленым атласом с разводами оттоманку, села сама рядом с ним и, задержав ручку на рукаве его мундира, спросила уже гораздо более искренним и заботливым голосом:
– Что случилось с вами? Опять проказы, шалости? Не бойтесь искренности со мной. Вы знаете, я всегда готова помочь вам, и не упреки услышите вы от меня, а слова, продиктованные преданной нежностью.
Она томно взглянула на князя, помолчала минуту и со словами:
– Ах, ты не знаешь, не хочешь знать, что ты для меня, – ловким, кошачьим движением обняла его за шею, нагнула голову и жадно стала целовать.
Князь угрюмо отстранил ее и встал.
– Не надо! – почти крикнул он грубо.
– Вот как! – притворно засмеялась Анна Семеновна и тоже встала, бегло взглянула в зеркало, поправила прическу и с холодным пренебрежением промолвила:
– Князь просил меня передать вам тысячу. Можете получить.
– Как тысячу! – воскликнул с вдруг прорвавшимся бешенством князь Матвей. – Как тысячу, когда я должен уплатить сегодня одиннадцать!
– Я не знаю ваших расчетов, дорогой племянник, – язвительно, любуясь его бешенством, ответила Анна Семеновна.
Узкие калмыцкие глаза князя Матвея Поварина стали круглыми. Он резко повернулся и прошелся по комнате, уронив на ходу маленькое креслице.
Княгиня не выдержала. Протянув руки к нему, она заговорила горячо:
– Как ты меня мучаешь. Столько оскорблений – за что? За то ли, что люблю тебя безрассудно, ставя на карту честь свою, положение, репутацию…
– Очень мне нужно! – закричал князь Матвей. – Ты мерзее мне последней трактирной девки. И нет таких денег, которые заставили бы меня еще хоть один раз…
– Тише, князь, – прервала его Анна Семеновна, побледнев до синевы, чего не могли скрыть и румяна. – Помните, что вы в моей власти. Только открыть мне этот ящичек и вынуть ваши бумажки, и завтра же князя Поварина не существует!
При этих ее словах ярость князя Матвея дошла до последнего предела.
– Молчи! – крикнул он и прибавил словечко, вряд ли когда-либо произносимое в этих надушенных сладкой вербеной комнатах. – Молчи! – И, сделав шаг в ее сторону, он грубо толкнул княгиню в нежное, наполовину кокетливо обнаженное плечико.
Княгиня ахнула более от неожиданности, чем от боли, и повалилась на оттоманку.
Впрочем, почти сейчас же она пришла в себя и, когда князь Матвей крупными шагами удалялся, успела крикнуть каким-то не своим голосом:
– Если через три дня…
Дальше князь Матвей не расслышал, хорошо, однако, поняв значение слов ее.
Только попав на улицу, под пронизывающий холодный дождь, пришел в себя князь Матвей.
Закутавшись плотнее в плащ, он зашагал к Невскому, не разбирая луж и грязи.
II
В задней комнате ресторации Френделя несколько офицеров, поснимав мундиры, играли на биллиарде.
Весело щелкали шары. Задорным голосом выкрикивал счет молодцеватый маркер. На соседнем столике синий огонь лизал края пуншевой чаши. Наблюдающие за игрой курили трубки и громко спорили о достоинствах удара.
Не обращая внимания на весь этот шум, молоденький поручик Неводов, белокурый, с розовыми щеками и едва пробивающимися усиками, сидя на подоконнике спиной к свету, внимательно читал книгу, держа ее почти у самых глаз.
Изредка он досадливо морщился, когда разговор игроков становился слишком шумен, оглядывал их недовольным, рассеянным взглядом, перелистывал страницу и опять погружался в чтение.
– Ну и погода чертовская, – ворчал князь Матвей, входя в комнату и сбрасывая на руки лакея промокший плащ.
– А, Поварин! Что ты вчера натворил? Весь город говорит! – послышались восклицания, и на минуту игра прекратилась, так как все с любопытством окружили князя Матвея, расспрашивая и тормоша его.
– Глупости! – угрюмо промолвил Поварин. – Охота вам, как бабам, языки трепать. Глупая сплетня, ничего более. Выпить бы лучше дали, чтоб согреться.
– Оставьте князеньку. Не выспался он, букой смотрит, – засмеялся красивый гвардеец Сашка Пухтояров и пригласил игроков к биллиарду.
Мало-помалу все оставили князя Матвея, и со стаканом горячего пунша он мрачно уселся в стороне.
Неводов, оторвавшись от своей книги, увидел Поварина и, соскочив с подоконника, подошел к нему.
– Здравствуйте, князь, – робко покраснев, произнес он и стал почти в упор разглядывать Поварина своими близорукими, пристальными глазами.
Юному застенчивому поручику казался князь Матвей мрачным и таинственным героем излюбленных его романтических поэм в духе лорда Байрона. Поймав на себе удивленный, почти восхищенный взгляд поручика, Поварин криво усмехнулся своей тяжелой и похожей на гримасу улыбкой и указал Неводову сесть рядом.
– А вы за книгами, мой молодой друг, – произнес он с покровительственной насмешливостью. – Что изволите изучать ныне?
Сделавшись совсем алым от радостного смущения, Неводов молча показал заглавный лист запрещенного строгостями цензуры в России томика Шиллера на немецком языке.
Рассеянно перелистав книгу, князь Матвей вернул ее с видом разочарованным.
– Много сочинители пишут, да толку мало. От писания их никому лучше не станется, – промолвил он тоном знатока.
Волнуясь и запинаясь, заговорил Неводов:
– Не совсем могу согласиться с вами, князь. Многие любопытные мысли не пришли бы нам в голову без чтения, а мысли переходят в действие, таким образом, вряд ли нельзя не признавать влияния литературы на жизненные поступки наши.
– Какие же мысли вычитали вы у этого немца? – усмехаясь, спросил Поварин.
– Занимает меня, к примеру сказать, сегодня, – заговорил Неводов горячо, – дозволено ли злодейство? И когда является оно героическим подвигом, когда бесчестием? Где здесь поставить границы? Есть ли воля человеческая и желание – достаточное оправдание поступков?
Он остановился, как бы ожидая ответа, но Поварин только проворчал:
– Да вы большой филозоˊф, до чего я не слишком большой охотник.
Князя Матвея больше не занимало восхищение юного поручика, чем-то раздражал он его – и румяным своим, детским почти лицом, и восторженной речью, и чистеньким, аккуратненьким мундиром. Хотелось князю Матвею оборвать разболтавшегося мальчишку, и он мрачно прихлебывал пунш.
Неводов смутился его видом, сконфуженно пробормотал что-то о погоде и наводнении и, отойдя к своему подоконнику, опять принялся за книгу.
«Побесить бы мальчишку, исполосовать ему рожу. Вишь, ровно херувим сидит», – тяжело думал князь Матвей, осушая не то третий, не то четвертый стакан и уже буйно хмелея. Беспричинная злоба поднималась в нем, злоба, понуждавшая его к стольким бессмысленным, безобразным скандалам.
Но в ту минуту, как уже намеревался он встать и подойти к Неводову, придумывая предлог для ссоры, в комнату быстро вбежал офицер.
Вода лилась ручьями с плаща и шляпы его; еще в дверях громко закричал он:
– Братики, Театральное тонет. Едемте спасать. Может, кому что и достанется!
При этих словах первым вскочил Неводов и беспокойно стал разыскивать фуражку и шинель.
Игроки побросали игру и стали расспрашивать о случившемся. Несколько человек приняло предложение ехать спасать Театральное училище.
Весело начали одеваться.
Неводов выскочил первым.
– Эк его, будто муха укусила, когда о девчонках услышал, – громко засмеялся Поварин и, выпив последний стакан, обжегший горло, тоже стал собираться.
Холодный дождь шел, не давая надежды на скорое прекращение. Ветер с моря рвал шляпы. Огромные лужи посередине Невского грозили в близком времени превратиться в бурный поток.
Громко разговаривая, шлепали офицеры по колено в воде.
Поварин с тайным злорадством наблюдал за волнением Неводова.
«Нагадить бы ему хорошенько, чтобы помнил, дозволено ли злодейство. Тоже, филозоˊф!» – с упрямой злобой думал князь Матвей.
Мойка вышла из берегов. Фельдъегерь с большой казенной сумкой плыл на шестивесельной лодке по направлению к Зимнему дворцу.
Немало труда стоило нашим путникам раздобыть свободного лодочника. Наконец, шаля и смеясь, они уселись, и угрюмый чухонец, не вынимая изо рта давно потухшую под дождем трубку, лениво загреб к Офицерской улице. Во многих местах вода достигала уже второго этажа, в окнах мелькали испуганные лица, по воде плавали принадлежности обихода; из крепости все чаще и чаще доносился тревожный гул пушек.
Проехав по Вознесенскому, офицеры свернули на Офицерскую и через открытые настежь ворота попали на обширный двор Театрального училища.
Дрова, которыми бывал всегда завален двор, теперь плавали по воде и мешали пробраться к небольшой стеклянной галдарейке, где прибытие офицеров уже было замечено. Офицеры старались растолкать дрова руками, но все же скоро лодка остановилась, и чухонец, флегматично сложив весла, объявил: «Нет».
С галдарейки смотрели, прижавшись к мутным стеклам, несколько воспитанниц, пользуясь смятением начальства.
– Вот Танюша, а это, кажется, Лизанька Бобик, – вглядываясь в окна, называл Сашка Пухтояров.
– Да, это Лизанька, – промолвил вдруг всю дорогу молчавший Неводов и страшно смутился.
Все со смехом обернулись к нему.
– Ай да Неводов! С самой хорошенькой из всего училища шуры-муры завел, а еще тихоня! – смеялись товарищи.
Неводов чуть не плакал.
В эту минуту распахнулось одно окно и раздался звонкий, почти плачущей голос:
– Господи, котеночек-то утопнет!
– Это Бобик! Ай да девчонка – пальчики оближешь! – толковали в лодке, разглядывая Лизаньку Бобикову.
Князю Матвею даже в голову ударило, такой нежненькой показалась она ему в раме окна, с золотистыми, немного сбившимися волосами, большими темными глазами, тонким, будто вырезанным профилем, стройная и хрупкая, жалобно протягивающая руки к рыжему котенку, вцепившемуся в полено и действительно каждую минуту близкому к гибели.
Неводов сделал порывистое движение к ней, но Поварин силой усадил его на место.
– Куда тебе, мальчишка! – крикнул он и, едва не перевернув лодку, выскочил на колеблемые от его шагов дрова.
– Потонешь, сумасшедший! – кричали с лодки.
Обрываясь и ловко карабкаясь, перепрыгивал Поварин по шаткому плоту. В секунду добрался он до котенка, от ужаса обезумевшего и уже потерявшего голос. Не без труда оторвал князь Матвей ощетинившегося котенка от бревна, сам каждую минуту подвергаясь опасности провалиться, и быстро побежал к галдарейке.
Ухватившись рукой за окно, Поварин подал, как трофей победный, рыженького котенка Лизаньке.
Та прижала его со слезами к лицу и несколько минут не находила слов благодарности, потом, будто опомнившись, она нагнулась к Поварину и, покраснев, произнесла:
– Я вам так благодарна! – и прибавила быстрым шепотом: – Я вижу, вы благородный человек. Ради Бога, окажите мне еще одну услугу и передайте эту записку. Молю вас, никому ни слова!
И она ловко сунула за обшлаг его рукава маленький розовый конвертик.
Ошеломленный нежной ее красотой, князь Матвей не нашел слов. Он прошептал:
– Клянусь! – и, задержав ручку, запихивающую записку, поцеловал тоненькие, со следами чернил, дрожащие пальчики.
В несколько прыжков добрался Поварин обратно в лодку.
– Да ты в крови! – воскликнул Пухтояров.
Действительно, вся рука князя Матвея была в царапинах.
– Это котенок. Чуть было не потоп он, – блаженно улыбаясь, говорил Поварин, обвязывая пораненную руку платком.
– Вот чудной! А девчонка чертовски хороша, – смеялись товарищи.
В окне вместо Лизаньки торчала лысая голова немца-инспектора, известного под кличкой Барабан.
Он стучал палкой и готов был вывалиться из окна от ярости.
– Я буду писать жалоба господину его превосходительству полицеймейстеру на такие безобразные поступки, – кричал он.
– Барабан, барабан, барабан! – веселым хором отвечали ему с отплывающей лодки.
А за спиной инспектора, откуда-то издалека, Лизанька, прижимая к щеке желтого котенка, улыбалась и делала ручкой.
Поварин быстро обернулся на сидевшего сзади Неводова. Тот сиял и отвечал на знаки, очевидно, назначенные ему.
«Вот как! Это мы еще посмотрим!» – подумал князь Матвей, прищурившись разглядывая смутившегося под его взором Неводова.
III
Приехав домой, князь Матвей скинул промокшее насквозь платье и, надев бархатные туфли и персидский халат, велел денщику принести обед из соседнего трактира и вина.
Пообедав в сумерках, он долго лежал на диване, как бы обдумывая что-то, потом решительно вскочил, зажег свечи и, внимательно осмотрев маленький розовый конверт с тщательно выведенной надписью – «Якову Степановичу Неводову, Его Благородию поручику», тонким ножом осторожно подрезал печать с голубком. На тоненьком листочке неуверенными, кривыми буквами было написано:
«Ненаглядный Яшенька мой! Извещаю Вас, что решение, принятое мною, держу твердо, и ежели в первый же раз, когда будет идти „Калиф Багдадский“, Вы перед последним актом подъедете к нашему подъезду в карете с зелеными шторами (дабы я не ошиблась), то легко можно будет мне незаметно выбежать из театра и по уговору нашему исполнить. Целую золотого, ненаглядного Яшеньку моего. Любящая по гроб жизни, Ваша Lise».
Перечитав эту записку несколько раз, князь Матвей зашагал по комнате. Он хмурился, усмехался, останавливался у стола, прочитывал записку снова, выпивал залпом стакан вина и опять быстро кружил по комнате, размахивая руками, а иногда даже сам с собою разговаривая.
Если б кто-нибудь украдкой заглянул в эту минуту в окно небольшого, убранного в восточном вкусе кабинета Поварина, страшным бы показалось ему лицо князя.
– Нет, не бывать тому. Я ему покажу, мальчишке. Я его угощу! – бормотал Поварин, угрожающе сжимая кулаки и до боли закусывая губы в бесполезной ярости.
Долго метался так по своей комнате князь Матвей, не приходя ни к какому определенному решению. Когда часы пробили восемь, он перечел еще раз записку, тщательно припрятал ее в затейливый ларчик слоновой кости с инкрустациями и тайным замком (подарок княгини Анны Семеновны) и, крикнув денщика, пошел одеваться.
Сидя перед зеркалом, он внимательно разглядывал свое лицо. Нельзя было бы назвать князя Матвея красавцем, с его узкими, чуть-чуть раскосыми глазами, выдвинутыми скулами, толстыми губами, из-под которых сверкали, как хищные клыки, белые зубы. Но было в его смуглом цвете лица, в блестящих черных волосах, в самих неправильностях черт что-то привлекательное, так что недаром городская молва называла его героем многих, самых разнообразных любовных приключений.
Оставшись, видимо, доволен собой, Поварин воскликнул:
– Не мытьем, так катаньем, – и сделал такое решительное движение рукой, что денщик, натягивавший ботфорту, испуганно шарахнулся в сторону.
В этот вечер собирались у Сашки Пухтоярова, но на улице досадливо вспомнил князь Матвей об утренней сцене с теткой и решил зайти к Карапетке посоветоваться о возможных последствиях, если княгиня приведет в исполнение свои угрозы.
Дождь перестал, но в темноте едва можно было пробраться в иных местах через лужи и грязь. Фонари не горели, извозчиков не было.
Чертыхаясь, плелся Поварин по Литейному, где в одном из переулков проживал известный всему Петербургу Карапет – предсказатель будущего, безжалостный процентщик, поставщик мыла и восточных курений, при случае – ловкий сводник и имеющий еще много других, темных, но прибыльных профессий.
В домишке Карапета крепко-накрепко заперты были и двери, и ставни на окнах. Долгого труда стоило Поварину достучаться. Наконец за дверью закашляла старуха-стряпуха.
– Открывай же, черти, это я, князь Поварин! – кричал Поварин.
Еще помедлив несколько, видимо, сходив сказать Карапету о посетителе, старуха открыла дверь и, ворча, провела князя по темному коридору в кухню.
Круглый фитиль плавал в большой чашке с маслом, шипя и коптя, едва освещая просторную кухню с лежанкой и большой печкой. Карапет, тучный, в красной ермолке и засаленном халате, сидел у стола и, беря пальцами из блюда какую-то снедь, ел, жадно чавкая и вытирая пальцы о длинную крашеную бороду.
Увидя князя, он весело подмигнул ему.
– А, князь! Хорош князь! Весь день ждал тебя, знал, что придешь. Плохи дела. Ой-ай, как плохи! – Карапет чмокал сожалительно и вместе с тем весело подмигивал одним глазом, как бы насмехаясь.
«Ужели тетка уж снюхалась с ним», – гневно подумал Поварин и закричал, наступая на Карапета.
– Ты чего каркаешь, собачий сын? Я вот тебя стукну по башке, будут плохи дела!
На громкий голос князя из темного угла с лавки поднялся рослый, редкой красоты юноша в белом чекмене, весь с ног до головы увешанный кинжалами, пистолетами и каким-то другим мелким оружием.
– Ишь, завел себе какого, пакостник старый! – пробормотал князь Матвей, невольно отступая перед грозным видом дюжего оруженосца.
Карапет же пришел в большую радость.
– Хорош Абдулка! Хорош! Красивый-то какой, посмотри! – восклицал он, чмокая от удовольствия. – А ты, князь, не сердись. Кушай шептала, изюм кушай, Абдулка песни споет и спляшет, а сердиться не надо.
– Пошел ты к черту со своей шепталой, – раздраженно садясь на лавку, сказал Поварин, – а этому чумазому вели выйти, мне нужно тайно поговорить с тобой!
– Абдулка русский не понимает, ни одно словечко не понимает. Вчера и приехал только. Абдул спать будет, а мешать нам не будет, – с хитрой улыбочкой промолвил Карапет и, потрепав нежно по щеке Абдулку, сунул ему в рот целую горсть сладостей и залопотал что-то на своем басурманском языке. Тот пронзительно засмеялся, блеснув зубами, и ушел опять в свой угол.
– Ну что же расскажешь, князь милый? – начал Карапет.
– Да ты тетку-то видел сегодня? – нетерпеливо перебил его Поварин.
– Мыло, духи, изюм, шелковый шаль носил княгинь. Хорошая покупательница, не торгуется и деньги платит. Кофеем угощает; на картах ей гадал – всю правду сказал. Красавица она тороватая, – напевным голосом рассказывал Карапет.
– А про меня разговор был? – скрывая раздражение при мысли о спящем в углу Абдулке, опять перебил Поварин.
– А про тебя, какой же разговор про тебя! «Денег, говорит, ему не давай, – все равно я платить не буду» – вот и весь разговор.
– Чертовка старая, – бурчал князь Матвей.
– А еще, – продолжал Карапет, – пакет мне дала. Своей ручкой запечатала и сказала: «Сделай мне, Карапет, одолжение, возьми этот пакет и храни. Если за ним пришлю – назад мне принесешь, если же скажу – распечатай! – возьми из него бумаги и пойди в суд, требуй платежа. Хоть денег не получишь, а одного человека упечем. Я тебя вознагражу».
– Да ведь это мои бумаги. Подай их! Ведь ты продал меня, черт поганый, подай! – не сдержавшись, заорал Поварин так громко, что Абдул в углу зашевелился.
– Как можно, князь, отдать. Ой-ай! – спокойно и даже издеваясь как-то, отвечал Карапет. – Как можно! Я тебе по дружбе рассказал, а княгине я верный раб, и нет таких денег, чтобы милость ее Карапетка променял. Видишь, какой ты сердитый, а я тебя любил и сказал – плохо, князь, дело, плохо! Помирись с тетенькой, а то плохо, ой-ай, как плохо будет!
– Так не отдашь, морда проклятая? Не отдашь? – привстав, хрипел Поварин и, раньше чем Абдулка успел подскочить, схватил чашку с фитилем и запустил ее в голову Карапета. Масло, шипя, разлилось по столу.
Карапет ловко залез под стол и визжал оттуда, как свинья:
– Держи его, Абдул, вяжи его, убил меня! Хватай его на мою голову!
Не успел еще князь опомниться, как оказался уже в цепких объятьях Абдула, который на достаточно чистом русском языке сказал:
– Нехорошо драться, князь, да и не совладать со мной.
– Пусти, не то убью! – отбивался Поварин, бессильный в его руках, как ребенок.
Старуха внесла свечу. Карапет лез из-под стола, путаясь в халате, и хныкал:
– Разбойник, а не князь, надо бы его в квартал доставить, да все равно скоро заберут. Выведи его, Абдулка, на свежий воздух, авось опомнится.
Абдулка ловко подхватил князя, выволок его в сени и потом на крыльцо и, вытолкнув на улицу, запер двери за ним.
В ярости долго ломился Поварин в крепкие дубовые двери Карапетова дома.
«А, значит, правда плохо, если Карапет посмел так говорить. Я ему, мерзавцу…» – подумал князь Матвей и, постояв в тяжелом раздумье посереди улицы в огромной луже по колено, кликнул дребезжащего по мостовой ваньку и велел везти себя к Пухтоярову.
IV
– Что с тобой? На тебе лица нет! – спрашивал заботливо Сашка Пухтояров, встречая князя. – И вид растерзанный: подрался с кем или авантюра была?
– Оставь, сделай милость! – досадливо прервал вопросы Поварин.
– Да ведь я из участия, как товарищ, – оправдывался Сашка, обнимая Поварина за талию. – Сердитый ты последние дни стал, голубчик, а я тебя вот как люблю!
– Шубы из вашей любви не сошьешь. Мне впору пулю в лоб, а ты с расспросами и участием… Дай-ка выпить! – морщась, промолвил князь Матвей.
– Пойдем, пойдем, наши все собрались. Тебя только ждали. Тугушев забаву новую придумал, картины из дворовых девок показывать будет. Целый воз их навез. – И Пухтояров повел гостя в гостиную, откуда доносились гнусавый голос Тугушева и взрывы веселого смеха.
Довольно большая комната была разделена на две половины пестрой занавесью. Мебели почти не было, и человек двадцать гостей расположились на низких табуретах и мягких коврах, которыми был покрыт пол. Постояв в дверях, князь заметил в углу одиноко сидящего Неводова и, не здороваясь ни с кем, прямо подошел к нему.
– Весьма рад опять встретиться с вами! – с любезностью промолвил князь смутившемуся почему-то поручику. – Позволите сесть?
Опустившись на ковер, он взял у подбежавшего лакея стакан с вином и, усмехаясь, смотрел на Неводова.
– Начинаем. Прошу внимания! – суетливо закричал в эту минуту Пухтояров и захлопал в ладоши.
Занавес раздвинулся.
У небольшого деревца стояли мальчик, обстриженный в скобку, с пунцовым от смущения лицом и толстая, грудастая девка, нагло усмехающаяся. Оба они были обнажены до крайности.
– Адам и Ева у древа познания, – гнусаво объяснял Тугушев под одобрительный смех зрителей.
За сей следовали картины уж содержания вовсе непристойного, от описания которых сочинитель воздерживается.
– А Лизанька хороша. Вот бы ее так посмотреть, – нагибаясь к Неводову, шепнул Поварин.
– Что вы говорите, сударь! – воскликнул тот чуть не со слезами в голосе и, встав, быстро оставил князя Матвея.
«Я тебя еще допеку», – думал Поварин, хмелея не столько от вина, сколько от злости и распалявших его мыслей о Лизе.
Было много уже показано картин на библейские и античные сюжеты; было много выпито вина; разговор становился все оживленнее; лица покраснели. Полуголые девки уж плясали в зале и потом пищали на коленях гостей.
Неводов, впервые попавший в подобную компанию, был, как в чаду. Болела голова от излишне выпитого вина, смущал пристальный взгляд князя Матвея, из своего угла неустанно наблюдавшего за ним; слова его о Лизаньке непонятным стыдом наполняли. Несколько раз порывался Неводов уйти, но что-то удерживало его.
– А не метнуть ли банчок нам? – предложил Пухтояров.
Несколько человек с одушевлением приняли его предложение, и около быстро принесенного стола образовался кружок. Неводов, чтобы не видеть возни с девками, все более и более нескромный вид принимавшей, и скрыться от преследующего взгляда князя Матвея, тоже подошел к игрокам.
– Ты что же, князь? – спросил Поварина Сашка. – Если девочки тебя не занимают, попытал бы счастье?
Поварин вытащил последнюю смятую сторублевку и, подойдя к столу, небрежно бросил ее под карту. Через минуту она взяла.
С тем же небрежным видом Поварин удвоил ставку и – выиграл снова. Так, удваивая каждый раз, он в несколько минут выиграл целую пачку ассигнаций.
– Сегодня сам черт с ним! – досадливо бросая карты, промолвил банкомет.
Несколько человек попробовали было играть против Поварина, но счастье упорно не покидало его.
– Тысяч пятнадцать, поди, наиграл! – завистливо сказал кто-то.
Князь Матвей тупым взглядом обвел игроков и вдруг заметил Неводова, следившего за странной игрой с искренним волнением. Целый план мгновенно явился в отуманенной голове Поварина при виде счастливого соперника; глаза его заблестели.
Стараясь не выдать волнения, сказал он:
– Господин Неводов, не хотите ли попытать счастье? А кондиции мои таковы: я ставлю весь выигрыш мой, а вы ставкой своей даете мне один день вашей жизни. В этот день обязаны вы вполне подчиниться моей воле, но с оговоркой, что ничего бесчестного исполнить я вас не заставлю. В этом будут свидетелями все присутствующие, и притом достаточно будет одного вашего слова, что требование мое противоречит чести, как условие наше будет считаться расторженным. Согласны?
Усмехаясь, пристально смотрел он в глаза поручика. Тот побледнел, чувствовал, что в словах князя заключается какая-то западня, и не находил слов отклонить вызов.
– Соглашайтесь! – подталкивали его игроки, заинтересованные неслыханной ставкой.
– Только один день и пятнадцать тысяч. Другой такой случай едва ли представится, – промолвил князь Матвей.
Не помня себя, протянул Неводов дрожащую руку и взял карту.
Князь Матвей метал. Все затихли кругом.
– Бита! – сказал, наконец, кто-то, и все горячо заговорили.
Неводов уже не слышал и не понимал ничего. Возвысив голос, сказал Поварин:
– Требование же мое от господина Неводова заключается лишь в том, чтобы в назначенный мною день явился он утром ко мне на квартиру и пробыл в одиночестве до ночи. Вот и все. Ведь вы, господин Неводов, не найдете такое требование чрезмерным или бесчестящим вас? – и он ласково пожал руку поручика.
В комнате синий стоял туман от дыма трубок; девки визгливо орали срамную песню; в окна сквозь шторы тусклый, холодный пробивался рассвет.
Неводов пил, когда ему предлагали, отвечал на вопросы, смотрел на бесстыжие танцы девок, но было все для него, как в тяжелом тумане.
Только выйдя, наконец, на улицу, вспомнил он о странном проигрыше.
Ужасное беспокойство охватило его.
– Что ему нужно, проклятому? Что ему нужно! – беспомощно ломая руки, бормотал он.
Проходя по Невскому, вдруг увидел Неводов на дверях знакомого трактира вывеску гробовщика. Остановившись, заметил он, что вся знакомая улица пришла в страшный беспорядок: свиное рыло колбасника переехало к модному магазину. Ужас охватил Неводова, и, сначала ускорив только шаг, скоро бежал он со всех ног, и казалось ему, что кто-то гонится за ним с громким смехом, догоняет, и не кто это иной, как князь Матвей, требующий страшную свою ставку.