В садах Эпикура бесплатное чтение
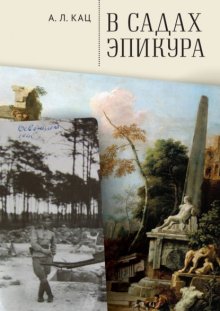
© А. Л. Кац, наследники (Н. А. Баубекова), 2024
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2024
О моем учителе
Думаю, что в жизни на мое становление особенно сильно повлияли пять-шесть старших современников. И Алексей Леонидович Кац (1922–1978) был одним из них и притом – первым. Обстоятельства судьбы вытеснили его (на мою удачу!) в среднеазиатскую глушь. Он стал проректором Ошского педагогического института. Вообще же прошел большой и славный путь.
Во время войны был армейским разведчиком и переводчиком, его усилиями был добыт план венгерских оборонительных сооружений в Трансильвании. Вообще его удивительные рассказы о войне не должны быть преданы забвению.
Я счастлив, что нашлась рукопись его мемуаров, считавшаяся потерянной. Я познакомился этими воспоминаниями через много лет после их написания и был поражен открывшимися мне неизвестными трагедиями в судьбе человека, державшегося столь твердо и невозмутимо… Находившийся на переферии научного сообщества, он был блестящим и авторитетным историком, исследователем манихейства и социальной жизни в Древнем Риме.
Я познакомился с ним, когда мне было лет тринадцать, и его обширная библиотека была немедленно предоставлена в мое распоряжение. Конечно, и в нашем доме книги, в том числе, и относящиеся к античной литературе, имелись. Но он учил меня думать над прочитанным…
Позже, в юности, под его руководством я написал несколько работ, замеченных на научных конференциях и получивших награды. Впрочем, историка из меня не вышло, судьба утянула меня в другую сторону. Но моя благодарность Алексею Леонидовичу бесконечна, и любовь к нему велика.
Ниже следует одно мое стихотворение.
Михаил СИНЕЛЬНИК°В
- Арест отца, и ужас ранний,
- И ожиданья поздний страх…
- Машинопись воспоминаний,
- Желтеюших в моих руках.
- Учитель мой, эпикуреец,
- Историк Рима, латинист,
- Он был и в юрте европеец,
- Но, и горяч, и леденист,
- И снисходителен, и едок,
- Премудрый, и лишенный сил,
- Он жизнь поведал напоследок,
- Свою войну изобразил.
- Послевоенную Россию,
- Куда завел свою Рахиль,
- Шестидесятничества мрию,
- Провинции сухую пыль.
- Всю эту жизнь вобрали травы
- И оплели его плиту…
- Под небом рухнувшей державы —
- Холмы и персики в цвету.
- И не пойму, какую правду
- Хранят бурьян и бурелом…
- Любовь к Теренцию и Плавту
- В громадном цирке мировом?
- Но вижу, нет меж нами сходства,
- Не передал он мне, о нет,
- Ни легкости, ни благородства!
- И лишь печали тусклый свет…
- Лишь одинокую свободу
- В пустынях, соприродных ей,
- Где посох выбивает воду
- Из пробудившихся камней.
Часть первая. Несостоявшееся детство
Потертый листок тонкой плохой бумаги странно называется «Выпись о рождении». Он помечен семнадцатым номером и датирован 26 января 1922 года. В «Выписи» зафиксировано: 23 января 1922 г. в городе Гжатске Смоленской области родился ребенок мужского пола Алексей Кац с постоянным местом жительства на Волоколамской улице в доме 171. О родителях: отец – Леонид Кац, 48 лет, мать – Валентина Дмитриевна, 38 лет. Род занятий соответственно – агроном, кассирша. На вопрос, который ребенок, дан ответ – третий. Запись № 32 по реестру сделал отец. В конце – его разборчивая подпись.
Что здесь может вызвать недоумение? По «Выписи» я родился 23 января, а всю жизнь день моего рождения празднуется 17 числа сего месяца, в паспорте тоже указано 17. Почему? Может быть, день моего рождения спутан с номером записи, а она-то как раз семнадцатая. Далее. Непонятно, почему не указано отчество отца, а отчество матери – есть. Нельзя же в данном случае усмотреть влияние древних этрусков: авторы «Выписи» не знали про таких. И последнее: я почему-то считаюсь третьим ребенком по числу родившихся. В графе по числу оставшихся в живых – прочерк. А ведь самым старшим из детей Леонида и Валентины Кац была дочь Елена, которая умерла шести месяцев от роду. Или ее не брали в расчет? Полагаю, что дело не обошлось без воздействия религиозных пережитков, которые в «Выписи» не отразились.
Январь 1922 г.! Какая дата! Может быть, мой отец, завернувший меня в старую, но чистую салфетку и взвесивший на безмене, напевал: «Наш паровоз, вперед лети! В коммуне остановка!» Убедившись, что я тяну немногим больше килограмма, он, видимо, понял, что нет смысла с такой ношей останавливаться на полпути. Песен отца я не слышал, а о процедуре взвешивания знаю от матери.
Потом на какой-то день моей жизни меня крестили. Подтверждение тому – маленький крестик, хранящийся среди семейных реликвий. И здесь встает громадной значимости вопрос. Уважаемые товарищи потомки, надеюсь, что в ваше просвещенное время этот вопрос покажется окаменевшим дерьмом! Быть бы ему таким и в мое время. Но оно, к сожалению, ближе к Рождеству Христову. Суть вопроса: почему я, КАЦ, Алексей, а не Авраам, крещен, а не обрезан, почему я русский, и это записано в моем паспорте. Впрочем, о том, почему я крещен, меня никогда не спрашивали: вопрос не анкетный. Но вот каким образом я узурпировал чужую национальность – это волновало многих. Вопрошали по сему поводу, с тоской в глазах, те, кто считал меня ренегатом, и, с затаенным злорадством, спрашивали о том же безусловные потомки Ивана Великого – известной московской колокольни.
И правда, почему я русский? В несмышленом 1922 году в «Выписях», т. е. метриках, национальность родителей не указывалась. Наверное, по наивности, считалось, что новорожденный в ней неповинен. Потом сочинители бланков всякого рода «Выписей» поумнели: стали серьезно спрашивать национальность отца и матери. И сразу в делах навели порядок. Я приветствую его, потому что сторонник прогресса. Но все-таки, почему я русский? Это более чем сложный вопрос. Он требует углубление в дебри генеалогического древа. Ну, что же? В путь, так в путь!
Самый ранний документ, из доставшихся мне в наследство, датирован 1890 годом. Он выдан моему деду по отцу мещанину Владимиру Ивановичу Кацу и подписан вдовой генерала от инфантерии Поликсеной Петровной (фамилия неразборчиво). В нем сказано, что в октябре 1866 г. Владимир Иванович поступил конторщиком в имение мужа генеральши в Тверской губернии, Зубовского уезда. За десять лет работы он «привел в отличное состояние контору». Убедясь в его «отличных способностях», Поликсена Петровна назначила моего деда главноуправляющим двумя имениями и винокуренным заводом. Здесь он показал отличные знания «сельского хозяйства вообще, а в особенности винокурения». В вышеозначенных имениях он проработал 24 года, поставил имения в ряд лучших в губернии, а своими способностями и глубокими знаниями дела приобрел «всеобщую известность в округе». В 1890 г. В. И. Кац, по собственному желанию, отошел от дел, а генеральша сочла своим приятным долгом благодарить его «за полезную службу», назначить за 1889 год, независимо от жалования, 600 рублей награды и сверх того «в знак признательности еще 1000 рублей».
Что было с дедом дальше, не знаю. В 1891 г. он снял с цитированного мной «аттестата», кажется, десять копий. Мне не известен день его смерти. Знаю, что наступила она внезапно: разрыв сердца, как говорили в те времена.
Своей бабки по отцу я не знаю. И документов о ней не сохранилось. Со старой фотографии смотрит русская женщина. Мать мне рассказывала, что бабка погибла вскоре после смерти Владимира Ивановича: ее задавило в сарае рухнувшими дровами.
Что следует из сказанного мной? Мой дед по отцу – старицкий мещанин – происходил из «солдатских» детей, был православной веры, имел женой русскую женщину. Следовательно, мой прадед, по той же линии, был кантонистом, крещеным евреем, а от него и пошли православные Кацы, среди которых был и мой дед, бравшие себе не менее православных жен. В переводе на нашу терминологию они были русскими[1].
Владимир Иванович Кац имел, кажется, пять сыновей. Знаю о них, главным образом, из семейной традиции. Старший – Константин Владимирович был военным и дослужился до чина генерала. Его видели мои старшие братья, когда были детьми. Мать рассказывала, что он с кем-то дрался на дуэли за то, что его назвал жидом какой-то прохвост. Во время революции, – говорила мать, – Константин Владимирович попал к белым и был ими избит. Потом оказался у красных и тоже был избит. Что с ним стало дальше – не знаю. Об инженерах Михаиле и Алексее Владимировичах не знаю ничего. Слышал, что Алексей умер от разрыва сердца, и я был назван в его память. Есть старая фотография, датированная 9 декабря 1897 года. На ней надпись «Алексей Кац». Это и есть дядя Лёша. Он одет в какой-то форменный мундир, на груди орден (крест на ленте). Есть и более поздняя (может быть, самого начала XX в.) фотография, сделанная в Томске. Алексей Владимирович солиден, бородат и усат, с двумя, орденами. По словам моей матери, он занимал какой-то крупный пост на Сибирской железной дороге. Александр Владимирович – инженер-строитель, был профессором строительного института в Свердловске и скончался в начале сороковых годов. Дмитрий Владимирович Кац тоже был инженером. Окончив соответствующее учебное заведение, он стал работать на тульском патронном заводе. Мать рассказывала, что он в трудные годы Гражданской войны не выходил из заводских цехов. Троцкий пожал ему за это руку. Потом дядю Митю (так его звали в нашей семье) отправили в командировку в США. Думаю, что именно эти обе почести вспомнили Дмитрию Владимировичу в 1938 году, когда приговорили к расстрелу.
Об отце моем я буду писать много и в разных местах. Мы очень любили друг друга. Он был для меня непререкаемым авторитетом. Достаточно бывало его недовольного взгляда, чтобы я почувствовал себя несчастным. А ведь он никогда на меня даже не замахнулся. Да и недовольные взгляды бросались не слишком часто. Может быть, потому-то они и так угнетали меня. Но не это составляло стержень моих и отца отношений. Нежная любовь соединяла нас. Я тосковал без него. Между прочим, маленькие дети умеют тосковать. Об этом я еще расскажу. В 1928 году мать и отец праздновали Серебряную свадьбу. Ходили фотографироваться всей семьей: отец, мать, мои братья – Борис и Кирилл, и я. Фотограф сделал несколько карточек, к одну из них, с белыми краями, я выбрал себе. Отец сделал надпись: «Милому дорогому любимому сынишке Лёше на постоянную память от папы, мамы и братьев. 8.4.28 г.». Я пережил всех и помню всех. Сердце мое болит, и не потому, что все умерли: смерть – закон. Но как умерли? Об этом дальше. Разумеется, между отцом и моими старшими братьями были отношения искренней привязанности и уважения. Мать рассказывала, что, когда отец делал замечания старшим братьям, они становились «во фронт». Я такого не видел. Но сохранилась старая карточка, помеченная 25 сентября 1926 г. На ней сфотографированы братья и я. На обороте надпись, сделанная рукой среднего брата Кирилла: «Дорогому любимому папе от сыновей Алексея, Кирилла, Бориса».
О молодости моего отца я могу судить по документам, старым фотографиям, рассказам матери. Пятнадцати лет от роду, т. е. в 1889 г. (он родился 5 апреля 1874 г.) мой отец поступил в Горецкое земледельческое училище, получив на то согласие старицкого мещанского старосты Тимофея Филиппова. В свидетельстве так и написано: «Выдано от старицкого мещанского старосты Леониду Кац, родившемуся 5 апреля 1874 г., в том, что он, Кац, действительно сын старицкого мещанина Владимира Ивановича Кац и что на поступление в Горо-Горицкое земледельческое училище для получения образования со стороны моей препятствий не встречается, в чем подписью с приложением печати свидетельствую». В 1895 г. Леонид Кац училище окончил, получил аттестат первого разряда, а с 14 июля 1895 г. по 14 ноября 1898 г. усовершенствовался в приемах мочки и обработки льна. И на сей счет сохранился прелюбопытнейший документ: 1-ый Стол Третьего отделения департамента земледелия Министерства Земледелия и государственных имуществ уведомил 9 августа 1895 г., окончившего курс Горицкого Земледельческого училища, Леонида Кац, что, согласно желанию заявителя, он зачислен практикантом департамента по изучению усовершенствованных приемов мочки льна и дальнейшей обработки льняного волокна. На время учебы ему определялась стипендия – 35 руб. ежемесячно, а сверх того по 50 руб. на разъезды и командировки. Эта сумма выдавалась по мере надобности и под отчет. По железным дорогам полагалось ездить 3-им классом, на пароходе – 2-ым, оплата езды по почтовым и грунтовым дорогам исчислялась по количеству прогонов на одну лошадь. От практиканта требовалось ведение подробных записей по работе, которые вместе с обстоятельным отчетом, надлежало представить в Департамент, по окончании всех занятий. Далее предписывалось «немедленно … отправиться для изучения приемов мочки льна по американскому способу на Костромскую льнообделачную станцию…». В 1895 г. 1-й Стол 3-го отделения, видимо, пишущей машинки не имел. Изложенный мною документ красиво переписан от руки. Положение изменилось к 11 декабря 1899 г., т. е. за двадцать дней до перехода человечества в XX век. Моему отцу была направлена тем же учреждением, напечатанная на машинке, бумага следующего содержания: «Вследствие просьбы вашей, от 7 декабря, Департамент Земледелия препровождает у сего удостоверение в том, что Вы изучили усовершенствованные приемы мочки и обработки льняного волокна и стали младшим инструктором Департамента по этой отрасли».
Учился отец довольно хорошо, хотя, судя по оценкам аттестата, и без особых стараний. Так, в немецком языке и химии он проявил удовлетворительные знания. В аттестате доминируют оценки «хорошо», есть и «очень хорошо». Между тем, по специальным, т. е. агрономическим, предметам оценки, как правило, отличные.
Передо мной большая фотография выпускников училища. Отец лежит справа, опершись на локоть. Знаю по опыту, что на общих фотографиях впереди в необычных позах занимают места чаще всего ребята, чем-то выделяющиеся из общей массы. Может быть, это заблуждение. Но в данном случае я, наверное, прав. На сохранившихся старых общих фотографиях, относящихся к молодости отца, он в центре, он незауряден. Ранняя фотография отца помечена 7 декабря 1897 г. На ней надпись – Леонид Кац. Любопытно, что карточка подписана тем же почерком, что и фотография Алексея Владимировича, только последняя помечена 9 декабря 1897 г. Кто и зачем подписал карточки – не знаю. Может быть, братья фотографировались по случаю какого-то семейного юбилея. Так или иначе, отец, которому в это время было 23 года, сфотографирован на фоне декорации, изображающей лесной пейзаж. Он опирается правой рукой на высокий пень, очень подходящий к его росту. В пенсне, волосы зачесаны назад. Под длинным кафтаном красиво расшитая косоворотка, подпоясанная витым поясом с большими кистями. Брюки заправлены в сапоги гармошкой. Небрежно изысканная поза отца, кажется, свидетельствует о том, что молодой человек себя не недооценивал.
Следующая фотография интересна своей подписью: «1898 г., сентября, 22 дня. Волоколамское уездное Полицейское управление удостоверяет, что карточка эта есть личность мещанина города Старицы Леонида Владимировича Кац. Исправ ник Суслов». Официальная подпись заверена гербовой печатью. Для чего потребовалась эта фотография? Может быть, она была приложена к «Выписке из алфавита» на «кондуктора 1-го класса Леонида Кац», призванного на военную службу в сентябре 1898 г. Не знаю, как служил вольноопределяющийся Леонид Кац. Служба продолжалась год. За это время он успел сфотографироваться в выразительной позе, т. е. сидя верхом на стуле и устремясь взглядом вдаль. На боку у него сабля. В «Выписке» есть графа «нравственные качества» по четырем статьям: выдающиеся, хорошие, удовлетворительные, неудовлетворительные. Мой родитель проявил всего только удовлетворительные нравственные качества. Правда, мне, к сожалению, неизвестно, что бралось за критерий их определения. У него, как явствует из того же документа, выявились способности к хозяйственно-административной службе более, чем к строевой. На вопрос, удостоен ли к назначению в военное время на зауряд-классную или зауряд-офицерскую должность, дан исчерпывающе краткий ответ: не удостоен.
Не знаю никаких подробностей о трудах и днях моего отца или о занятиях «до семнадцатого года». Жил он в Смоленске, по словам матери, пользовался крупным успехом у женщин, ходил в местных львах. Сохранился очень старый отцовский серебряный стаканчик. На нем выгравирована надпись «На память от невесты Вергилес». Кто его знает, что это за прогрессивная невеста, подарившая жениху стопку для водки и столь официально подписавшаяся на свадебном подарке. По каким-то причинам свадьба не состоялась. Между прочим, эта стопка всегда лежала в большой шкатулке среди других реликвий и большого числа фотографий молодых дам, о значении которых в жизни отца мне ничего не известно. Об одной из них мать говорила, что это несостоявшаяся невеста отца. Но была ли то именно Вергилес – не знаю. Что касается стопки, то она лежала без употребления: отец любил выпить перед обедом одну рюмку водки, но для этой цели серебро не использовалось.
Передо мной большая групповая фотография, относящаяся, видимо, к 1901–1902 гг. На ней запечатлены десятка два мужчин и женщин с листками бумаги в руках. Наверное, это любительская театральная труппа. У меня сохранилась пьеса Мережковского «Павел I» с пометками о распределении ролей. Мать говорила, что мой отец увлекался театральными делами, как, впрочем, и любил сыграть в картишки. Проигрывал. Выпивая, провозглашал: «Хох, император!» Эту привычку отец сохранил до конца жизни. Я сам слышал этот тост, произнесенный в самой невероятной обстановке, когда здравица подобного рода могла касаться, если не Наполеона, то кого-нибудь из Римских императоров. Я вспомню об этом в другом месте. Но дело не в том. Отец сфотографирован на переднем плане. Он обдуманно небрежно сидит у ног каких-то двух женщин. И вообще он, кажется, любил запечатлеваться. Вот он сфотографирован с друзьями во время «мальчишника» перед свадьбой. Это, очевидно, в 1903 г., когда он женился на моей матери. В руках у него рюмка, взгляд выражает покорную обреченность: прощай, молодость и свобода… Друзья сочувственно чокаются с ним. И еще, тройка, запряженная в розвальни. В них бородатый извозчик, какой-то грустного вида господин, три женщины, среди которых и моя мать. Рядом стоит мой отец в лихо сбитой шапке, в шубе до пят, с папиросой в углу рта. Куда-то собрались ехать на тройке с бубенцами. У отца вид залихватский.
В 1903 г. отец женился на еврейской девушке из очень бедной семьи Ревекке Абрамовне Гуревич. В это время ей было лет 19–20. Считалось, что она на десять лет моложе отца. Судя по сохранившимся фотографиям, мать была очень красивой. Густая копна волос украшала правильное овальное лицо с глубокими глазами. Глядя на другие фотографии, вижу, как она быстро поблекла. Когда я родился, ей было около 38 лет. Я не знал ее молодой. Что мне известно о матери? Она родилась в Смоленске. Ее отец был часовым мастером, более чем нищим для того, чтобы содержать, кроме жены, одиннадцать детей. Поэтому семилетнюю Ревекку отдали в обучение «хозяйке», владевшей мастерской, где шили предметы дамского туалета. Мать выучилась на корсетницу. Я ничего не знаю об истории отношений ее с моим отцом, да и о ее молодости вообще. Она говорила, что была вхожа в компанию смоленских студентов, которые приучили ее к театральным галеркам. С их высот она слушала Шаляпина, смотрела многие спектакли. Видимо, отец увлекся красивой еврейкой, не очень задумываясь над тем, что будет дальше. Когда дело дошло до прозаической беременности девицы, отец, будто бы, захотел сделать шаг в сторону. Но друзья пригрозили ему разрывом, если он окажется недостаточно последовательным, и он женился. Так рассказывала мать. Для нее, как я думаю, все обстояло гораздо сложнее. Еврейка выходила замуж за православного, за русского, хотя и носившего приятную фамилию Кац. Ей предстояло креститься. Понятно, что это вызвало бурю в семье ее. Непокорная дочь была проклята, от нее отказались отец, мать, братья, сестры. Тем не менее, Ревекка Абрамовна Гуревич крестилась, вышла замуж за гоя (так евреи называли иноверцев) и стала после крещения и замужества Валентиной Дмитриевной Кац. Не знаю, почему выбрали имя Валентина. Отчество взяли по крестному отцу. Но что самое любопытное: мать глубоко, хотя и не вникая в суть дела, уверовала в христианского бога. По ее словам, кто-то, в том числе и отец, вели с ней душеспасительные беседы. Во всяком случае, она знала, что евреи – распяли Христа по каким-то не слишком веским причинам. Она совершенно искренне считала, что, став христианкой, крестившись, превратилась в русскую. Помню любопытный случай: мой брат Кирилл с большим жаром доказывал матери, что перемена религии не значит смены национальности. Мать сердилась и отвечала: «Я не крестилась». К сожалению, в ту пору я не мог поддержать ее: я еще не понимал, что, если религия хоть что-то значит, то национальная принадлежность не означает ровным счетом ничего. Читать и писать по-еврейски мать не умела, хотя, конечно, хорошо разговаривала. Между тем, отец, кажется, научил ее любить книги, и она много прочитала их. В 1904 г. родился мой старший брат Борис, а в 1906 г. средний – Кирилл. Мать рассказывала, что двухлетний Борис, увидев новорожденного, спросил с изумлением: «Что это за зверь?» В нашей семье никто никогда не обсуждал национальных и религиозных проблем. Но совершенно естественно, что отец, мать, братья, я считали себя русскими. (Братьев, как и меня, крестили.) Когда же встал национальный вопрос? В начале 30-х гг. у нас были введены паспорта. (Н. С. Хрущев, нечаянно вспорхнувший на высокий шпиль государственной власти, ерзая на нем, заметил в одном из своих выступлений в начале 60-х гг., что действующие у нас паспорта – полицейские. Премьеру потребовалось 30 лет безупречного пользования этим документом, дабы убедиться в его полицейской сущности. Так или иначе, он предложил ввести трудовой паспорт, где фигурировали бы подлинные достижения его обладателя. Однако, путешествуя по миру, Никита Сергеевич заразился неизвестным дотоле видом тропической лихорадки, очень удачно названной волюнтаризмом, и, по состоянию здоровья, ушел с занимаемых служебных постов. За десять лет бурной реформаторской деятельности он не успел отменить русскую грамматику и обогнать Соединенные Штаты Америки по производству товаров широкого потребления на душу населения. Что касается паспортов, то они до сих пор прежние. Может быть, это происходит потому, что так и не решен вопрос: не является ли национальная принадлежность тем самым высшим достижением ее обладателя, которое определяет в человеке все, в чем он был и не был виноват.) Так или иначе, в 30-х гг., когда вводились паспорта, где указывалась национальность, мои родители, по совершенно понятным причинам, назвали себя русскими, не тая при этом никакой задней мысли. Так же поступили мои братья, так же поступил и я, когда дожил до 16 лет и получил паспорт в 1938 г.
Итак, я ответил на поставленный выше вопрос, почему я русский. Никаким другим я быть не мог и не хотел, не могу и не хочу. Но теперь все вошло в норму. Я и сам женился на Евгении Юрьевне, урожденной, как она уверяет, ГЛЮКМАН. Ей не пришлось креститься, и она осталась еврейкой. Поэтому моя дочь Наташа считается еврейкой, что и зафиксировано при переписях населения и в ее паспорте. «И возвращается ветер на круги свои», – сказал Экклесиаст. Справедливость восторжествовала. Моя совесть чиста перед библейскими пророками и неведомым никому народом с непонятным названием «РУСЬ». Спите спокойно, далекие предки! Вы не были ни сионистами, ни антисемитами. Поэтому я вас глубоко чту. Вам было наплевать на вашу национальную принадлежность, вы вообще не знали о том, что она кому-нибудь понадобится в далеком грядущем. За это я тоже люблю вас, интернационалисты по неведению. Ибо интернационалист лишь тот, кто не ведает об этом!
Я помню себя лет с четырех. Деревянный дом, где мы снимали четырехкомнатную квартиру, имел громадный глухой сад с огородом. Фасад дома выходил на мощеную булыжником улицу. Рядом помещалась почта, начальника которой мать почему-то называла почтовым чиновником. Несколько самых ранних воспоминаний. У соседских ребят я увидел рогатки. Очень захотел иметь такую же. Мать заказала мне рогатку, я ее получил. Половодье на Гжати. Брат Кирилл и я смотрим на плывущие льдины. Мать рассказывала, что однажды я отправился смотреть на вышедшую из берегов реку самостоятельно, за что и подвергся телесным наказаниям. Не помню. А вот грузовой автомобиль около почты помню очень хорошо. Для Гжатска такая машина была чудом. Потом над Гжатском появились самолеты. Не знаю, зачем они туда прилетели. Может быть, чтобы дать наш ответ Чемберлену. За городом самолеты даже сели, и я с мальчишками отправился их смотреть. До места не дошли: самолеты улетели. Поразило, что они летят низко, так что виден круг пропеллера. Утомительно перечислять запомнившиеся мелочи. Не стану.
Я рос с матерью. Старшие братья служили в армии, отец работал директором (красным директором, как тогда говорили) льнообрабатывающего завода в деревне Селенки недалеко от Вязьмы. Время от времени он приезжал в Гжатск, приезжали и братья. Не знаю, при каких обстоятельствах отец был назначен на эту высокую должность. Мать рассказывала, да это подтверждается и документами, что в 1914 г. он служил прапорщиком в саперной части. Я помню фотографию, на которой он снят возле пушки вместе с какими-то офицерами. За войну отец имел какие-то награды. Со слов матери знаю, что георгиевские кресты закопали после революции. Известно, что они были тогда не в чести, а обладателя их могли поставить к стенке: считалось, что сохранение подобных наград свидетельствует о приверженности самодержавию. Правда, в 1941 г. вспомнили, что георгиевские кресты выдавались за храбрость, и их стали носить рядом с другими наградами. Но к 1941 г. отец мой был замучен, хотя не только выбросил кресты, но повоевал в гражданской войне, и безупречно потрудился красным директором. Об этом подробно и позже.
Итак, я рос с матерью. Она читала мне книжки, водила в церковь и удивлялась моему умению рисовать. Ее приводили в восторг, реалистически передаваемые, собачьи уши. «Посмотрите на ухо!» – говорила она, расхваливая мои рисунки. Висячее собачье ухо я наблюдал у нашего дворового кобеля по имени Кайзер. Он считался собственностью жившего тут же пропойцы сапожника и его жены Федоры. Когда Кайзера кто-то убил, Федора, лия над ним слезы, задавала в пространство риторический вопрос: «Казинька, за что это тебя убили?» Сапожник отвечал: «За идею!» Об этом рассказывала мать. Я помню только безвременную кончину Кайзера, которую я оплакивал так же громко, как смерть пригретого мною голубя с подбитым крылом. Я с детства люблю животных. Я никогда их не мучил. Никогда.
Дня два я ходил в детский сад, организованный напротив нашего дома. Помню, что до этого мне купили клетчатый ранец. Я вложил в него бутылку молока, вышел за калитку и бегом бросился через улицу. Какие-то люди кричали мне: «Лёша! Куда ты бежишь!» Я не отвечал: во-первых, не знал, куда бегу, во-вторых, от высокомерия! Очень скоро я затосковал по дому и этой тоски преодолеть не сумел. Так закончился первый раунд моего дошкольного воспитания в коллективе. Братья Борис и Кирилл, когда бывали дома, закаляли меня физически. Я плохо рос, не любил масла, но лихо бегал на лыжах и прыгал с разбега через палку. Я никогда не страдал от пороков, свойственных иным маленьким мальчикам, но чувство к женщине, как существу, от меня отличающемуся, я испытал очень рано. В нашем доме жила полная красивая женщина Наталия Ивановна. Я объявил матери, что влюблен в Наталию Ивановну. Мать, громко смеясь, сообщила об этом ей. Наталия Ивановна меня целовала, и я испытывал удовольствие. С не меньшей приятностью я забрался однажды под юбку жене моего старшего брата Лиде. Я отлично помню эту черноглазую красавицу, ее обшитые кружавчиками длинные, белые панталоны из тонкого полотна. Во второй половине 20-х гг. были модными именно такие. Теперь я об этом знаю по фильму «Мисс Менд». Синтетики не было. Не то, что сейчас. Лида, как кажется, не придала значения моей затее и спокойно продолжала греться на теплой лежанке. Моя мать, почему-то явившаяся в комнату, где я отдавался любовным утехам, подняла шум. Отец и вся семья стали меня стыдить. С меня взяли слово, что я никогда больше не буду лазить под юбку. Я это слово легкомысленно дал, но признаюсь – не сдержал. Я устремлялся под юбку женщинам при каждом удобном случае в своей жизни. Я не жалею об этом. Я сожалею о том, что так необдуманно когда-то дал обещание своим близким и не оправдал их надежд. Но это единственное слово, из данных мною родным, которое я не сдержал. Смолкните, вопли нечистой совести. Достаточно того, что каждый раз, лаская женщину, я вспоминал о своем обещании не делать этого. О, молодость, молодость!
Читать я научился по кубикам с буквами и картинками. Кажется, Борис особенно усердно учил меня грамоте. Но читать я не любил. Мне больше нравилось слушать. И мне читали. Что? Все, что обычно читают маленьким детям. Читала обычно мать. Мне очень нравился «Беглец» Лермонтова, и я знал его наизусть. Я любил играть в оловянных солдатиков и имел их во множестве. Эта страсть сохранилась у меня на долгие годы. Часто я мастерил солдатиков и технику из бумаги. Разумеется, и армия и техника менялись в соответствии с эпохами. Летом 1965 г., когда я с великим трудом боролся с последствиями тяжелого инфаркта, я создал бумажную армию. Некоторая ее часть (пехота и кавалерия) была послана Сарре Саксонской. Два лучших вертолета я отдал медсестре Вере Невдашевой для ее сына. Вера работала на скорой помощи и часто выручала меня.
Кажется, в 1927 г. мать впервые повезла меня в Москву. Совершенно не представляю цели этого путешествия. Помню: зимним вечером к дому подъехал извозчик. Меня посадили в сани, укутали с головой, дабы я не простудился, и привезли на вокзал. Я помню и пассажирский вагон и свечу в фонаре, освещавшую проход между полками и столик около окна. Потом я много раз ездил в поезде и очень любил столик у окна. Хорошо было сидеть на нем и смотреть на пробегающий земной мир. Был такой случай: мать, Кирилл и я ехали к отцу в Селенки, где он директорствовал. На одной из станций я спросил Кирюшку: «Ты можешь поезд толкнуть?» «Могу», – ответил он. «Толкни». «Сейчас, подожди немножко». Я стал ждать, паровоз прогудел. Кирюшка уперся грудью и руками в столик, выкатил глаза. Поезд тронулся. Сквозь десятки лет сохранилась в памяти эта смешная история. А ведь я знал, что поезд пошел независимо от кирюшкиных усилий. Знал, но удивлялся кирюшкиной силище. Непонятна человеческая память, непостижима! Многое забыто начисто, кое-что помнится очень смутно, некоторые пустяки сохраняются на всю жизнь. В одну из поездок к отцу мы ждали поезда при пересадке в Вязьме. Сидели в привокзальном ресторане. Я рассыпал соль. Мать показала на официанта и сказала: «Вот он тебе сейчас задаст!» Я и сейчас помню охвативший меня страх. Мне всегда становилось страшно в Вязьме.
Так вот, мы приехали в Москву и остановились в большой квартире высокого дома, на Мясницкой улице. Здесь жила сестра матери тетя Груня, ее муж дядя Соломон и их дети: Феня, Беля, Даня – дочери и семейная гордость – сын рыжий Абраша. Несколько слов о материной родне: моя бабка по матери жила с дочерью Белей в Ленинграде. Бабка была крепкой старухой. Она не простила моей матери ее крещение и до конца своих дней (а прожила она 84 года) не вступала с ней ни в какие контакты. Но брата моего Кирюшу она любила, и он жил у тети Бели, пока учился в Ленинграде в сельскохозяйственном институте (Кирюшка намеревался стать льноводом). Тетя Беля – женщина с большой головой и некрасивым коротким туловищем (я узнал ее в 30-х гг. и встречался после войны) была опытнейшим корректором. Жизнь ей не удалась: замуж она не вышла, а многолюбимый ребенок рос идиотиком и умер лет в четырнадцать. В Ленинграде Кирюшка встречал одного из материных братьев – дядю Янкеля. Дядя был профессиональным бродягой. Неизвестно, чем и как он жил и ездил по миру. Рассказывали, что его спросили перед очередным вояжем в Италию, в какой адрес ему писать. Дядя ответил: «Пишите – Италия, Гуревичу». Кирюшка обратился к нему однажды: «Дядя, расскажите, где вы побывали?» «Спроси лучше, где я не побывал», – ответил путешественник. Я видел его один раз в начале 30-х гг. К нам в дом вошел нищий, т. е. оборванный грязный человек. Мать вытаращила глаза, а отец громко и весело закричал: «А, братец приехал!» Это и был дядя Янкель, явившийся с какого-то конца земли. Он сел на стул, положил ногу на ногу, небрежно достал из кармана грязную тряпку и аристократически высморкался. Дядя пообедал и ушел в вечность.
В Москве жили материны братья, которых я видел, но не запомнил, зато семейку тети Груни я знаю отлично. Тетя Груня была просто многодетной матерью и доброй пожилой женщиной. Ее супруг дядя Соломон до семнадцатого года занимался негоцией. При советской власти он где-то служил. Советская власть не только извлекла дядю из черты оседлости, но и дала удобнейший закон о семье и браке, предельно упростивший бракоразводный процесс. Дядя Соломон, по-моему, оформлял развод в дни получения заработной платы и возвращался в лоно семьи, потратившись. Однажды он принес в дом сверток с творогом. «Груня, я принес творог». «Ну, и что?» «Я заплатил за него рубль». «Ну, и что?» «Я принес творог и заплатил за него рубль!!» «Ну, и что?» В диалог, несмотря на его предельную ясность, включалась семейка, и начинался хаос. Вообще я не помню, чтобы в семейке кто-нибудь на кого-нибудь не кричал. Сестры грызлись между собой и все вместе – с Абрашкой. То Абрашка, то какая-нибудь из сестер грозились покончить с собой, но угрозу свою в исполнение не приводили. Иногда Абрашка запирался в комнате. Моя мать как-то спросила: «Куда делся Абраша?» Одна из сестер крикнула: «Куда ему деться? Сидит за дверью и пишет свои сумасшедшие стихи!» Абрашка не стал поэтом. Во время войны он был убит. Тетя Груня и дядя Соломон умерли. Сестры разъехались.
Так вот, в первый мой приезд в Москву мы остановились у тети Груни. Меня никуда не водили, ничего мне не показывали. Я сидел на подоконнике третьего этажа и смотрел на оживленный перекресток. Туда и сюда мелькали люди, ползли трамваи, сновали автомобили. У меня было такое чувство, будто автомобили вообще никогда не останавливаются. Однажды я все-таки попросил Даню покатать меня на трамвае. Это желание было выполнено. Провезла она меня и на автобусе. А на автомобиле – нет: они ведь не останавливались. С такими впечатлениями я вернулся в Гжатск.
В 1928 г. мать увезла меня в Селенки к отцу. Дата подтверждается фотографией. Я снят на крыльце дома в Селенках в позе часового с ружьем в руке рядом с отличной немецкой овчаркой Альбой. В это время я уже умел писать. На фотографии сохранилась надпись печатными буквами: ДАРАГОМУ КИРЮШЫ НА ПАМЯТЬ. ЛЁША КАЦ. 1 ДЕКАБРЬ 1928 год. Слово «год» написал кто-то другой, как видно по почерку. Приезду нашему в Селенки предшествовало вот что: льнозавод, директором которого был отец, сгорел дотла. Причины пожара неизвестны: подожгли ли его кулаки, или деревянные строения с сухой льняной паклей вспыхнули от случайной искры, вылетевшей из заводской трубы – кто знает? Шло следствие, потом состоялся суд, не представляю, над кем. Разумеется, отец был полностью оправдан: его вины в пожаре не было. Так или иначе, завод остановился. Я помню остатки корпусов и ржавые обгоревшие машины. Вскоре после этого пожара мы с матерью и приехали в Селенки. Завод скоро восстановили, и он снова заработал. Что же я помню о жизни в Селенках?
Здесь началась моя теплая дружба с отцом. В то время во мне пробудилось сознание. Я стал думать. Мне стали передаваться волнения матери или отца, их размолвки. Я знал, чем отец занимался, какие порядки существовали на заводе. Мы жили в большом одноэтажном доме, где, кроме занимаемых нами двух комнат, помещалась школа, сыроварня, служебный кабинет отца и заводская контора. Школа занимала большую комнату. В ней занимались с одним учителем ученики нескольких классов. Иногда меня пускали посидеть на уроках. Я во всяком случае не мешал.
Отца на заводе любили, относились к нему с большим уважением. Сохранилось несколько фотографий, на которых отец снят с большими группами рабочих или со служащими. Есть карточка – отец за рабочим столом. Он же на собрании, посвященном выборам в Советы. О содержании собрания можно судить по лозунгам на стене, призывающим избирать коммунистов и комсомольцев. О фотографиях: это конец 20-х гг. Работницы комсомолки с портупеями через плечо, парни в лаптях, молодые женщины в платьях, похожих на мешки. Из лиц, представленных на фотографиях, запомнил нескольких: заместитель директора по политической части – Савенков. Он партийный, очень дружен с отцом. Бородатый слепой старик – Илья Иванович. Говорили, что он активно участвовал в установлении советской власти в здешних местах. Помню одного рабочего. Он токарь и большой мастер. Мне он выточил медные рюмочки и сделал деревянные коньки на железных полосках. Он – изобретатель: придумал сложную надстройку над заводской трубой, гасившую вылетавшие снопами искры. Значение этого изобретения невозможно преуменьшить. Пожары – настоящее бедствие завода. Сухая пакля, солома, сложенная в скирды, вспыхивали как порох. У меня и сейчас звучит в ушах тревожный звон пожарного колокола. На звуки его бежали все – мать, я, конторские служащие, отец, рабочие, ученики школы, так вот, рабочий, о котором пошла речь, придумал искротушитель, уменьшавший угрозу пожаров. Помню инженера Леонида Арсентьевича Казанского. В то время молодой человек, Л. А. Казанский был очень дружен с отцом. Они и сфотографировались в цеху у машины. Через много лет я встретился с Леонидом Арсентьевичем. Произошло это в конце 50-х – в 60-х гг. Мне было за 30, ему – к 60. Я бывал у него в гостях в каждый приезд в Москву, а это случалось ежегодно. Мы выпивали поллитра «Столичной», он вспоминал отца с большой теплотой.
Отец не ограничивался исполнением директорских обязанностей. Помню его, выступающим со сцены заводского клуба: читает рассказ о Ленине. Еще эпизод: заводская охрана задержала каких-то двух подозрительных бородатых мужичков. Отец разговаривает с ними. У мужичков отобрали здоровенные бутыли с самогоном. Один надрывно кричит: «Попробуйте винцо-то, не отрава, огнем горит». Потом в кабинет к отцу зашли какие-то инвалиды Гражданской войны. Один больного вида молчаливый мужчина, второй в старой шинели и буденновке очень нервный: он заикается, кричит, размахивает обрубком руки: просит оказать какую-то помощь.
Отец водил меня на завод. Я со страхом взирал на большой локомобиль с громадным маховиком. Он свистел паром и грохотал. К отцу очень тепло относились окрестные крестьяне, продававшие заводу выращенный на полях лен. Помню, в какой-то весенний праздник отец, мать, я поехали в гости к сельским жителям. В большой хате обильно накрыт стол. Пахнет печеным хлебом и самогоном. Тепло. Запомнились громадные куски гусятины. Ели, пели, пили, веселились. Отец отплясывал в присядку и даже упал от усердия. Я хохотал до упаду. Отведав еды в одном доме, переходили в другой. Под конец я изнемогал от сытости. Хорошие отношения к отцу люди переносили на меня: мне мастерили игрушки, аплодировали в клубе, где я декламировал «Жил да был крокодил». Но случались и печальные эпизоды. На заводской территории имелись специальные места для привязи лошадей. Однажды я заметил, что лошадь привязана в запретной зоне. Я сказал тут же стоявшему охраннику: «Эх, ты, лупоглазый милиционер!» Оскорбленная власть немедленно адресовалась к отцу, заявив, будто я назвал официальное лицо «лупоглазой сволочью». Отец принес извинения пострадавшему. Главное же не в этом: он поверил мне, что я не обозвал человека сволочью. Отец знал, что я ему не вру. Я не врал, отлично это помню. Я играл в солдатики, рисовал собак и вырезал картинки из хорошего приложения к «Мурзилке».
В Селенки приезжал Кирюшка, обучавшийся где-то льноводческим делам. (Борис был военным и служил на границе.) Заводские комсомолки не остались равнодушными к этому веселому бабнику. Помню, одна из них грустно провожала его в моем обществе на станцию, когда Кирюшка покидал Селенки. Был теплый солнечный день. Играл в упряжке горячий жеребец Лимон. Телега катилась по устланной пылью дороге. Я помню девушку, провожавшую Кирюшку. На большой фотографии, где отец снят с рабочими, она сидит второй справа (рядом со мной). Из жизни в Селенках запомнился еще один эпизод: в противопожарных целях над цехом устанавливали громадный резервуар для воды. Помню строительные леса, канаты, могучий труд людей, тянувших вверх железную громаду. Они тянули, кричали нараспев «раз, два, взяли». Тяжелый бак медленно полз по бревнам. Жизнь в Селенках прервалась в марте 1929 г. Отец был переведен на работу в Москву. Начался новый, очень большой и насыщенный период моей жизни.
1929 год был благополучным в нашей семье. Брат Борис жил в Москве и учился в Высшей пограничной школе, Кирюшка поступил в сельскохозяйственный институт в Ленинграде. Отца назначили инспектором-технологом в учреждение, именовавшееся «Мособлльнотрактор». Непостижимо, как мать сумела распродать вещи, громоздившиеся в нашей гжатской квартире. Я помню гигантский резной буфет, трюмо, диван, железные кровати. О том, чтобы все это забирать в Москву, не могло быть и речи: четыре комнаты здесь не предполагались. Мы прибыли в Москву и на первые дни поместились у Бориса… Поместились… Мы втиснулись в квадратную конуру в одном из старых больших домов в Самотечном переулке. Вскоре, однако, мы перебрались в двенадцатиметровую комнату, снятую в поселке Сокол на улице Левитана в доме 24/2. Это произошло 14 марта 1929 г. Не знаю, почему небольшой поселок, находившийся на тогдашней окраине Москвы, назывался Соколом. Кажется, такой была фамилия его основателя. Здесь селилась интеллигенция – инженерно-технические работники, ИТР, как тогда говорили. Поселок состоял из небольших, хорошо спланированных коттеджей, рассчитанных на одну семью каждый. К домикам прилегали участки сада или огорода – это по вкусу владельца. Улицы поселка назывались именами русских художников – Левитана, Сурикова, Шишкина, Верещагина и т. д. Вдоль дощатых мостков, заменявших тротуары, тянулись ряда лип и кленов. Из центра к Соколу шел трамвай, линия тянулась до Покровского Стрешнева. Там уже была деревня. Улица Левитана была застроена с одной стороны. Через дорогу начинался сосновый лесок, рядом походила (и проходит) окружная железная дорога. Здесь находилась станция «Серебряный бор». За железной дорогой на несколько километров тянулось большое стрельбище, называвшееся Военным полем. За ним Москва-река. До нее было километров семь. За поселком вдоль Волоколамского шоссе тянулись леса, хлебные поля подмосковных колхозов.
Дома в Соколе строились на кооперативных началах. Мы тоже вступили в кооператив. Дом, где мы занимали комнату, был двухэтажным. Он принадлежал семейству, состоявшему из главы – Николая Константиновича Петрова, его супруги Зинаиды Антоновны Барановской и их сына Игоря, который был на два года моложе меня. Семейство было очень интеллигентным. Николай Константинович где-то служил, кажется, экономистом, Зинаида Антоновна работала где-то стенографисткой. Я не могу воспроизвести первые годы московской жизни месяц за месяцем. Это и не нужно. Расскажу о главном.
В Москве у нас нашлось довольно много знакомых. Один из них – Сергей Александрович Шемякин – старинный друг отца еще по земледельческому училищу. Он жил закоренелым холостяком одиноко и тихо. Часто бывал у нас в гостях. Умер он, кажется, в 1946 г. Во всяком случае, я его видел в 1945 году, когда приезжал в Москву в отпуск после войны. Сергей Александрович был уже глубоким стариком, узнал меня не сразу, а, узнав, не придал особого значения встрече. Он безнадежно состарился. Я думаю, что плохо, когда человек живет слишком долго. Правда, не поймешь, откуда начинается это «долго».
Одно время Сергей Александрович жил летом на даче под Москвой. В начале 30-х гг. по московским железным дорогам стали ходить электрические поезда, или, как их называют, электрички. Однажды отец и я поехали этим новым видом транспорта к Сергею Александровичу. Встретили нас очень дружелюбно. Отец немедленно обратил внимание на хозяйку – женщину лет, наверное, к пятидесяти, с седой прядью, бежавшей волной по черным, пышным волосам. Он хорошо острил. Потом сели за стол, налегли на водочку. Завязался разговор о первой мировой войне. Выяснилось, что мой отец и хозяин дачи воевали где-то на одном участке фронта. Они бросились в объятья друг другу, день прошел весело. У меня настроение было испорчено во время возвращения домой. Подвыпивший отец привязывался к пассажирам в электричке и в трамвае: хотел, чтобы мне уступили место, а мне оно вовсе не требовалось.
В Москву из Гжатска перебралось большое семейство Меклер. Они были старыми друзьями нашей семьи. Во время НЭПа Меклер торговал. В год великого перелома, как именовали 1929, или чуть позднее он стал так называемым лишенцем, т. е. его лишили избирательных прав. Я не очень понимал, что это такое, но мне было хорошо известно, как страшно положение лишенца, как тяжело иметь какой-то «волчий билет», а таковым обладали старшие сыновья Меклера. Меклеры были хорошими людьми. Они не заслуживали такого. Их не следовало уничтожать, как класс. Потом Меклера сажали в тюрьму: его подозревали в хранении золота. Сейчас мне понятно: страна нуждалась в валюте, кто-то ее прятал. Но, стараясь извлечь ее, власти брали за шиворот задолго до того, как имели доказательства в том, что обвиняемой действительно прячет драгоценности. Лавры якобинского произвола явно кому-то не давали покоя. Вот почему ходил анекдот: однажды опустел пьедестал памятника Пушкину. Через пару дней Александр Сергеевич водрузился на место. Подходят прохожие, спрашивают: «Где вы были?» Поэт отвечает, прикрыв рот рукой, шепотом: «Брали в ОГПУ, требовали, чтобы я адрес скупого рыцаря указал». Смешно? Мне было семь лет, когда я слышал этот анекдотец. Я и сейчас помню, как смеялся. А каково было обвинявшимся в том, что они скупые рыцари? Об этом я задумался позднее.
И еще об одной близкой нам семье. В Гжатске жило многочисленное и бедное семейство Кручинкиных. Один из их сыновей Николай очень дружил с моими братьями, хотя был несколько старше их. По сути дела, он воспитывался в нашей семье, отец очень его любил. Совсем пареньком Николай Кручинкин отправился на Гражданскую войну и вернулся с двумя орденами «Красного знамени». К моменту нашего приезда в Москву он носил четыре ромба в петлицах и занимал очень высокий пост в пограничных войсках. Для отца и всей нашей семьи он оставался просто Колей. Он бывал в гостях у нас, мы нередко ездили к нему на московскую квартиру и на дачу. Тогда-то я впервые и покатался на автомобиле. У Коли имелся персональный «Бюик». Как-то летним днем мы приехали к Кручинкиным на дачу. Там собралась большая компания; выделялся мужчина с бородой в безукоризненном штатском костюме. Это был Павел Ефимович Дыбенко. Меня Кручинкины баловали, привозили конфеты, разные вкусные вещи, считавшиеся роскошью в начале 30-х гг., когда сохранялась карточная система. С большой теплотой относились они и к братьям. Борис парень суровый и вышколенный военной службой, был уважаем за дисциплинированность. Весельчак Кирюшка не только панибратствовал с командармом, но и пользовался особой симпатией его супруги Клавдии Александровны. Кирюшку любили за оптимизм и пение блатных песенок, которыми тогда славился джаз Леонида Утесова. Кирюшка выразительно исполнял «С Одесского кичмана бежали два уркана», песенку про влюбленного павиана, с танцами пел «С утра уж шумно в доме Шнеерсона». Вообще Кирюшка любил Шолом Алейхема и незлые еврейские анекдоты. Эти свойства перешли от Кирюшки мне. Впрочем, анекдотов я не люблю.
Николай Кручинкин успешно продвигался по службе. В начале 30-х гг. его командировали на учебу в Берлин. Там он прожил с семьей года два. Помню нашу встречу у Кручинкиных после их возвращения в Москву. Собралось много людей, выпивали за большим столом, слушали пластинки Вертинского. По просьбе отца, подвыпившего до высокого уровня сентиментальности, повторяли эмигрантскую песенку «Молись, кунак, в стране чужой». В той компании это допускалось даже в начале 30-х гг. Я катался в педальном автомобиле и до боли в сердце завидовал его владельцу – сынишке Кручинкиных, нареченному нечеловеческим именем ЛЕОНАРД. Сам себя он упрощенно именовал Надькой. Вечером гости смотрели диапозитивы о пребывании Кручинкиных в Берлине. Когда на стене появилось изображение семейства, гулявшего по зоологическому саду, Леонард закричал: «Вон Надька стоит». Кое-что он все-таки смыслил. Ему было года три.
Николай рассказывал отцу о приеме у Сталина, который задал только один вопрос: «Почему я Вас не знаю?» Представлявший Николая, Ягода аттестовал его как молодого способного командира, учившегося в Берлине.
Как же протекала моя жизнь? Я дружил с Игорем Петровым, соседями Лилей и Юрой Зыковыми, братьями разбойниками Игорем и Петей Закалинскими, с Таней и Васей Моргуновыми. Сначала меня отдали в детский сад, расположенный в сарае в лесу напротив нашего дома. Я оттуда бежал на второй день, не выдержав требований дисциплины, да и как было их выдержать? Нас покормили, построили в ряды и повели погулять. По дороге увидели старика, сидевшего на скамейке. Подошли к нему, стали о чем-то болтать. Старик улыбался. Потом какая-то девочка встала на скамейку. Старик снял ее и поставил на землю. Это показалось столь забавным, что все стали карабкаться на скамейку и всех их старик возвращал на землю. Разумеется, меня такая игра не увлекла. Я не залез на скамейку, я просто бежал из сада. Слишком глупым казалось пребывание в нем.
Тогда меня включили в группу ребятишек, обучавшихся немецкому языку. Учила нас старая, добрая, толстая Атилия Карловна. Я сразу ее полюбил: она рассказывала сказки про Карлика Носа, Халифа и Аиста и многие другие. Теперь я знаю, что Атилия Карловна рассказывала Гауфа и Братьев Гримм, но тогда я этого не знал. Я слушал и, хотя сказки мне читали и дома, эти казались особенно чудесными. Перечитывая их, я всегда невольно возвращался к Атилии Карловне, мне казалось, что я слышал ее голос, ее интонации. Я довольно быстро научился болтать по-немецки. У Атилии Карловны было много учеников. Она занималась в разное время с несколькими группами. Дети приходили в какой-нибудь дом и учились, играя: было лото, всякие загадки, сказки. Вырезали, клеили, рисовали. Собачье ухо и здесь прославило меня как художника. Трудными были 1929–1930 гг. Не хватало продуктов, даже хлеб продавали по карточкам. Атилия Карловна обычно делила с нами свои бутерброды. Каждому доставалось по крошечному кусочку, но каждому. Однажды праздновались именины Атилии Карловны. Приглашение получили все ученики. В довольно большой комнате собралась толпа ребятишек. Пили чай, ели торт. Атилия Карловна умела приготовить вкусное. Потом она умерла, и я горько плакал. Обучение немецкому языку продолжалось, но ни одну учительницу я не любил так, как Атилию Карловну. Смерть ее явилась для меня не первой утратой. Умер от дифтерита мой приятель. Так вот, после этой смерти я тоже плакал. Я редко плакал от горя. О двух случаях я рассказал, потом расскажу еще о двух. И это, пожалуй, будет всё.
Как я упоминал, я рос с Игорем Петровым. Мы до одури играли в солдатики. Николай Константинович отлично рисовал и участвовал в изготовлении войск. Между двумя столами в большой комнате был наведен мост из деталей хорошего конструктора, на столах возвышались крепости из кубиков, линеек и прочего материала. Здесь кипели бои. Были и другие занятия. Родители Петровы устраивали для меня и для Игоря литературные вечера. Мы учили какое-нибудь стихотворение, декламировали его, а потом нам читали книги. Здесь я узнал былины, сказка и поэмы Жуковского, Пушкина, рассказы Киплинга. У Петровых была отличная библиотека. Немало книг имели и мы. Николай Константинович научил беречь книгу, брать ее только чистыми руками. Читать и смотреть разрешалось все при взрослых и без них. Пряталась только одна иллюстрированная книга – «Мужчина и женщина». Но мы обнаруживали именно ее и смотрели в уединении. Помню и беседы Николая Константиновича. Он брал иллюстрированное издание «Жизнь животных» Брема (эта книга сохранилась у меня) или «Народоведение» Ратцеля и читал, комментировал картинки, рассказывал. Мы слушали, затаив дыхание. Петровы приобрели двухламповый громкоговоритель, казавшийся чудом техники. Николай Константинович рассказывал, что недалеко время, когда прямо у себя, в комнате можно будет смотреть кино. Теперь я знаю, речь шла о телевидении.
На улице Левитана жил с сыном и невесткой друг Л. Н. Толстого В. Г. Чертков. Он был уже стариком и ежедневно прогуливался по дороге. Потом его стали возить на коляске. В. Г. Чертков дарил ребятишкам заграничные почтовые марки и отговаривал от ловли майских жуков.
В Москве мы с отцом стали особенно дружными. Все ребята с улицы Левитана любили моего отца. Величайшим удовольствием для всех были прогулки с ним по окрестным полям и лесам. Устраивались такие прогулки летом каждый день. Отец возвращался с работы, обедал, и мы отправлялись гулять. И сейчас помню поросшие рожью поля и васильки среди золотых колосьев. Хорошо бежать, согнувшись, по полю так, что рожь бьет по лицу. Но такое разрешалось только в виде исключения. Нельзя же топтать хлеб. Ходили в Покровское Стрешнево, катались на карусели, в выходные дни отец брал меня за руку, и мы отправлялись в город. Так называли Москву в поселке «Сокол». Садились в трамвай, ехали до Садовой-Триумфальной (площадь Маяковского), оттуда двигались пешком к Красной Площади. Заходили в кино. Помню первые звуковые фильмы «Путевка в жизнь», «Златые горы», «Рваные башмаки». С отцом были в московском зоопарке, ставшем для меня навсегда любимым местом. В любое удобное время, уже взрослым, я приходил сюда. С особым удовольствием я привел сюда однажды маленькую Наташку. Это произошло летом 1953 г. Наташке исполнилось четыре года. Я шел с ней от клетки к клетке, поднимал на руки возле обезьян, толкался у площадки возле молодняка, катал ее по кругу на пони. Делал все то, что когда-то делал со мной отец. Нередко отец и я ходили в театр. Видели «Синюю птицу», «Принцессу Турандот», в Большом слушали «Сказку о царе Салтане». Бывали мы и в Парке им. Горького. Помню комнату смеха: отец и я гляделись в кривые зеркала и хохотали, как бешеные. Часто семья собиралась вместе. Летом из Ленинграда на каникулы приезжал Кирюшка, он влетал с гигантским деревянным баулом, легким, как пух, в день приезда и тяжелым, словно скала, при отъезде. Ребята с улицы Левитана кричали: «Кирюшка приехал!» Его любили за необычайную веселость и общительность. Кирюшка рассказывал мальчишкам приключения из своей жизни, играл в ножички и двенадцать палочек. Он читал нам книжки. Именно он прочитал мне «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна». Но в это время я и сам приобщился к книгам. Майн Рид, Жюль Верн, Фенимор Купер, Дефо, Свифт и многие другие были прочитаны и перечитаны. Книгу Эрнста Гленвилла «Нгоньяма Желтогривый» я читаю до сих пор. Не помню авторов таких книг: «Корабль натуралистов», «Через дебри и пустыни», «Вокруг света на аэроплане». Многие книги разыгрывались нами в лесу. Мы строили шалаши, играли в индейцев, делали луки, сабли, кинжалы. Мне присвоили имя знаменитого вождя зулусов – Мозелекац. Из детских впечатлений разных лет осталось в памяти: над поселком летит серебристый дирижабль «Граф Цепеллин». (Кирюшке сшили зимнее пальто из кавказской бурки, бог весть откуда взявшейся у нас. Его можно было кое-как надеть и ходить, не сгибаясь. Кирюшка говорил: «Я граф Цепеллин».) Помню авиационный праздник на аэродроме (ныне здесь центральной аэровокзал). Маленькие бипланы делают «мертвые петли» над аплодирующей толпой. Потом еще одно чудо: парашютист. А вот и трагедии: на глазах разбился пассажирский самолет. Он рухнул в лесок на Военном поле. Мы прибежали к месту катастрофы, увидели обломки. Над поселком нередко кружил восьмимоторный гигант «Максим Горький». И вдруг он упал на один из домов в конце улицы Левитана, противоположном тому, где я жил. Я с ребятишками кинулся к месту катастрофы. Мы прибежали туда, когда еще не осела пыль. Ничего, кроме груды исковерканного дерева, металла. Загудели машины скорой помощи, примчались пожарные, прибежали красноармейцы и милиция. Место катастрофы оцепили. (Это случилось в 1934 или 1935 г.) Я видел, как пошел по Ленинградскому шоссе первый троллейбус, и покатался на нем. Потом открыли метро… Все это воспоминания разных лет, хронологию легко установить. Мне просто не хочется этого делать. Не важно, когда произошли эти события. Просто я о них помню.
В 1930 г. мне исполнилось восемь лет. 1 сентября я пошел в школу. Вместе со мной начали учиться Юрка Зыков, Петька Закалинский, Вася Моргунов. Игорь Петров пошел в школу двумя годами позже. Помню большой школьный двор. Два здания Первой Ударной школы во Всехсвятском: одно старое в один этаж. Другое новое четырехэтажное. Оказалось, что первоклассники остаются в «старой школе». «Новая школа» – с мастерскими и столовыми была только что построена. Мы с отцом нередко смотрели, как поднимается из лесов большое здание. Я думал: «Буду учиться здесь». Оказалось, что оно предназначено для старшеклассников. Это разочаровывало.
В школу меня готовили так: сшили рубашку и штаны. Мать была искусной корсетницей. Получив изготовленные ею вещи, даже я убедился в отличии портнихи от корсетницы: мои рубашки и штаны можно было бы спокойно перепутать. Кажется, я путал. Отец купил мне пенал и отремонтировал тот клетчатый ранец, который мне послужил еще в Гжатске, когда я побежал в детский сад с большими надеждами и откуда я столь же стремительно вернулся с утраченными иллюзиями. Объясняется это не столько недостатком средств, сколько отсутствием в магазинах школьных принадлежностей. В 1930 г. не хватало учебников, трудно было с тетрадями, с одеждой. Потому-то и приходилось изобретать и ремонтировать старье. Мою гордость составляла буденновка, подаренная Борисом. Конечно, она была мне здорово велика, но ничего, носилась, выглядел я по-боевому. В общем-то вид у меня был не хуже, чем у других. Нас построили в линейки и отвели по классам. Сели за парты. Здесь выяснилось, что я один из немногих, умеющих читать и писать.
На первых порах я учился плохо. Просто нечего было делать. Букварь был для меня пройденным этапом, а рассказы в книжке для чтения совсем не увлекали. Учительница Лидия Павловна, жившая недалеко от нас, была, наверное, очень милой женщиной, но учить не умела. Писал я безобразно плохо, не умел решать задачи. Дело в том, что я не понимал ни значения, ни необходимости учебы. Ни мать, ни отец почему-то не интересовались моими занятиями. Считалось, что я способный ребенок, а все остальное приложится. Не приложилось. Я учился плохо, а однажды на уроке запел русскую народную песню: «Развеселый парень бравый на завалинке сидел». Случилось так, что Лидия Павловна встретила случайно отца и удивила его моими не слишком блестящими успехами в науках. Отец вернулся домой с работы. Он не стал меня ругать, он перестал со мной разговаривать. Я был совершенно убит. Я опять заплакал от горя. Отец простил меня, и я исправился. На удивление всем, я стал учиться прилично, достигнув особых успехов в гуманитарных науках. Между тем, с точки зрения школьного педолога[2], мне надлежало быть законченным идиотом. Этот вывод явно вытекал из проведенного надо мной эксперимента. Наша соседка Клавдия Филипповна Зыкова – детский врач, ставившая эксперимент, потряслась до глубины души. Она наблюдала меня каждый день дома и где угодно и не замечала никаких отклонений от нормы, а между тем мне надлежало быть идиотом: на листке бумаги с изображениями кружков и крестиков мне надлежало проколоть иголкой кружки: в этом случае я доказал бы свое право считаться нормальным. Я же проколол, по легкомыслию, кружки, крестики и палец. Наука зашла со мной в тупик. Кто-то из нас был дефективным – наука или я. Сначала не повезло мне, потом науке.
В 1932 г. мне исполнилось десять лет. Дни моего рождения обычно отмечались торжественно. Мне делали подарки, приглашали гостей. Десятилетие праздновали особенно. Отец сказал: «Лёша прожил десятую часть жизни». Открыли маленькую шкатулку, которую Кирюшка именовал громким словом «сейфус». В ней хранились семейные реликвии: какие-то золотые и серебряные вещички. Их имелось меньше, чем у скупого рыцаря, и мы чувствовали себя спокойно. (Правда, я некоторое время копил серебряные полтинники и собрал их рублей на двадцать. Когда стало известно, что даже А. С. Пушкина вызывали в ОГПУ, мать, в моем сопровождении, отнесла эти полтинники в сберегательную кассу и положила на книжку. Помню, там сказали: «Ценные вещички принесли, и своевременно».) Так вот, отец еще раз пересмотрел семейный золотой запас и кое-что отобрал. Мы отправились в торгсин (так назывались магазины, где можно было купить все, что угодно, за золото, серебро или иностранную валюту. Торгсин – значит торговля с иностранцами). В торгсине отец сделал покупки: приобрел даже сильную электрическую лампочку. Торжество требовало соответствующего освещения. Петровы отвели для праздника большую комнату. Мать жарила голубей, намереваясь выдать их за рябчиков. Отец приставил к стене столик и устроил на нем выставку подарков. Вечером собрались гости: мои приятели, вся наша семья, Петровы, Сергей Александрович. Долго и хорошо веселились.
Я не пишу историю. Я вспоминаю. Однако то, что я наблюдал в детстве, сумел осмыслить гораздо позднее. Поэтому я намерен излагать осмысленные воспоминания. Это не значит, что я буду преувеличивать. По-моему, смешно длинный ряд преступлений, совершенных с высоты государственной власти, и ловко именуемых «культом личности», объяснять дурным характером Сталина, помноженным на невиданные успехи социалистического строительства. Ничего не объясняет и тот факт, что органы государственной безопасности оказались в руках политических проходимцев. И Ягода, и Ежов, и Берия, при всей их беспринципности и свирепости, не более, чем палачи. Дело в другом. Многовековая история деспотизма свидетельствует: кровавые правители возникали и держались там, где они были нужны достаточно узким группировкам людей, боровшимся за власть. Это не общественные классы в их марксистском понимании. Это себялюбивые, эгоистичные политические малины. В Римской империи не существовало общественного класса, нуждавшегося в полубезумце Калигуле. Точно так же во Франции не было класса, которому бы нравился Карл IX, учинивший Варфоломейскую ночь. Таких пустяковых примеров можно привести множество. Сильная власть не равнозначна беззаконию и политическому произволу. Произвол – требуется кликам, они его и создают. Римский поэт первого века империи Марциалл сказал хорошо:
- «И царей и владык иметь обязан,
- Кто собой не владеет и кто жаждет,
- Чего жаждут цари или владыки.
- Коль раба тебе, Ол, совсем не нужно,
- И царя тебе, Ол, совсем не нужно».
Впрочем, к этому я вернусь позже, а сейчас – факты.
Массовые аресты среди интеллигенции начались в самом начале 30-х гг. вне всякой связи с убийством С. М. Кирова. Ушло в прошлое, упоминавшееся мной, слово лишенец, зато вошло в быт – вредитель, а позднее – враг народа. Выяснилось, что враги народа гнездятся чуть ли не в каждом особнячке поселка Сокол. Ежедневно арестовывали новых и новых людей. Отец недоумевал: «На что надеются?» Речь шла о тех, кто обвинялся во вредительстве и враждебной деятельности, отец не сомневался в обоснованности действий органов безопасности. Стали арестовывать знакомых, потом аресты прокатились по учреждению, где работал отец. Взяли нашего ближайшего знакомого, сослуживца отца Василия Ильича Кудрявцева. К нам в дом незаметно вползла тревога. Если отец задерживался на работе, из угла в угол начинала ходить мать, я не находил себе места. И то, что казалось абсолютно безумным, и вместе с тем с ужасом ожидалось – свершилось. Вечером 14 февраля 1934 г. я, как обычно, лежал в постели, готовясь уснуть. Спали мы вместе с отцом. Он задерживался. Пришли от соседей Зыковых и позвали мать к телефону. Она вернулась и зашла к Петровым. Собственно, мне стало все ясно и, когда она вошла в комнату и заломила руки, я вцепился зубами в подушку, а потом закричал. С того момента и до сегодня я испытываю ноющую боль в сердце. Отца арестовали. Несколькими месяцами позднее я узнал, как это произошло. Все оказалось необычайно простым. Отца пригласили в кабинет нового главы учреждения, где он работал (старый уже сидел в тюрьме). Здесь ему очень корректно сообщили, что он арестован. С двумя мужчинами в штатском отец спустился к подъезду. Здесь ждал отличный легковой автомобиль, который и отвез отца к наводившему ужас зданию на Лубянской площади – ОГПУ. Отца спросили, какие у него есть пожелания. Нашлось только одно: сообщить домой о случившемся. Эту просьбу исполнили. Так я остался без отца и сразу стал взрослым.
Никаких средств к жизни у нас не было. Мать пошла на работу: устроилась портнихой, а потом приемщицей заказов в ателье, где шили корсеты и бюстгальтеры. Пригодилась приобретенная в детстве и, к счастью, не совсем забытая специальность. Я продолжал ходить в школу, в четвертый класс. Через несколько дней Петька Закалинский спросил меня: «Правда, что твоего отца арестовали?» «Нет, – ответил я. – Он уехал в командировку». Я врал, а зря. Скоро скрывать случившееся стало невозможно, да и не нужно. В классе, в школе я не составлял исключения, скорее подпал под правило. Кто передаст тоску, изъедавшую мне душу? Не было дня, часа, минут, чтобы я не вспоминал отца или не думал о нем. Не было игры, развлечения, подарка, которые могли бы меня хоть немного утешить. Продолжались литературные вечера у Петровых, мать водила меня в кино, Николай Константинович устраивал экскурсии в зоопарк, в Третьяковскую галерею. Я оставался безутешным.
Через месяц, т. е. в середине марта, следствие по «делу» отца закончилось, и он был осужден на десять лет по обвинению во вредительстве. Нам разрешили свидание с ним в Бутырской тюрьме. Мать собрала два узла вещей, и мы двинулись в путь. С нами пошла Зинаида Антоновна. Никогда не забуду этого самоотверженного поступка ее. Идти в Бутырскую тюрьму с женой врага народа было более, чем не безопасно… Бутырская тюрьма снаружи напоминала крепость. Мы прошли сквозь низкие ворота и с толпой людей двинулись по дворам. Зашли в какое-то полутемное, набитое людьми помещение. Здесь Зинаида Антоновна осталась, а мы с матерью тронулись дальше, нагруженные двумя тюками. Мы вошли с толпой в длинный коридор, вдоль которого тянулся барьер выше моего роста. Над ним и до потолка – решетка. И здесь в шуме и гаме, за решеткой, как зверя, я увидел отца. Подойти к нему было невозможно. Между барьерами ходил часовой. Стоял невероятный шум. Все что-то говорили, ничего нельзя было разобрать. Над нашими узлами с вещами возился какой-то красноармеец: проверял. Я увидел отца и даже не заплакал, я зарыдал. Я не мог вздохнуть, не мог сказать слова. Я плакал так, как не плакал никогда – ни до, ни после. Меня охватило какое-то невероятное отчаяние. Слезы лились ручьем. В жизни мне выпадали страдания. Я видел смерть совсем рядом с собой. Но нигде, никогда я не испытывал такой муки, как в день, когда прощался с отцом в Бутырской тюрьме мартовским днем 1934 года. Часовой шел вдоль барьера, чем-то стучал по верхней доске барьера и громко кричал: «Свидание окончено». Его не было, свидания. Это был крик, коллективная истерика, всеобщее отчаяние, ни с чем не сравнимое издевательство над людьми, которых устроители подобного свидания не могли почитать даже скотом. Отец закрыл лицо руками и ушел. Мы с матерью выбрались из этого ада, вернулись в сводчатое помещение, где новая толпа ждала такого же свидания. И здесь я увидел затянутую в шинель, высокую фигуру Бориса. Он пришел проститься с отцом. Мать отговаривала его, просила не ходить на эту роковую встречу. Борис, кажется, никого не видел. Он смотрел поверх голов, отстранил рукой плачущую мать и куда-то шагнул. Мать и я вернулись домой. Дома я не плакал. У меня ныло сердце.
С Борисом произошло следующее. В комендатуре тюрьмы он предъявил документы, свидетельствовавшие о его службе в управлении пограничных войск. К отцу его пропустили без всяких затруднений. Они встретились в отдельной комнате и беседовали час. Именно здесь отец сказал Борису о своей полной невиновности. Разумеется, Борису других свидетельств не требовалось. О визите Бориса в Бутырки немедленно сообщили по начальству. Он был тут же вызван к Фриновскому (оный Фриновский бывал у нас неоднократно с Кручинкиными), который кричал: «Разве вы чекист? Если бы вы были чекистом, вы бы здесь, в этом дворе, расстреляли отца!» Борис ответил: «Расстреливают виноватых!» Судьба Бориса решилась немедленно. Можно удивляться мягкости, с которой с ним обошлись. Видимо, здесь сыграл решающую роль Николай Кручинкин, да и 1934 год это еще не 1938! Так или иначе, Бориса перевели из пограничных войск преподавателем в какой-то военный учебный центр, а в 1939 или 1940 г. уволили в запас и назначили заведующим кафедрой военной подготовки в одном из московских институтов. В партии он был оставлен.
Кирюшка учился в Ленинграде на выпускном курсе сельскохозяйственного института. К этому времени и он уже был членом партии. Понятно, что он сообщил в парторганизацию об осуждении отца. Как тогда было принято, созвали партийное собрание и потребовали, чтобы Кирюшка публично отрекся от отца-вредителя. Многих в то время заставляли это делать, многие делали. Кирюшка заявил, что не верит в то, что отец вредитель. Кирюшку исключили из партии и выгнали из института. Он устроился на работу в городе Калинине в какой-то льноводческой организации. Этим делом он и занимался до начала войны.
В школе я большой активностью не отличался. Меня не увлекали ни дела октябрят, ни пионерские сборы. После случившегося с отцом я и вовсе замкнулся. Приходил в шкоду, отсиживал часы, уходил. Учиться стал плохо. Но меня изругал Николай Константинович Петров, я подтянулся, и моя лысая голова снова появилась на стенде среди передовиков. Так кончилось детство. Нас засыпал обвал. Какие речи, какие решения, какие реабилитации заставят человека смириться с тем, что было пережито в двенадцать лет мной. А ведь подобные мне исчисляются… Цифры не знаю. Но очень велика эта цифра… Астрономическая. Иван Григорьевич[3], наверное, усомнится. Ничего: он доживет до того времени, когда цифру назовут. Ну, а если бы я был только один, что это меняет?
По окружной железной дороге, в сотне метров от дома на улице Левитана, где мы жили, каждый день гнали эшелоны с заключенными. Товарные вагоны с зарешеченными оконцами, с часовыми на площадках. Я каждый день бегал к железной дороге и провожал эти проклятые богом поезда. Я не верил, что в них везут преступников. Знал: в каком-то из таких же составов качается на нарах мой отец. Перед глазами вставали страшные детали нашей последней встречи. А тем временем на экранах бузили «Веселые ребята», кривлялись «Свинарка и пастух» и прочая сверхоптимистическая пошлость. От отца пришло с дороги полное безысходной тоски письмо. Оно не прошло цензуры: отец выбросил его на каком-то разъезде перед стрелочником. Тот и опустил его в почтовый вагон. Так поступали многие заключенные.
Летом 1934 г., когда кончились мои занятия в школе, мать еще раз открыла «сейфус» и вытряхнула из него все вещицы, кроме моего крестика, этого оказалось однако мало, и она сняла тоненькую серебряную оправу с иконки, висевшей в углу. Богородица с младенцем на руках осталась без драгоценного убора. Все это мать отнесла в торгсин и купила кое-какие продукты. Мы пустились в далекое путешествие в сибирский город Мариинск, куда был сослан отец. Езды до него было четыре дня скорым поездом. За Мариинском есть деревня Баим на берегу неширокой золотоносной река Кия. Вот там, в лагере находился отец. Его назначили на какую-то ответственную должность на заводе, обрабатывавшем то ли лен, то ли еще что-то. Как я теперь догадываюсь, значительная часть пассажиров (главным образом женщины) ехала по транссибирской магистрали с той же целью, что и мы… У нас оказалось немало попутчиков.
Поезд бежал по роскошным просторам российской земли. Я не отрывался от окна, глядя на бескрайние поля, дремучие леса, покрытые соснами уральские горы. Миновали Волгу, Иртыш, Обь, постояли на глухой станции Тайга. Я не стану описывать маленького городишки Мариинска. Ничего достопримечательного я тогда там не заметил. Расскажу о запомнившемся. Нас встретил отец, в распоряжении которого оказалась лошадь с телегой. Отношение к политическим заключенным в то время было достаточно либеральным. Многие встречали на станции прибывшую родню. Мать направилась в местное ОГПУ и заявила о своем приезде. Так требовалось, хотя в управлении никак на наш приезд не прореагировали. В Баиме мы поселились, как и многие другие, в крестьянской семье, для многих жителей большой деревни Баим сдача жилья семьям ссыльных являлась статьей дополнительных доходов.
Встреча с отцом была печально радостной. Он выглядел хорошо, чувствовал себя совершенно здоровым. Оказалось, что он не только работает на заводе, но и преподает в мариинском сельскохозяйственном техникуме. Между прочим, там же вел занятия еще один враг народа, заключенный профессор. Педагогический персонал техникума был, как видно, укомплектован недурно и за бесплатно. Профессор показал мне превосходную коллекцию насекомых.
В первый же день приезда я отправился с отцом в лагерь. Это был обычный поселок, состоявший из длинных бараков, с двухъярусными койками, как в поезде. Кое-где часовые охраняли группы уголовников. Отец показал мне территорию, познакомил со многими людьми, среди которых был какой-то писатель (фамилию не знаю), самый настоящий немец (подданный Германии), обвинявшийся в шпионаже, красивая женщина средних лет, распоряжавшаяся, по совместительству, библиотекой. Между ней и отцом произошел, запомнившийся мне, разговор: «Вот мой сын. Он хотел бы получить у вас книгу. Когда вы освободитесь?» Женщина улыбнулась: «Через десять лет, Леонид Владимирович». Несколько слов о немце: он находился на особом положении в лагере, как иностранец. Жил в отдельной комнате (отец делил жилье еще с двумя политическими заключенными), получал посылки и т. д. Мне он сразу же предложил конфет, просветлел, когда мы с ним поговорили по-немецки. Я познакомился с директором предприятия инженером лет пятидесяти с лишним, с уполномоченным от ОГПУ человеком с усталыми глазами и добродушным лицом. Он объявил мне, что я могу приходить в лагерь в любое время и ему об этом не докладывать. Отец получил разрешение ночевать в Баиме. Как видим, в 1934 г. лагерный режим для политических заключенных был не строгим. Нужно было работать. Такое же требование предъявлялось и к уголовникам. Кормили по труду, хотя минимум питания существовал для тех, кто не хотел работать. А такие были. Я видел каких-то старообрядцев, которые не работали, а проводили целые дни на нарах в молитвах. При мне с отцом ругался уголовник: почему, – кричал он, – мне дали опять и хлеба мало и еду плохую? Оказалось, что он, в порядке исключения, как-то поработал, но к выполнению нормы даже не приблизился (нормы были выполнимыми). Сам факт труда умилил его, и он надеялся на полноценное вознаграждение. В магазине при лагере продавали продукты и курево, если, конечно, у покупателя были деньги. Между прочим, заключенным шла заработная плата, но на руки она не выдавалась. Ее перечисляли на текущий счет. На руках разрешалось иметь какой-то минимум денег.
В день приезда отец пришел ночевать домой, за столом их собралось несколько заключенных с женами. Сели закусить и выпить. Именно в этот момент отец, как в былые времена, поднял стопку и провозгласил: «Хох, император!» Мать была рассержена и напугана: узнай кто-нибудь об этом тосте – быть бы беде. Могли бы обвинить отца в сохранении верности свергнутому Николаю Второму.
Заключенные получали выходные дни. В один из них отец и я отправились погулять по окрестностям Баима. Меня поразили яркие сибирские цветы. Теперь о них написал хорошие стихи Роберт Рождественский, а я-то их видел при обстоятельствах, не настраивавших на поэтический лад. У реки Кия старатели мыли золото. Все делалось вручную, кустарным способом. Добытые граммы сдавали на приемный пункт и получали за них немалое вознаграждение. Мне показали раму, застеленную куском черного бархата или гладкого сукна – не помню. На нем чудесно поблескивали мельчайшие золотые крупинки.
С отцом был громадной важности разговор. Отец вел речь без скидок на возраст. Мы были равными собеседниками. Это вообще было в манере отца. В тот момент такие отношения оказались особенно уместными. Я спросил, за что он осужден. И отец ответил: «Ни за что». Он с уверенностью добавил, что в лагере нет политических заключенных, которые действительно в чем-либо виноваты. Я безусловно верил и верю каждому слову отца. Однако если в те времена кто-нибудь мог бы усомниться в подобном утверждении, теперь это может сделать только круглый идиот. Н. С. Хрущев и последующие реабилитации полностью подтверждают бесспорность утверждения моего отца. Во время следствия отец проявил непростительную слабость: он подписал предъявленные ему обвинения. Как это могло случиться? Отца не били и физически не пытали. Но было устроено зверское моральное давление. Следователь Ратнер корректно и настойчиво повторял: «Леонид Владимирович, к чему запирательства. Ваши сослуживцы и сообщники прямо подтверждают вашу вину, ваше участие во вредительстве и контрреволюционной агитации». Отец потребовал очной ставки. Ему ее устроили. Перед ним предстали сослуживцы, достаточно хорошо знакомые люди. Потрясающе изменившиеся, они покорно и односложно, словами «да», «нет» отвечали на провокационные вопросы следователя. Отец был потрясен, но не сломился. Но вот однажды Ратнер небрежно заметил: «Ваша жена тоже дала обличающие вас показания». С этими словами он протянул протокол допроса, подписанный рукой матери. Вот это отца сломило. Он подумал: «Мать в тюрьме, Лёша один или в детдоме». Что было сделано с ней, если она подписала безумный документ? Отец сдался. Между тем, мать не арестовывалась и ничего не подписывала. Отца отправили в камеру, и он перестал кого-либо интересовать. Прекратилось и вежливое обращение, заключенный Кац перестал быть человеком. Через несколько дней объявили приговор: расстрел, замененный десятью годами заключения. Вот что я узнал от отца на берегу золотоносной реки Кия у деревни Баим.
Итак, я стал взрослым, глубоко несчастным человеком. И вместе с тем мне было 12 лет и от этого тоже идти было некуда. Вот почему я сдружился с баимскими мальчишками, купался с ними в какой-то луже, в праздник Ивана Купала лил воду на всех, кто зазевается, играл в новую для меня игру «бабки», гонял коней на водопой, сидя без седла на не слишком горячей лошади.
Летом следующего года мы с матерью вновь отправились к отцу. Однако к этому времени все резко переменилось. В декабре 1934 г. был убит С. М. Киров. Это немедленно сказалось на лагерном режиме. Наш приезд в Мариинск был зафиксирован, и мать предупредили, что мы можем прожить в Баиме две недели. Встречаться с отцом разрешалось только в пределах лагеря. Меня, правда, пускали туда беспрепятственно, мать – с трудом. Один раз отца отпустили в деревню. Он пробыл у нас день, и именно в это время я сделал несколько фотографий своим примитивным детским аппаратом. Один снимок сделала мать. Именно он и удался. Я снят с отцом на фоне плетня. Этот снимок сохранился. Наташенька, посмотри на меня и знай: в тот момент я был одним из самых больших страдальцев на земле. Мы пробыли у отца десять дней и уехали. Он проводил нас. Помню: поезд тронулся. Я смотрел в окно и не плакал. На душе была непередаваемая боль. Видел: отец надел фуражку и закрыл лицо руками. Таким я увидел его в последний раз в жизни.
О дальнейшей судьбе моего отца я узнал от его сослуживца и товарища по несчастью Василия Ильича Кудрявцева, находившегося вместе с отцом в лагере. В 1957 г., т. е. через двадцать три года, Василий Ильич, обвинявшийся в терроризме и шпионаже, был реабилитирован. Мы с ним встретились в Москве, как старые друзья. Он стал седовласым старцем, мне было 35 лет. Встретились, как люди равно много пережившие. Походили по театрам. На него произвела сильное впечатление пьеса Гауптмана «Перед заходом солнца» с участием Астангова. Кудрявцев рассказал мне об отце. В баимском лагере в 1938 году «раскрыли» заговор. Заговорщиками оказались мой отец, Кудрявцев и многие политические заключенные. Абсурдность обвинения никого не смущала. Состоялась какая-то более чем постыдная комедия суда. «Заговорщики» получили еще по десять лет и были переправлены в лагерь со строгим режимом. Здесь плохо кормили и заставляли рыть землю. Общение с семьями запрещалось. Потому-то мы и перестали получать от отца письма. Не могло быть и речи о каких-либо посылках ему. Мы даже не знали его адреса. Конечно, мать обращалась с различными запросами. Но они оставались без ответа. Отцу было 64 года, а он ворочал известь. Железный организм и высокая интеллектуальность помогли отцу сохранить и здоровье, и обычное спокойствие. Однажды утром группу заключенных, среди которых был и отец, построили в колонну и увели. Колонна случайно проходила мимо барака, где ютился Кудрявцев. Отец крикнул ему: «Василий Ильич, нас уводят». Колонна в лагерь не вернулась. Так был убит мой отец. Не знаю, где покоится прах его.
Вернувшись в Москву, Василий Ильич Кудрявцев отправился в соответствующее учреждение и получил там бумагу следующего содержания: «Дело по обвинению Каца Леонида Владимировича, 1874 года рождения, до ареста в феврале 1934 года работавшего инспектором-технологом «Мособлльнотрактора», пересмотрено Военным трибуналом Московского военного округа 16 августа 1958 года. Постановление коллегии ОГПУ от 3 марта 1934 года в отношении Каца Л. В. отменено и дело о нем прекращено за отсутствием состава преступления». Документ выдан 6 октября 1956 г. Моя старая мать, на основании этого документа, получила пожизненную пенсию в размере 27 рублей (в новых деньгах) в месяц. Такой оказалась плата за голову инструктора-технолога Каца Леонида Владимировича. К счастью, доцент и декан исторического факультета КГЗПИ и УИ, а затем проректор ОГПИ Кац Алексей Леонидович получал высокую зарплату и обеспечивал матери достойное существование до конца ее дней. Мать умерла 5 ноября 1966 г.
Конец 30-х гг. ознаменовался известными всем политическими процессами. Их липовость уже сейчас совершенно очевидна. Многих ввели в заблуждение открытый ход судебных разбирательств, стенограммы и прочая мишура. И никто не посмеялся над этой открытостью. Умнейший человек Леон Фейхтвангер, присутствовавший на одном из процессов, оставил свои впечатления в книжонке «Москва 1938 года». Его умилили элегантная внешность заключенных, восседавших на скамьях подсудимых, в безупречных костюмах, и легко льющаяся речь Карла Радека, изящно помешивавшего ложечкой чай с лимоном и осыпавшего себя признаниями в твердом намерении ликвидировать Советскую власть. Фейхтвангер пытается найти психологическое объяснение превращению трибунов революции в ее смертельных врагов, причинам их «чистосердечных» саморазоблачений на судебном процессе. Разумеется, Фейхтвангеру не пришло в голову сравнить их с Жанной Д’Арк, признавший себя ведьмой. Кроме того, «Гойю» Фейхтвангер написал в 1950 году. Может быть, только к этому времени он постиг возможности инквизиции. Не знал он, что произойдут XX и XXII Съезды Партии, не предполагал, что все те мелочи, которые коробили известного писателя, получат мистическое определение – «культ личности», а портреты и скульптурные изображения Сталина уберут не только от подступов к картинам Рембрандта.
В 1938 г. вышел Краткий курс истории ВКП(б). Около книжного магазина во Всехсвятском я встретил своего учителя математики милого бородатого мужчину. Держа в руках «Краткий курс», он спросил меня, читал ли я эту книгу. Я по наивности заметил: «А зачем она мне?» Старик взглянул на меня ошалелыми глазами, задохнулся от ужаса и умчался, размахивая книгой. Я купил это «Евангелие» и тогда же впервые прочитал его. В первом выпуске упоминались заслуги наркома внутренних дел Ежова в разоблачении врагов народа. Я вспомнил плакат: Ежов в буденновке держит руку в щетинистой рукавице над бровями, как Илья Муромец с картины Васнецова. Подпись: ежовые рукавицы. В следующем выпуске «Краткого курса» фамилия Ежова не упоминалась, но сохранилась фраза о том, что советские люди, устранив врагов народа, перешли к очередным делам. Как теперь становится ясно, к числу очередных дел следует отнести и такое: Ежова сняли с высокого поста и расстреляли. Думаю, что это дело следовало бы осуществить вне очереди, потому что Ежов, к сожалению, многое успел в качестве подручного и заплечных дел мастера.
Семья Николая Кручинкина и после ареста отца сохранила с нами добрые отношения. Мы бывали у них, а сестра Николая – Леля – давала матери долларовые бумажки, которые охотно принимали в торгсине. Доллары же у нее были потому, что она была женой некоего Очаговского – военного атташе в какой-то стране. В 1938 г. Леонард или Надька подрос, у него появилась сестра, которая уже начала ходить. Однажды мы узнали, что Николая Кручинкина перевели на какую-то большую должность в Киеве, и он отбыл на новое место. Кирюшка сказал: «С Николаем все. Посадят». Вскоре мать и я поехали на дачу к Кручинкиным. Дом оказался пустым, ставни забитыми. Узнали, что Николай и его жена Клавдия Александровна арестованы, Надька и его сестра подобраны родственниками. В тюрьме оказались Очаговский и многие другие наши знакомые из военных. О том, что произошло дальше, я узнал от Клавдии Александровны Кручинкиной, отбывшей в лагере много лет и почему-то освобожденной где-то вскоре после войны. Усталая старая женщина (а ей было не боле 45–46 лет) полулежала на кровати и рассказывала мне печальную повесть.
Николай ехал в Киев с большими надеждами. В купе мягкого вагона его сопровождал сам Ежов. Мирно разговаривали. На одной из станций Ежов вышел, а Николая арестовали и вскоре он был расстрелян. Клавдии Александровне не предъявили никакого обвинения, кроме того, что она была женой расстрелянного Николая Кручинкина. За это она получила 10 лет лагеря. Их она и отбыла. Дети выросли. Конечно, они очень жалели Клавдию Александровну, но матерью считали ту ее сестру, которая их вырастила. Расстрелян был и Очаговский и еще много людей. Здесь безотказно действовал принцип, провозглашенный еще в первые десятилетия Римской империи: за измену императору несли кару не только виновные, но и все люди, как-то соприкасавшиеся с обвиненными в измене. Понятно, что и в Риме, и еще больше у нас понятие «измена» толковалось совершенно произвольно. Доказательств не требовалось: достаточно было обвинения. Я по глупости спросил Клавдию Александровну: «Неужели никто, ни в чем не был виноват?» Она ответила: «Как твой отец». Я замолчал. Она была права. Мой вопрос был нелепым. Она с ненавистью говорила о Сталине, Молотове, Ворошилове, которые, руками Ежова, расправились с мнимыми политическими противниками, людьми, подлинно знавшими вполне ординарную роль «вождей» в делах революции.
Ликвидируя множество людей из числа интеллигенции и военных, высокопоставленных, талантливых и вполне рядовых, Сталин создавал ту политическую атмосферу, которая одних заставляла молчать, других ошеломляла и лишала возможности трезво мыслить, оценивать события, судить о политике. Система массовых репрессий явилась безусловно важнейшим фактором, укрепившим единовластие Сталина. На земле, удобренной людскими костями, было выращено оболваненное поколение, нередко искренне считавшее гением обыкновенного деспота. Он нужен был клике, как Сулла легионам. Клика нужна была ему, как легионы Сулле. На терроре пышным цветом распустился деспотизм Сталина, вполне отвечавший примитивному, вымуштрованному мышлению большинства забитого некультурного народа. Умные люди (в той мере, в какой остались) в лучшем случае недоумевали и были подавлены страхом. Вышколенная бюрократия рукоплескала с бараньим энтузиазмом, потому что благоденствовала на дозволенном уровне, соответствовавшем невзыскательным привычкам и дурному вкусу. Масса не имела данных для сравнения и потому тоже не жалела ладоней, когда узнавала из газет, что «жить стало лучше, жить стало веселее». Успехи так называемого социалистического строительства никакого отношения к возникновению и процветанию сталинского деспотизма не имеют. Террор создал культ, официальную идеологию, которая вколачивалась в головы всеми дозволенными, а по большей части, недозволенными средствами. Это более, чем тривиальный, политический прием. На протяжении всей истории наиболее ничтожные режимы провозглашали и провозглашают свои особые успехи и заслуги перед человечеством. Не соглашавшихся с подобными толкованиями событий легко устраняли. Остававшиеся в живых рукоплескали.
Еще в 1936 г. в поселке Сокол была выстроена отличная средняя школа, получившая № 149. В нее я и перешел со своими приятелями Юркой Зыковым, Петькой Закалинским, Васей Моргуновым. Наступила новая пора жизни. Петровы поменяли свою квартиру на две большие комнаты в центре Москвы. Николай Константинович объяснил эту акцию так: «Игорь перерос поселок!» Сам переросток, ходивший в это время, кажется, в четвертый класс, важно объяснял: «Будем жить в Камергерском переулке». Мать и я оставались без жилья. Кооператив в Соколе к этому времени был распущен. Нам вернули наш взнос (3000 рублей). Положение казалась безвыходным. Правда, Борис к этому времени имел приличную комнату в Сокольниках. Но он жил со своей второй женой Лелей и ее сынишкой Юрой, который был младше меня на два года. Ожидалось и пополнение. Чуть позже родилась Таничка. Короче говоря, о переезде к Борису думать было нечего. На помощь пришли люди, жившие в соседнем доме (Левитана 22). Там была захламленная терраса. Именно ее и предложили нам. Домоуправление кое-как превратило террасу в жилую комнату, и мы с матерью переехали на новое место. Двенадцать метров жилья. Здесь я прожил, с перерывом на время войны, до декабря 1953 г. Спал вместе с матерью до 19 лет, т. е. до ухода в армию, на войну. В комнату, конечно, можно было впихнуть раскладушку, но она становилась вплотную к царь-кровати, так что дело практически не менялось. К тому же с раскладушкой требовалось возиться – вносить, выносить и т. д.
Между тем в Камергерский переулок пришла общая беда. Арестовали Николая Константиновича. Никто, разумеется, не мог себе представить, в чем он обвиняется. Патриархальные времена 1934 г. давно миновали. Семья врага народа должна была ликовать и радоваться разоблачению опасного преступника и никаких вопросов не задавать. Правда, Зинаида Антоновна предполагала, что Николаю Константиновичу вспомнили какое-то отношение в отдаленном прошлом к эсерам. Николай Константинович, проведя около двадцати лет в лагерях, был реабилитирован и трясущимся стариком вернулся в Москву. Навестил мою мать. Я, к сожалению, с ним не встретился. Квартира в Камергерском переулке к этому времени принадлежала другим, а нового адреса я не знал.
Мать работала в ателье по пошивке корсетов и бюстгальтеров. Она ходила в передовиках, считалась стахановкой. Почему-то во главе столь женского предприятия стоял мужчина, который в своих многочисленных выступлениях перед коллективом ателье требовал увеличения выпуска корсетов и лифчиков «в связи с запрещением абортов». Закон о запрещении абортов произвел на него, как мне кажется, ошеломляющее впечатление. Он считал его вершиной юридической мысли. Как-то я был на банкете, устроенном в ателье, по какому-то поводу. Мать очень хотела, чтобы я продекламировал перед собравшимися стихи. Не удалось. Пока люди были в состоянии что-то воспринимать, они слушали речь о запрещении абортов. После этой речи им было просто не под силу постигнуть трагизм «Василия Шибанова», составлявшего гвоздь моего репертуара, но неактуального, т. к. к запрещению абортов баллада А. К. Толстого никак не относилась.
Так вот мы жили с матерью. Жили безбедно, но беспокойно. Как-то соседи сообщили матери, что приходил человек в штатском, узнавал о ней, спрашивал, как мы живем, кто у нас бывает и т. д. Я поехал рассказать об этом Борису, жившему в то лето на даче под Москвой. Он нахмурился, ничего не сказал. Возвращаясь домой, я очень боялся не застать матери, думал, что ее арестовали. Оказалось – нет. Я лег спать, а мать так и просидела до утра, оперевшись локтями на подоконник открытого окна.
Материальных трудностей мы не испытывали: мать скоро приобрела широкую известность, как корсетница, к ней обращались даже московские артистки. Она зарабатывала достаточно, хотя и трудилась очень много. Посылали нам деньги и дядя Митя (до 1938 г., когда его арестовали) и дядя Саша (Александр Владимирович, работавший в Свердловске). Мне иногда на карманные расходы подкидывал Борис, Кирюшка регулярно посылал мне по 15 рублей в месяц (в старых деньгах, конечно).
Отношения с братьями складывались по-разному, с суровым Борисом, хотя он ко мне и относился хорошо, дружбы не было. Его жена Леля тоже относилась ко мне неплохо, но была просто жадноватой женщиной. С моим сводным племянником Юрой я, конечно, дружил. Один год я жил с семьей Бориса на даче в Малоярославце, но не прижился, чувствовал себя одиноко и уехал в Москву. Именно здесь были друзья и девочки. К этому я вернусь. Ведь мне исполнилось 16 лет. (В Малоярославце я быстро наладил контакты с местными старшеклассницами, возвращался со свиданий очень поздно. Леля, может быть, и не возражала бы, если бы я не таскал с собой Юру, обучая его тонкому искусству любви, в котором сам достаточно преуспел.)
С Кирюшкой меня связывала хорошая братская дружба. Он не только посылал мне карманные деньги, но покупал книги, научил их любить не только за содержание, но как самую прекрасную, достойную коллекционирования, вещь. С Кирюшкиной легкой руки я стал собирать книги. Когда выяснилось, что я кое-как достаю до педалей, Кирюшка подарил мне свой великолепней велосипед. Ездил я на опущенном до предела седле, вертя задом, как утка, шагающая по земле. Тем не менее, ездил. Со своим соседом Степаном Александровичам Байрашевским я прокатился до Воробьевых гор и обратно. Штаны из прочной материи, именуемой чертовой кожей, выдержали. В том-то и беда, что ехали не только штаны. Ехала моя кожа, а не чертова.
Кирюшка поощрял мои занятия фотографией, охотно снимался с моими товарищами. Сохранилась фотография: Кирюшка, Женька Вольф – мой закадычный друг – и я чокаемся на фоне бутылок. Кстати о выпивках. Мы (т. е. я и мои приятели старшеклассники) временами собирались, устраивали складчины и выпивали. Разумеется, это случалось не так уж часто. Я хочу сказать, что нас никто мелочно не регламентировал, а мы ничем не злоупотребляли, ни от чего не отказывались, никого не боялись. Я уже писал, что отец выпивал стопку водки перед обедом. На дне всегда оставался недопитый глоток. С детства, сколько я себя помню, этот глоток допивал я. Пил с удовольствием, но пьяницей не стал. Кирюшка вообще обращался со мной на равных. Я бывал у него в Калинине, в Рязани. В честь моих приездов устраивались празднества, в мы с ним выпивали. Потом я читал стихи. Кирюшка любил послушать мою декламацию. Бывая в семье Бориса на всякого рода праздниках, я тоже допускался к напиткам на общих основаниях. Мне кажется, что именно такое отношение к винно-водочной проблеме сделало меня на всю жизнь вполне компанейским человеком и белее, чем равнодушным, к выпивке. Она никогда не была для меня запретным плодом, и я не старался заполучить его.
Кирюшка учил меня сложной теории любви. Об этом следует сказать подробнее. Начиная с 6-го класса я хорошо учился, был активным участником литературного кружка, писал очень плохие стихи. Я не был незаметной фигурой в школьной массе. Поэтому я пользовался безусловным успехом у девчат. Абсолютному триумфу мешали некоторые факторы: я был мал ростом, стригся под машинку и, по милости матери, ходил в коротких штанах на помочах, в то время когда мои приятели щеголяли в длинных брюках. Вот почему Валька Савицкий, рослый, красивый парень, имел больший успех, чем я. Кажется, в 1937 г. Валька Савицкий с матерью и братом поехали на лето в Хорол на Украине. Там жили их родственники. Взяли меня с собой. Быстро пролетели два чудесных месяца. Мы с Валькой ходили на реку Хорол, заросшую камышами и лилиями, катались на лодке, ухаживали не без успеха за девчонками. Валька Савицкий был к тому же и футболистом. Его даже приняли в виде исключения, на один только день в хорольскую команду, т. к. к моменту ответственного матча с полтавской командой, какой-то игрок сгинул. На следующее утро местная газета писала, что один из хорольских футболистов – Пучицкер бил полтавских гостей по щиколоткам вместо того, чтобы бить по мячу. Свидетельствую, как очевидец, что газета совершенно правильно определила эту особенность игры Пучицкера – парня с носом, как у химеры с собора Парижской Богоматери. Итак, Валька Савицкий шел впереди меня в делах любви. Это факт. Но не стану роптать на судьбу: она и меня не оставляла своим покровительством. Мои шансы особенно возросли, когда я добился все-таки брюк клеш, достаточно широких, чтобы зачерпнуть Тихий океан. Итак, я любил. Любили и меня. Изменяли мне. Изменял и я. Страдал я. Страдали и из-за меня. Не стану перечислять имен. Моя любовь ничем не отличалась от любви Тома Сойера. Были некоторые особенности, определявшиеся разницей эпох. Но это не существенно.
Так вот: о женщинах, о том, как с ними следует обращаться, как к ним относиться я узнал от Кирюшки. Часто бродили мы с ним по милым московским бульварам, и он с большим тактом и знанием дела говорил о женщинах. Опыт у него был колоссальный. Но его рассказы не были хвастовством распутника. Кирюшка говорил о женщинах не только пылко, но и глубоко уважительно. Разумеется, мы не сомневались, что нет женщины, способной устоять перед любовью настоящего мужчины. Но такая уверенность не унижала женщину: мы говорили о том, что ее может склонить высокое чувство любви; неотъемлемые качества мужчины – благородная мужественность, ум, неназойливая умелая ласка. Детали уточнялись. Понятно, что к шестнадцати годам я был готов ко многому, и когда меня впервые приласкала женщина, я не растерялся, не ошалел. Я склонил перед ней голову в глубокой благодарности и отплатил ей высоким накалом чувства. Практика любви давалась легко. Спасибо ей, этой женщине. Но Кирюшке я обязан своей отличной теоретической подготовкой. С того времени начался мой, так и не завершившийся, поиск женской любви, которую я находил, умел ценить, и умер, не постаравшись остановить самого чудного мгновенья, потому что чудеса любви границ не знают и за каждым чудом обязательно следует новое.
Теперь о моих школьных делах. Не могу сказать, чтобы у меня были любимые предметы. Любимые учителя – да. От них и зависел уровень моей увлеченности. Вспоминаю историка со странной фамилией – Эскеджи Костак. Он был страшен непомерной требовательностью и глубоко уважаем за блеск преподавания. До сих пор помню его уроки о предреволюционной Франции XVIII в. Рассказ о Джоне Ло[4] вообще потряс меня. Я так хохотнул на уроке, что Эскеджи-Костак на мгновение прервался.
Учительница Анна Федоровна Сазонова, преподававшая русский язык и литературу, организовала литературный кружок. Его режиссером стал милейший человек отец Вальки Савицкого – Виктор Болеславович. Мы устраивали литературные вечера и инсценировали произведения некоторых писателей или разыгрывали отрывки из пьес. Дело это увлекало многих. Кружок был большим, хорошо известным не только в школе, но и в Москве. Мы даже выступили однажды по центральному радио с передачей, посвященной Пушкину. В кружке и школе я слыл артистом. Меня прославили роли: Савелич («Капитанская дочка»), Самозванец («Борис Годунов»), Вральман («Недоросль»), Хлестаков, Чацкий. Кроме того, я выступал с декламациями Пушкина, Лермонтова, А. К. Толстого. Это на официальных вечерах. Когда собирались компанией, слушали, как-то попадавшие к кому-нибудь из ребят, пластинки с записями Вертинского и Лещенко, а я декламировал Есенина, Блока, Ахматову, Гумилева, Мережковского. Валька Савицкий, под напором матери, играл на виолончели, Володька Плетнер читал собственные стихи. Я учился и жил в чрезвычайно творческой обстановке. Вспоминаю сейчас литературные вечера, устраивавшиеся Петровыми для Игоря и меня, кружок Анны Федоровны Сазоновой, сочинения, которыми руководил великолепный учитель литературы старик Пахаревский. Мне кажется, что в то время складывалась та привычка к творчеству, которую я пронес через всю жизнь, через все дела, за которые брался. Я всегда чувствовал себя созидающим. Дело не в том, насколько это чувство обоснованно. Хочу лишь подчеркнуть: меня приучили к нему, как Кирюшка приучил любить женщин.
Конец 30-х гг. Официальная жизнь лицемерна и жестока. В 1936 г., когда мне исполнилось 14 лет, меня не приняли в комсомол. На вопрос одного из комсомольских лидеров, как я отнесся к аресту отца, я ответил: «Горько плакал». Мой прием в комсомольцы отложили до лучших времен. Приняли через два года. Сталин по какому-то поводу изрек: «Сын за отца не отвечает». (Это было очередной ложью. Но при приеме в комсомол вопрос об отце снялся.) Я взрослел и все глубже ощущал гнусность официальной жизни, хотя постигнуть ее и не мог. Я непрерывно тосковал об отце, не забывал о нем ни на день, ни на час. И вместе с тем ходил на демонстрации в ноябре и мае, маршировал мимо Мавзолея, много раз видел Сталина, искренне орал «ура», аплодировал. И была другая жизнь. Милые страдания и восторги любви, грусть от стихов, цыганских песен, ариеток Вертинского, печальных танго Лещенко. На уроках литературы я был абсолютно равнодушен. Стандартные характеристики образов меня не увлекали. Я и сейчас считаю, что так примитивно литературу изучать нельзя. По-моему, писатель и не очень-то задумывается над образами. Он выражает себя. Именно это самовыражение заслуживает изучения. Дело не в том, какими были братья Карамазовы, как социальные типы. Важны их общечеловеческие качества. Кстати ими они и актуальны до сих пор. Здесь рождается проблематика для дискуссии и с автором, и с другими читателями. И другое – величие писателя кроется в умении заставить читателя перевоплотиться в героя. Дети играют в д’Артаньянов и капитанов Грантов, взрослые страдают с клоуном, взирая на мир его глазами или любят и ненавидят и колеблются вместе с Гамлетом. Как отнестись к герою, в чем критерии добра и зла – вот чему должна, казалось бы, учить литература.
Меня очень увлекали «Демон» Лермонтова и «Каин» Байрона, и непрограммные стихи непрограммных поэтов. Конечно, ничего не следует преувеличивать. Я запоем читал графа Сальяса, Конан Дойля, Стивенсона и т. д. Чаще я воплощался в их героев, а не в Люцифера или князя Андрея. Я зачитывался Шолом-Алейхемом: грустил над «Мальчиком Мотлом», «Блуждающими звездами» и печальной повестью «Стемпеню». Я очень любил театр. Мать не жалела на это денег, сама мне доставала билеты, никогда не ограничивала меня. Я отлично знал репертуары Художественного, Малого, Большого театров. И это увлечение не следует преувеличивать. Были и другие.
Начиная с восьмого класса, моим ближайшим товарищем стал Женя Вольф. Об этой дружбе я еще расскажу. Мы встречались ежедневно, дружили до самозабвения. Так вот, Женька Вольф организовал общество любителей бани. Мы собирались в воскресенье целой компанией и уходили в Сандуновские бани и оставались там часами: из парных мчались в бассейн, из бассейна направлялись в души, обливавшие со всех сторон.
Итак, я не был ни философом, ни пропойцей, ни гением, ни бездарностью. Я был парнем с приличными способностями, выросшим в очень интеллигентной, повторяю, творческой среде. Вместе с тем залезть в чужой сад, за яблоками – тоже входило в программу творчества. Рос я достаточно самостоятельно: мать была слишком занята, чтобы очень следить за мной. Поэтому я не был лишен изобретательности. Старое умение рисовать пошло впрок. Я вместе с Петькой Закалинским наладил серийное производство красочных вывесок: «Пиво. 0,5 литра – 1 рубль». Эти анонсы охотно приобретались продавцами ларьков, которые расплачивались либо натурой, либо какими-то деньгами. Так мы зарабатывали, потом ехали в город – Петька Закалинский, Юрка Зыков, я. Заходили в магазинчик на улице Горького, пили теплый, вкусный глинтвейн.
В 1939 г. я учился в девятом классе. Как-то зимой ребятам приказали явиться в военкомат: предстояло стать на военный учет. Настроены все были весело: еще бы, теперь-то мы наверняка взрослые. Я легко прошел с хорошими результатами все медицинские обследования. Удивляться не приходилось: я ничем особенно не болел и перенес только операцию аппендицита, которая никак не отразилась на здоровье. Казалось бы, все хорошо. Не тут-то было. Всем раздали довольно невинные листки с вопросами, кто и чем занимался до 1917 г., служил ли в белой армии, имел ли колебания в линии партии, состоял ли в оппозициях. Какой-то военный, объяснивший, как заполнять листки, строго заметил: «Если кто-нибудь имеет арестованных родственников, указать обязательно!» И я указал, что мой отец в 1934 г. приговорен к десяти годам ссылки. Понятно, я не мог предвидеть последствий этой откровенности. Помнилась сталинская реплика: «Сын за отца не отвечает».
Между тем учеба в школе подходила к концу. Думали над выбором специальности. Мой сосед и ближайший друг Юрий Зыков, по прозвищу Гном, собирался стать летчиком и начал ходить в аэроклуб. Позвал меня. Летчиком становиться я не собирался, но от посещения аэроклуба не отказался. Но к этому делу меня не допустили. Здесь установка на свободу от ответственности сына за отца не сработала. В небо я не поднялся. Было обидно, но я не сожалел.
К тому времени Борис увлекся военной историей. Особый интерес возник у него к войнам Наполеона. Он исходил Бородинское поле и стал по совместительству экскурсоводом при тамошнем музее. Борис углубился в чтение книг, быстро собрал значительную библиотеку. Кирюшка стал уговаривать и меня заняться историей. Я согласился и решил поступать на исторический факультет Московского Университета.
Летом 1940 г. я сдавал выпускные экзамены. Пятерки шли за пятерками. Даже письменная математика удалась на славу. Я решил задачу с элементами математического анализа. Сделал один вывод, до которого не додумался даже лучший математик класса Митька Забелин. Я подсмотрел Митькину работу и этот вывод зачеркнул, а зря. Оказалось, что я переоценил Митьку, но не поверил сам себе. По химии и физике я получил четверки. Но в году у меня были отличные оценки и, в конце концов, мне выдали аттестат с золотой каемочкой, т. е. отличный, дававший право поступать в любой ВУЗ без вступительных экзаменов. Кроме того, меня наградили 87-ым томом Полного Собрания Сочинений Л. Н. Толстого. Сделали надпись: «За ленинско-сталинское отношение к своим обязанностям ученику 149 школы Кац Алексею 17 июня 1940 г. Москва. Директор школы Л. Широкова». И всё это заверили гербовой печатью.
Потом был выпускной вечер с речами, вручением аттестатов, с вином и тостами. Веселились до утра. Было солнечное летнее утро. Веселой толпой мы провожали до дома учителя литературы старого Похаревского. Вспоминаю экзамен, который я ему сдавал. Сидел какой-то ассистент. Похаревский посмотрел мой билет, махнул рукой и сказал: «Прочтите “Юбилейное” Маяковского». Я прочел. И старый учитель промолвил: «Хорошо». На выпускном вечере тоже читали стихи. Я вновь прочел «Юбилейное». Ребята закричали: «Читай Есенина». Похаревский согласно кивнул головой. И я читал «Зажила моя былая рана», «Эх, вы сани», и что-то еще. Мне аплодировали. А я грустно смотрел на девочку с длинной косой Зину Страхову, которая меня не любила. Ей нравился другой парень, имевший предо мной только одно преимущество: рост. Вот и все. Как мало нужно для счастья, и как оно в общем-то недостижимо. Всегда не хватает роста даже великанам.
Вскоре должен был решаться вопрос о моем призыве в армию. Я пошел, как и все на призывной пункт. Переходя от врача к врачу, я убеждался в своей полной пригодности для службы в танковых войсках, которые почему-то меня привлекали. И что же? Здоровый по всем статьям, я получил военный билет с короткой пометкой: «Запас второй очереди». Я был ошеломлен. Потом вдруг выяснилось, что такие же военный билеты получили многие другие выпускники, которые не должны были отвечать за своих отцов. Я теперь реально ощутил собственную неполноценность, неприкасаемость. Что же мне дозволено? – спрашивал я себя. А примут ли меня в университет. С этой мыслью я отправился, в сопровождении Кирюшки, в приемную комиссию исторического факультета МГУ.
Написал короткое заявление. Заполнил листок по учету кадров, где с полной откровенностью сообщил, что не служил в белых армиях и не состоял в оппозициях. Там, где речь шла о занятиях родителей, написал: отец арестован в 1934 г. по 58 статье. Сдал документы и стал ждать. Должно было состояться собеседование. Шло лето. Я почитывал кое-что по истории, намереваясь заняться средневековьем. В начале августа пошел на собеседование. Исторический факультет размещался в старом особняке по Герцена 5. Я вошел в приемную деканата. Там толпилось довольно много абитуриентов – преимущественно девочек. Ребят было мало: кривые, косые, хромые и больные запасом второй категории. Просторный кабинет декана. Стены отделаны дубом, массивная мебель. За громадным столом – маленькая женщина: заместитель декана. Она предложила мне сесть в кресло, задала несколько вопросов о том, что я читал, какими разделами истории интересуюсь. Все шло очень спокойно, просто, доброжелательно. Беседа продолжалась минут пять. Через пару дней я зашел на факультет и обнаружил себя в списке принятых на первый курс. Сразу записался в группу, которой предстояло изучать французский язык. По языковому принципу формировались и учебные группы. Получилось так, что в одной группе из 18–20 человек, я оказался единственным мужчиной. Может быть, поэтому меня назначили старостой. Должность, на которой разрешалось использовать и неблагонадежных. (Дело в том, что факт ареста отца делал меня все-таки неприкасаемым. Набирали группу для занятий парашютным спортом. Я записался в нее, но не был зачислен: в десантники не подходил. Потом меня вызвали на беседу с хорошо одетым мужчиной. Он спросил: «Хотите ли вы перейти в Высшую Дипломатическую школу?» Из спортивного интереса, я сказал: «Хочу, но у меня арестован отец». «Благодарю», – ответил дипломат и исчез, как перекрещенное привидение.) Но ничего! Все-таки я стал студентом МГУ и сразу же получил должность, соответствовавшую уровню моей благонадежности: мне доверялось отмечать в журнале девочек, пропускавших занятия. Впоследствии я оправдал доверие деканата и общественных организаций, хотя… для некоторых девочек я делал исключения.
Начался новый период в моей жизни. Сейчас не помню подробностей учебы на первом курсе. Ничего особенно выдающегося не было. Первая лекция проходила на Моховой 9 в «Коммунистической» аудитории, в которой когда-то Ключевский собирал слушателей со всех факультетов. Я, разумеется, опоздал на начало занятий и потому прошел на балкон. Глядя сверху на небольшую сцену, увидел невысокого пожилого человека, легко и весело рассказывавшего о первобытности. Это был широко известный ученый и популярный лектор Марк Осипович Косвен. Читал он с блеском, славился не только своей ученостью, но добротой и мягкостью. Я попал в семинар к очень крупному в то время ученому Константину Васильевичу Базилевичу. Рассказывали, что в Первую мировую войну он был офицером и перенес какое-то тяжелое ранение. Константин Васильевич был высокого роста, с отличной выправкой и добрым лицом. Он говорил приятным, каким-то глубоким голосом. Лекции его были захватывающе интересны. Историю Киевской Руси читал академик Б. Д. Греков. Говорил он негромко, не очень выразительно. Его приходилось слушать с большим напряжением. Но он захватывал изяществом обоснования своих выводов. Помню и лекции К. К. Зельина по истории древнего Востока. Читал он сидя, далеко не так артистично, как, скажем, Базилевич. Однако меня глубоко убеждала его полемика с В. В. Струве о рабстве на Древнем Востоке. Запомнились блестящие по форме, необычайно увлекательные лекции по античности А. Г. Бокщанина. Читать он их начал со второго семестра. Незадолго до этого неожиданно скончался знаменитый В. В. Сергеев – автор учебников по истории Греции и Рима, блестящий лектор. С короткого поминания о нем начал свои лекции его ученик А. Г. Бокщанин.
Став студентом, я столкнулся с громадными трудностями. Учеба в ВУЗе ничем не напоминала школу, а как перестроиться, – никто не говорил. Лекционные курсы, кроме «Основ марксизма-ленинизма», шли в полном отрыве от семинаров, носивших проблемный характер. Я растерялся. Набрал книги, которые рекомендовал М. О. Косвен, потом другие. Скопилось их много, а как с ними обращаться, я не знал. Сел читать «Происхождение семьи…» Энгельса. Попытался начертить схему семьи пуналуа. Ничего не вышло. Я хватался за голову, зачеркивал начерченное и брался за все снова. Не получилось. С вопросом я обратился к самому М. О. Косвену. Оказалось, что схема эта и не может получиться: в системе родственных связей допущена какая-то ошибка. Тут же начались муки с чтением «Истории Древнего Востока» Тураева. Я читал чуть ли ни по складам. Не понимал, зачем столько цитат из древних памятников. Сказал о трудностях К. К. Зельину. Он посмотрел на меня и с удивлением ответил: «А мне казалось, что Тураев очень легко читается». Я почувствовал себя абсолютным идиотом. Потом раздали хронологические таблицы по Древнему Востоку. Они и вовсе повергли меня в уныние: такое количество ничего не говорящих дат! Это было не по моей голове! Готовясь к семинарам по Основам марксизма, я принялся за чтение работ В. И. Ленина, Плеханова. Увлекла работа «Что такое “друзья народа”…». Читал с удовольствием, восхищался блеском полемики, накалом спора, но… ничего не мог повторить, не знал, о чем, собственно, спор? Правда, здесь было легче. Помогал преподаватель. В семинаре К. В. Базилевича я выступил с докладом по отрывку из «Повести временных лет». Получилось. Мое выступление руководитель семинара одобрил. Первый семестр пролетел мгновенно. Зимняя сессия обрушилась на меня, словно лавина. Несмотря на все свои усилия, я не был к ней подготовлен. Вот почему я получил «отлично» у Марка Осиповича Косвена (меньше он ставил в исключительных случаях), на «четыре» вытянул археологию и французский язык, и предстал пред грозные очи А. Г. Бокщанина. Он экзаменовал по истории Древнего Востока. Мне достался вопрос, касающийся Ассирии. Конечно, я честно прочитал учебник В. В. Струве, но по Ассирии помнил только выразительную внешность царя Саргона Второго. А. Г. Бокщанин вкатил мне тощую «тройку». Девочки из моей группы негодовали. Все они, конечно же, успешно отщелкивали экзамены. Группа считалась передовой. А я, староста, с трудом получил «удовлетворительно». Позор!! Я молчал и чувствовал себя законченным дураком, способным тискать некоторых первокурсниц-переростков на крутых и пустынных вершинах Коммунистической и Ленинской аудиторий, но я не постиг ни структуры семьи пуналуа, ни истории Ассирии в период ее свирепого могущества. С точки зрения экономической, я не пострадал: я все равно не получал стипендии. Считалось, что у матери хорошая заработная плата. Я получал от нее нужные мне суммы на обед в столовой, на кино (только на один билет) и на книги. Подбрасывали кое-что Борис и Кирюшка. Я не бедствовал. Но морально я был положен на лопатки и некоторое время так и провалялся. К счастью, недолго.
Первый семестр все-таки оказался поучительным. Негодующие девочки меня явно недооценили. Плохо экзаменовал меня и А. Г. Бокщанин. Конечно, Марк Осипович Косвен слыл либералом. Но именно он углубился в вопрос о том, что я читал по его предмету. Оказалось, много. Неточность, закравшуюся в семью пуналуа, заметил тоже только я. Вот почему Марк Осипович Косвен, прощаясь со мной после экзамена, сказал: «Конечно, отличных оценок в вашей группе много, но некоторые из них мне нравятся. В частности, мне нравится ответ одного молодого человека». И он засмеялся. А вот А. Г. Бокщанин не знал, что я одолел Тураева, прочел монографию Снегирева и Францева о Египте, еще многое прочел. Конечно, духовная пища оказалась и слишком тяжелой, и слишком обильной для нетренированной головы. Это можно было понять.
Кончились каникулы, наступил второй семестр, и я быстро стал набирать темпы. Многие трудности остались позади. Я начал работать над большим докладом по истории Руси XVII в. для семинара К. В. Базилевича. Сидя в кабинете истории СССР, я не замечал, как бежит время. Ко мне пригляделись лаборантки: оставляли место за столиком, не расставляли взятых мной книг, так и оставляли их стопкой. Для первокурсника это было исключением. А я читал по-русски, по-немецки, даже по латыни. Работы Маркса, Энгельса, Ленина уже не представлялись непреодолимыми. Я опять читал много, выходя далеко за рамки обязательного. Девочки из моей группы стали явно отставать. Они усердно читали учебники. Так было и при подготовке античной литературы. Я же одолевал Гомера, лирику, греческую драму, римских поэтов. Я бы не мог объяснить, как произошел перелом, но он наступил. Вдруг оказалось, что у меня отличная память, что даты вовсе не нужно зубрить: они укладываются сами в стройную систему, что латинская грамматика, в конце концов, соединяется с текстом и т. д. К. В. Базилевич очень похвалил мой доклад. Пожалуй, Константин Васильевич был мне ближе, чем другие преподаватели. Впрочем, это касается группы в целом. Он устроил как-то для участников семинара поездку в заброшенную в те годы Троицко-Сергиевскую лавру в Загорске. Помню, мы ходили по пустым соборам, взбирались по шатким лестницам на колокольню. Кажется, он показывал какое-то место, хранившее следы ядер польских орудий. Впрочем, может быть, я что-то путаю. Не важно.
Наступил июнь 1941 г., началась экзаменационная сессия. Я отлично сдал историю СССР, Основы марксизма-ленинизма, античную литературу. (Ее принимал сам профессор Ратциг, автор учебника, знаток греческой классики. По просьбе курса, он как-то декламировал по-гречески отрывки из Илиады.) Каждый, раз после успешно сданного экзамена я шел к матери в ателье, где шили корсеты и бюстгальтеры. Мои достижения немедленно становились достоянием всех дам, находившихся на месте, а, может быть, доходили и до главы учреждения, продолжавшего совершенствовать производство во славу закона о запрещении абортов. 23 июня 1941 г. мне предстояло сдать экзамен А. Г. Бокщанину по античной истории. Поэтому 22 июня я с утра пришел в читальный зал на Моховой, взял книги, сел за стол. В тот день началась война.
Как у меня повелось, за день до экзамена я заканчивал подготовку и просто просматривал материал. Так было и 22 июня. Вдруг почему-то из читального зала стали с шумом выходить студенты. Заговорили все сразу. Для порядков читального зала такое было невероятным. Я встал из-за стола и вышел в коридор. Здесь я узнал, что выступил по радио Нарком Иностранных дел В. М. Молотов и сообщил о нападении Германии на нашу страну. Разумеется, я был ошеломлен, как и все. Вышел на улицу. По совести говоря, я не заметил ничего особенного. Может быть, в отличие от корреспондентов и писателей, выпускающих сейчас многочисленные мемуары, я не приглядывался к лицам прохожих. Как я воспринял сообщение о войне? Как величайшую неожиданность. Впомнились, помещенные однажды на первых полосах газет фотографии: Гитлер держит под руку виновато улыбающегося Молотова. Тон газетных статей в отношении Германии был доброжелательным. ТАСС опровергало возможность Советско-Германского конфликта. Значит, войны я не ожидал, как, впрочем, множество других людей. Теперь она началась. Я не сомневался, что она продолжится очень недолго и пройдет так же незаметно, как, скажем, столкновения с японцами, события в Прибалтике, в западных районах Украины, Белоруссии, война с Финляндией. Поэтому я шел на работу к матери предупредить, чтобы она не волновалась. В ателье шла обычная работа. Поговорив с матерью, я поехал на Левитана. Наступил вечер, я лег спать и спокойно проспал до утра. Немного волновался перед экзаменом. Этим, пожалуй, можно закончить первую часть моих записок.
7. IX–26.IX.1971 года
Часть вторая. Тропы войны
Вторая часть моих записок охватывает время Великой Отечественной войны, в которой я участвовал практически от начала и до конца. Я не пишу ни истории, ни военных мемуаров. Потому я и не стану касаться того, чего не пережил или чего не видел сам. Писать я буду главным образом по памяти. Но есть у меня и некоторые материалы, подкрепляющие память. В июле 1944 года я начал писать полувоспоминания, полуповесть и довел изложение, кажется, до 1943 г. Сохранились и кое-какие дневниковые записи, несколько писем и, наконец, довольно многочисленные стихи.
Стихи я стал писать в детстве, а последнее стихотворение написал в 1953 г. Сохранилась, сшитая из тетрадных листков, записная книжечка, куда переписаны стихи 1937 и 1938 гг. Были и более ранние, но они пропали. Это очень плохие стихи. В них описаны мои любовные муки и школьные события. Плохи, конечно, и мои все остальные стихи. Тем не менее мне придется их приводить, т. к. они наиболее непосредственно выражают настроения той поры, когда писались. А их литературные достоинства или недостатки значения не имеют. Я никогда не предназначал их для читателей.
Стихи я стал писать под влиянием моего приятеля Володи Плетнера, смуглого, черноглазого и большеносого парня. Он писал уверенно и хорошо. Я с ним крепко дружил, бывал у него дома. Его мать – патриархальная еврейка – считала сына талантом. Конечно, она отдавала себе отчет в том, что Володя Плетнер это не Александр Пушкин, но знала она и другое: Пушкин это тоже не Плетнер. Потом Володя бросил писать стихи, переключился на сочинение музыки (он кое-как играл на фортепиано). Однажды он исполнил мне свой новый опус. Не будучи знатоком, я все-таки заметил, что опус живо напоминает широко известную часть «Лунной сонаты». Тут же находившаяся, мама сказала: «Ну и что же? Ведь все-таки это нужно уметь сыграть». Конечно, она была права и в этом. Володька Плетнер не стал ни поэтом, ни музыкантом. Его убили на войне.
23 июня 1941 г. я сдавал экзамен по античной истории А. Г. Бокщанину. Он начал слушать меня довольно скептически, т. к. помнил мои зимние попытки красочно охарактеризовать выдающуюся внешность Саргона Второго. Однако, чем дальше я продвигался в ответе (достался мне Александр Македонский), тем внимательнее прислушивался А. Г. Бокщанин. Полистал зачетку, покачал головой и поставил «отлично». Анатолий Георгиевич считался знатоком военной истории. Мы разговорились. С большой энергией он заговорил о начавшейся войне. На листке бумаги нарисовал схему основных ударов немецких войск. Общие выводы были более, чем оптимистическими. Мы расстались вполне довольные друг другом. Мне оставалось сдать 30 июня еще один экзамен – этнографию.
Между тем, Борис отправился на фронт. В это время он был снят с воинского учета, т. к. страдал какой-то тяжелой формой порока сердца. Однако он отправился в военкомат и получил назначение. Как я уже говорил, Борис заведывал кафедрой военной подготовки в одном из институтов. Помню, как он, вросший в привычную военную форму, с маленьким чемоданом в руках, шагал во главе колонны новобранцев, направлявшейся на Ленинградский вокзал. Я проводил его до эшелона, дождался отправления и пошел в библиотеку. Надо было готовить этнографию. Я ее сдал профессору Токареву. Получил «хорошо». Время было суетливое, и негры банту не полностью владели моими мыслями. А именно о них я должен был рассказывать на экзамене.
Было большое комсомольское собрание. Комсомольцы приняли решение считать себя мобилизованными. Ночами мы патрулировали по Москве. Но это продолжалось недолго. 1 июля был получен приказ: всем мужчинам студентам собраться в одной из московских школ для дальнейшего следования неизвестно, куда, неведомо, за чем. Жизнь в Москве пока еще мало изменилась. Работали кино, театры, в магазинах шла торговля без всяких ограничений. Мать собрала мне вещевой мешок, простилась и ушла на работу. Ни она, ни я не представляли масштабов катастрофы. До Манежной площади меня провожала Нина Манегина. Дальше я пошел один: не хотел слишком грустных проводов. А между тем я грустил. И причиной тому была белокурая Нина, о которой я сейчас намерен рассказать.
От Нины Манегиной сохранились: альбом с открытками. На первой странице надпись: «Дорогой, любимый. Вспомни наши тревоги в день поисков хлеба, и чем этот день кончился. Нина М. 17.X.41 г.». Этот день кончился ничем. Позднее я узнал, что Нина намеревалась меня поцеловать. Почему-то не поцеловала. Есть фотография, датированная 12 июня 1943 г. На ней написано: «Лешенька, если ты пронес меня через бури, то пронесешь и через цветущие долины». И это не осуществилось. Я просто не дошел до цветущих долин. Так вот: о Нине Манегиной.
Был веселый месяц март 1941 года. Я говорю веселый, потому что люблю этот месяц. В московских широтах с ним приходят первые лучи весеннего солнца. Начинают таять снега, шумно убегая ручьями. На лужах трещит тонкий ледок. Таким вот ярким мартовским утром я не шел, а летел к метро «Сокол». (Я опять опаздывал к началу лекции.) На спуске к речке Таракановке я ступил на накатанное какими-то злоумышленниками место и рухнул на мать сыру землю. Из очумения меня вывел милый девичий смех. Я встал, оглянулся и увидел хорошенькую девочку в коричневом пальто и в шляпке с полями. Падение я воспринял как знамение судьбы. Я подошел к девочке и спросил: «Почему ты смеешься?» Она ответила: «Ты здорово треснулся! И все-таки это смешно!» «А как тебя зовут?» – поинтересовался я. Жестокое красивенькое создание охотно отозвалось: «Нина». Потом выяснилось, что она учится в десятом классе, что живет вот здесь, в этом двухэтажном доме. Короче говоря, я многое выяснил, но опоздал на лекцию. Иногда наука требует жертв, иногда она сама становится жертвой. Потом наступил апрель. В чудесном лесу в Покровском-Стрешневе я ходил с Ниной Манегиной и очень ее любил. И я не скрыл этого от нее, а она как-то задумчиво сказала: «Не знаю, никогда, ничего подобного не испытывала, но мне кажется, что я тебя не люблю». Я, конечно, не ожидал такого ответа. Мне стало горько, но кое-что в делах любви я смыслил. Уверенно и совсем спокойно я сказал: «Я все-таки думаю, что ты меня любишь. Я уверен: очень скоро ты мне об этом скажешь сама». И она опять очень просто ответила: «Если захочу, скажу. Приду, чтобы сказать». И она пришла. Однажды, когда я поздно вечером вернулся из университета, Петька Бакалинский мне торжественно сообщил: «Была Нина!» А потом начались чудесные дни ребячьей любви, про которую написано немало хороших книг. К сказанному в теплой повести «До свидания, мальчики» я ничего не могу добавить. У меня все было так же. Сейчас есть великолепная песня Булата Окуджавы «До свидания, мальчики». Думаю, что поэт прощался с кем-то точно так, как я и миллионы других Ленек-королей. Между прочим, на голове моей тоже красовалась кепчонка, как корона. И натянул я ее по случаю крайней необходимости. Кто же из московских ребят, имевших приличную шевелюру, носил кепку в июле месяце.
Так вот, 1 июля я прощался с Ниной Манегиной на Манежной площади. Бессмысленно воспроизводить сказанные тогда слова. Помню, что она спросила, не боюсь ли я. Я действительно в тот момент ничего не боялся. И она сказала: «Я очень хочу, чтобы ты не боялся и помнил, что я тебя жду». И Нина ушла, и я двинулся к сборному пункту и на душе у меня было грустно и светло, и я курил «Казбек», потому что мать этого не видела и никто не мог запретить мне курить папиросы.
Ночь мы провели на асфальте перед одним из вокзалов на Комсомольской площади. Утром какой-то комсомольский вождь произнес перед нами короткую речь, из которой следовало, что именно мы и поставим на колени зарвавшегося агрессора. Потом нас погрузили в пропавшие карболкой теплушки и повезли. Поначалу все шло по киношному. Из числа студентов назначили командиров взводов, политруков и т. д. (Каждый курс теперь стал называться взводом.) Все старались быть очень бдительными, дежурили на нарах, под нарами и совершали вообще множество ненужных поступков. Нас обгоняли эшелоны с войсками. Мы махали руками, стройно и с большим подъемом пели «Вставай, страна огромная!» В Бахмаче я увидел первых беженцев, измученных женщин и детей. Все рассказывали о зверских бомбардировках дорог, по которым уходили в тыл мирные жители. Становилось не по себе. 3 июля 1941 г. выступил по радио Сталин. Мы поняли: стряслось страшное. И все-таки никто из нас не верил, будто началась сверхтяжелая, многолетняя война. Ведь мы знали, что войскам дан приказ уничтожить перешедшего границу врага. А разве кто-нибудь из студентов допускал мысль о невыполнимости приказа? Разве мы не веровали, что летаем выше всех, быстрее всех и дальше всех, что броня крепка и танки наши быстры, что если начнется война, то она будет проходить на территории противника? А ворошиловские залпы, а фильм «Если завтра война» и прочая галиматья?! Нет, мы не думали о затяжной войне. Может быть, это было плохо. Но может быть, и хорошо. Не знаю. Поражение не укладывалось в голове. Не потому ли в течение всей войны, при всех, казалось бы, нечеловеческих трудностях, страшнейших неудачах, я не встречал человека, допускавшего мысль о том, что немцы нас разобьют, не верившего, что все-таки мы где-то и как-то разобьем немцев. Я таких не знал, а находился в гуще событий и попадал в отчаянные положения.
Не помню, сколько мы ехали. Поезд остановился ночью, нас выгрузили. Мы отошли к какому-то лесочку, я положил под голову вещевой мешок и проспал до утра. Проснулся от жары. Черноволосый парень Сёмка Гутман крикнул: «Подымайсь!» И сразу все зашумели. Оказалось, что нет воды, негде умыться. Никто об этом не пожалел. Доели остатки пищи. По большей части это был черствый хлеб. Потом Сёмка Гутман разделся и стал ходить голым. Он объяснил это так: «При отсутствии женщин первобытное состояние – самое лучшее для человека». Почему-то все согласились с Сёмкой Гутманом и тоже разделись. В таком виде мы прослушали какого-то военного: по его словам, предстояло дней 20 потрудиться на земляных работах. К вечеру предстоял марш километров на 12 до места назначения.
Марш начался часа в четыре дня. Длинная колонна студентов двинулась в путь. Разумеется, 12 километров оказались никому не нужным трепом. Если бы не эти 12 километров, мы шли бы более разумно, сберегая силы, не устраивая каких-то бросков, которые временами задавали пятикурсники, не думали бы, что каждая деревня – это и есть место, куда мы идем и не испытывали бы подлинной муки, узнавая, что и эта деревня не та, которая нам нужна. А чего стоила болтовня о диверсантах, об отравленных колодцах и т. д. Мы по-настоящему играли в войну. Шли весь остаток дня и ночь. Томились от жажды. Переходили речушки, где-то переправлялись на пароме. Многие стали отставать. К рассвету добрались до деревни Снопоть (Смоленская область). Она и оказалась целью нашего марша. У колодца вдруг обнаружилось, что осталось совсем мало людей. «Где же остальные?» – спросил я, ни к кому не обращаясь. Дурашливый парень Корыткин махнул рукой и выдохнул: «Там… У околицы… Легли!» Получалось, что все они полегли смертью храбрых в штыковом броске. Оказалось, что они просто не дотащили ног до колодца. Я напился, лег на землю, мгновение чувствовал, как по сосудам бежит кровь, и тут же заснул, как убитый. Потом нас расселили по крестьянским хатам и началось участие в войне таких, как я, запасных второй категории, и белобилетников, способных держать в руках лопату. Студенты старших курсов вполне, конечно, годились к военной службе. Они не служили только потому, что к моменту Указа о призыве в армию выпускников десятилетки, были уже студентами.
Мы рыли противотанковые рвы: подлинно циклопические сооружения. Готовый ров, протянувшийся на несколько километров, казался столь грандиозным, что порой не верилось, как могли люди простыми лопатами выкопать его. Работали с перерывом на обед часов по 12–14. Иногда копали ночами, и это было особенно трудным. Кормили плохо. Наши хозяева, у которых мы селились, подкармливали нас. Платить было нечем, а потому все мы испытывали некоторое неудобство: мы ж были интеллигенцией. О трудном ходе войны мы узнавали не только из сводок. Днем над нами летали немецкие самолеты. Пару раз нас бомбили. Мы разбегались по команде «Воздух!», а когда бомбардировки заканчивались, снова начинали рыть землю. Бомбежки почему-то пугали не очень. Во-первых, группы самолетов были, как правило, небольшими, по 2, по 3, во-вторых, мы не несли, к счастью, потерь. Да и бомбы ложились далеко от рвов. Ночами видели полыхавшие вдалеке деревни. Удивляло, что пожары полыхали со всех сторон, т. е. они не обозначали линии фронта. Приезжавший на стройку, генерал говорил и о большом перевесе немцев в танках и самолетах, поговаривали, что кто-то, где-то попал в окружение. Однажды ночью нас оторвали от работ и зачитали приказ, в котором сообщалось о смертном приговоре группе крупных командиров Западного Фронта, во главе с генералом Павловым. Разумеется, все они обвинялись в предательстве. Как сейчас мне ясно, они не были предателями. Они терпели поражения и при этом осмеливались оставаться живыми. Таких, как известно, казнили и римляне, и якобинцы. Мы видели отступавшие войска. По проходам через рвы шли оборванные, усталые бойцы, многие были забинтованы запыленными бинтами. Тощие лошади тянули повозки, орудия, тут же шло гражданское население – беженцы. Мы воспринимали все это с большой грустью. Воспрянули было духом, узнав об образовании Государственного Комитета Обороны во главе со Сталиным. Не сомневались, что в военных действиях произойдет перелом. Но он, конечно, не наступил. Однажды в Снопоть прискакал верховой и сказал, что немецкие танки находятся в нескольких километрах. В деревне началось необычайное движение. Люди запрягали лошадей, выгоняли скот и устремлялись на восток. Нас погрузили на полуторки и повезли на новый рубеж. За вырытыми нами рвами развертывались какие-то воинские части. Мы слышали гул артиллерии, видели немецкий разведывательный самолет «Раму» и разрывы снарядов в той стороне деревни, где по дороге двигались отступающие войска и уходили с нехитрым скарбом беженцы.
Так мчались события. Менялись и студенты. Я был оборван, железно здоров и курил. Научился крутить длинные цигарки с крепчайшей махоркой. В первые три дня на земляных работах страшно болели все частички тела. Потом все прошло. Я, как и другие, превратился в заправского землекопа… Поскольку же я числился в запасе второй категории не по недостатку физических сил, то и махал отменно лопатой с трехметровой глубины, не испытывая ни одышки, ни сердцебиения. Чувствовал, как день ото дня наливались силой руки. Все было бы ничего, если бы приходили письма от матери и Нины. А писем-то почему-то не было… И я затосковал. Не столько по Нине, сколько по матери. Трудно передать, как хотелось вернуться домой. Я не мог скрыть этой тоски. Напрасно меня старался утешить пятикурсник Лева Менделевич (ныне дипломат в ООН), Миша Гефтер и Миша Рижский (оба теперь известные историки). Я тосковал. Моим ближайшим товарищем стал длинный парень Юра Баландин. Мы жили с ним вместе, он пел старые песни. Особенно хорошо получался у него романс «Как соловей о розе, поет в ночном саду». Студенты оставались студентами, да и я не все время хандрил. Несмотря на адский труд, много шутили, спорили, смеялись, соревновались в том, кто больше знает стихов, подтрунивали над начальником строительства каким-то Браславским, носившим винтовку стволом вниз, как охотничье ружье. Сочиняли песни. Ныне доцент исторического факультета МГУ, а тогда просто Ленька Папин сочинил два шедевра. Первый начинался так:
- «Раскинулась трасса широко,
- А солнце палит и палит,
- Товарищ, мы роем глубоко,
- Как нам приказал помполит».
Потом шла речь, как уставший землекоп в конце концов умер. Заключительный куплет пели особенно заунывно:
- «Напрасно старушка ждет сына домой,
- Ей скажут – она зарыдает.
- В глубокой траншее, с улыбкою злой
- Покойник суглинок бросает».
И была другая песня, прославлявшая пятый взвод, т. е. пятикурсников:
- «Средь нас есть славный пятый взвод.
- Вот, где работа без надрыва:
- Треть взвода спит, треть взвода срет,
- Треть взвода ждет до перерыва».
В целом жили дружно. Не помню каких-нибудь чрезвычайных происшествий. Никто ни разу не напился, никто не поссорился крупно, никто не подрался. Объясняется это не только накалом обстановки, но и, конечно, высоким уровнем интеллигентности у подавляющей части землекопов. Среди первокурсников был Павел Волобуев, ныне директор института истории СССР. Были, конечно, и психи ненормальные, придававшие значение откуда-то расползавшимся слухам. Но таких было мало, да и никто их серьезно и не воспринимал.
Обстановку на фронте мы знали плохо. Разумеется, мы читали газетные сводки, слушали радио. И, хотя информации явно не хватало, мы бурно обсуждали события, предрекали крутой перелом в событиях в ближайшее время. В какой-то момент обстановка ухудшилась. Потребовалось ускорить темп работы, а он и так был высок. До минимума довели обслуживающий персонал, а Миша Рижский произнес короткую речь. Он с пафосом сказал, показывая пальцем на недорытый ров: «Товарищи! Может быть, именно здесь фашистский зверь сломает себе шею!» К сожалению, Миша Рижский несколько преувеличил значение противотанковых сооружений, возводимых студентами-историками. В начале сентября нас очень воодушевило наступление Красной армии под Ельней. Мы видели тяжелые танки КВ, слышали мощный гул нашей артиллерии. Примерно в это время я получил целую кучу писем от матери и Нины. Не знаю уж, где они валялись. Одно из писем Нины начиналось строчками из нежного стихотворения поэта Случевского. Я многожды перечитал ее письма, возвел Случевского в ранг Классиков и соответственно увеличил производительность труда. Возобновились мои концерты из песен Вертинского, Лещенко, Тамары Церителли. Вообще мое исполнение этих вещей пользовалось большой популярностью. Лева Менделевич особенно ценил «Бразильский крейсер», «Ехали на тройке с бубенцами» и «Живет моя отрада в высоком терему». Между тем наступила осень и пошли дожди. Копать землю становилось все труднее. Много времени пропадало зря. Мы здорово пообносились, давно и основательно завшивели. Вши оказались сволочной штукой. Откуда они брались, никто не знал. Но они завелись, а мы, по интеллигентности, стеснялись сражаться с ними в открытую. Уединялись, сбрасывали штаны и рубашку, давили вшей и возвращались к работе, словно со свидания с любимой. В ночь на 27 сентября нас погрузили в эшелоны и повезли в Москву. Мы были полны воодушевления. Перед отъездом нам объявили благодарность, сказали, что враг остановлен, армия генерала Конева наступает. Мы, разумеется, и себя считали причастными к этим знаменательным событиям.
Сейчас не помню, сколько времени мы добирались до Москвы. Юра Баландин и я, грязные, измученные, живописные, словно беспризорники 20-х гг., спустились в мраморную роскошь метро. Пришли в восхищение от элегантного вида вполне мирных девушек. Мы приехали в Сокол. По дороге, несмотря на сравнительно поздний час, я забежал к Нине. Встретила она меня очень тепло, обняла за шею, но в это время вышел в прихожую ее отец, и я принял вид гордый и независимый. Папаша, настроенный мрачно, спросил меня о делах на фронте. Я бодро рассказал об успехах под Ельней. Манегин-отец принял меня за трепача, и мы расстались. Радостной была встреча с матерью. Здесь я узнал, что Борис возвратился в Москву. С сердцем было так плохо, что служить в армии он не мог. Снова приступил к заведыванию кафедрой в институте. Юра Баландин и я выспались, встали, сходили в баню. Я с изумлением увидел, что лесок на улице Левитана спилен. Оставлены высокие, метра на полтора, пни. Никак не возьму в толк, почему высокие пни считались препятствием для танков, а сами сосны – нет. Сокол пострадал от налетов немецкой авиации. Снесло дом Шатиловых. Там погибли все, кроме одной девочки: бомба попала в щель, где прятались люди. Погибла и моя учительница в младших классах Лидия Павловна Шатилова. В недавно выстроенный родильный дом, превращенный в госпиталь, тоже попала бомба. Но здесь быстро произвели ремонт и следов разрушения я не заметил.
В университете нас встретили, как героев. Лекции шли обычным порядком. Меня радостно встретила первокурсница-переросток и увлекла на верхние ряды амфитеатра аудитории. Старый профессор читал лекцию по педагогике, я на галерке предавался греху, отрабатывая практическую тему, которая, может быть, косвенно, но все-таки относилась к педагогике (хорошее обращение с женщинами тоже требует школы). Но нормальных занятий не было. Вскоре мы стали рыть противотанковые рвы в окрестностях Москвы. Теперь этим делом занималось множестве людей – мужчины, женщины, студенты, старшеклассники. Часто происходили воздушные налеты на Москву. Обычно это случалось в вечерние часы, звездными октябрьскими ночами. Никогда не видел более впечатляющего зрелища, чем Москва во время ночного налета. Вражеских самолетов не слышно и не видно. Зато со всех сторон яркие полосы прожекторов бороздят черное небо. Мощно гремят зенитные орудия. Если я оставался дома, то во время налета выходил на крытое крыльцо. Однажды налет застал меня в Сокольниках у Бориса, а он жил на пятом этаже. Все, кроме него и меня, а именно Леля, Юра, Таничка, моя мать, ушли в убежище. Мы остались в комнате. Было страшно, потому что дом трясло от грома зенитных пушек. Звенели стекла. Где-то близко рвались бомбы. Ничего. Мы с Борисом выдержали. Он казался вполне спокойным, сидел за столом, что-то писал. Другой раз воздушная тревога застала меня на площади Свердлова. Я спустился в метро и просидел в туннеле минут 45. Здесь было очень спокойно и совсем тихо. Никакие звуки налета сюда не доходили. После отбоя я вышел наверх и увидел разрушенный вестибюль Большого театра. Попала бомба. Другая – повредила один из университетских корпусов на Моховой. Снесло памятник Ломоносову. В первой половине октября началось новое наступление немцев на Москву. Обстановка очень осложнилась. Университет эвакуировался. Я остался в Москве. Все-таки надеялся, что призовут в конце концов и запас моей категории. Я не верил в возможность оставления нами Москвы. Но об этом чуть ниже.
Эвакуировалась с отцом Нина. По совести говоря, я очень горевал. Ей я рассказал, что чувствую себя вполне пригодным к военной службе, что очень обидно быть запасом второй категории, из-за того что в 30-х гг. арестовали моего ни в чем не повинного отца. В это время Нина относилась ко мне очень тепло. Нередко плакала от жалости к моим обидам и мне становилось легче. Однажды она ночевала у нас. Мать пошла к соседям. Объявили воздушную тревогу. Я вышел на улицу и смотрел с обычным в таких случаях возбуждением на ночной бой с невидимыми самолетами. По крыше застучали осколки зенитных снарядов. Потом все стихло. Я вернулся в комнату. Заметил, что Нина плачет, спросил, почему. Она обхватила мою голову и быстро зашептала: «Лешенька, миленький мой, хотела бы вот так заснуть с тобой и не просыпаться, не просыпаться». Девочка плакала все отчаяннее и повторяла: «Завтра тебя не будет, день, два, месяц, год, не знаю сколько, а вдруг тебя убьют». Я ответил: «Ну, этого быть не может!» И я утешал ее: «Не надо плакать, не надо бояться». И она успокоилась. Никто из людей, имевших счастье пережить такое, не забывает ни слов, ни чувств тех минут. Не забыл и я.
Перед эвакуацией Нина провела несколько дней в большом сером здании на площади Ногина. Я каждый день ходил туда и с трепетом думал, уехали или нет. Однажды я простился с ней. Дул ветер, гнал по земле желтые листья, моросил дождь. Я поцеловал Нину, и она ушла, а я думал ей вслед: «Уходит, уходит, уходит…» Она шла, оборачивалась, махала рукой, шла. А я все думал: «Уходит, уходит, уходит….» Она ушла, а я все стоял, по лицу бежали капли дождя. Ночью был воздушный налет на Москву. Утром я поехал на площадь Ногина. Окружавшие ее здания стояли с вырванными оконными рамами. В горком партии упала бомба большой мощности. Нина уехала до воздушной тревоги. В самом начале 1942 г. я получил от нее письмо. Вот что там сказано о дне эвакуации: «В этот день я покидала Москву, если б состав тогда остановился у “Серебряного бора”, как около всех прочих станций окружной дороги, я б сбежала тогда. Мне было тогда очень тяжело». И еще одно письмо, полученное мной на станции Ветлужской, где формировалась 111 Стрелковая бригада: «Лешенька, родной мой!.. Когда-то мы еще встретимся? Ты, по-моему, сильно уже изменился и физически и, пожалуй, духовно. Мне так кажется. А помнишь, ты хотел, чтобы я не стригла волосы, ну так я еще ни разу не бывала в парикмахерской, волосы до плеч, выражение лица слегка переменилось… Целую… Нинка». Наташенька, все это, наверное, сентиментально. Но в 1941 и 1942 гг. над нами висела непроглядная, грозная ночь, а мне было только 20 лет.
16–17 октября 1941 г. были особенно тяжелыми в дни битвы за Москву. В поселке Сокол можно было услышать гул артиллерии. Разумеется, я не знал на какой расстоянии от города идут бои. В это время стало широко известно имя генерала Г. К. Жукова, возглавившего Западный фронт. С огромным упорством строились оборонительные сооружения. В один из этих дней я шел пешком из Сокольников, где жил Борис, в Сокол. Было известно, что бои идут совсем близко от Москвы. Борис с семьей готовился к эвакуации в Ташкент. Мы тоже должны были ехать. Мать собрала кое-какие вещи и ждала меня. А я шел по городу и смотрел вокруг. Ничего необычного не заметил. Висел слух, будто где-то началась паника. Не знаю, как на вокзалах и восточных окраинах города, а в центре никакой паники не было. По улицам шли патрули, шагали хорошо обмундированные вооруженные автоматами отряды рабочих, много войск двигалось по Волоколамскому шоссе. На улице Горького я заметил толпу у Елисеевского магазина. Не знаю, что там делали люди: я не остановился. Повторяю, не заметил ни неразберихи, ни признаков особой тревоги. И главное: шли и шли войска к фронту.
Я решил зайти к Игорю Петрову, когда-то переросшему поселок Сокол. Теперь ему исполнилось 17 лет и он высоко поднимался над Камергерским переулком. Я поднялся по лестнице, постучал в дверь. Игорь открыл дверь, увидел меня и прошептал: «Тише! Она там!» Мы давно не видались, и потому я спросил: «Кто она?» «Моя жена!» – торжественно изрек высокий обитатель Камергерского переулка. «Ты женат?» «С точки зрения формальной – нет. Но ведь ты знаешь, это пустяки, все устроится в ближайшие дни». Я-то, конечно, знал, что формальности это пустяки, и потому никогда не стремился к их выполнению. Со всеми предосторожностями, чтобы не нарушить торжественную тишину, я прошел в комнату. В мягком полумраке торшерного света сидела девочка в шелковом платьице. Это была Лена – супруга Игоря Петрова. С ним мы поговорили о делах на фронте, решили, что Москва будет удержана. Бракосочетание Игоря Петрова было полным выражением этой уверенности. Я посидел у него немного и направился домой. Здесь меня в большом волнении ждала мать. Ведь нужно было ехать к Борису. Предстояла эвакуация. И тут я сказал матери, что абсолютно уверен в том, что Москву мы не оставим, что матери эвакуации не перенести, а умирать, в конце концов, все равно, где. Для меня было абсолютно ясно, что, если начнутся бои в Москве, то я любым способом заполучу винтовку. Я решил не эвакуироваться. Это было самое умное из когда-либо принятых мной решений. Во всяком случае, я спас мать, которой в то время было уже лет 65, и эвакуация ей была не под силу. И сам я вскоре оказался в армии. Но обо всем по порядку. А пока что ночь светилась всеми цветами от трассирующих пуль зенитных пулеметов, разрывов зенитных снарядов, белых полос прожекторов. Борис с семьей ночью уехал в Ташкент. Для него это решение оказалось роковым. Такому человеку, как он, было невозможно жить в среднеазиатской глуши. Активно он ничем не мог заняться: он был слишком больным. Поэтому Борис очень скоро добился разрешения вернуться в Москву. Сохранилось его письмо ко мне от 11 июня 1942 г.:
Дорогой Лёша!
Вот уже завтра будет неделя, как я вернулся в Москву. Живу вместе с мамой. Сейчас 10 часов вечера, только слушали сообщение по радио о заключении договора с Англией и США. Я пишу тебе. Начал свою литературную и историческую работу. На днях буду выступать по радио об отечественной войне 1812 года, и, кроме того, поеду в Бородино собирать материал о боях с фашистами. Кроме того, в скором времени приму военную кафедру в инженерно-экономическом институте Плеханова». Дальше он радуется тому, что на войне пригодились мои знания немецкого языка и добавляет: «Надеюсь, что недалеко то время, когда мы снова увидимся все опять, заживем счастливой жизнью. Служи хорошо, будь дисциплинированным командиром, выполняй все требования фронтовой работы». В сентябре того же года (3.9.42) я получил от него еще одну открытку. В ней, в частности, написано: «Я сейчас работаю начальником военной кафедры в институте Плеханова. Много пишу в “Огонек” и “Красноармеец”. Мой литературный псевдоним – Соколов». (Не знаю, зачем понадобился этот псевдоним. Ведь в те времена еще не додумались до борьбы с космополитизмом.) Борис не дожил до счастья. Весной 1943 г. он умер от сердечной декомпенсации. В это время я жил в лесу в районе деревни Лиски, западнее Белгорода, на Курской дуге.
Не помню, 16 или 17 октября в дом ворвался Петька Закалинский. Он был в шинели, в ботинках с обмотками, шапке-ушанке, на плече болталась винтовка. Мы обнялись, похлопали друг друга по спинам, обменялись междометиями. Наконец я спросил: «Петька! Откуда ты?!» Он выдохнул: «Из-под Бородина!» С этими словами он швырнул винтовку под кровать. В комнате сидела его нянька Ганна и ее подруга Фекла Филипповна из соседнего дома. Эта самая Фекла Филипповна спросила Петьку, где немцы. Герой Бородина, желая ее напугать, объявил, что немецкие танки за железнодорожным мостом. Фекла Филипповна кинулась домой строить баррикады перед калиткой.
Потом мы с Петькой пошли по поселку. Он рассказал об участии в бою, о том, что стрелял по немцам, что часть его как-то рассеялась, и он действительно шел через Бородинское поле, а теперь дня через два отправится в военкомат, чтобы воевать дальше. Тут же сообщил о лихом солдатском донжуанстве. Достоверность его ратных подвигов я проверить не мог. Но рассказы о женских ласках мне показались явно нереалистическими. В этом-то я смыслил. Однако спорить не стал. Я очень страдал от отсутствия курева. Временами обращался к солдатам, и они ссужали меня щепоткой махры. Мимо Сокола проходили воинские эшелоны. Бойцы выпрыгивали на станции, меняли махорку на белый хлеб. (Он выдавался по карточкам в достаточном для меня и матери количестве.) Находчивый Петька зашел в школу, где теперь располагался какой-то воинский пункт, с кем-то переговорил и вынес мне пару пачек махорки. Я был ему очень благодарен.
Через два дня Петька уезжал. Вместе с ним отправлялся на призывной пункт мой закадычный друг Женя Вольф. Это был последний из членов общества любителей бани (кроме меня), который отправлялся в армию. Он окончил десятилетку, ему было 18 лет. Военное лето он провел на строительных работах, теперь шел воевать. О большой и незабываемой дружбе с Женькой Вольфом я намерен теперь рассказать.
У меня сохранились фотографии Женьки Вольфа и его подарок – два тома «Истории философии». Женька украл их из заброшенного комода старухи соседки, совершенно правильно считая, что она отфилософствовалась, а я, будущий историк, только начинаю философствовать. Поэтому на первом томе он строго предписал: «Познавай науку», на втором сэпикурействовал: «Вспоминай дружка по заложену, выпивонному и прочим делам». В обоих случаях суровая подпись: «Е. Вольф».
Женька Вольф (отец его поляк, отсюда и фамилия) был рослым красивым парнем. Сдружились мы с ним на почве нежных чувств к двум подругам. Он увлекался хорошенькой девочкой Таней Харсам, я – тоже хорошенькой Олей Назаровой (моя дружба с ней продолжалась в 1938–39 гг.). Обычно мы встречались в очень интеллигентном доме Харсам. Отец и мать Харсам смотрели на наши взаимоотношения доброжелательно, обращались с нами на равных, т. е. не позволяли себе ни иронии, ни подозрительности по поводу нашей дружбы. Моя мать, родители Вольфа – все нам покровительствовали. Разумеется, мы все время проводили вместе, т. е. бывали в театре, в кино, фотографировали, и, конечно, любили, как это положено у старшеклассников. Понятно, что между мной и Женькой существовало полное доверие и взаимопонимание. Мы встречались ежедневно, иногда у него на квартире устраивали выпивоны, про которые я писал. Квартира эта была достаточно просторной и свободной (родители находились на работе). Летом 1939 года семейство Харсам уехало отдыхать на юг. Взяли с собой Женьку, дабы Таня и он отдыхали, а не худели от тоски друг без друга. Вот здесь-то и совершилось грехопадение. Южные ночи оказали свое чарующее воздействие на Таню и Женьку, и произошло то, чего не могло не произойти. Тогда Женьку выслали на место его постоянного жительства. Хорошо все-таки, что местом ссылки оказалась Москва. Женька приехал в изгнание гордый, мужественный и грустный. Я, конечно, тут же был посвящен в случившееся, и, как и следовало ожидать, полностью одобрил Женькины начинания, возмутился родительским деспотизмом и утешил Женьку Вольфа. Мысль моя работала, примерно, в таком направлении: вечно Харсамы на юге не будут, они приедут. И то, что Женька начал под покровом южной ночи, он продолжит на более прочной основе, под которой я подразумевал широкий Женькин диван. Все произошло, как я и предвидел. Оторвать Таню от Женьки оказалось совершенно невозможно: они любили друг друга. Это было так, и, если бы даже все благоразумное, умудренное опытом человечество выдвинуло тысячи аргументов против разумности их отношений – все эти аргументы разбились бы об один: они любили друг друга. Конечно, не обходилось у них без размолвок. В одну из таких я привел к Женьке черноглазую красавицу Веру Зиновьеву. Они погуляли по парку в Покровском-Стрешневе, встретились еще раз, а потом Женька мне сказал: «Не могу!» И пошел мириться к Тане. Между тем мои отношения с Олей Назаровой как-то нарушились. Грустил я не очень, а дружба с Женькой становилась все крепче и крепче. К нам подключился и мой брат Кирюшка. Не было прочитанной книги, которую бы мы не обсудили, не было секрета, которым бы не поделились.
Теперь Женька уходил воевать. Ноябрь был дождливым месяцем. Петька, Женька и я (Таня была в эвакуации) шли под дождем к трамвайной остановке Сокол. Женька нес на плечах жиденький вещевой мешок, на Петьке нелепо болталась его винтовка. Мы шли и молчали, потому что говорить было не о чем. Подошли к остановке. Высокий Женька ссутулился, посмотрел на меня, положил руки мне на плечи и тихо сказал: «Таню жалко, ох, как Таню жалко». Женька плакал, и слезы, большие слезы бежали по щекам. Потом подъехал трамвай, Женька, ссутулясь, влез в него, на подножке повис Петька Закалинский. И они уехали, и больше я их не увидел: Петька Закалинский и Женька Вольф погибли на войне. Кончался ноябрь. Мои товарищи находились на фронте. Один я оставался в запасе второй очереди и работал дворником в домоуправлении поселка Сокол. А под Москвой шли бои, временами слышался отдаленный гул артиллерии.
Работа дворником была для меня вполне подходящей: образование в один курс университета, хотя и оставалось незаконченным высшим, в данном случае оказалось достаточным. Что касается политического доверия, то я заслужил его у домоуправа Плешкова и участкового милиционера Изотова. Я получил в банке 1500 рублей и привез всю сумму по месту назначения, не пропив и не украв. Плешков довольно улыбнулся, Изотов дал закурить. Рабочая продовольственная карточка, 99 рублей зарплаты и пролетарское положение – все это что-нибудь да значило. Со своим напарником я чистил печные трубы, колол и пилил дрова, успешно конкурируя в этом деле с фирмой возчика Блошкевич и К°, строил сараи, разгребал заснеженные дорожки на своем участке улиц. Мы были одиноки – мать и я, Борис находился в Ташкенте, Кирюшка, как мы полагали, служил в армии. (О судьбе Кирюшки я узнал от матери после войны. Он, как позднее выяснилось, действительно был призван в армию. Не знаю, что уж там произошло, но его почему-то арестовали, судили, приговорили к 10 годам ссылки. Из нее Кирюшка не вернулся.)
Вечерами я уходил к нашим соседям Байрошевским, сидел со старым Степаном Александровичем. Мы обсуждали сводки, выступления Сталина, курили табачную пыль. Старик и я – девятнадцатилетний здоровый парень, запас второй категории. Степан Александрович уверял, что нам нужна НЭП, я не соглашался. Он говорил о затяжной войне, я ссылался на выступление Сталина и отводил ей «несколько месяцев, полгода, может быть, годик». Какая же это была тоска, какая обида. Я становился суеверным. Вечерами мать раскладывала карты и пыталась прочесть по ним смутное будущее. Иногда я дежурил в домоуправлении. Вот там однажды, сидя декабрьской ночью и потягивая цигарку из махры, полученной в дар от Изотова, я услышал экстренное сообщение по радио «В последний час». В нем говорилось о разгроме немецких войск на подступах к Москве и о переходе наших армий в успешное контрнаступление. Вскоре меня призвали в армию. «Дело дошло до триариев», – как говорили римляне.