Кремнистый путь начинающего композитора бесплатное чтение
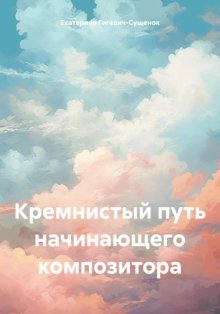
Предисловие от автора
Книга повествует о годах, проведенных в Санкт-Петербургской консерватории, о моих современниках, друзьях и знакомых. Она написана с любовью и благодарностью к нашим педагогам, за то время, которое они посвятили нам. В ней я стремилась передать мои общие впечатления, которые оставили о себе эти великие люди, раскрыть их неординарные личности, радикально повлиявшие на новое поколение композиторов.
Смешные и грустные эпизоды книги никого не оставят равнодушными. Пережитые приключения оживают на страницах издания, правдиво донося до читателя все то, через что пришлось пройти начинающему композитору в моем лице, предоставив возможность читателю поразмыслить, посмеяться и задуматься. В произведении присутствует еще один литературный образ – это образ города Санкт-Петербурга. Лейтмотивом он сопровождает все главы книги, окрашен романтическими тонами и созвучен душевным состояниям героев.
Надеюсь, что книга принесет много положительных эмоций. И, может, для кого-то станет не только развлекательным чтивом, но и поучительным, полезным экскурсом в прошлое.
С пожеланиями творческих успехов!Член союза композиторов Республики Беларусь.Композитор, пианистка, педагогГигевич Екатерина Васильевна.
Глава I. Начало. Приезд
…Жгучий холод и пронизывающий ветер встретили меня на платформе Витебского вокзала Санкт-Петербурга. Дымящий паром и копотью поезд Минск-Санкт-Петербург «Звезда» домчал меня за одну ночь. И вот теперь я стою в руках с рюкзаком, в котором было все мое немудреное имущество: несколько несложных партитур, ансамблей, ноты пьес и романсов, аудиокассеты с записями моих сочинений. Предстояла ответственная встреча с человеком, овеянном легендами, передающимися студентами из поколения в поколение, профессором, заведующим кафедрой специальной композиции Александром Дерениковичем Мнацаканяном.
«Быть или не быть, вот в чем вопрос»… Предстояло поступление в Санкт-Петербургскую консерваторию. Холодным декабрьским днем была назначена консультация у профессора. Предоставлялась уникальная возможность проникнуть в святая святых – в класс, где принимали посвящение в таинство учебы не один десяток студентов, и откуда каждый год выпархивали новоиспеченные композиторы навстречу счастливому будущему и востребованности, овациям огромных залов, похожих на самолетные ангары, навстречу признанию восхищенной публики. Так мне казалось тогда, серым зимним днем далекого 2006 года. А пока предстояла консультация для поступающих и работа, работа, работа…
Согнувшись над рукописями и клавирами, я просиживала часы напролет в библиотеке или фонотеке за год до этого, будучи еще учащейся музыкального лицея. Меня подогревал творческий интерес и необходимость «вылить» на бумагу штурм музыкальных идей и мыслей, сравнить свои творения с работами предшественников, а может и занять у них пару-тройку технических приемов (в тайной надежде, что этого никто не заметит). Однако, облечь эти «сверхмощные» идеи в соответствующую музыкальную форму и гармоническое выражение не совсем получалось. Я постоянно наталкивалась на непроходимую, невидимую, будто бы заколдованную, стену неумения, и барахталась на одном месте, как пловец, попавший в водоворот. Нужна была рука помощи, которая за шиворот вытащила бы меня из этого водоворота. И, наконец, такая рука, с Божьей помощью, появилась…
«Писать, набивать руку», – носились в моей голове последние напутственные слова Валерия Ивановича Каретникова, композитора, члена Союза композиторов Беларуси, моего неизменного педагога по композиции, с которым не один год мы занимались в музыкальной школе, а потом в лицее.
А в это время я незаметно для себя пересекала широкие проспекты, бульвары и улицы Северной столицы. А вот и Сенная площадь… Люди, которые приезжали сюда работать, искать себя, свой путь, учиться, казались мне небывалыми счастливцами, имевшими возможность соприкоснуться с зыбкой и чарующей красотой и культурой Санкт-Петербурга. А теперь я сама была там, и сбывалось то, о чем даже мечтать не смела.
Зимний город раскинулся передо мною, как причудливый узор из расходящихся и сходящихся в перспективе улиц, переулков и мостов. Эти узоры были похожи на паутину, а люди, бежавшие вдоль каналов и проспектов, на маленьких паучков. Снег повсюду был исчерчен черными зигзагами и линиями – это были тропы людей, которые двигались в разных направлениях по городу. Было раннее утро и серый питерский день не спешил начинаться. Вот тускло заблестела вода Обводного канала. Рядом со мной пролетели друг за другом две переполненные маршрутки. Машин было так много, что они сливались в единый поток, который, подобно артериям, пронизывал весь город. До консультации оставалось еще много времени, но точно помню, что она была назначена на 15.00 (время, когда начинались обычно в консерватории занятия по композиции). Эту свободную часть дня я решила потратить на прогулку по городу и осмотр достопримечательностей. Пройдясь сначала по берегу Крюкова канала, я завернула за угол Мариинского театра и вдруг увидела двух огромных атлантов, поддерживающих фасад дома-особняка Георгия Ивановича Веге. Они необычайно впечатлили меня своим размером, эпичностью и красотой. Молчаливо они стояли друг напротив друга, глядя вниз перед собой, будто размышляя о мироустройстве и вселенной. Быстро дошла до здания Адмиралтейства, затем и до Дворцовой площади, вышла на набережную Невы, откуда открывался потрясающий вид на Васильевский остров. Небо со рваными серыми клочьями облаков нависало как живая картина над просторами вздыбленной воды реки Невы. Она текла, как расплавленный воск, мутная и тяжелая. Вспоминались картины Ивана Константиновича Айвазовского, передающие ощущения от неукротимой морской бури Черного моря. Помню, в какое необычайное волнение привели меня впервые увиденные картины этого художника. На одной из них, в темноте свинцового неба, перемешанного с морской пучиной, терялся красный флаг терпящего бедствие корабля. Эту картину я впервые увидела в художественном альбоме, привезенном из Коктебеля, где располагался музей-квартира художника. Над Финским заливом ветер, порывистый и сильный, носил по воздуху тысячи маленьких снежных игл, и они пребольно впивались в щеки. Время пробежало быстро, пришла пора возвращаться в консерваторию…
За месяц до…
«Алло», – сказал на другом конце телефонного провода приятный и слегка с носовым оттенком голос Александра Дерениковича Мнацаканяна. «Это поступающая из Беларуси», – ответила я. «Вы что же, чей-то родственник или протеже? Кто вас сюда направил? Чего так поздно решили приехать? Надо было в прошлом году. У нас крепкий предыдущий курс оказался. Все до одного сильные». Я, немного стушевавшись, пояснила Александру Дерениковичу, что меня никто не направлял, и что я никакой и ни чей-то родственник, что в прошлом году закончила музыкальный лицей в Минске и практикую занятия по композиции уже довольно давно с композитором Каретниковым Валерием Ивановичем. «Лицейские кадры нам нужны, я вам говорю, приезжайте!». (В Санкт-Петербургской консерватории все уважительно звали друг друга на «Вы»).
Прошло два с половиной месяца. Решилась набрать телефон Александра Дерениковича второй раз. Вот наш точный разговор: «Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Это я, поступающая из Беларуси». Он вдруг в сердцах закричал: «Это опять вы?! Чего же вы там сидите и не едете? Так скоро все консультации пройдут!».
И вот сейчас я стояла у входа в консерваторию, а передо мною возвышалась фигура охранника. По внутреннему телефону он пробовал дозвониться на третий этаж, уточнить, пустят ли меня внутрь, в 315 класс, есть ли договоренность. Я была в сильном волнении, портфель давил спину, ставший вдруг тяжелым, как гантель, а от страха немного подкашивались ослабшие после забегов по городу ноги, с носа капал струйкой пот. Вдруг, в коридоре первого этажа, около проходной, появилась и исчезла маленькая сутулая фигурка человека. У пожилого мужчины были любопытные живые глаза, необычная мимика и запоминающийся профиль. Кто-то из его знакомых крепкого телосложения и высокого роста у меня над ухом прокричал зычным голосом: «Эй, Слонимский, это же я, ты что, не узнаешь меня?! Скажи им, чтобы впустили меня!». Но Слонимский бежал дальше по своим делам и никого не замечал или не хотел замечать. В это самое время пришла счастливая весть о том, что меня наконец впускают, и я стремглав пустилась бежать вверх по лестнице на третий этаж. Навстречу мне, обмениваясь улыбками, приветствиями и шутками, направлялись по своим делам студенты и учителя, кто-то из них с важным видом вел неторопливые беседы с профессорами, остановившись на широкой лестнице с деревянными перилами, украшенными витой ковкой. Пол на ней был выложен темными плиточными ромбами, порядком истертый, прогнутый местами от времени, но все еще был очень красив. А на полу коридоров консерватории был деревянный паркет, который то и дело скрипел под ногами и издавал почти музыкальные звуки. Куда-то на четвертый этаж бежали студенты с зачехленными скрипками и виолончелями за спинами. Все мне показалось тут таким милым и родным! Я полюбила это место сразу и навсегда. Первое и самое сильное впечатление о консерватории – это был ударивший в глаза желтоватый свет старинных люстр и плафонов, проникающий из окон классов. Меня удивил внутренний квадратный двор с огромной старинной и очень высокой, почти в четыре этажа, дымовой трубой из темно-коричневого старинного кирпича, принадлежавшей котельной, которая отапливала консерваторию еще в прежние времена. Эту трубу было хорошо видно из окон всех этажей, что придавало исторический колорит этому месту. Желтоватый свет ложился отблеском на холлы и стены нежно-голубого цвета. Впечатляли потолки, уходящие сводами ввысь, похожие на церковные. По-царски торжественная и великолепная лестница уводила посетителей наверх, в знаменитый Глазуновский зал. Ее украшали у начала и вершины красивейшие декоративные фонари, обвитые кованой вязью. Но не было времени долго рассматривать все это великолепие, надо было торопиться на встречу с Мнацаканяном.
Глава II. Встреча
В класс я зашла робко, с замиранием сердца. Моему взгляду представилась следующая картина: в окружении своих студентов, откинувшись в красном истертом кресле подле двух кабинетных роялей, сидел Александр Дереникович Мнацаканян и рукой с перстнем подал мне повелительный, почти царский знак: «Заходи!». И я зашла…
Мнацаканян был армянином и его манеры поведения были отмечены и украшены особым достоинством и неспешностью, а речь была с восточным акцентом и насыщена иносказаниями. Он был человеком наблюдательным, с цепким умом и превосходной памятью, несмотря на преклонный возраст. Его чувство юмора позволяло ему балансировать между педагогическими замечаниями и остроумной шуткой. Это воспринималось легко и просто учениками и всегда приносило плоды в его педагогической системе.
Вот пока он так сидел в своем кресле полулежа, полусидя, в классе царила абсолютная тишина. Все ожидали появления остальных поступающих и с любопытством приготовились слушать творения своих коллег, не без ухмылки и доли доброй иронии. Я ощутила в 315 классе атмосферу творческой свободы и радости, как нигде в другом месте, и страх отступил и покинул меня. Студенты начали показывать свои работы поступающим, а мы, поступающие, студентам и Мнацаканяну. Все шло своим чередом. Мнацаканян, внимательно выслушав работы, делал замечания и высказывал свои пожелания, затем ученики, получившие консультацию, удалялись вглубь класса, уступая очередь новым. Тут вперед шагнул к роялю с увесистой партитурой в руках третьекурсник Антон Лубченко. Он только что закончил свою первую симфонию и ему не терпелось продемонстрировать ее публике. Пальцы его рук были перепачканы свежими чернилами и завязаны лейкопластырем. Ноты он писал вручную, по старинке. Антон сел за рояль и пальцы побежали по клавишам. Звуки рояля разбрызгивались и вылетали как золотые звонкие монеты из-под пальцев композитора, и мы все услышали причудливую современную и необыкновенно талантливую музыку, несколько напоминавшую творения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Александр Дереникович не мог не отметить этого, но высказал свои мысли в шутливой форме и добавил замечания по оркестровке. Я была очень поражена этой симфонией, потому что ничего подобного сама еще не писала и стояла как завороженная и слушала. Далее последовала пауза и педагог произнес: «Кто следующий?». Меня плотным кольцом обступили учащиеся и я стала доставать свои небольшие запасы из рюкзака. Аспирант первого года обучения, Илья Остромогильский, сбегал в фонотеку за магнитофоном и помог включить мои кассеты. Затем следовало долгое прослушивание моей музыки и демонстрация сочинений на фортепиано. Я играла ему свои пьесы из вокальных и фортепианных сюитных циклов, и кое-что пела, наигрывая аккомпанемент на рояле. То и дело в речи Мнацаканяна мелькали слова: «Так-так, интересно!» или «Играй дальше!». Он внимательно слушал, сосредоточенно насупившись в своем кресле. Упомянул некоторых поступающих в нелестном для них ключе и принялся задавать вопросы о сольфеджио и о том, что именно мне готовить на экзамен. Поинтересовался моими педагогами по лицею, которые занимались моей подготовкой, я их назвала, и он одобрительно покивал головой. Далее последовали практические советы как именно освежить форму пьес или подсократить тот или иной кусок музыки. Показывала я пять произведений. Это были: «Песня комарика» из лирической музыкальной сказки «Мушка-зелянушка и камарык-насаты тварык» по сказочной поэме Максима Богдановича, «Юмореска» для струнного ансамбля с фортепиано, «Василиса Прекрасная» из фортепианной сюиты на сюжет русской народной сказки «Кощей Бессмертный», «Бабочки» для струнного ансамбля с фортепиано, «Токката» (позже переделанная в инструментальный номер «Скоки козы» из сценического действия «Коляда»).
Мнацаканян выслушал внимательно работы и сказал, что необходимо более разнообразное развитие тем, а также отметил, что у меня недостаточно развита вариационная форма. Саму форму вариаций он предлагал сделать не классической, с постепенным усложнением темы и фактуры, а более динамичной, с меняющимся характером темы вариаций в разных жанрах, при том, чтобы ее элементы хорошо узнавались на слух. Поинтересовался, нет ли у меня партитур для оркестра. Таких партитур у меня не было, зато я послушала работы других ребят, студентов и аспирантов, и профессор также давал им замечания и рекомендации. Время от времени он отрывал голову от партитурных скрутков и в задумчивости риторически вопрошал: «Вот что бы на это сказал мой великий педагог Дмитрий Дмитриевич Шостакович? Когда я думаю над вашими работами, я всегда задаю себе этот вопрос», – пояснил он, обращаясь ко мне как к новичку и сделал пояснительный жест рукой.
Далее мы углубились в прослушивание классной программы: «Тропою грома» Кара Караева, балета «Гаяне» Арама Ильича Хачатуряна и второй симфонии для струнного оркестра Мнацаканяна. Он рассказывал, как работал над ее созданием, как впервые принес ноты оркестру и потом делал правки в партиях, описывал, насколько волнительны и долгожданны были репетиции. Рассказал нам, что лирическая побочная тема в ней – эта тема, близкая колыбельной, которую ему пела его мать, а многие мотивы произведения навеяны поэтическими образами родной Армении.
«Когда я приехал из Еревана в Ленинград первый раз, я был очень молод, – повествовал Александр Дереникович. – Мне было лет четырнадцать, и я играл на скрипке, хотел стать скрипачом. Меня сопровождала мать. Тогда лицей при консерватории назывался ЦМШ, и я туда поступал, потом долго учился в консерватории, в классе у Ореста Александровича Евлахова вместе с другими известными композиторами. А потом в аспирантуру мне посчастливилось попасть к Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу. Он много мне помогал, ему нравились мои работы, которые я ему приносил, и он меня поддерживал. Мы получали неплохие аспирантские стипендии, на которые можно было неплохо жить. Между собой Шостаковича мы называли: «Учитель. Великий Учитель». Он в те годы уже много болел, но, не глядя на плохое самочувствие, все еще приходил на занятия в консерваторию, с трудом поднимался в свой класс по лестнице. Когда ему приносили ученики партитуры, которые ему не нравились, он морщился и не хотел на них тратить время, а предпочитал более одаренных студентов и уделял им больше своего внимания. У него был небольшой класс аспирантов. А особенно Учитель не любил неготовых работ. Однажды ему в класс ученик принес сырую и наспех сделанную работу и долго объяснял, что тут у него будет так-то и вот так-то… Шостакович долго смотрел на него из-под своих очков в черной оправе, а потом изрек: «Так заканчивайте, заканчивайте поскорей!».
Сам он был очень требовательным к себе. В то время не существовало наборных нотных программ и систем и все ноты Дмитрий Дмитриевич писал вручную. Часто, заметив ошибку в партитуре, он принимался писать ноты заново. Ему говорили: «Зачем, ведь эта такая титаническая работа, переписывать партитуру симфоний!». Но он переписывал их вновь и вновь, пока партитура не удавалась идеальной, и, конечно, болел от этого, сильно повредил себе руки. Для нас, студентов, Дмитрий Дмитриевич Шостакович был непререкаемым авторитетом. А Александр Дереникович был благодарен за участие Учителя в его жизни и помнил о Шостаковиче всю свою жизнь.
Далее Мнацаканян продолжал повествование о своей жизни после окончания консерватории. «Меня пригласили на студию Ленфильма, для того, чтобы писать музыку для кино. Тогда это было очень престижно, бывало, что композиторам давали Государственные премии за такие заказы, и я с удовольствием взялся за работу и очень радовался, что ее получил. В Ереване живет моя родная сестра, а сам я уже много лет не был на Родине. Так и остался навсегда в Ленинграде…»
Быстро стемнело. В 19.15 меня уже ждал вечерний поезд «Звезда». Только на улице я опомнилась, что оставила в классе на парте свою теплую зимнюю шапку, но возвращаться за ней уже не оставалось совсем времени. Тогда подумалось: «К счастливому возвращению…». И я не ошиблась!
Глава III. Вступительные
Полгода пролетели незаметно в подготовке к вступительным экзаменам. И уже в июне, вдохновленная и окрыленная, я приехала в Санкт-Петербург. Поступающих было очень много. На отделение композиции поступал не только молодняк, но и люди старшего возраста, которые имели первое высшее образование в этой консерватории и в других Вузах. Нас набралось много, но в процессе экзаменов произошел естественный отсев по разным причинам, и осталось только семеро абитуриентов. На экзамене по сольфеджио пришлось особенно трудно. Давали в качестве диктанта одну из тем из четвертой симфонии Шостаковича. Она была сложна своей переменной ритмикой и размером, затактами. А на экзамене по гармонии нас подстерегали многотемные задачи с большим количеством знаков, с модуляциями в далекие степени родства и расширенным периодом, замысловатой кодой. Задачи надо было отчасти придумать самим, соединить несоединимое в единую форму и написать на основе исходного материала коду, так сказать, все синтезировать, применить именно композиторские навыки.
Некоторые студенты, которые себя уже пробовали на вступительных экзаменах в предыдущие годы и проучившиеся на подготовительном отделении, самоуверенно и важно держались, утверждая, что знают, из каких симфоний и какие темы будут на экзамене даны на слух в качестве диктанта. В любом случае все это было очень сложно, невозможно запомнить наизусть и я смутно представляла себе, как напишу такой диктант. Но когда 10 раз была проиграна мелодия, все ж таки ритмически непростую тему удалось нотировать, проблемы возникли только с затактом, который изначально был неверно мною рассчитан.
Мнацаканян один раз все-таки пришел, будто прилетел грозной тенью, как Врубелевский демон, на наши предпоследние экзамены по гармонии. Многие абитуриенты сидели под классом Рейна Генриховича Лаула, педагога по гармонии, и рыдали навзрыд от чувства безнадежности своего положения, потому что догадывались о своих нехороших отметках по этому сложному предмету. Рейн Генрихович Лаул отнюдь не утешал их, а наоборот, на ломанном русском (ведь он был эстонец!) жестко отчитывал абитуриентов, говоря о том, что надо было лучше готовиться и позаботиться о результате раньше, ходить на подготовительные курсы для поступающих, а не самонадеянно ждать экзаменов целый год. Мнацаканян же медленно подходил к некоторым из них и говорил: «Вам не стоит дальше сдавать экзамены». Далее он строго указывал пальцем с красным перстнем на перепуганные лица: «Вы, вы, и вы…». И эти несчастные уже знали, что шансов уже у них нет, сколько ни спорь. Я сидела и тряслась, как мышь, боясь услышать это страшное и роковое «Вы», хотя задачу по гармонии решила хорошо. Помогло то, что до этого перерешала кучу задач в лицее с нашими замечательными педагогами. Некоторые абитуриенты пытались спорить не только с Мнацаканяном, но и с комиссией, доказывая свою компетентность и то, что надо непременно их взять в студенты. Приводили в доводы и то, что они хорошо играют на скрипке, фаготе, флейте, и т. д., и даже то, что несколько лет жили за границей, набираясь опыта. Но Мнакацаканян был непоколебим, опыт жизни за границей его мало убеждал, наоборот, он упирал на то, что работы таких новоприбывших иностранцев по композиции были откровенно слабы и неинтересны. Обычно эти споры с комиссией ничем не заканчивались, а комиссия уже не меняла своего мнения и принятого решения. Выходил из экзаменационного класса, например, один из членов комиссии, обычно это был Сергей Михайлович Слонимский, и объяснялся лично, как говорится, тэт-а-тэт, с импульсивными поступающими. Стоит ли говорить, что разговор легким не был…