Анна Ярославна – королева Франции бесплатное чтение
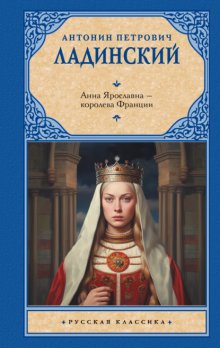
Серия «Русская классика»
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Часть первая
1
Несмотря на непредвиденные задержки в пути и огромные расстояния от Парижа до русских пределов, послы короля Франции благополучно прибыли в Киев. Посольство возглавлял епископ шалонский Роже. Он ехал впереди на муле, худой, горбоносый, со старческой синевой на бритых впалых щеках. Аскетическую худобу его лица еще больше подчеркивали глубокие морщины по обеим сторонам плотно сжатого рта, как бы самой природой предназначенного изъясняться по-латыни, а не на языке простых смертных.
Пока посольство медленно приближается к Золотым воротам, следует воспользоваться удобным случаем, чтобы поближе познакомиться с этим человеком, жизнь которого весьма показательна для той темной эпохи, куда мы, со всей осторожностью благоразумного путника, вступаем ныне, как в некий черный лес, полный волков и страшных видений.
Даже на лопоухом муле епископ сидел с таким достоинством, что одной посадкой доказывал свое благородное происхождение. Отцом его был Герман, граф Намюрский. Чтобы не дробить владения между наследниками, граф посвятил младшего сына церкви в надежде, что благодаря знатности рода молодой монах рано или поздно получит епископскую митру. Вот почему Роже не пришлось прославить себя на полях сражений. Однако и на винограднике божьем он проявил блестящие способности управителя, сначала в сане аббата в монастыре Сен-Пьер, а позднее сделавшись пастырем Шалона. Отличаясь умом практического склада, сей светильник церкви в бытность свою аббатом одного из самых бедных французских монастырей добился для него многих королевских щедрот. Ему удалось выпросить у короля в кормление монахам соседний городок с его ежегодной ярмаркой, на которую купцы приезжали не только из Шампани и Бургундии, но даже из отдаленных немецких земель. Кроме того, аббатству были предоставлены важные привилегии, в том числе исключительное право топить общественную печь для выпекания хлеба и позволения ловить сетями рыбу в Марне. По ходатайству Роже монастырь получил несколько селений с сервами и пашнями, а также мельницу, пчельник и обширные виноградники. Аббату даже удалось завести монастырскую меняльную лавку, где производились различные денежные операции и при случае ссужались под верные заклады деньги в рост, ибо все это служило к вящей пользе святой церкви. В те же годы Роже построил в аббатстве новую базилику, возложив на ее алтарь серебряный ковчежец с останками святого Люмьера. К сожалению, от этого почитаемого мученика остался нетленным один только левый глаз, но и такая реликвия привлекала в монастырь значительное число паломников, что весьма увеличивало его годовой доход.
Незадолго до утомительного и не лишенного опасностей путешествия в Киев епископ Роже совершил благочестивое паломничество в Рим, и Вечный город произвел на него тягостное впечатление своими обветшалыми церквами и заросшими плющом руинами, по которым бродили пастухи в широкополых соломенных шляпах и прыгали дьявологлазые козы. В Латеранском дворце жил папа. О его непотребстве много рассказывали смешливые простолюдины в римских тавернах. Впрочем, Роже утешал себя тем, что в каждом человеке живут две натуры, божественная и животная, и что рано или поздно первая превозможет вторую.
По возвращении из Рима Роже возглавил шалонскую епархию, где тотчас же занялся искоренением манихейской ереси, получившей в то время большое распространение во Франции, и суровыми мерами пытался с корнем вырвать это гибельное зло. Но по-прежнему лучше всего удавались епископу всякого рода земные предприятия, и, ценя его дипломатические способности, король Генрих неоднократно посылал Роже с ответственными поручениями в Нормандию и даже к германскому императору. Когда же король, после смерти королевы, стал вновь помышлять о женитьбе, он не мог найти лучшего посредника в таком деле, чем шалонский епископ.
Однако Роже не отличался глубокими познаниями в богословии, а во время переговоров в Киеве предстояло затронуть и некоторые церковные вопросы, в частности о приобретении мощей святого Климента, поэтому вторым послом в Руссию отправился Готье Савейер, епископ города Мо, человек совершенно другого склада, малопригодный для хозяйственных дел, но весьма ученый муж, прозванный за свою начитанность Всезнайкой. Если не говорить о склонности прелата к чревоугодию, к чаше золотистого вина и к некоторым другим греховным удовольствиям, вроде чтения латинских поэтов или, может быть, даже допросов под пыткой полунагих ведьм, обвиняемых в сношении с дьяволом, когда в человеческой душе вдруг разверзаются черные бездны, то это был вполне достойный клирик, изучивший в молодости не только теологию, но и семь свободных искусств.
Насколько епископ Роже представлялся худощавым, настолько Готье Савейер отличался, напротив, дородностью. Его широкое, сиявшее вечной улыбкой лицо заканчивалось двойным подбородком, а плотоядные губы и довольно неуклюжий нос свидетельствовали о любви к жизни. Маленькие, заплывшие жиром глаза епископа светились умом.
Сопровождавший посольство сеньор Гослен де Шони, получивший повеление защищать епископов от разбойных нападений на глухих франкских дорогах, был рыцарем до мозга костей. Не очень высокий, но широкий в плечах, уже несколько отяжелевший и, как подлинный представитель знатного рода, белокурый и светлоглазый, де Шони, несмотря на сорокалетний возраст, со страстью предавался охоте и не ленился в воинских упражнениях, поэтому сохранил подвижность и ловкость. Его красноватое, обветренное лицо украшали длинные усы, а во взгляде у рыцаря явственно выражались ненасытная жадность и чувство превосходства над людьми, не обладающими рыцарским званием. Гослен де Шони надменно смотрел перед собой, не утруждая себя никакими размышлениями; по его мнению, всякая умственная работа более приличествовала духовным особам, чем рыцарю, понимающему толк в конях и охотничьих псах. Однако Гослен де Шони отличался многими достоинствами: отлично владел мечом, метко стрелял из арбалета и считался самым неутомимым охотником в королевских владениях. В молодости он состоял оруженосцем при графе Вермандуа, получил от него за заслуги небольшое поместье с двумя десятками сервов, был произведен в рыцари и принес сюзерену положенную клятву. Несколько позже граф разрешил ему перейти на службу к королю. Одновременно Гослен де Шони удачно женился на соседке и получил за ней, единственной дочерью старого сеньора, вскоре отдавшего богу душу, еще одно селение и различные угодья. Жена родила ему трех таких же голубоглазых, как и он, сыновей, и у рыцаря были связаны с потомством самые радужные надежды относительно округления своих владений. Получив королевский приказ сопровождать епископов в далекую Руссию, славившуюся, если верить менестрелям, золотом, мехами и красивыми девушками, Гослен де Шони из этого путешествия также надеялся извлечь немалые выгоды, и в частности привезти для супруги несколько соболей, какие ему приходилось видеть на ярмарке в Сен-Дени. Как известно, меха весьма украшают женщин, хотя справедливость требует отметить, что рыцарь мечтал о приобретении мехов не столько из нежности к своей Элеоноре, сколько из тех соображений, что ее наряды будут свидетельствовать перед людьми о богатстве фамилии. Жене, преждевременно располневшей, с багровым румянцем на щеках, с неискусно наложенными белилами и с большими, почти мужскими руками, он предпочитал юных поселянок, застигнутых случайно где-нибудь на укромной лесной тропинке во время охоты на оленей. В свою очередь и супруга, огрубевшая в ежедневных заботах о птичнике и скотном дворе, давно забыла о нежных чувствах к своему господину и порой, разгоряченная на пиру чашей вина, вздыхала неизвестно почему, бросая затуманенные взоры на литые торсы молодых оруженосцев, прислуживавших ей за столом. От них пахло мужским потом и кожей колетов!
Будучи страстным охотником, Гослен де Шони рассчитывал принять участие в прославленных на весь мир русских ловах и в пути настойчиво расспрашивал переводчика Людовикуса, на каких зверей охотятся в Руссии.
Переводчик объяснял:
– О, эта страна покрыта дремучими лесами.
– Какие же звери водятся там?
– Олени, лоси, вепри. В степях носятся табунами дикие кони. Но князья предпочитают охотиться на лисиц, енотов и бобров.
– На бобров? – смаковал название редкой дичи Шони.
– Их очень много живет там на реках.
– Еще на каких зверей охотятся русские рыцари?
– На выдр и соболей. Меха находят большой спрос в Константинополе. Поэтому Ярослав собирает дань с покоренных племен шкурами зверей.
– На кого охотятся его сыновья, чтобы показать рыцарские достоинства?
– На медведей. Однако самой благородной забавой в Руссии считается охота на диких быков, которых называют турами. Она требует от охотника большой отваги, и князья предаются ей при всяком удобном случае.
– Хотелось бы принять участие в подобной охоте, – произнес Шони не без зависти.
– О, я уверен, что русские воины убедятся в твоей прославленной храбрости!
Людовикус хорошо изучил слабости человеческой натуры и затронул слабую струнку Шони. В ответ на слова переводчика рыцарь горделиво разгладил усы. Он был в темно-красном плаще, застегнутом на груди серебряной пряжкой, которую снял в одной счастливой стычке с убитого нормандского рыцаря под замком Тийер.
После разговора с переводчиком синьор искренне пожалел, что его охотничьи псы остались в родовом шонийском замке, построенном из грубых полевых камней и бревен. Собаки теперь находились под присмотром жены, в нижнем помещении башни, служившем одновременно поварней и жилищем для слуг. Здесь псы вечно грызлись из-за брошенных им костей.
Однако необходимо сказать несколько слов и об этом таинственном человеке, каким представлялся окружающим Людовикус. По обстоятельствам своей жизни то торговец, то переводчик, то посредник, он с юных лет странствовал и переезжал с одного места на другое и поэтому хорошо знал все большие города, расположенные на торговых дорогах, в том числе Регенсбург, Киев и Херсонес. Людовикус успел также побывать в Константинополе, сарацинской Антиохии и даже в Новгороде, изучив во время этих скитаний несколько языков. Но никто не знал, откуда он однажды появился в парижской харчевне «Под золотой чашей», да и сам этот бродяга уже позабыл, из какого города он родом, считая, что родина там, где лучше живется. Этот человек отличался житейской ловкостью, хотя ему и не везло в торговых предприятиях. В Париже Людовикус случайно повстречался с послами, собиравшимися в далекую Руссию, и епископ Роже нанял его переводчиком, как знающего русский язык. С той поры он не переставал оказывать ценные услуги посольству во время трудного путешествия.
Может быть, следует упомянуть и двух ирландских монахов, Брунона и Люпуса, отличавшихся гортанным выговором и рыжими волосами. Последний, кроме того, был известен неудержимой болтливостью. Они плелись в задних рядах на мулах и тоже вдоль и поперек исколесили Европу, проповедуя слово божье и приторговывая христианскими реликвиями, пользуясь тем, что аббаты охотно закрывали глаза на обман, приобретая по дешевке какой-нибудь сомнительный голгофский гвоздь. Монахи выполняли также всевозможные поручения, добывали хлеб насущный перепиской книг или даже собирая подаяние. Впрочем, подобные люди возили из одной страны в другую не только кости мучеников, которых никто не мучил, но и украшенные драгоценными миниатюрами Псалтири, или еретические трактаты, попутно передавая сообщения о рождении младенцев с двумя головами, что, как известно, предвещает войну, или известие о смерти императора. В Германии у ирландцев находились многочисленные подворья, но таким бродягам, как Брунон и Люпус, было скучно сидеть на одном месте, и они с удовольствием пристали к французскому посольству, чтобы побывать в знаменитом городе.
Послов сопровождали мало чем примечательные рыцари, оруженосцы, конюхи. Воины ехали в длинных кожаных панцирях с медными бляхами и в таких же штанах ниже колен, в кованых шлемах с прямыми наносниками, прикрывающими от удара нос, эту самую благородную часть рыцарского лица. Копья у франкских воинов были тяжелые, а щиты таких размеров, что хорошо защищали все тело.
Епископских мулов вели под уздцы – скорее для большей торжественности, чем по необходимости, так как это были животные весьма мирного нрава – два конюха, веселые румяные парни в коротких плащах, в серых тувиях[1], перевитых ремнями обуви, и в коричневых колетах. У одного из них на поясе висел деревянный гребень, чтобы время от времени расчесывать космы и в благопристойном виде прислуживать господам, у другого – окованный медью рог и нож с костяной рукояткой.
Послы покинули Париж ранней весной. Это произошло на рассвете, когда над Секваной, как латинисты называли Сену, еще стлался туман и в воздухе стояла ночная сырость. Едва епископы выбрались из городской тесноты и под подковами прогремел настил крепостного моста, как парижское зловоние сменилось свежестью весеннего утра, в тишине которого уже пробуждались и щебетали птицы…
Оставив пределы Франции, послы пустились в путь по той проторенной торговой дороге, по которой издавна восточные купцы привозили из Херсонеса и Киева в Регенсбург и Майнц, а оттуда на прославленные ярмарки в Сен-Дени и Париж всевозможные товары, в том числе перец, пряности, греческие миткали и русские меха, а на восток везли знаменитые франкские мечи, вино, серебряные изделия, фландрские сукна. По этой дороге порой гнали табуны длинногривых венгерских коней.
Добравшись до Регенсбурга, послы вынуждены были остановиться в этом богатом городе на продолжительное время и воспользоваться гостеприимством приора монастыря святого Эммерама, так как епископ Роже неожиданно заболел опасной семидневной лихорадкой. Когда он выздоровел, посольство со всей поспешностью снова двинулось в путь, заменив на Дунае вьючных животных ладьями. Проплыв мимо Линца, Эмса и Пассавского леса, путешественники очутились в Эстергоме, чтобы отсюда уже направиться через Прагу и Краков в русские пределы. Это не был кратчайший путь в Киев, но зато самый удобный и безопасный для торговцев и паломников, и епископ Роже решил, что благоразумнее воспользоваться именно этой дорогой, тем более что Людовикус знал здесь каждую корчму.
Замедляли передвижение посольства также повозки с дарами, посланными Генрихом королю Руссии, и со всякими припасами, так как передвижение на свежем воздухе вызывает у людей особенную потребность в пище. Роже, которому были доверены деньги на путевые расходы, без большого удовольствия развязывал кожаный кошель, чтобы платить за мясо, хлебы, сыры и пиво для своих спутников, за ячмень и сено для животных. Он предпочитал пользоваться бесплатным угощением в каком-нибудь богатом придорожном монастыре или в замке, где житницы ломились от запасов.
Как было сказано, епископы совершали путешествие на мулах, что более приличествует лицам духовного звания, а сопровождавшие послов рыцари и оруженосцы – на жеребцах, считая недостойным для себя садиться на кобылиц. Конюхи, погонщики, повара и прочие слуги ехали на кобылах, тряслись на повозках или бежали рядом с конем господина, держась за его стремена. Они с любопытством смотрели по сторонам и убеждались, что повсюду в мире установлен один и тот же порядок: бедняки жили в лачугах и питались ячменным хлебом да вареной репой, а сеньоры обитали в замках, выезжали с соколами на охоту или вдруг мчались куда-то среди ночи, освещенные тревожным заревом пожаров, и в переполохе женских воплей и детского плача не без удовлетворения смотрели, как их воины поджигают факелами хижины поселян и топчут посевы, чтобы причинить врагу, обычно соседнему барону или епископу, возможно больший ущерб. Везде, где бы ни проезжало посольство, крестьяне чаще возделывали землю мотыгами, чем плугом, запряженным волами.
В пути произошел такой случай. Среди челяди, сопровождавшей повозки с кладью, были двое конюхов из Шалона, по имени Жако и Бартолеми. Однажды, возвращаясь с реки, куда их послали за водой, сервы стали предерзостно рассуждать о самим господом установленной на земле иерархии. Не подозревая, что за кустом сидели на лужайке и завтракали господа, отдыхавшие после тяжкого подъема в гору, хотя с телегами возились, конечно, не епископы, а погонщики. Жако говорил приятелю:
– Бартолеми, куда бы мы ни пришли, всюду богатые живут в свое удовольствие, а бедняки страдают.
Другой конюх, не мучивший себя подобными вопросами, лениво ответил:
– Значит, так уж устроено, чтобы нам страдать до самой смерти.
Епископ Готье Савейер, отправляя в рот куски жирной колбасы, только вздохнул с прискорбием при этих словах, удивляясь грубости простолюдинов, а с другой стороны, признавая в глубине души, что не все на земле подчиняется принципу справедливости. Но рыцарь Гослен де Шони тотчас вскочил на ноги, готовый покарать сервов, осмелившихся произносить подобные речи. Однако, поняв свою оплошность, конюхи убежали, бросив ведра и с шумом раздвигая кусты. Поиски крамольников ни к чему не привели. В дальнейшем, догадываясь, какая их ждет участь, они уже не вернулись к исполнению своих обязанностей, и никто больше ничего не слышал, что с ними сталось. Когда же справедливое возмущение от этих нечестивых высказываний несколько утихло и завтрак возобновился, епископ Роже с горечью произнес:
– Откуда им знать, что не все люди имеют одинаковое назначение. Рыцарь сражается за догматы церкви и охраняет труд поселянина, епископ молится пред престолом Всевышнего, а крестьянин трудится на ниве, чтобы пропитать их. Иначе в мире не было бы гармонии и никто не мог бы выполнять своих священных обязанностей.
– Твоими устами, святой отец, говорит сама истина, – с жаром заявил Шони, обсасывая жир на пальцах, – однако жаль все-таки, что не успели схватить этих негодяев, чтобы расправиться с ними, как они этого заслуживают. Впрочем, рано или поздно я спущу с них три шкуры!
Вспомнив, что писал достопочтенный Пьер, приор прославленного аббатства в Клюни, о судьбе бедняков, епископ Готье Савейер опять сокрушенно пожевал губами. Ведь у просвещенных людей сердце не закрыто на ключ для человеческих страданий. Епископ даже хотел привести несколько строк из этого нашумевшего в свое время сочинения, но раздумал и ограничился смущенным покашливанием, так как давала себя знать приятная тяжесть в желудке.
Роже был другого мнения.
– Эти ленивцы только и думают о том, как бы избавиться от работы, и бегут куда глаза глядят, – ворчал пастырь. – Они воображают, что новые господа будут лучше старых.
– Твоими устами, святой отец, говорит сама истина, – повторил рыцарь, пережевывая колбасу.
Возмущение епископа Роже можно было понять по-человечески: бежавшие погонщики принадлежали к его сервам, и поэтому он огорчался вдвойне. Что касается Готье, то этот образованный человек уже думал о других вещах. После сытной еды толстяк любил припоминать латинские вирши и засыпал под их сладостные словосочетания…
Как бы то ни было, посольство приближалось к своей цели. По обеим сторонам дороги проплывали рощи, засеянные пшеницей поля, зеленые лужайки, холмы; порой показывалась на реке водяная мельница с большим неуклюжим колесом и склоненными к воде дуплистыми ивами; в ярмарочный день шумел на пути торговый город; или вдруг возникал за дубравой обнесенный частоколом замок местного барона, более похожий на логово разбойника, чем на жилище защитника вдов и сирот. У подножия мрачного сооружения ютились хижины крепостных. Время от времени у дороги попадались аббатства, где, как муравьи, хлопотали многочисленные монахи. Порой путники встречали караван восточных купцов, спешивших добраться до захода солнца в соседний городок, за стенами которого их товары находились в относительной безопасности, хотя за убежище приходилось платить пошлину у городских ворот, как, впрочем, и на всех мостах, у переправ и просто на дорогах, и еще благодарить судьбу, что удалось избежать разбоя и грабежа.
И вот в одно прекрасное утро, даже не заметив, что пересекает какую-то государственную границу, посольство очутилось в русских пределах. Никаких пограничных знаков там не оказалось, если не считать выбитого на камне креста. Проехав еще две мили, франки увидели непривычные бревенчатые избушки, в беспорядке разбросанные подле дубовой рощи. Одна из них, более значительная по размерам и с деревянной дымницей, служила жилищем мытнику. У стены его дома виднелось беззаботно прислоненное копье.
Ведал заставой упитанный человек с окладистой белокурой бородой. Судя по тому, как проворно бегали у мытника глаза, можно было предположить, что от него ничего нельзя скрыть ни в одном мешке. Переговорив с этим представителем власти, Людовикус объяснил епископам, что им предлагают отдохнуть, прежде чем пуститься в дальнейший путь. Подобное приглашение вполне совпадало с планами Роже, желавшего привести в надлежащий вид людей и животных, поэтому возражения с его стороны не последовало.
Здешние жители, как на подбор рослые, с длинными усами или такими же светлыми бородами, как у мытника, смотрели на чужестранцев необыкновенного вида с любопытством, но миролюбиво, хотя многие франки имели при себе мечи. В свою очередь толстый Готье с интересом наблюдал окружающий мир. Епископ вспомнил, как перед отъездом посольства из Парижа король Генрих, по обыкновению хмурый и вечно чем-то недовольный, спросил, что представляет собою страна, куда едут за его невестой. Откашлявшись в кулак и приняв надлежащий вид, он объяснял королю:
– Руссия, или Рабасция, – огромное царство. У Птоломея упоминается народ, называвший себя рабасциями. Возможно, что это предки русских. В их стране находится город Синтона, а к востоку возвышаются Рифейские горы. Но зимою в тех пределах выпадает так много снега, что для путника затруднительно попасть в северные области. Некоторые писатели предполагают, что дальше уже обитают люди с песьими головами, а также амазонки.
В ответ на объяснения король погладил бороду. Генрих не очень интересовался латинскими хрониками, однако до него дошли слухи о плодовитости русских принцесс. Когда умерла королева, по рождению своему дочь германского императора, французский король решил найти себе новую подругу. Между тем почти все соседние монархи уже состояли с домом Гуго Капета в кровном родстве, а церковь сурово карала за брак на родственницах до седьмого колена. Тогда Генриху пришла в голову счастливая мысль обратиться в поисках невесты к далекому русскому властителю, о котором во Франции стало известно, что он уже выдал одну дочь за норвежского короля, а другую – за венгерского. Кроме того, Генриха уверяли, что у русского короля лари набиты золотыми монетами, и это обстоятельство еще более усилило влечение к далекой русской красавице.
В тот день, беседуя с королем, епископ Готье очень гордился своими географическими познаниями. Теперь он убедился, что в русской стране нет ни амазонок, ни людей с песьими головами, ни циклопов, сведения о которых он черпал в пыльных фолиантах знаменитой Реймской библиотеки. Все вокруг дышало миром. Над лужайками высоко в воздухе пели жаворонки, такие же, как во Франции, и с такими же волшебными горошинами в маленьких птичьих горлышках. Но русские оказались весьма любопытными людьми, и Людовикус едва успевал переводить их вопросы и ответы епископов. В свою очередь франки хотели знать, сколько дней пути осталось до Киева, где в настоящее время находится король Ярослав, и в добром ли здравии его прекрасная дочь. Готье интересовали другие вопросы: подчиняются ли здешние жители в церковном отношении Константинополю и читают ли греческие книги, хотя отлично понимал, что бесполезно спрашивать об этом простодушных мытников. Роже больше занимали житейские дела. В частности, ему захотелось узнать, какое содержание получает мытник, и тот деловито объяснил Людовикусу:
– Ежедневно две курицы, а на неделю – семь ведер солода и половину говяжьей туши или барана. Или же деньгами, сколько все стоит. Еще хлебы и пшено. А в среду и пятницу – по сыру…
Из этих слов епископ понял, что служители киевского владыки живут неплохо.
Мытник тоже полюбопытствовал насчет того, что путешественники везли на возах, и, когда ему показали дары, которые франкский король слал своему будущему тестю, белокурый великан похвалил великолепные мечи, со знанием дела пощупал сукна и взвесил в опытной руке серебряные чаши, с большим искусством сработанные парижским мастером. Епископы не знали, что в Киев уже ускакал гонец, чтобы сообщить о прибытии послов. Поплотнее надев на золотую голову шапку из греческого миткаля, отрок помчался на сером гривастом коньке по щебнистой дороге, то спускаясь в овраги, где еще журчали весенние ручьи, то поднимаясь на бугры, то пересекая зеленые луга, щедро осыпанные желтыми цветами. Дубравы встречали его прохладой, вечером в роще защелкал соловей, а когда на небе высоко поднялся серп полумесяца, гонец уже подъезжал к спящему Киеву.
Когда регенсбургские купцы прибывали в Киев и, задрав носы и придерживая обеими руками суконные шляпы, обшитые лисьими хвостами, смотрели на великолепное сооружение Золотых ворот, они изумлялись, что человеческие руки способны поднять тяжкий камень на такую высоту. По сравнению с хижинами предместья воротная башня казалась огромной, и, чтобы еще более усилить впечатление величия и в то же время легкости, хитроумный строитель несколько сузил ее кверху, так что построенная на высоком забрале церковь уже как бы висела в воздухе, витала в облаках, медленно проплывавших по небу. Башня была из розового кирпича, церковь сияла на солнце белизной стен, на куполе блистал золотой архангел. Дубовые створки ворот, обитые листами позолоченной меди, приводили в восхищение диких печенегов, считавших, что это – чистое золото. Никогда еще не видели люди ничего подобного в полуночных странах, и казалось удивительным, что внизу все оставалось простым и обычным: лужайки, одуванчики, пыльная дорога, выбоины от колес, свидетельствовавшие об оживленной торговле.
Под гулким сводом ворот, вдруг нависавшим над головою, беспрестанно проходили путники и с грохотом проезжали колесницы. На одних повозках доставляли в Киев солому или бревна, на других – горшки, глиняные корчаги с медом и дубовые бочки с солодом. Горделиво поглаживая светлые усы, ехал на горячем коне варяжский наемник в красном плаще на желтой подкладке. Смиренный дровосек нес на спине вязанку хвороста, чтобы продать топливо на торжище и купить хлеба. Обожженный солнцем и с длинным посохом в руках, усталый паломник возвращался из далекого странствия в свое отечество. Еще на одном возу немецкие купцы везли дорогие товары. Жизнь била ключом.
Среди этой суеты, недалеко от городских ворот, широко раздвинув ноги, оплетенные ремнями обуви, сидел на земле седобородый слепец и, перебирая когтистыми пальцами струны, пел дрожащим голосом о битве под Лиственом, прославляя подвиги Мстислава, как будто с тех пор не случилось ничего примечательного на Руси.
Старец берег гусли, как сокровище – единственное свое утешение на закате дней и средство для пропитания, – и в непогоду прятал их под овчиной, накинутой на плечи. Но почерневшая доска, на которой были натянуты струны, блестела от многолетнего пользования и в одном месте дала трещину. Слушатели вспоминали с печалью, что на этих гуслях играл некогда сам великий Боян, ныне уже покинувший землю.
Прислонившись к каменной стене, подле гусляра стоял румяный и голубоглазый отрок; на голове у него ветерок шевелил копну русых волос, а на босых ногах еще остался прах дальних дорог. На странниках были холщовые рубахи до колен, вшитые в рукава повыше локтей красные полосы выгорели от солнца. Юноша привел слепца в Киев из Чернигова, чтобы вести его отсюда в Смоленск или в далекую Тмутаракань – всюду, где русские люди слушают песни и награждают певцов пенязями, усаживают за стол, полный яств, и предоставляют ночлег на душистой соломе.
Певец не протягивал руку за подаянием, а брал деньги, как орел берет добычу когтями, однако прохожие редко бросали в деревянную чашку серебряные монеты и чаще клали кусок ячменной лепешки с добрым пожеланием. Голос у певца с годами стал немощным, у отрока же еще не чувствовалось сладостного умения в повторах, и богатые люди, постояв немного, проходили своей дорогой; им приходилось слышать на княжеских пирах более голосистых певцов, а бедняк мог только поделиться куском хлеба. С церковных папертей слепца прогоняли за призывы к древним богам, ему остались в удел лишь торжища и городские ворота.
Струны переливчато рокотали, и под их звон старик начал песню, которую сложил Боян, взирая с холма на ночное сражение в ту грозовую ночь, когда созревали рябины и синие молнии непрестанно освещали жестокую сечу:
- Стояла осень,
- Была ночь рябинная,
- Шумела битва под Лиственом,
- Гроза грохотала на небесах.
- Когда синие молнии озаряли
- Мечи, поднятые в сраженье,
- Неподвижными они казались
- На мгновение ока…
Эту песню не любили в киевских палатах. Листвен был связан для Ярослава с воспоминаниями о страшном поражении, когда князь, спасая бренную жизнь, бежал в Новгород, а ярл Якун потерял на поле битвы свой знаменитый золотой плащ. Боян воспевал храбрость Мстислава, но наступили новые времена, и ныне певцы, если у них в груди билось русское сердце и трепетало в горле соловьиное дыхание, прославляли не победителей в княжеских усобицах, а победы над печенегами. Ведь сегодня один князь сидел на златокованом киевском столе, завтра – другой, а Русская земля будет вечно стоять под солнцем. В борьбе за великое княжение одержали победу разум и терпение Ярослава; песню, сложенную о подвигах храброго черниговского князя, забыли, и только монастырский книжник взял из нее несколько строк, чтобы украсить риторическим цветком летописное повествование о братоубийственном сражении:
- Стояла осень,
- Была ночь рябинная…
Обманув бдительный материнский надзор, Анна поспешила к Золотым воротам. Она накинула на голову зеленый шелковый плат, чтобы спрятать взволнованное лицо от нескромных взоров, но встречные узнавали ее, останавливались и говорили с улыбкой:
– Здравствуй! Будь счастливой, Ярославна!
Люди охотно разговаривали с Анной, и она всегда ласково отвечала им – старикам, женщинам, мужам; но сегодня княжна была в смущении и торопилась пройти незамеченной.
Киевляне никому не улыбались так при встрече – ни мудрому ее отцу, ни ее горделивой матери, ни ее красивому брату Изяславу, ни другим братьям – заносчивому Святославу и благочестивому постнику Всеволоду, а только трем сестрам – Елизавете, Анне и Анастасии. Но надменная Елизавета, прозванная за тонкий стан Шелковинкой, уже была в холодной Скандинавии, замужем за норвежским королем Гаральдом; Анастасия уехала жить в страну угров, на синем Дунае. А теперь приехали послы, чтобы увезти третью дщерь Ярослава во Францию.
Княжну сопровождали подруги, участницы ее детских игр, – Елена, дочь Чудина, и Добросвета, племянница ослепленного греками воеводы Вышаты. Елена была светловолосая девушка с зелеными глазами и белыми ресницами, как это часто бывает у женщин, что живут у Варяжского моря; Добросвету отличали темные лукавые глаза и пушок на верхней губе. Девушки тоже волновались, им не терпелось подняться на забрало, чтобы смотреть оттуда на приезд франкских послов.
От торопливых движений плат Ярославны упал на плечи и открыл золотистые косы, за которые скандинавские скальды называли в своих стихах дочь русского конунга Рыжей. Но косы Анны не висели за спиной, как у поселянок, и не лежали на груди, как у знатных подруг, а, по заморскому обычаю, были уложены на голове в виде высокого венца. С такой прической приезжали на Русь греческие царевны.
По обеим сторонам улицы рубленые дома богатых людей, с красивыми вышками на кровлях и петушками на оконных наличниках, стояли вперемежку с построенными из дерева и глины лачугами бедняков. Толкались и шли по своим делам киевляне и чужестранцы. Здешние жители были в белых рубахах с красными полосами на рукавах, арабы и персы – в чалмах и пестрых одеждах, немецкие купцы – в широких лисьих шапках, кочевники – в заячьих колпаках.
Когда Анна и ее смешливые подруги прибежали к воротам, до них донеслись звуки гуслей. Слепец, отрешенный среди своей вечной ночи от суетного мира, пел:
- Стояла осень,
- Была ночь рябинная…
Но, почувствовав вокруг себя какие-то перемены и людское волнение, он умолк.
В длинном проезде под воротами воздух был гулок, как в пустой бочке. В стене виднелась небольшая дубовая дверь, за которой лесенка вела наверх, в церковь Благовещенья. Черный монах, выполнявший обязанности привратника, отпер дверцу огромным ключом. Железо заскрежетало на крюках, и Анна, едва сдерживая волнение, взбежала по скрипучим деревянным ступенькам на забрало. Над головой прошумела стая спугнутых голубей. Взволнованно дыша и предвкушая необычное зрелище, вслед за Ярославной на башню поднялись подруги и несколько знатных женщин, сгоравших от нетерпения увидеть посланцев далекого короля. Случилось так, что и пресвитер Илларион тоже взошел с медлительностью зрелого возраста на забрало. У него имелись свои причины для любопытства. Гонец, прискакавший с пограничной мытницы, сообщил, что на этот раз едут не купцы, а латинские епископы. Иллариону было хорошо известно, что латыняне совершают евхаристию на опресноках и причащаются облатками, а не из чаши, но его сердце наполнялось гордостью при мысли, что слава русского государства достигла самых отдаленных пределов земли, долетела до Рима и Франкского королевства, доказательством чего служил приезд посольства.
Илларион был великий постник, и продолжительное сидение за перепиской книг, с чернильницей в одной руке и заостренным тростником в другой, повредило его здоровью и сделало дыхание затрудненным. Когда пресвитер поднялся наконец на вымощенную каменными плитами площадку, женщины уже сгрудились у забрала, наполняя воздух звоном золотых ожерелий. Но Анна смотрела не туда, где пылила дорога, а вниз. У въезда в воротную башню сидел на белом жеребце молодой ярл Филипп, в красной русской шапке с меховой опушкой и в голубом плаще, падавшем широкими складками на круп коня. Дорога к Золотым воротам, выходя из дубравы, постепенно поднималась мимо городского вала и капустников. Вскоре из-за дубов показался конный отряд. Впереди ехали три всадника, за ними – другие, а позади двигались повозки. Кони и колеса поднимали пыль, и ветер относил их в сторону; наверху он порывисто играл шелковыми женскими одеждами.
Анне хотелось крикнуть Филиппу: «Посмотри же на меня!»
Но ярл не отрываясь глядел в ту сторону, откуда приближались франки. Опечаленная Анна тоже перевела туда свой взгляд и увидела, что всадник, ехавший между двумя епископами, был ее брат Всеволод. Епископы сидели на странного вида ушастых животных, оба в черных монашеских одеждах и серых плащах с куколями, оба бритые, с венчиками седых волос вокруг розоватых гуменцев.
Перед величественными воротами послы невольно остановили мулов, и Всеволод не без гордости пояснил:
– Золотые врата… Наподобие константинопольских…
Готье удивленно посмотрел на мощное сооружение, а рыцарь Шони не преминул заметить, что у въезда в город стоят, опираясь на копья, многочисленные русские воины в железных кольчугах и остроконечных шлемах, с красными щитами. Некоторые из них выглядели совсем юными, другие, наоборот, гордились седыми бородами. Их предводитель – судя по длинным белокурым волосам, падавшим на плечи, молодой знатный скандинав – гордо сидел на белом жеребце. Спокойное и на редкость красивое лицо его ничего не выражало. Это был наемник, который верно служит всякому, кто щедро платит. Но воины взирали на франков любопытствующими глазами. С не меньшим любопытством разглядывали чужестранцев светлоглазые женщины в красных и синих сарафанах, с пышными полотняными рукавами, расшитыми в долгие зимние вечера пестрыми узорами. Был праздничный день. На груди у киевлянок позвякивали от каждого движения тяжкие мониста из сребреников. Эти драхмы или денарии лежали на прилавке у менялы, ими платили за мех или мед, награждали за службу, ради них проливалась человеческая кровь, а теперь они украшали русских красавиц. Со всех сторон к воротам сбегались стаи белоголовых, босоногих ребятишек.
Поучительно и любопытно попасть в чужую страну и наблюдать там иные нравы. Некоторое время епископы обсуждали величие и прочность киевских ворот и одобрительно кивали головами. Не в каждом городе они видели подобное. Всеволод смотрел на них с понимающей улыбкой. Потом всадники стали один за другим въезжать в ворота.
Молодой большеглазый русский воин сказал другому, с широкой рыжей бородой:
– Смотри, Братило, доспехи у них не такие, как наши. Закрывают все ноги кожей и железом.
Старый воин рассудительно ответил:
– Нам такие не подходят. Нам надо быть легкими, как птица. А такой доспех – большая тяжесть для коня. Если конь устанет в поле, как ты догонишь печенега?
Но посольство уже направлялось по кривой улице, кое-где вымощенной бревнами. Весело застучали подковы. Впереди показались два монастыря, обнесенные каменной оградой.
Всеволод все с той же благостной улыбкой, перенятой у греческих царедворцев, с которыми ему часто приходилось иметь дело, объяснял:
– Конвентум[2] святого Георгия… Конвентум Святой Ирины…
Илларион называл Всеволода пятиязычным чудом, но без привычки молодому князю было трудно изъясняться по-латыни, и он старался составлять возможно короткие фразы. Епископы понимали его и одобрительно кивали головой.
По сравнению с Готье Савейером Всеволод казался хрупким, как девушка. Это был княжич с юношеской рыжеватой бородкой, орлиным носом и красивыми, широко расставленными, как у всех Ярославичей, глазами. Одеяние его составляли – воинский плащ малинового цвета, под которым виднелись голубая рубаха с золотым оплечьем и штаны из красного скарлата[3], засунутые в мягкие сапоги из зеленой багдадской кожи. На бедре у Всеволода висел и слегка покачивался от мерного шага коня прямой длинный меч в ножнах с серебряными украшениями. Этот яркий наряд и парчовая шапка с бобровой опушкой, надетая слегка на правое ухо, говорили о богатстве и желании покрасоваться, и, как бы чувствуя это, княжеский конь вдруг стал гарцевать, косясь на спокойных длинноухих мулов, на которых не без торжественности восседали епископы.
Народу на улице собиралось все больше и больше, но люди особого удивления при виде проезжавших чужестранцев не выражали. Здесь уже не раз смотрели на латинских священнослужителей в плащах с куколями, греческих посланцев в скарлатных скуфьях, а кроме того, немецких и арабских купцов, моравов, хазар, евреев и жителей Персиды. Впрочем, ушастые мулы вызвали некоторое веселие.
Наконец посольство очутилось на площади, с одной стороны которой стояла огромная розовая кирпичная церковь, а с другой – виднелось несколько каменных зданий. На некотором подобии триумфальной арки, вроде тех, что Роже видел в Риме, взлетала ввысь четверка бронзовых коней. На мраморных колоннах стояли статуи, запачканные голубиным пометом.
– Откуда попали сюда эти великолепные кони? – спросил епископ Готье Всеволода. – Вероятно, из Константинополя?
– Из Херсонеса… Военная добыча… – ответил княжич.
– А статуи?
– Из того же города. Одна из них изображает греческую богиню Афродиту. Так объяснили мне приезжие греки. Две другие – какую-то древнюю женщину. Она считалась покровительницей Херсонеса.
– Если мне не изменяет память, это Гикия, – вспомнил всезнающий Готье.
– Гикия? – переспросил Роже. – Такой мученицы я не знаю.
– Этим именем звали не мученицу, а языческую женщину, спасшую Херсонес от боспорцев.
– От боспорцев?
Обстоятельства мешали епископу Готье рассказать о прославленной античной героине, хотя Всеволод с большим вниманием слушал его латинскую речь. Молодой княжич был любителем подобных повествований. Однако впереди уже выплывала навстречу розовая громада Софии.
2
Великий князь Ярослав спускался иногда из своих покоев, стуча жезлом по каменным ступеням лестницы. Это происходило в дни совета с дружиной или когда он совершал паломничество в Вышгород, чтобы поклониться гробницам мучеников Бориса и Глеба. Но в день приезда послов старик не пожелал покинуть свои палаты. Ему приходилось слышать от лукавых греков, что владыка, таящийся в молчаливом дворце и появляющийся перед народом только в особо торжественной обстановке, при звуках труб и органов или пении церковных псалмов, производит на людей более сильное впечатление, чем доступный для всякого правитель, что бродит по торжищам, как простой смертный. Кроме того, в связи с приездом послов необходимо было предварительно посоветоваться с пресвитером Илларионом.
Когда посланный мытником гонец прискакал к Лядским воротам, в городе только что пропели первые петухи. Известие, доставленное с рубежа, вызвало в доме воеводы ночной переполох. Дело не допускало промедления. Старый князь требовал, чтобы обо всех важных событиях ему докладывали немедленно, не считаясь ни с поздним временем, ни с расстоянием, ни с дурной погодой. А посольства приезжают не каждый день.
Седоусый воевода, ленивый дородный варяг, разжиревший на русских хлебах, мучительно чесал волосатую грудь, и в расстегнутом вороте белой рубахи при свете свечи, которую держал в руках отрок, поблескивал золотой крест с синей финифтью. Рядом с мужем, разметав на розовой подушке русые косы и широко раскинув нагие горячие руки, спала на пуховой постели боярыня, такая же дородная, но молодая и нежная, и стыдливо улыбалась какому-то приятному сонному видению. От стука в дверь, от ночного разговора она проснулась, подняла заспанные, ничего не понимающие глаза, посмотрела на свечу, на гонца, на супруга, вздохнула и снова уронила тяжелую голову на шелк подушки, прикрывая беличьим одеялом круглое теплое плечо, чтобы соблюсти женскую стыдливость и не вводить в напрасное искушение отрока, уже невпопад отвечавшего на вопросы.
Воевода морщился, почесывался, с неудовольствием думая, что ничего не остается, как покинуть супружеское ложе, чтобы поспешить в княжеский дворец, и стал натягивать на длинные ноги красные штаны.
– Коня! Поедем к конунгу Ярославу средь ночи! – сказал он в сердцах отроку. Воевода считал ниже своего достоинства даже на близкое расстояние ходить пешком, да в ночное время и городские псы могли повредить одежду или разбойник подстеречь в темном переулке с ножом в руке. Старый муж не видел, что жена наблюдала за ним с женским притворством сквозь лукаво опущенные ресницы.
Подковы глухо зацокали. Воевода громко зевнул и равнодушно посмотрел на прекрасные небеса. На небе сияли звезды. То дружно принимались лаять, то вдруг умолкали собаки. Уже начинало светать. Позади ехал молчаливый отрок.
В княжеском дворце воеводе прежде всего пришлось разбудить дворецкого. Этот константинопольский евнух, родом тоже варяг, но попавший в плен к грекам и оскопленный по жестокой прихоти василевса, долго крестился и шептал молитвы, прежде чем сообразил, что от него требуют. На Русь он приехал недавно с дочерью Мономаха, ставшей супругой княжича Всеволода, и по совету Иллариона великий князь взял скопца к себе на службу, из тех соображений, что он хорошо знает греческие дворцовые порядки.
Итак, некоторое время ушло на совещание с евнухом. Воевода хмуро объяснил ему в конце концов, что случилось. Уже давно по киевскому торжищу ходили всякие слухи, но послов в Киеве еще не ждали, и никто толком не знал о цели посольства, хотя немецкие купцы и русские путешественники, побывавшие в Регенсбурге с мехами, уверяли, что франки едут за Ярославной и мощами святого Климента.
Зная привычки старого князя, воевода спросил:
– Бодрствует?
– Читает даже в нощи, – отвечал шепотом скопец, прикрывая рот рукою, как будто бы сообщая некую важную государственную тайну.
– Как нам поступить?
– Передать эпистолию. Иначе будет гневен.
– Тогда поднимемся в опочивальню.
Ярослав страдал бессонницей и, чтобы скоротать ночные часы, читал книги, лежа в постели, и это вошло у него в привычку. Ведь столько хотелось узнать повестей, что на это не хватило бы времени днем, когда нужно советоваться о государственных делах, разбирать тяжбы, присутствовать на богослужениях, выезжать на звериные ловы. Так он полюбил книжное чтение паче жизни и часто говорил сыновьям:
– Книжные словеса суть реки, напояющие вселенную…
В тихой княжеской ложнице потрескивала в серебряном подсвечнике толстая восковая свеча, наполовину сгоревшая, и ее трепетный свет казался человеку, еще помнившему о лучине в светце, вполне достаточным, чтобы разбирать письмена. Ложе было узкое, почти монашеское, но под навесом из тяжкой парчи на четырех точеных позолоченных столбиках. У одной из стен, обитых желтой материей, стоял раскрытый ларь, наполненный книгами в переплетах из кожи, из алого или синего, как васильки, сукна. Каждая такая книга, иногда украшенная разноцветными каменьями, осыпанная жемчужинами, с серебряными коваными застежками, представляла собою целое сокровище, но люди бережно брали ее в руки не столько ради высокой цены жемчужин и серебра, сколько из уважения к искусству писца. Труд переписчика считался таким же святым, как труд пахаря. Следующее можно сказать о книгописании: бывает доволен купец, получив прибыль, и кормчий, пристав с кораблем в затишье, и странник, вернувшись в милое отечество; так же радуется переписчик, доведя до конца свое предприятие.
При всей бережливости Ярослав тратил огромные деньги на покупку и переписку славянских и греческих книг, и не мудрено, что ларь оковали железом и устроили в нем хитроумный замок.
На скамье лежала одежда князя и поверх – боевой меч в потертых кожаных ножнах с серебряным наконечником. Так он мог спокойнее спать на случай народных возмущений или вероломства со стороны бояр.
В углу висела икона, написанная молодым киевским художником. Лик богоматери живописец изобразил не таким темным и суровым, как это делали обычно в далеком Царьграде, а как бы освещенным нежной зарей. Она склоняла голову к своему младенцу, прижимая его к груди… Всякий раз при виде этой иконы Ярослав вспоминал странные глаза художника, как бы ищущие в мире некую скрытую прелесть. Такое же беспокойство о красоте светилось в них и тогда, когда живописец писал в Софии лики княжеской семьи и с какой-то тайной тревогой смотрел, стоя на высоком помосте, с кистью в руке, то на Анну, пришедшую подивиться труду его, то на сияющее красками изображение дочери Ярослава.
Лежа на боку, чтобы удобнее было больной ноге, которая все больше и больше стала напоминать о себе при перемене погоды, Ярослав одной рукой подпирал голову, в другой держал раскрытую книгу. Он читал «Притчи Соломона».
Вглядываясь в красные буквы, четко написанные рукою писца Григория и украшенные цветами и прихотливыми злаками юным художником, кому, казалось, сами ангелы подарили это необыкновенное искусство, Ярослав шептал, едва двигая губами:
– «Не премудрость ли взывает и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенном месте, при дорогах и на распутьях. Она взывает у городских ворот, при входе в город и у дверей дома…»
Ярославу послышались какие-то шорохи за дверью или на лестнице, ведущей в опочивальню. Князь перестал читать и прислушался. Нет, все было тихо среди ночи, и он знал, что у двери стоят на страже преданные отроки с мечами на бедре, бодрствуют и, может быть, приглушенными голосами переговариваются между собою.
Эти странные слова, не похожие на обычную человеческую речь, напоминали звон гуслей. Но они открывали сердцу, что мир не застыл в оцепенении, а полон жизни и движения.
– «Не разум ли возвышает голос свой?..» – со вздохом повторил старый князь.
Ярослав оторвался от книги. Где родились люди, писавшие подобное? Но разве Илларион не рождал в тишине кельи такие же сладостные слова, украшая свои мысли книжными цветами? Князь знал греческий язык, ему объяснили еще в юности, что такое метафора, и он умел оценить великолепие слога и мудрость писательского замысла.
– «Когда был дан устав морю, чтобы волны не преступили пределы его, и положено основание земли, и тогда я уже трудилась художницей на земле и был радостью каждый день…»
Все представлялось смутным в этих строках, однако сквозь туман древних слов, опьяняющих, как церковный фимиам, светилась мысль, что мир полон неизъяснимой красоты. Какими возвышенными казались эти строки по сравнению с ежедневными маленькими заботами, отвлекающими человека от помышлений о величии мироздания.
Но чтение утомило глаза, заглавные буквы из красных сделались голубыми. Ярослав отложил книгу, и тогда мысли князя, цепляясь одна за другую, возвратили его к действительности, к жизни, прошедшей в большой тревоге. Горница наполнилась видениями.
Уже достигнув преклонного возраста, отец, великий царь Владимир, захворал и лежал на одре болезни в своем любимом берестовском дворце. Ярослав сидел посадником в Новгороде, в том северном городе, который так удивлял греков бревенчатыми банями, где люди бичевали себя березовыми ветвями, хотя делали это не для мучения, а для омовения. Любимцами старого князя считались самые младшие сыновья – Борис и Глеб. К Ярославу отец особой нежности не питал. Еще с тех дней, когда в лучших своих чувствах была оскорблена мать, гордая Рогнеда, он тоже затаил в сердце зло против родителя. Отец возвратился из Корсуни с греческой царицей, красота которой заключалась не в нежности румянца на щеках, не в соболиных бровях, а в белилах, в шуршащем шелке одежд, в жемчугах. Она привезла с собою драгоценные скляницы, полные благовоний и притираний, и ради всего этого Владимир забыл о Рогнеде. Но мать с презрением отвергла предложение выйти замуж за какого-нибудь знатного дружинника, заявив с гневом, что, будучи госпожой, она не желает стать женою раба, и маленький Ярослав воскликнул, рукоплеская:
– Поистине ты царица царицам и госпожа госпожам!
Когда Ярослав подрос, отец отослал его подальше от себя, и молодой князь жил на новгородском дворе, как в осажденной крепости, под охраной варяжских наемников. Время от времени свободолюбивые новгородцы избивали их, если те совершали какое-нибудь насилие. Молодой посадник старался жить в мире со всеми: варяги охраняли его покой, а у новгородских купцов в ларях звенели серебряные и даже золотые монеты. Но когда однажды жители перебили варягов на дворе некоего Парамона, он разгневался и лукаво велел сказать горожанам:
– Ну что ж, мне их уже не воскресить!
Лучшие мужи явились к нему, а он предательски казнил их, мстя за своих наемников. И в ту же ночь пришла весть о смерти великого князя.
Уже некоторое время тому назад Ярослав, не ладивший с отцом, построил новый дворец в Новгороде. Затратив на него немало денег и понимая, что городские доходы ему на пользу, он отказался посылать в Киев ежегодную дань в размере двух тысяч гривен. Там это почли за явное неповиновение отцовской воле, и начитанные люди вздыхали при мысли, что еще раз повторилась на земле история с Авессаломом, проявившим непокорство отцу своему Давиду. Охваченный гневом, не терпевший никаких противоречий, старый князь решил наказать мятежного сына вооруженной рукой и отдал приказ готовиться к походу на Новгород.
– Чините дороги и мостите мосты!
Уже смерды приступили к наведению путей, стали рубить деревья и класть гати в непроходимых болотах, чтобы киевское войско могло пройти в новгородские пределы, но во время военных приготовлений Владимир совсем расхворался и умер в Берестове.
Ярослав, только что избивший новгородцев, собрал вече и сказал, вытирая слезы:
– О, милая моя дружина! Вчера я ее перебил, а сегодня она оказалась мне нужна. Отец мой умер, Святополк сидит в Киеве и убивает братьев моих.
Новгородцы, наделенные государственным разумом, ответили:
– Хоть ты и иссек наших братьев, но будем бороться за тебя.
Борис, предполагаемый преемник отца на золотом киевском столе, находился в те дни в далеких печенежских степях, гоняясь с дружиной за кочевниками, осмелившимися вновь нападать на русские пограничные селения. Бояре совещались втайне, не зная, как поступить при таких обстоятельствах, и не объявляли о смерти князя, опасаясь потрясений. Однако трудно было скрыть печальное событие от народа в продолжение длительного времени, и тогда они решили предать усопшего земле.
По русскому обычаю тело князя не вынесли из опочивальни в дверь, а спустили на двор, разобрав крышу дома. Также, во исполнение другого древнего обряда, мертвеца повезли в Киев не на конях и на телеге, а на санях, запряженных волами, хотя было летнее время. Но известно, что волы самые чистые и мирные животные в вертепе и не способны потревожить последний сон человека брыканием.
Когда гроб привезли в город, со всех сторон стали сбегаться люди, чтобы в последний раз взглянуть на великого князя, и горько плакали, ударяя себя в грудь. Монахи же утверждали, что отныне вдовы и сироты остались без покровителя. Под рыдание всего народа и пение псалмов старого князя Владимира Святославича похоронили в каменной гробнице, в прекрасной Десятинной церкви, недалеко от гроба греческой царицы Анны, его супруги.
У Владимира было много сыновей. Но Борис замешкался в степях в тщетных поисках печенежских становий; Ярослав выжидал событий в Новгороде; Мстислав сидел в далекой Тмутаракани, Святослав – в Деревах, Глеб – в богатом пушным зверем лесном Муроме, где часто смущали народ волхвы; Судислав правил в рыбном и грибном Плескове, на берегах реки Великой. В Киеве в те дни оказался лишь Святополк, сын той пленной гречанки, жены Ярополка, которую Владимир взял на свое ложе после смерти брата ради красоты ее лица. Воспользовавшись отсутствием братьев, Святополк захватил власть в Киеве, окружил себя легкомысленными отроками, упивался на пирах греческим вином, услаждал свой слух музыкой.
Борис, еще безбородый юноша, красавец с огромными глазами, с тонким станом, как у девушки, любимец отца, возвращался с дружиной из печенежских степей, ничего еще не зная о том, что произошло в столице. Святополк же явился ночью в Вышгород, где у него нашлись приверженцы, и велел им убить брата. Имена этих дружинников такие: Путша, Толец, Олович и Ляшко. А отец им – сатана.
Борис остановился на ночлег, поставив воинские вежи[4] на реке Альте. Злодеи поспешили туда и услышали, как княжич, один в шатре, пел ночью часы, так как даже в походы брал с собою богослужебные книги. Подождав, когда Борис кончил молиться и лег спать, завернувшись в овчину, убийцы ворвались к нему с обнаженными мечами в руках. Никто не оказал им сопротивления; многие воины Бориса, не желая жертвовать своею жизнью ради княжеских усобиц, разбежались, другие крепко спали в шатрах, и только некоторые отроки пытались прийти на помощь княжичу. Среди них был любимый оруженосец Бориса, по имени Георгий, родом угр. Видя, как враги пронзили Бориса мечом, и слыша его предсмертные стоны, он воскликнул:
– Если погибает мой князь, пусть умру и я!
В ночном переполохе вышгородцы убили и оруженосца, а потом отрубили ему голову, чтобы удобнее было снять с шеи золотое ожерелье, которое Борис подарил этому преданному воину. Самого княжича, который еще дышал, злодеи завернули в рядно, положили на повозку и под покровом темноты повезли в Вышгород. Но, узнав, что брат только тяжело ранен, Святополк послал двух варягов с приказом прикончить Бориса. Они так и сделали. Когда вновь наступила ночь, окровавленное тело несчастного княжича привезли в город и тайно похоронили около церкви.
Глеб был в это время далеко, в муромских лесах. Святополк отправил к нему гонца со словами: «Приезжай не мешкая, ибо отец твой умирает!»
Не подозревая, что за этими словами кроется предательство, Глеб поспешно и с малой дружиной отправился в Киев. В Смоленске он оставил коня и поплыл в ладье. Но здесь Глеба встретил посланец Ярослава и открыл ему глаза на истинное положение вещей. Узнав о кознях Святополка, княжич решил искать спасения в бегстве, однако убийцы уже настигали свою жертву, и собственный кухарь, подкупленный Святополком, убил Глеба тем самым ножом, которым резал к обеду петухов и барашков.
– Как агнца невинного, – вздохнул Ярослав, вспоминая страшные дни. – Месяца септембрия в пятый день, в понедельник. В тот час над Русской землей зажглись два дивных светильника.
Но горницу уже посетили другие кровавые призраки. Ярослав вспомнил о своих тогдашних волнениях и страхах. Сестра его Предслава уведомляла в предостерегающих письмах обо всем, что происходило в Киеве. Ярославу оставалось выбирать: или бежать к варягам, как некогда поступил при таких же обстоятельствах отец, и спасаться за морем, где жила семнадцатилетняя Ингигерда, о которой молодой князь неоднократно слышал от скандинавских скальдов, воспевавших ее красоту и хозяйственность, или же начать братоубийственную войну.
Ярослав знал, что варяги обвиняли его в скопидомстве, хотя и уважали за ум и представительную наружность. Но теперь не приходилось жалеть денег, чтобы прибегнуть к помощи наемников. Как раз в те дни в Новгороде очутился ярл Эдмунд, тоже бежавший от грозившей ему опасности, когда конунг Олаф, по прозванию Святой, стал истреблять своих соперников. Ослепив самого опасного врага, ярла Рерика, он сделался единовластным господином страны, и Эдмунд опасался, что и с ним будет поступлено так же. Ослеплению варяги научились у греков, у которых этот обычай считался чуть ли не человеколюбивым, так как лишение возможности видеть мир обычно заменяло в Константинополе смертную казнь. Ярл покинул Скандинавию и, по примеру многих других товарищей по несчастью, поспешил в Гардарик, или страну городов, как варяги называли Русь.
Беглецы были радушно приняты в теплом дворце новгородского посадника. На первом же пиру в их честь, за чашей меда, среди подогретых хмельными парами повествований о подвигах и любовных приключениях, начался торг с наемниками. Но Ярослав хотел точно знать, на каких условиях Эдмунд предложит в его распоряжение мечи своих храбрых воинов.
Ярослав запомнил мельчайшие подробности разговора. Ведь речь шла тогда не о пустячных вещах, а о жизни и смерти. Вдали сияли синие глаза Ингигерды. Судя по рассказам варягов, приходивших в Новгород, молодой князь считал, что эта северная красавица могла бы стать для него достойной супругой и что нелишне породниться с ее влиятельным семейством, чтобы во всякое время получать помощь от варяжских ярлов. Он чувствовал себя полным сил, хотел бороться за свое будущее, хотя с детства не отличался крепостью мышц, был хром и напор сердечных чувств привык сдерживать и проверять разумом, действовал всегда с осторожностью, свойственной дальновидным людям.
Заметив, что воск обильно стекает на серебро светильника, Ярослав послюнил пальцы и снял со свечи нагар. Воспоминания теснились в его душе… В обширной, но низкой горнице пахло тогда гарью факелов и перебродившим медом. На столах стояли деревянные блюда с огромными кусками говядины. Желающие отрезали острым ножом сколько нужно, клали мясо на ломоть хлеба, солили по вкусу, опуская персты в солонку, и насыщались, прерывая еду только для того, чтобы послушать очередного скальда. Певцов было несколько, русских и скандинавских, и перед тем, как петь, они долго перебирали струны арфы или гуслей, точно в ожидании вдохновения, а потом услаждали слух гостей сильными и красивыми голосами, за какие одинаково ценят певцов воины и женщины.
Лишь два человека оторвались на время от этого песенного мира и держали себя как настоящие купцы, ведущие трудный торг.
Ярослав был очень осторожен в выборе выражений, зная, что каждое сказанное слово будет принято как написанное в грамоте с семью печатями. Кроме того, рядом с ним сидел на пиру седобородый новгородец, тысяцкий Гюрята, с которым приходилось считаться, потому что он предводительствовал сильным новгородским ополчением и в его распоряжении была богатая городская казна.
Эдмунд прилично обратился к Ярославу и сказал:
– Мы хотели бы сделаться защитниками твоего дела. Нам ведь известно, что произошло в Киеве. Нельзя сказать, чтобы жизнь твоя находилась в безопасности, а мои товарищи – опытные воины и способны оказать тебе большие услуги в трудную минуту.
– Не думай, что я так уж нуждаюсь в вашей помощи, – ответил со смехом Ярослав. – У меня тысячи новгородских воинов.
– Не спорю, они неплохо владеют боевыми топорами, но ведь мирные плотники и хлебопашцы не любят покидать свои нивы. А мы готовы служить тебе, пока ты не справишься со всеми врагами.
– Я знаю, что вы храбрые воины. Но все зависит от того, сколько вы потребуете за службу.
У Ярослава была круглая, темная, подстриженная по константинопольской моде борода. Так ее носили греческие цари и те патрикии и магистры, что приезжали иногда на Русь с посольскими поручениями, Эдмунд же, по старому обычаю, отпускал длинные усы и брил подбородок.
Торг продолжался. Ярл подумал немного и заявил:
– Во-первых, – загнул он мизинец на левой руке указательным пальцем правой, – ты пожалуешь нам с Рагнаром и всем нашим спутникам подходящие помещения и не откажешь ни в каком добре из своих запасов.
– На такое иждивение я согласен, – ответил Ярослав, переглянувшись с Гюрятой. Старик раскраснелся от меда, но неизвестно, о чем думал в этот час.
– Сверх того, – загнул Эдмунд еще один палец, – согласен ли ты платить по унции серебра в месяц каждому воину, а начальникам ладей назначить двойную плату? На таких условиях мы согласны сражаться впереди твоего знамени. И позволь тебя уверить, что за нашими щитами ты будешь чувствовать себя в полной безопасности.
Варяг не очень высоко ставил воинские качества Ярослава, еще не проявившего себя на полях сражений, и считал, что предлагает очень выгодную сделку, но молодой князь, наделенный более тонким восприятием человеческих отношений, чем грубоватый наемник, нахмурился. Он не собирался прятаться за чужими щитами! Кроме того, условия варягов показались ему малоприемлемыми. Ярослав посмотрел на Гюряту, как бы прося у него поддержки, и ответил:
– На это я не могу согласиться.
Однако Эдмунд вел себя так, как будто бы всю жизнь занимался торговыми делишками, что было недалеко от истины.
Он вздохнул.
– Жаль… Впрочем, если тебе затруднительно сейчас платить деньгами, – сказал варяг после некоторого размышления, – то мы согласны принять плату за службу мехами. А если у нас случится военная добыча, ты заплатишь серебром.
Молодой посадник обдумывал выгодность соглашения. Ценные меха бобров и соболей он мог и сам с выгодой переправить в греческую землю, где зябкие красавицы кутались в соболиные шубки… Но требовалась помощь наемников. С одними новгородцами рассчитывать на успех не приходилось. Особой нежности к своему князю они не испытывали. Эдмунд прав. Эти миролюбивые люди брались за оружие только в случае крайней нужды, когда на них нападали. А богатым купцам, как Гюрята, нужен только свободный путь от Новгорода до Царьграда…
Ярослав стучал пальцами по столу. Гюрята протянул чашу отроку, чтобы тот налил меду.
– Пожалуй, на такие условия мы можем согласиться? – вопрошающе посмотрел на него князь.
Польщенный, что молодой Владимирович ничего не предпринимает без его совета, старый тысяцкий погладил степенно бороду и ответил:
– Ты мудро решил. Новгород поможет тебе.
Соглашение было заключено. Варяги вытащили свои птицеобразные ладьи на берег, чтобы зимовать в Новгороде. Ярослав велел предоставить им хорошо натопленные дома, а горницу, в которой поселились Эдмунд и Рагнар, его седоусый сподвижник, обить красной материей. Воины стали немедленно вносить в нее оружие, меха, железные уключины, весла, неводы для ловли рыбы – все, что могло пропасть без присмотра, и вскоре это жилище превратилось в обжитое логово воинов, где топится очаг, пахнет овчиной и железом, куда днем рабы носят мед в глиняных кувшинах, а ночью приводят женщин.
В течение всей зимы никаких военных действий не предпринималось. Наступила весна. Снова выглянуло солнце, и быстрые ручейки побежали вдоль холмистых новгородских улиц, изливаясь с веселым журчанием в Волхов. Ярослав по-прежнему выжидал, а Святополк продолжал свое каиново дело. Святослав, княживший в Деревах, ближе всех к Киеву, узнав, что и ему угрожает опасность со стороны немилосердного брата, надумал бежать в Угорщину, но где-то уже у самых голубых Карпатских гор его настигли посланные вдогонку печенеги и безжалостно убили.
В конце концов Ярославу ничего не оставалось, как выступить с оружием в руках.
Встреча новгородцев с войсками Святополка произошла несколько позже, когда уже стал замерзать Днепр. Это случилось у города Любеч, где противники расположили свои станы на разных берегах реки. Однако время проходило в бездействии. Ни Ярослав, ни Святополк не решались переправиться через реку. Дружинники Святополка, большие любители пенного меда и веселья, кричали с противоположного берега, надсмехаясь над новгородцами:
– Эй, плотники! Зачем пришли сюда с вашим хромцом? Вот мы вас заставим рубить нам хоромы!
Ярослав в детстве покалечил себе ногу, слегка припадал на нее. Но новгородцам подобные шутки были не по душе. Они стали требовать от своего князя:
– Чего ты ждешь? Перейдем на ту сторону! А кто не пойдет с нами, того мы убьем.
В лагере Святополка находился тайный друг Ярослава, и осторожный князь послал к нему соглядатая спросить:
– Что нам делать? Меду мало, а дружины много…
Благожелатель велел передать князю:
– Настал час поить дружину медом!
Святополк впервые на Руси привел против христиан печенегов. Он стоял со своей конницей между двух озер, не давая себе отчета, что всадникам трудно действовать в болотистой местности. Повязав головы белыми убрусами, чтобы можно было отличить в темноте своих от врагов, новгородцы в полночь переправились на противоположный берег, а ладьи оттолкнули, отрезая путь отступления малодушным. Началась ночная битва. Эдмунд с варягами сражался на другом крыле. Впоследствии он уверял конунга, что это его храбрецы, а не новгородские мужики решили участь сражения. Но, вспоминая с книгой в руках ту страшную битву, Ярослав видел все, как было. Перед его умственным взором вновь возникла суматоха сражения. Ярл пререкался с Гюрятой и убеждал его поставить стражу у ладей, а не сталкивать их в реку. Но ладьи все быстрее скользили по черной воде в темноту ночи. Варяги негодовали на такую опрометчивость, и новгородцы осыпали наемников обидными словами.
– Какое войско так поступает! – взывал Эдмунд.
– А ты за что служишь? За гривну в месяц? – смеялись над ним новгородцы, вдруг превратившись из мирных плотников в кровожадных барсов.
Благодаря их мужеству Святополк потерпел жестокое поражение и бежал с остатками своих союзников в степи, а оттуда темными окольными дорогами перебрался в Польшу, Ярослав же отпраздновал победу и сел на киевском столе.
Но русского князя ждали новые затруднения и опасности. Святополку удалось завязать союзнические отношения с польским королем Болеславом, и по их наущению печенеги в огромном числе напали на Киев. Кочевников этот город манил сказочным богатством, горами мехов и серебряными ожерельями киевлянок, и они рвались к городским воротам. Только к вечеру Ярослав одолел печенегов, погнал в степь и там рассеял, как прах. А вскоре другие бедствия обрушились на Русскую землю. Киев опустошали чудовищные пожары. Угроза со стороны польского короля не исчезла, а срок договора с варягами кончался. Жалованье им часто задерживалось по нескольку месяцев, и однажды Эдмунд спросил конунга, желает ли он возобновить соглашение. Надеясь, что полученные в Киеве известия о смерти Святополка соответствуют истине, и зная о неладах поляков с немцами, Ярослав отвечал уклончиво. Но ярл настаивал на определенном ответе.
Тогда князь сказал:
– Полагаю, что в настоящее время у меня уже нет необходимости в твоих людях.
– Как знаешь, – ответил ярл, кусая ус.
– А если бы я вновь захотел прибегнуть к вашей помощи, то какие твои условия?
– Мы требуем теперь по унции золота на человека, не считая платы начальникам ладей, – развязно заявил Эдмунд.
– Тогда ты можешь считать наш договор оконченным.
– Это в твоей власти, конунг.
Великий хитрец и дальновидный человек, Ярослав только делал вид, что может обойтись без варягов, чтобы подешевле заплатить за их услуги. Однако ярл тоже понимал толк в торговых сделках. Он ехидно спросил:
– Но действительно ли ты уверен, что Святополка нет в живых? Тогда мы знали бы все подробности о таком важном событии. А между тем где же его могила? Приличные ли были устроены ему похороны? Что-то ничего не слышно о поминках.
– Может быть, мы еще услышим, – пробормотал князь.
– А люди, наверное, знали бы о местоположении могилы знаменитого воина, – не унимался Эдмунд. – Купцы, что приходят из Польши, рассказывают много всяких историй, но об этом не говорят ни слова. Не правда ли, странно, конунг? Боюсь, что твои люди только из раболепства убеждают тебя, что Святополк умер, чтобы сделать приятное своему господину, а на самом деле тут происходит нечто иное.
– Тебе известно что-нибудь? – не выдержал Ярослав.
Настало время вести игру ярлу. С деланым равнодушием он стал рассказывать:
– Я сам ничего не видел, но люди говорят разное. Осведомленные путешественники, которым я вполне доверяю, передавали, что твой брат жив и зиму провел в степях, собирая там воинов. А ты сам отлично понимаешь, для чего они нужны ему.
Положение Ярослава оставалось еще весьма непрочным, поэтому приходилось считаться с этими жадными до золота наемниками, и договор был возобновлен. Ярослав даже постарался завязать отношения с немецким императором Генрихом и заключил с ним союз, но польский король и Святополк разбили немцев. Позднее оба напали с поляками, уграми и печенегами на Русь. Летом они расположились на реке Буг. Туда пришли и полки Ярослава. Но он, по своему обыкновению, медлил начать военные действия, не стремясь проливать человеческую кровь. В этом сказывался его русский характер: никогда не начинать драку первым.
Зато варяжский воевода Блуд, дядька Ярослава, известный задира и насмешник, разъезжая на коне по берегу, издевался над непомерно толстым польским королем:
– Вот мы тебе скоро проткнем копием брюхо!
Такая похвальба не нравилась русским воинам, в большинстве своем хлебопашцам. Они любили сражаться в открытом поле, строй на строй, и уважали врага, чуждого вероломства, но битву горестно сравнивали с жатвой или с сельскими работами на гумне, где цепы стучат по снопам. Так и война веет душу от тела.
Повода для войны не было. Ярослав читал книги и предавался рыбной ловле. Однажды он оставил войско и удил на реке щук, радуясь счастливому улову. Воспользовавшись этим, Болеслав по наущению Святополка напал на киевское войско, и сам Ярослав едва спасся после этого разгрома. С немногими воинами, бросив все на произвол судьбы, он опять бежал в Новгород. Дорога на Киев была теперь открыта для врагов, и поляки вступили во главе со своим тучным королем и Святополком в притихшую столицу. Короля встретил у ворот и передал ему в виде добычи церковные сосуды тот самый Анастас, что некогда послал из Херсонеса стрелу в русский лагерь с указанием, где надо перекопать подземные трубы, доставлявшие в осажденный город воду. Владимир сделал Анастаса епископом и поручил ему Десятинную церковь, и вот он изменил Русской земле, как Иуда.
Ярослав уже считал, что все теперь потеряно, и в полном отчаянье собирался плыть за море, но упрямые новгородцы порубили секирами княжеский корабль, снаряжавшийся в морское путешествие, и решительно заявили князю:
– Хотим еще биться с Болеславом!
К счастью, скоро обстоятельства изменились в пользу Ярослава. Вражеские отряды, стоявшие в русских городах, вели себя разнузданно и были один за другим перебиты восставшими жителями. Болеслав поспешил уйти в Польшу. Святополк остался в Киеве с одними печенегами, и от него все отвернулись, так как русские люди не любили этого князя, зачатого в прелюбодеянии и пришедшего в Киев с иноплеменниками.
Между тем богатые новгородцы снова собрали необходимые средства, чтобы нанять в помощь себе варягов, и двинулись на освобождение Киева. Знаменитая битва, о которой долго говорили в самых отдаленных краях Русской земли и после которой многие жены плакали в печенежских степях, произошла на реке Альте. Сеча была ужасной. Наступила пятница, и всходило солнце, когда обе стороны начали бой. Сходились трижды, воины рубились, хватали друг друга за руки, и кровь ручьями текла по оврагам. К вечеру Святополковы знамена пали, и новгородские воины отерли с чела трудовой пот, точно закончили обильную жатву. Святополк бежал с остатками печенежских войск, и Ярослав вступил в Киев…
Свеча догорала, и в полумраке стали выползать из темных углов опочивальни страшные тени. Ярославу припомнилась еще одна беседа с Эдмундом. Дело происходило так…
Однажды ярл спросил его в явном смущении:
– Скажи, конунг, как нам поступить с твоим братом, если он случайно попадется в наши руки? Не разумнее ли убить его? Ведь никогда не настанет тишина в государстве, пока он будет жить на земле и замышлять против тебя всякие козни.
Ярослав вздрогнул. Он знал, что Эдмунд прав, что Святополк – брат лишь по отцу, а может быть, и не брат – много зла сотворил на Руси и не перестанет и впредь проливать христианскую кровь ради своего честолюбия. Но все-таки они были с ним из одного гнезда. Уклоняясь от прямого ответа и глядя в сторону, князь сказал сквозь зубы:
– Не могу никого подговаривать на убийство Святополка.
Он ушел поспешно в опочивальню, чтобы прервать неприятный разговор. Ах, почему память так цепко хранит проклятые подробности былых деяний? Есть ли прощение в будущей жизни за братоубийство?
А ярл Эдмунд подумал, что разгадал тайные мысли и опасения русского конунга. Вскоре после этого, рано утром, Эдмунд позвал своего побратима по оружию Рагнара и еще десять отборных воинов, среди которых оказались оба Торда, Бьерк и другие храбрецы, и велел им седлать коней. Всем было приказано одеться в платье торговых людей. Двенадцать всадников, позевывая на утреннем холодке, отправились в дубовый лес очередной скандинавской саги.
Позднее варяги рассказывали Ярославу всякие небылицы. Якобы, нацепив бороды из пакли, они проникли в лагерь Святополка, скрывавшегося в те дни с остатками своего войска в далеких степях. Выдав себя за купцов, Эдмунд с товарищами ворвались ночью в шатер князя и убили его предательским образом. Затем поспешили обратно в Киев, и у одного из всадников болтался притороченный к седлу мешок с головой Святополка. Настало утро. Эдмунд явился в княжеский дворец. Этот наемник, для которого убить человека, даже не такого презренного, как Святополк, было так же просто, как раздавить муху, спросил Ярослава, довольный своей ловкостью и удачей:
– Узнаешь?
И вытряхнул из мешка страшную мертвую голову, упавшую на пол с непереносимым стуком.
Ярослав затрепетал и закрыл лицо обеими руками. От волнения оно налилось кровью…
Даже теперь, спустя много лет, князь выронил книгу из рук и застонал. Будучи ребенком, он жалел птенцов, выпадавших из гнезда, порой ему становилось жаль до слез слепцов и убогих. И вот столько крови пролилось на земле ради него! Когда же настанет конец человекоубийству?
Впрочем, мысли о мире стали приходить в голову Ярославу уже после того, как он упрочил свое положение. О мире говорилось в книгах, которые князь прочел. Но в те дни он еще находился весь в ожесточении борьбы за власть. И все-таки сердце его тогда мучительно сжалось. А Эдмунд, как будто речь шла о самых обыденных вещах, спокойно сказал:
– Прикажи похоронить эту главу с подобающими почестями!
– Опрометчиво ты поступил, – прошептал князь, и слезы полились у него из глаз.
Голова человека, которого книжники называли Окаянным, являла собою ужасное зрелище: искаженное лицо с оскаленными зубами, борода в запекшейся крови, сведенный на сторону рот; одно тусклое око было приоткрыто, точно мертвец подмигивал своим врагам и убийцам. Впрочем, присутствовавшие при этой беседе воевода и бояре смотрели на страшный трофей без большого волнения. Даже испытывали некоторое христианское удовлетворение: бог еще раз покарал зло! Чтобы лучше рассмотреть, воевода повернул голову ногой в зеленом сапоге…
Однако на этом еще не кончилась междоусобная война. В Тмутаракани сидел другой брат Ярослава, храбрый и веселый Мстислав, любимец своей набранной из всяких бродяг дружины.
Тмутаракань, таинственный город, лежала в далеком краю Русской земли, у подножия Кавказских гор. Удобное сообщение по морю связывало его с Херсонесом и Константинополем и весьма благоприятствовало торговле. В этом разноплеменном поселении обитали русские и греки, восточные купцы и хазары; сюда стекались беспокойные люди и беглые рабы; здесь рекой лилось доступное всякому вино, потому что на холмах, со всех сторон обступивших город, росли тучные виноградные лозы; на улицах часто слышалась греческая речь, и на базарах продавались странные для северян южные плоды – дыни, финики и рожки. Здесь уже веял с моря свежий ветер, надувая паруса больших торговых кораблей, и еще от тех времен, когда в этих местах обитал сильный, но исчезнувший с лица земли народ, в Тмутаракани остались вымощенные плитами улицы, кирпичные дома с внутренними двориками и глубокие каменные водоемы, а на городской площади возвышалась огромная статуя, искусно высеченная из мрамора рукой каменотеса, однако не пощаженная временем. Некий философ, случайно попавший сюда, рассказывал на пиру Мстиславу, что этот памятник воздвигла в честь своего мужа, боспорского царя Перисада, некогда владевшего областью, его верная супруга, оставшаяся вдовицей. Разговор происходил за чашей вина, и присутствовавший за столом русский певец внимательно слушал грека, с трудом объяснявшегося по-славянски, а потом использовал рассказ в одной из своих песен, и позднее другой певец заимствовал у него упоминание о тмутараканской статуе, освещая нам черную ночь давних времен.
Жизнь в Тмутаракани, приятная и полная перемен, так нравилась Мстиславу, что он не желал перебираться в Киев. Это был человек, который холил свое сильное тело и больше всего на свете любил свою дружину. Воины тоже почитали князя за храбрость в бою и щедрость на пирах. На дворе у него годами жил великий Боян, русский соловей. Певец назвал Мстислава Храбрым, воспел подвиги победителя Редеди и порой подсмеивался в своих песнях над хромоногим Ярославом, так как в Киеве скупились на пенязи, не любили тратиться на пиры. А потом книжники предали эти песни забвению и прославили Ярослава, наделив его образ благородными чертами и приписав ему христианские добродетели за любовь к церковным людям.
Мстислав отличался красотой, огромными глазами и не знал страха смерти. Однажды он пошел войной на соседних косогов, чтобы наказать их за ночные набеги, во время которых эти разбойники часто убивали жителей Тмутаракани и угоняли скот. Услышав об этом, косожский князь Редедя прислал сказать ему:
– Зачем мы будем проливать кровь наших воинов? Хочешь, сразимся друг с другом, и если ты одолеешь, то возьмешь мои сокровища и моих жен, а если я одолею тебя, то ты отдашь мне все, что тебе принадлежит.
Мстиславу понравилось такое предложение, и он крикнул через поле, разделявшее два воинских строя:
– Выходи на единоборство!
Редедя был великан с мощными руками и бычьей шеей. Надеясь на свою непомерную силу, он предложил русскому князю не биться на мечах, а бороться врукопашную. Мстислав согласился и на это, хотя был тонок станом и не такого роста, как косог. Они схватились посреди поля, и Редедя стал одолевать, а косожские воины поощряли своего предводителя дикими криками, но Мстислав напряг в последнем усилии мышцы, стиснул противника железными руками и ударил о землю, вызвав бурю криков на русской стороне. Выхватив нож, он зарезал Редедю. Тогда косоги побежали, и княжеская дружина далеко преследовала их в поле.
Так была избавлена Тмутаракань от опасности.
В память этого события Мстислав построил в городе каменную церковь, которая стоит до сего дня.
Сражение, которое должно было решить, кто сядет в конце концов на золотом киевском столе, произошло под Лиственом. Мстислав поставил в чело свой полк северян, как обычно называли жителей Чернигова, а дружину, набранную из ясов и косогов, – на правом и левом крылах. Воины Ярослава вышли на поле широким строем, развернули голубое княжеское знамя с изображением архангела, предводителя небесных сил, и с железным лязгом обнажили мечи. В воздухе стояла тишина, как перед грозой.
Битва началась по звуку певучей серебряной трубы. Ярл Якун, военачальник Ярослава, высокий белоусый воин в привлекавшем все взоры золототканом плаще, величественно сидел на белом коне. Он махнул рукой в железной перчатке, и варяги мерным шагом пошли на смерть. Им заплатили за два месяца вперед. Это были как на подбор храбрые воины, предпочитавшие гибель в бою медленному умиранию в болезни на соломе. Ярл ехал позади строя, чтобы удобнее наблюдать за ходом сражения. В какой-то давней стычке под Антиохией, когда он еще служил греческому царю, сарацинская стрела пронзила ему левый глаз, и с тех пор Якун носил черную повязку на лице, и его прозвали за это Слепым.
Была осень, стояли воробьиные ночи. На высоких рябинах уже поспевали красные ягоды, низкие тучи ползли по небу, весь день шел дождь, освежавший разгоряченные тела воинов. Но битва не прекращалась даже ночью, когда вдруг разразилась гроза и ветвистые синие молнии стали беспрестанно ударять в землю, а на небесах не умолкая гремел гром.
При вспышках небесного огня поднятые для удара мечи казались в это мгновение неподвижными в ослепительном сиянии. Знамена намокли от дождевой воды и беспомощно повисли на древках.
Всю ночь варяги рубились с черниговцами. Но в минуту, подстереженную с большим воинским разумением, когда уже стало видно, что наемники изнемогают, Мстислав обрушил на врагов всю свою конницу. Скандинавы не выдержали стремительного натиска, сопровождаемого диким воем, и побежали, устилая под ударами кривых сабель мертвыми телами землю. Когда воинский строй превращается в беспорядочное стадо, нет ничего страшнее для пешего воина, чем блеск клинка в руке вражеского всадника.
Понимая, что битва проиграна, Ярослав искал спасения в бегстве. Вслед за ним помчался ярл Якун, оставив на поле сражения свой знаменитый плащ, производивший такое впечатление на молодых воинов и русских летописцев. Потом этот прославленный воин уплыл за море и вскоре умер там, не перенеся позора поражения и гибели товарищей по оружию…
Ярослав закрыл книгу и тяжело вздохнул, вспоминая слова Мстислава, о которых ему передавали впоследствии, не без насмешки над его жалким бегством. Будто бы Мстислав, объезжая под утро поле битвы, сказал:
– Ну как мне не радоваться! Вот лежит северянин, а вот – варяг… Моя же дружина цела.
Ярослав смотрел на догоравшую свечу и ясно представлял себе веселие тмутараканского князя. Что значили для этого легкомысленного любителя пиров и блудниц заботы о государстве? Мстислав думал не о Русской земле, а лишь о своем приятном житии, об охотах на туров и о блестящих, хотя и бесполезных победах. Между тем наступили иные времена. Илларион вразумительно объяснил всем в своих сочинениях, что земля, и люди, и все, что стоит на земле, – города, погосты, церкви, гумна, все произрастающее на ней – составляют государство, и за это придется дать ответ перед судом потомков.
Ярослав сел, опираясь руками о постель, и еще раз увидел то осеннее утро, когда он, спасая свою жизнь, как безумный, проскакал в тумане мимо Листвена. Если бы князь оглянулся, то увидел бы, как над полем сражения уже кружатся черные птицы, готовясь сесть на трупы и выклевать глаза у мертвецов. Победители, как это везде было в обычае, стягивали с убитых кольчуги, одежду и обувь, собирали уроненное оружие и стрелы и весело перекликались на поле, радуясь добыче. Ярослав не оборачивался. Он спешил в Новгород. Новгородские мужи понимали, что сила государства в единении всех русских областей, и могли с одинаковым упорством сражаться за Киев и Тмутаракань, как и за свой город и его торговые пути.
Но Мстислава не тянуло на берега Днепра. Он велел сказать Ярославу:
– Садись в Киеве, ты старший брат, а мне будет та сторона.
Границей между двумя владениями стал Днепр. К Ярославу отошли Киев, Новгород, Ладога, Смоленск, Полоцк и многие другие города, к Мстиславу – Чернигов, Любеч, Переяславль и милая его сердцу Тмутаракань, где уже плескалось теплое море. Окончательный мир был подписан в Городце.
Никто не мог оспаривать великолепную победу Мстислава. В упоении своим величием, окруженный певцами и тоненькими, как тростинки, кавказскими красавицами, молодой князь весело пировал, и его подвиги под Лиственом воспел седоусый певец с косматыми бровями и цепкими, как у орла, пальцами, рвавшими струны на княжеских пирах. В ту ночь, когда происходила битва под Лиственом, Боян стоял под дубом на соседнем холме и видел, что при вспышках молний поднятые для удара мечи казались на мгновение неподвижными.
- Была осень,
- Стояли ночи рябинные…
На пиру присутствовал константинопольский царедворец, прибывший в Тмутаракань с тайным поручением от греческого царя, и, поблескивая черными ласковыми глазами, пил небольшими глотками вино из чаши, чтобы продлить удовольствие, вместе с другими внимая певцу. Патрикий знал русский язык, так как по матери происходил из знатного болгарского рода Николицы. Его звали Кевкамен Катакалон. Потрясенный песнью Бояна, он сказал:
– Поистине это русский Гомер!
Грек, в нарядном красном плаще с золотым украшением на груди, хвалился белыми холеными руками, тяжелыми перстнями, унизывавшими его пальцы. Он говорил вкрадчивым голосом, но больше слушал. В Константинополе хорошо знали о недоброжелательном отношении Ярослава к ромеям, и патрикия Катакалона послали в Тмутаракань с повелением еще раз поднять Мстислава против брата. В Священном дворце решили, что легче иметь дело с этим падким на удовольствия молодым князем, чем с расчетливым и недоверчивым Ярославом. Патрикию показалось, что песня о победе подогрела мечты амфитриона о подвигах и что наступил благоприятный момент завести речь о борьбе за первородство. Улучив минуту, когда старый певец подкреплялся чашей пенного меда, грек шепнул князю:
– Вот ты пируешь, а не имеешь никакого представления о том, что происходит в Киеве!
– Какое мне дело до того, что творится в Киеве?
Князь нахмурился, недовольный, что с ним заводят серьезные разговоры на пиру, в час веселия.
– А между тем твой брат собирает воинов, чтобы захватить Чернигов.
– Кто тебе это сказал?
– Так рассказывали греческие купцы, пришедшие из Киева в Херсонес.
– Брат не любит войну.
– Но желает быть единовластным во всей вашей стране.
– Он клялся на кресте.
– Клятву часто нарушают, если она невыгодна.
– Не верю, чтобы Ярослав стал клятвопреступником.
– Но почему ты не хочешь предупредить события?
Мстислав скривил губы, казавшиеся еще более яркими от белокурой бороды. Он презирал соглядатаев и наушников. К чему утруждать себя заботами, когда за столом сидят друзья и глаза женщин полны неги. Патрикий понял, что поторопился, и, по-змеиному облизнув губы, поднял чашу, звякнув о нее золотыми перстнями…
Но вскоре в Тмутаракани умер сын князя Евстафий, а некоторое время спустя, простудившись на охоте, преставился и сам Мстислав. Его положили в церкви Спаса, стены которой тогда были выведены на такую высоту, сколько можно достать рукою, сидя на коне. Теперь уже ничто не мешало Ярославу объединить русские земли от Тмутаракани до Карпат. Снова Русская земля стала единой.
Происходили и другие события в жизни Ярослава. Было столкновение с неразумным племянником Брячиславом, осмелившимся напасть на Новгород и похитить в Святой Софии золотые церковные сосуды, светильники и облачения. Но на реке Судомири его настигла карающая десница Ярослава, пленные и добыча были возвращены в Новгород. Позднее Ярослав ходил войною на поляков, ятвягов и литовцев и неизменно возвращался с победой. Польскому королю Казимиру он помог подавить восстание язычников и посадил его в Гнезно на престол.
Короткая ночь проходила за книжным чтением и в воспоминаниях. За окном пропели вторые петухи. Князю снова послышался шум шагов, приглушенный разговор.
У дверей княжеской ложницы в ту ночь стояли на страже отроки Янко и Волец. Они то дремали, сидя на полу, то шепотом рассказывали друг другу разные небылицы. Оба были сильные безбородые юноши, их клонило ко сну в этой дворцовой тишине. Но каждую минуту мог явиться ярл Филипп, начальник охранной стражи, и спать они опасались.
Волец шептал о том, как у них в клети чудил однажды домовой.
– Каков же он собою? – со страхом спрашивал Янко.
– Весь волосами оброс, мукой осыпан.
– Ты видел?
– Нет, не видел. Мать видела.
– Говорил что-нибудь?
– Домовой?
– Он.
– Шипел добродушно.
– А еще что?
– Ничего больше не случилось в тот час.
В свою очередь Янко стал рассказывать, как на реке в лунную ночь смеются и плачут русалки.
– Луна светила, как днем. Дерево склонилось к воде. На его суку сидела нагая дева, качалась, расчесывала волосы зеленого цвета.
– Нагая?
– Звала меня, лаская свои нежные перси.
– А ты?
– Мне страшно стало. Русалка звала, обещая лобзанья, но я знал, что она в омут манила. Это было на реке Сетомле.
У Янко кипела молодая кровь, отроку не терпелось жениться на румяной боярской дочери, всюду ему мерещились девические лики. Он родился сыном знатного дружинника, по возмужании ему предстояло сидеть в княжеском совете.
Волец же случайно попал в отроки: его взяли в дружину по просьбе пресвитера Иллариона, которому князь ни в чем не мог отказать. Отец отрока был простым плотником из Курска, усердно работал по церковному строению и этим снискал себе любовь священника, и это он устроил юношу в дружину. Но курянин еще не привык к дворцовой тишине, и ему казалось, что сапоги его слишком громко стучат по лестницам и переходам. Вольца часто обижали боярские сыновья, хвалившиеся своей знатностью и богатством, и тогда ему хотелось уйти в один из тех городов на реке Роси, что защищают русские пределы от печенегов, или в Тмутаракань.
Он мечтательно говорил об этом городе:
– Рассказывают, там свобода. Всякий человек волен, как ветер. Вот почему туда бегут рабы.
– Ты же не раб, – заметил Янко.
– Не раб, и мой отец свободный, и дед. Потому мы и бережем свободу.
– Здесь легче снискать милости.
– Здесь смеются над моей бедностью. Лучше бы я был плотником, как отец…
Приятели умолкли и схватились за мечи. По лестнице кто-то осторожно поднимался. Оба вздохнули с облегчением, когда увидели, что это скопец и с ним ярл Филипп и толстый воевода…
Ярослав стал прислушиваться. Теперь у двери явственно слышались голоса, звон оружия.
– Отроки, кто там? – крикнул князь, протягивая руку, чтобы взять меч.
Но за дверью раздался знакомый голос скопца. Как в Священном константинопольском дворце, он гнусаво забормотал благочестивой скороговоркой:
– Во имя отца, и сына, и святого духа…
– Аминь, – сказал князь.
– Беспокоим тебя, светлый князь.
– Что тебе?
– Важные вести.
Ярослав опустил ноги на пол и босой, отчего еще больше хромал, подошел к двери и отодвинул дубовый, прочный, как железо, засов.
Слабый свет свечи, которую он держал в руке, озарил желтое, морщинистое лицо дворского Дионисия, напоминавшее увядшее яблоко, а за ним седые усы воеводы и необычайную красоту ярла Филиппа, волосы которого напоминали об архистратиге Михаиле. Позади стояли державшие ночную стражу отроки, взволнованные, но довольные, что нечто произошло во время их службы, о чем можно будет рассказывать приятелям.
– Что случилось? – повторил князь, по привычке хмурясь, когда говорил с людьми, зависевшими от него.
– Эпистолия!
Евнух протянул ему кусок бересты, на которой было кое-как нацарапано несколько слов. Князь поднес послание к свече и не без труда прочитал его. Мытник сообщал, что шлет гонца, и упомянул его имя.
– Гонца зовут Лестник? – спросил князь.
Скопец посмотрел на воеводу, и тот ответил поспешно:
– Лестник.
– Что говорил?
– Прибыли послы от франкского короля.
Послы от франкского короля! Отпустив людей, Ярослав бережно положил книгу в ларь и запер его. Ключ со звоном повернулся в искусно сработанном замке. В окне уже занималось утро. Наступило время умыть руки и пройти по деревянному переходу на каменное гульбище, шедшее вокруг Святой Софии, а оттуда через дверцу – в кафизму, чтобы слушать утреню. Ярослав с удовольствием вспомнил, что сегодня должен служить пресвитер Илларион. С ним надо будет посоветоваться о многих вещах. Митрополит Феопемпт, изнемогая от недугов, в этот час еще нежился в постели и, по своему высокому церковному званию, совершал богослужение только в особые дни.
Ярослав не любил этого человека с дурным дыханием изо рта, хотя в глаза называл святым отцом и верил, что от его молитв зависит спасение души. Как это ни странно, но немощный митрополит обладал огромной властью над людьми, потому что за ним стояли вселенские соборы и апостолы. Без епископов невозможно создать христианскую церковь на Руси, и князь чувствовал себя как в духовном плену. Разорвать эти цепи еще не пришло время. Но пусть греческий царь не простирает руки на Русскую землю.
Теперь приходилось подумать о многом: какие выгоды можно извлечь из нового брачного союза и не даст ли родство с франкским королем возможность завязать сношения с далеким Римом, чтобы при случае оказывать давление на заносчивый Царьград? Как поступить? Поскорее послать за Всеволодом, чтобы приготовиться к приему послов, а пока сообщить Ирине, как называл князь жену, о полученном известии. Меньше всего Ярослав думал о том, чтобы обо всем уведомить дочь. Участь всякой девицы – подчиняться родительской воле, жить в послушании.
Одеваясь с помощью евнуха, великий князь перебирал в памяти, сколько волнений он испытал, когда отправил послов к немецкому кесарю Генриху, в город, который называется Гослар, с предложением заключить союз и жениться на Анне, и как он негодовал, когда посланцы привезли обидный отказ и сообщили об этом, потупив глаза. Теперь обида будет отомщена. Утешало также, что и другие браки совершены достойным образом. Любимый сын Всеволод женат на дочери греческого царя Константина Мономаха. Она недавно приехала на Русь, и было сладко принять в своем отеческом сердце такую нежную женскую красоту, озаренную ласковой улыбкой. Святослав уже много лет тому назад женился на Оде, дочери графа Штадского, родственника Бурхарда, епископа Трирского и ближайшего советника кесаря Генриха; Изяслав – на Гертруде, дочери маркграфа Саксонского; сестра Доброгнева стала польской королевой, выйдя замуж за Казимира, который в вено за нею отдал восемьсот пленников, захваченных Болеславом в несчастном сражении на Буге; дочь Елизавета была за норвежским королем Гаральдом, другая дочь, Анастасия, – за венгерским королем. Эти браки укрепляли дружбу и мир, а тишина и мирное житие благоприятствуют сельским работам и переписке книг. Когда война, пахарю не до плуга, а книжнику не до тростника для писания.
3
Ингигерда, при крещении нареченная Ириной, выбрала для опочивальни горницу, соединенную с ложницей Ярослава низенькой дверцей. В тот год, когда старый муж оставил все земные помышления, княгиня перебралась сюда со своими подушками, а после отъезда сестер и Анна спустилась к матери из девичьего терема, где ей стало скучно и страшно в одиночестве, и теперь спала вместе с родительницей на широкой постели под беличьим покрывалом.
Отцом Ингигерды был конунг свевов, а матерью – дочь храброго ободритского князя, поэтому княгиня с детства знала славянский язык. В юности она получила скандинавское воспитание и до конца жизни тосковала по далекому северу, где стоят голубые ели. В те дни она была влюблена в норвежского ярла Олафа, которого потом стали называть Святым в награду за услуги, оказанные церкви, и за деятельную борьбу с язычниками. Но красивую, статную девушку предназначили выдать замуж за богатого русского конунга, хромоногого Ярослава. Он дал ей в вено Ладогу, и молодая княгиня назначила в этот тихий город посадником своего родственника, ярла Рагнвальда. При таких обстоятельствах в слезах, но покорная родительской воле, Ингигерда стала госпожой Гардарика, как скандинавы называли Русь, хотя ей порой и казалось, что не она господствует в этой стране, а кто-то другой распоряжается ее жизнью и она лишь несется в потоке событий, не зная, куда и с какой целью.
Это произошло вскоре после того, как ярл Эдмунд прибыл вместе с верным побратимом Рагнаром и многочисленными товарищами в Новгород, где они нашли применение своим воинским талантам. Но варяжские ярлы считали, что если не было войны, то следовало возможно приятнее проводить время за пиршественным столом, с чашей греческого вина в руке или в объятиях красивой и пламенной женщины, потому что жизнь человека коротка и нужно ловить ее сладостные мгновения. Эту жизнь украшали песни скальдов, воспевавших подвиги героев и морские путешествия. В некоторых занимательных сагах упоминалось о хозяйственных способностях и твердости духа Ингигерды. Правда, уже прилетел с юга теплый ветер, и все стало хрупко в этом скандинавском мире, напоминавшем ледяные узоры на зимних окошках. Уже не представлялись такими убедительными блаженства Валгаллы, и порой эти бродяги, служившие то русскому конунгу, то византийскому императору и вообще всем, кто мог заплатить по унции золота в месяц на человека, кончали жизнь, если им удавалось избежать сарацинской стрелы или печенежской сабли, благочестивым путешествием в Иерусалим и даже монастырем.
Однажды Олаф, конунг Норвегии, гостил в Киеве у Ярослава и Ингигерды. Вместе с Олафом приехал его сводный брат Гаральд, по прозванию Смелый, в тот год впервые увидевший гордую Елизавету. Анне тогда исполнилось двенадцать лет.
Киевский князь, может быть желая поскорее избавиться от слишком красивого гостя, присутствие которого явно волновало Ингигерду (разве не слышали люди ее женские вздохи?), помог Олафу вернуться на родину, где тогда взяли верх язычники, и норвежский конунг начал борьбу за свои права на престол. Однако в морской битве при Стикльстеде Олафа сразила вражеская стрела. Гаральд, тоже принимавший участие в этом сражении на одном корабле с убитым, еще раз отправился в Киев и привез туда Магнуса, малолетнего сына конунга. Юный ярл нашел радушный прием во дворце, где хозяйкой стала близкая ему по крови Ингигерда, взявшая на себя заботы о воспитании мальчика. Воспользовавшись этим случаем, Гаральд просил руки Елизаветы, но Ярослав не испытывал большого желания отдать красивую дочь замуж за бродягу, у которого не было ни двора ни кола, а надменная девушка в ответ на слова о любви только еще выше подняла соболиные брови. Отвергнутый жених некоторое время начальствовал над княжеской сторожевой дружиной, а затем отправился в Константинополь, в надежде, что сердце неприступной русской девы, знавшей цену своей красоте и с большим достоинством носившей наряд препоясанной патрикианки, смягчится, если он прославит свое имя подвигами, достойными героя…
Ингигерда тяжело ворочалась на постели, и ее ставшее уже грузным тело утопало в жаркой лебяжьей перине. В ту ночь княгиня тоже не могла сомкнуть глаз. А рядом крепко спала Анна, уткнувшись лицом в розовую шелковую подушку. В углу горницы, на подостланной рогоже, глубоко дыша во сне, лежала служанка по имени Инга, пятнадцатилетняя девушка из северной страны, рабыня, готовая вскочить каждое мгновение с жесткого ложа и бежать, куда ее пошлют. Ингигерда часто поднимала ее среди ночи за хлебным питьем или за сластями, от которых женское тело становится ленивым в движениях. Бедняжке приходилось тогда бегать в кладовую по темному переходу, где на полу лежали и сидели отроки, охранявшие ложницу старого князя. Они хватали Ингу за крепкие икры, а девушка отбивалась и напрягала все силы, чтобы не вскрикнуть. За нарушение тишины и недостойное поведение рабыню могли отослать на поварню и заставить до конца дней молоть пшеницу на ручных жерновах.
Когда благополучно закончилась война за Киев и солнце вновь взошло над Русской землей, Ингигерда перебралась из Ладоги на берег Днепра. Однажды Ярослав показывал молодой супруге свой каменный дворец, каких она никогда не видела, проводя молодость в скромных бревенчатых домах скандинавских ярлов. Дворец был построен еще при княгине Ольге, матери Святослава, которую книжники называли денницей, утренней зарей новой жизни. Пиршественную залу украшала живопись, и греческий художник изобразил на стенах не только христианские праздники, но и различные сцены охоты, корабли на море и пальмы. Ингигерде стало обидно, что ни у ее отца, ни у Олафа – а она все еще не могла забыть свою первую любовь – не было ничего подобного. Из гордости она сказала в ответ на хвастливые речи мужа:
– Та зала, где принимал гостей Олаф, хотя и устроена на деревянных столбах, но украшена приятнее и больше мне по вкусу.
– Такие слова обидны для меня! – нахмурившись, воскликнул Ярослав. – Они доказывают, что ты до сих пор думаешь о норвежском конунге.
В гневе князь даже замахнулся на жену, но, опомнившись, отвел руку. Это возмутило Ингигерду. Она прошептала:
– Между тобой и Олафом такая же разница, как между землей и небом.
Ингигерда долго помнила эту обиду, и Ярослав тоже любил ее без нежности, ревнуя к конунгу. Но время дарит забвение и залечивает сердечные раны, и княгиня рожала мужу одного за другим здоровых детей. Сначала появился на свет Владимир, потом Изяслав, Святослав, Всеволод и Вячеслав, и всем сыновьям были даны русские имена, а при крещении – греческие, о которых княжичи вспоминали только во время причастия, когда подходили с трепетом к митрополиту, державшему в немощных руках тяжкую золотую чашу. В те годы родились и три дочери: Елизавета, Анна и Анастасия. И вот дети подросли и стали взрослыми, и у каждого из них была теперь своя жизнь. Они говорили между собою о непонятных для матери вещах, но эта властная женщина, привыкшая на севере к другому укладу жизни, чем это житие с трогательными разговорами, считала, что назначение мужей – война и охота, а участь женского пола – деторождение. Между тем что она видела! Не расставался с книгой ни днем, ни ночью старый супруг, сыну Владимиру переписывал пророческие книги в Новгороде некий поп, по имени Упырь Лихой, странный человек, неизвестно откуда взявшийся и говоривший как жидовин; был полон книг дом Святослава; читает славянские и греческие книги Всеволод; и даже Анна, вместо того чтобы заниматься рукоделием или хозяйственными делами, как это надлежит делать каждой благонравной деве, проводит часы за книжным чтением, а потом смотрит куда-то вдаль ничего не видящими глазами и не отзывается на свое имя, когда мать зовет ее.
Ингигерда видела, что наступили иные времена. Теперь князья не стремятся на поля сражений, а предпочитают битвам беседы с греческим митрополитом или чтение Псалтири; люди не заботятся о том, чтобы убить возможно большее число врагов, захватить богатую добычу и продать ее с выгодой или разделить между товарищами по оружию, а помышляют о приобретении сел. Она сама слушала утрени и обедни, раздавала милостыню убогим и нищим, ибо так полагается поступать супруге конунга в христианской стране, но сердце ее было чуждо милосердия. Ведь под солнцем ни на один час не прекращалась борьба за власть и богатство, и каждый воин должен был думать о славе.
Ингигерда огорчалась при мысли, что ее сын Всеволод не наделен крепким здоровьем, не любит ездить на ловы, травит лишь жалких зайцев, а Изяслав не имеет склонности к воинским трудам. Только Святослав живет как воин: считает войну привычным делом, устраивает часто пиры. Книги не мешают ему радовать свое сердце охотой. Это он научил Анну гоняться за оленями, глубоко дышать лесным воздухом и проводить время с охотниками у костра, на огне которого жарят тушу убитого зверя. Пламенная, беспокойная душа дочери напоминала Ингигерде безвозвратно ушедшую молодость.
Но по ночам старую княгиню посещали страшные думы. Что ждет ее за гробом, ад или рай? Илларион грозил, что адский пламень неугасим, и она не раз созерцала в церкви картину Страшного суда: на ней праведники веселились, а грешников пожирал огромный зеленый сатана, и у него из розовой пасти вырывались желто-красное пламя и дым; другие крошечные человечки мучались в котле с кипящей смолой, некоторых пронзали трезубцами хвостатые черти. С наступлением утра детские страхи отлетали прочь…
Княгиня вспомнила, как супруг сказал ей однажды:
– Неужели ты не в состоянии постигнуть это?
– Не понимаю, о чем ты говоришь.
– Бог поручил мне Русскую землю, чтобы я и мои сыновья хранили все, что на ней. Ее процветание и нам с тобой на пользу.
Княгиня знала, что подобные мысли внушает мужу пресвитер Илларион, вышедший из черного народа.
– И смердов тебе поручил бог? – усмехнулась она.
– И смердов, и коней их, и крестьянские нивы и гумна.
Ингигерда мысленно пожимала плечами. Стоило ли сокрушаться и не спать ночи напролет по поводу смердов, которые не желают трудиться на своего князя и знатных дружинников, проливающих за них кровь?
Ее воспитывали по-иному. В ранней юности она принимала участие в деятельном труде, хозяйничая в оставленном на ее попечение доме, возясь с коровами и овцами. Судьба наделила ее смелым сердцем и сильными руками. Приходилось ей бывать и в опасных положениях. Порой она усердно помогала мужу, была его советчицей в трудную минуту, когда речь шла о житейских вещах.
Однажды варяги покинули Ярослава и отказались служить ему, недовольные тем, что конунг стал скуп на жалованье. Ярослав считал, что наемники уже не нужны ему, и равнодушно отнесся к их отъезду. Теперь он мог рассчитывать на русскую дружину и на ополчение, в рядах которого храбро сражались смерды, защищая от врагов государство и свое достояние. Но одна из прислужниц Ингигерды, красивая и болтливая девушка из Упландии, была наложницей Эдмунда, и от нее княгиня узнала, что варяги собираются плыть в Полоцк, в тот самый город, который при некоторых обстоятельствах мог стать киевскому князю поперек дороги.
– Уверен ты, что тебе не придется и впредь столкнуться с Эдмундом в какой-нибудь битве? – спросила Ингигерда своего мужа.
Действительно, варяги уже снаряжали ладьи, названные именами любимых женщин или благородных птиц и зверей, готовясь к отплытию и намереваясь добраться по рекам и волокам до Полоцка, чтобы поступить на службу к Брячиславу, неоднократно проявлявшему непокорство воле киевского конунга.
Ярослав размышлял, получив неприятное известие. Эдмунд обманул его, уверяя, что вкладывает меч в ножны и возвращается в свой оставленный дом. Оказывается, он направлялся в Полоцк! Этот город легко мог стать соперником Киева. Оттуда рукой подать до Варяжского моря и удобно везти товары в Поморие и Скандинавию, минуя Новгород.
Он спросил жену:
– Может быть, еще не поздно вернуть Эдмунда?
– Попробуем перехитрить его.
– Но как это сделать?
– Позволь мне взяться за это.
– Хорошо, ведь они твои сородичи.
– Во всяком случае, они почитают меня и не опасаются, что им может грозить что-либо с моей стороны.
– Это ты хорошо надумала, – сказал Ярослав.
Ингигерда ошибалась, варяги считали ее способной на всякие козни, но она была милее им, чем этот вечно нахмуренный русский конунг, который рассчитывает на сто лет вперед, когда жизнь так коротка.
Между тем Ингигерда не мешкая спустилась со своим двоюродным братом Рагнвальдом, сыном Ульфа, с которым ее связывала прочная дружба, к варяжским ладьям. Она заметила, что Эдмунд сидел у реки на большом камне, вдали от своих, погруженный в глубокую задумчивость, может быть размышляя, не прогадал ли он, оставив конунга. Ингигерда поспешила к нему. По всему было видно, что ладьи с носами в виде птичьих клювов или звериных пастей готовы отчалить от берега, а воины уже заканчивали последние приготовления к отплытию. Однако под ногами в той части берега расползалась вязкая глина и мешала Ингигерде и Рагнвальду быстрее идти.
Только что начало светать. Эдмунд все так же продолжал сидеть на камне, и его дорожный плащ с тесемками вместо дорогой запонки напоминал о том, что он покидает Киев.
– Здравствуй, ярл, – сказала Ингигерда.
– Здравствуй, госпожа, – ответил Эдмунд, удивленный, что жена конунга спустилась в такой час к реке.
Ингигерда и Рагнвальд уселись рядом с варягом и повели лукавую беседу, притворно расспрашивая ярла, не передумал ли он и не хочет ли опять поступить на службу к Ярославу. Скандинавские воины суетились далеко у ладей, поблизости никого не было, кто мог бы рассказать, что здесь произошло.
Но скальды придумали потом, что Ингигерда пыталась с помощью Рагнвальда пленить Эдмунда, запутав его в складках плаща. На самом деле все представляется проще. Ярл увидел, что с высокого берега уже спускались русские воины, увязая в глине, чего не предвидела супруга конунга, и побежал к своим, оставив, как новый Иосиф, плащ в руках Ингигерды, и, воспользовавшись тем, что княжеские отроки были еще далеко, Эдмунд и его товарищи оттолкнули ладьи и уплыли на середину реки.
Рагнар спросил Эдмунда:
– Хочешь, мы вернемся и попытаемся захватить Ингигерду?
Но ярл понимал, что за такой поступок Ярослав найдет его на дне моря, и покачал головой:
– Не хочу нарушить дружбу с госпожой.
– А как поступила она с тобой?
– Женщины коварны от рождения. Коварство – их сила.
– Как знаешь, – сказал Рагнар. – Но откуда им стало известно, что мы отплываем в Полоцк?
– От Хелги.
– Разве она не возлюбленная твоя?
– Я обещал подарить ей золотое ожерелье.
– И не подарил?
– Проиграл его в кости Феодору, греческому патрикию, что привез Ярославу дары из Константинополя.
– Погубят тебя когда-нибудь кости, – рассмеялся Рагнар. – Или женщины…
Варяжские корабли уплыли в северном направлении. Ингигерда видела, как спутники Эдмунда поставили мачты и подняли паруса – четырехугольные, с огромными изображениями звезд, или трех поджарых львов, или птиц с коронами на голове. Потом издали донеслась песня:
- Я поднял парус на ладье,
- Прощай, красавица, прощай,
- Навеки расстаемся мы…
Вот в каких предприятиях осмеливалась принимать участие Ингигерда, когда у нее еще было глубокое дыхание и она могла не хуже любого воина держать в руке боевую секиру. Но этой знатной женщине недоставало той широты ума, что позволяет охватить как бы орлиным взором все происходящее в мире: посевы и жатвы, круговорот золота в торговле и заботы о грядущих поколениях. Ее удивляло, что муж не ищет славы. Он говорил:
– Из пустого славословия не сошью даже шапку. А моя задача – наполнить богатством духовные житницы. За это меня будут прославлять в грядущие века певцы и книжники…
Сон не приходил к Ингигерде. Заложив руки за голову, она лежала, перебирая в памяти прошедшее. Рядом спокойно дышала Анна и не слышала даже, как мать позвала рабыню:
– Инга! Проснись!
Служанка вскочила со вздохом, в котором выразился весь ее детский страх перед строгой госпожой и усталость молодого тела, требовавшего отдыха после хлопотливого дня, полного трудов и суеты.
– Я здесь! Я здесь! – лепетала бедняжка спросонья, поправляя по привычке одежду, протирая кулачками глаза, чтобы они открылись.
На девушке белела рубашка из грубого полотна, поверх Инга носила синий сарафан, в котором и спала, никогда не раздеваясь, чтобы каждую минуту быть готовой выполнить любое приказание госпожи. Ничьи ноги не бегали так проворно по лестницам, она летала, как пушинка, из горницы в горницу, а госпожа считала, что Инга ленивица.
По племени своему рабыня была из какого-то северного края, на границе с Югрой, где люди объясняются знаками и за один железный нож дают кучу великолепных мехов. Ее еще девочкой привезли вместе с полонянками в Ладогу, когда новгородские воины усмиряли в лесной глуши возмущение, поднятое волхвами против христианской веры. Эта черноволосая и белозубая девочка случайно попалась на глаза Ингигерде, и она взяла ее к себе в услужение. С той поры маленькая Инга стала жить в киевском дворце, удивляя всех своим трудолюбием и проворством. Только старая княгиня была недовольна ею.
– Побеги в кладовую, – сказала Ингигерда, – и принеси горсть фиников. Ты знаешь, что это такое. Но не вздумай полакомиться чем-нибудь, или я накажу тебя.
Девушка бросилась вон из горницы. Проскользнув мимо сторожевых отроков, она побежала в дальний конец перехода, и вскоре ее босые ноги затопали по лестнице. Инга легко находила дорогу в дворцовых закоулках даже во мраке. В пахучей кладовой она знала каждую полку, каждый бочонок. Там хранились сладковатые, с блестящими семечками рожки, сушеные и нанизанные на мочалу смоквы, мед в деревянных кадушках, обыкновенные лесные орехи и те, что растут в греческой земле, и прочие сладости. Инга сняла с полки глиняную корчагу с финиками, которую нашла на ощупь, взяла полную горсть редкого лакомства, положила липкие плоды в деревянную миску и поспешила назад, едва удерживаясь от искушения съесть хотя бы один финик и испытать, в чем же заключается эта сладость, за которую платят так дорого. Она знала, что другая прислужница, по имени Предслава, часто брала всякое добро и ела, и, когда однажды Инга увидела это и затрепетала от страха, дерзкая прошептала:
– Им не съесть всего до самой смерти, а наша жизнь горька, как полынь.
Уже на обратном пути, пробегая переходом, Инга увидела при тусклом свете лампады, висевшей под потолком, что у двери княжеской ложницы стоит кучка людей. Кроме сторожевых отроков здесь еще появились дворский, толстый, как боров, воевода и ярл Филипп. На красавца в Киеве засматривались все женщины, от боярынь до простых рабынь.
Прижимаясь к стене, Инга старалась незаметно пройти мимо и слышала, как скопец, о котором рассказывали ужасно смешное и неправдоподобное, объяснял ярлу, очевидно поднявшемуся сюда позднее других:
– Гонец прискакал средь ночи. Послы прибыли на заставу.
– От кесаря? – спросил ярл, позевывая.
– От короля Франкской земли.
– От короля Франкской земли? – с тревогой переспросил Филипп.
– Это очень далеко, – неопределенно махнул рукой скопец. – За морями и за горами.
– Зачем приехали?
– Разве не знаешь? За Ярославной.
– Кто сказал?
– Гонец.
Инга успела рассмотреть, что на освещенном лампадой лице молодого ярла отразилось при этих словах изумление, потом оно стало печальным, как будто этот человек переживал горе. Но скопец уже стучал согнутым перстом в дверь княжеской опочивальни, и рабыня со всех ног кинулась в горницу, где ее с нетерпением ждала госпожа.
Рабыня протянула княгине финики, и та взяла один из плодов, которые привозили в Киев на горбатых животных, называемых вельблудами, из далекой аравийской земли. Укладываясь снова на свою жалкую подстилку, Инга сказала тихим голосом, чтобы не разбудить спящую Анну:
– Говорят, послы приехали.
– Какие послы? – поднялась княгиня, забывая даже о финиках. В голове у нее мелькнула мысль о сватовстве франкского короля. Об этом зимою принесли весть приезжие купцы.
– Не знаю, – замотала головой Инга. – Дворский сказал. Когда проходила мимо отроков, притаилась и слышала. Там был воевода и ярл Филипп стоял. Дворский ему говорил о послах.
– Что говорил?
– Говорил, что послы приехали за Ярославной.
Княгиня не могла больше выдержать и стала тормошить дочь за плечо. По сравнению с ее опухшими пальцами это обнаженное плечо олицетворяло девическую нежность. Вокруг жили неискушенные люди, а если бы глаза у них были более внимательными, такими, как у художника, который изобразил на обыкновенной доске трогательную богоматерь и ее страдание, они сравнили бы красоту Анны со статуей Афродиты, стоявшей на торжище. Иногда живописец втайне любовался этим мраморным видением. Но ему не суждено было увидеть Ярославну во всей ее прекрасной наготе.
Княжна открыла глаза. В опочивальне стоял мрак, и девушка не понимала, почему прервали ее сладкий сон. Она спросила:
– Почему ты разбудила меня? Печенеги напали на нас?
– Не печенеги напали. Важное случилось в твоей жизни.
Голова Анны снова клонилась на подушку. Но мать настаивала:
– Проснись же скорей!
– Скажи, что случилось?
– Послы приехали из далекого королевства.
– Из какого королевства?
Спросонок Ярославна плохо соображала, но, когда мать объяснила ей, что это сваты прибыли из Франкского королевства, княжна проснулась окончательно, точно она не спала, и схватилась со вздохом за то место под маленькой грудью, где билось у нее сердце.
– Из Франкского королевства?
– Инга слышала, как дворский Филиппу говорил.
– Филиппу?
При упоминании этого имени Ярославна села на постели и сжала руки.
– Ярлу Филиппу? – прошептала она.
– Что с тобой? – изумилась княгиня. – Разве ты не знаешь ярла Филиппа, начальника стражи?
Анна ничего ей не ответила.
– Что же ты молчишь?
– Что я могу сказать тебе, мать?
– Радуйся, ты будешь королевой!
Ингигерда, в крайнем нетерпении, уже поспешила босыми ногами к двери, которая вела в опочивальню мужа, чтобы из его уст услышать обо всем, что сообщил воевода.
Когда Анна поднялась с подругами на забрало Золотых ворот, чтобы наблюдать оттуда, как франкские послы будут въезжать в город, первое, что она увидела, взглянув вниз, был ярл Филипп. Красная шапка, голубой плащ…
Анна пыталась привлечь на себя его взгляд, но молодой воин не отрываясь смотрел на дорогу, над которой поднималось легкое облако пыли, и ей стало невыразимо грустно, что недогадливый не поднимет свои прекрасные глаза к забралу. Ярославне казалось, что никакими словами нельзя передать ее боль и печаль, и слезы стали застилать зрение.
Когда посольство въехало в ворота, Филипп повернул коня и поехал впереди, как бы показывая послам путь. Девушки перебежали на другую сторону башни, и перед ними, среди крыш, деревянных церквей и деревьев, заблистали вдали золотые купола Софии. Ярл все так же горделиво ехал, ни разу не оглянувшись, и белый конь, покачивая крупом, мерно стегал себя жестким длинным хвостом. Слепца у ворот уже не было. Должно быть, отрок увел его на торжище, где они часто пели свои песни.
Анна родилась в Новгороде, в один из тех годов, когда Ярослав, опасаясь брата Мстислава, хоронился за крепкими бревенчатыми стенами гордого своим богатством города. Но когда был подписан братский мир, стало ясно, что Мстислав не добивается киевского княжения, и Ярослав перебрался со всей семьей и дружиной на берег Днепра. Анне было мало лет, и она едва помнила новгородские бревенчатые мостовые и выдолбленные из дерева трубы, по которым обильно лилась вода на княжеском дворе. Смутно запомнился шум на торговой площади, оживление на волховской пристани и теплый утренний звон белых и золотоглавых церквей.
Детские ее годы прошли в Вышгороде, среди прекрасных дубовых рощ, или в Берестове, любимом селении Ярослава, где он построил церковь во имя Апостолов. Там она училась вместе с братьями, Святославом и Всеволодом, у священника Иллариона и прочла первую книгу, которая называется Псалтирь. С такими книгами она не расставалась потом ни на один день, потому что в них были волнующие душу слова.
На всю жизнь запали ей страшные стихи детской азбуки:
- Аз словом сим молюся Богу,
- Боже всея тверди и зиждителю
- Видимым и невидимым,
- Геенны меня избави вечныя,
- И грозы, и черви неусыпающа…
Илларион часто говорил о грехах, о милосердии, об адских муках. Но Анне совсем не хотелось думать о смерти и о гробовых червях. Жить было сладко. Она росла в холе и довольстве, дышала чистым воздухом, пила прозрачную воду, питалась здоровой пищей, в которой было много целительного русского меда и пшеничного хлеба, и ее вкус услаждали то грибы, то серебристая рыба, то упоительно пахнущая и собранная на пригретых солнцем лужайках земляника.
Порой ласковая рука отца ложилась на ее детскую голову, иногда порицали ее строгим взглядом холодные глаза матери. Запомнились долгие богослужения в Святой Софии. Анне становилось жутко, когда священники закрывали ей грудь малиновым причастным платом и черный, как ночь, греческий епископ осторожно брал на ложечку немного вина и несколько крошек хлеба из тяжелой золотой чаши и давал ей проглотить, шепча молитву на непонятном языке. Илларион объяснял ей, что это не вино и не хлеб, а кровь и плоть Христа, и все было так странно и непонятно, что она радовалась, когда покидала храм и вновь видела над головой сияющее солнце.
Юность Анны тоже была связана с Вышгородом. Брат Всеволод говорил ей, что об этом городе даже упоминал в каком-то сочинении греческий царь, а Илларион называл Вышгород святым, честным и блаженным. Но этот книжник плохо разбирался в земных делах, и его мало интересовала вещественная жизнь, а у Ярослава в Вышгороде находилось большое княжеское хозяйство, стояли многочисленные житницы и медуши, погреба и голубицы, и под бревенчатыми городскими стенами широко раскинулись огороды с яблонями и пахучие капустники, полные белых бабочек.
Когда Анна подросла, князья стали брать ее с собой на охоту, и она научилась ездить верхом, но во время ловов княжну привлекала не столько богатая добыча и охотничья удача, сколько переживания, что вызывают и сердце захватывающее преследование зверя или погоня за оленем, когда ветер шумит в ушах, дубовые ветки хлещут по лицу и хочется всей грудью вдыхать осенний воздух, полный грибных запахов и тления вянущей листвы. Весной дубраву наполняли другие ароматы, и среди них Ярославна ничего не знала более прекрасного и упоительного, чем благоухание ландышей, которое напоминает девушкам о счастье.
Анна стала ловкой наездницей, полюбила коней и охотничьих соколов. У нее были длинные ноги и маленькие груди, и однажды приезжий грек, царедворец, надушенный, как женщина, патрикий, глядя на возвращавшуюся с лова Анну, сказал, красиво разводя руками:
– Артемида!
Она услышала это слово и потом спросила у Всеволода, знавшего все написанное в книгах, что оно означает. Брат объяснил, что так называли древнюю греческую богиню охот.
Но как эти благородные забавы, восхищение иноземцев и ожидание необыкновенного счастья не были похожи на унылые школьные стихи:
- Геенны меня избави вечныя,
- И грозы, и черви неусыпающа…
Выезжая в поле, Анна забывала обо всем, даже о книгах. Она запрокидывала голову, с увлечением следя за полетом сокола, настигавшего в далекой синеве ширококрылую лебедицу, и рыжие волосы Ярославны принимали на солнце блеск полноценного красного золота. Сердце начинало учащенно биться. В нем просыпалась жестокость предков, воинов и охотников, не знавших пощады ни к врагу на поле сражения, ни к зверю во время лова. Но вокруг сладостно пахло дубовыми листьями, грудь наполняло глубокое дыхание, и в душе рождалось смешанное чувство, в котором выражалась радость жизни и сострадание к прекрасной растерзанной птице.
Осенью в оврагах поспевали красные ягоды рябины. Когда охотники возвращались домой, с пажитей летели липкие паутинки, радужные в лучах заходящего солнца, и слышалось, как на гумнах соседнего селения смерды мерно ударяли цепами, молотя ячмень. Было сладко и в то же время грустно жить на земле. Но таилась в душе Анны и гордыня. Разве не принадлежала она к роду, который вел свое начало от героев? Разве не из ее семьи явились мученики, стоявшие у престола Всевышнего? А Илларион говорил при всяком удобном случае о ложном благополучии сего мира и о тщете человеческого существования…
Анне немало пришлось пережить под кровлей родительского дома, но ее еще не было на земле, когда Русь потрясали страшные события междоусобной войны и произошло вероломное убийство Бориса и Глеба. Княжичей объявили Христовыми мучениками, во имя их стали строить церкви, и даже в константинопольских церквах убиенных изображали на иконах с поднятыми горе глазами, хотя патриарх с неудовольствием утвердил новоявленных святых. Однако Ярославу хотелось, чтобы в сонме небесных угодников находилось хотя бы несколько мучеников, говоривших по-русски. Впрочем, князь Святослав Владимирович, убитый при таких же обстоятельствах, не удостоился подобной чести, может быть потому, что его христианство находилось под великим сомнением.
Анна знала об этих событиях только по рассказам старших. Семья собиралась в зимние вечера у очага, и, глядя на огонь, люди вспоминали прошлое. Но Анне было уже двенадцать лет, когда к Киеву подступили печенеги, и ей на всю жизнь запомнилось, как горожане переругивались на стенах с врагами и грозили им секирами. Под валами кружили тысячи кочевников. Они стреляли в русских, и стрелы летели, как туча, затемняя солнце, но по большей части втыкались в частоколы без всякого вреда и потом наполняли колчаны княжеских отроков.
Далеко на другом берегу Днепра пылили степные дороги и ржали мохнатые печенежские кобылицы. То двигались на Русь новые орды, ханы спешили в скрипучих повозках за добычей. С башен было видно, что там, где небо сходилось с землею, поднимались черные столбы дыма. Это горели селения хлебопашцев. Они стекались со своих пепелищ под защиту городских укреплений и в справедливом гневе рассказывали о постигшем их несчастье. Подобные слова накаляли воздух. На валу стоял гул взволнованных человеческих голосов, и в этом сплошном шуме от криков, ржания коней, скрипа колес и верблюжьего рева люди с трудом слышали друг друга.
Косматый монах, стоявший на стене, кричал, указывая перстом на печенегов:
– Злодеи! Исчадие ада! Будете вы ввержены, как плевелы, в огненную пещь!
Отец казался Анне величественным в своей железной кольчуге, в сияющем шлеме. Он грузно сидел в седле под голубым шелковым стягом, и конь не слушался поводьев. День был бурный, на знаменном полотнище трепетал архангел с желто-красным огненным мечом в руке. Под крышами бревенчатых башен завывал ветер. Анна прижималась к матери, вышедшей на крыльцо, чтобы проводить князя на битву, но душа девочки сгорала от любопытства к тому, что происходит в городе и за его стенами, и совсем не испытывала страха.
Дождавшись часа, когда распаленные жадностью печенеги с воем бросились на городские валы, киевляне отворили дубовые ворота и вышли с мечами и секирами на широкое поле. Началась сеча, молчаливая и беспощадная. Из окна высокого терема виднелась часть равнины, на которой происходило сражение, и Анна могла рассмотреть, как над русским полком покачивается голубое знамя. Там сражался ее отец. Даже на княжеский двор доносился гул далекой битвы.
На валах, укрепленных частоколом, стояли женщины в серебряных монистах и смотрели на сечу, в которой рубились их мужья и сыны. А когда солнце стало склоняться к западу, непривычные к долгим сражениям в пешем порядке печенеги не выдержали и побежали, и русские воины далеко гнали их в степь. Многих они изрубили секирами, других потопили в реке Сетомле или взяли в плен. Уже в полночной темноте Ярослав вернулся в город, в котором в ту ночь никто не спал. Воины несли убитых товарищей, и женщины встречали их с плачем, а некоторые бежали в поле и там искали трупы близких.
Анна не раз видела сборы братьев в полюдье, когда они надевали теплые бобровые шубы и уезжали за данью, кто – в Дерева, кто – в Муром, кто – к вятичам. А однажды русское войско уплыло на ладьях в греческие пределы, в синее море, на страшные медные трубы, что выхаркивают огонь, горящий, как адский пламень, даже на воде.
В те полные событий годы навеки уходила простая жизнь, когда князь и рядовой воин жили как братья, спали в походе под одной овчиной, ели мясо от одного вепря и одинаково думали о том, что происходит в мире; в любой час дня и ночи каждый мог войти в княжеские хоромы и просить суда. Теперь у ворот дворца стояли вооруженные и легкие на издевку отроки, и князя стало так же трудно увидеть, как солнце в дождливую погоду за облаками. Его окружали теперь разодетые пышно бояре, епископы, дворские, мечники и вирники. В Киеве появилось много людей, каких раньше никто не видел на его улицах, – монахи и свечегасы, писцы и учителя церковного пения. На глазах у Анны все чаще появлялись в родительском доме не виданные раньше вещи – мыло, издающее приятный запах, золотая и серебряная посуда, книги, чернила, свечи, пергамент, лекарственные снадобья, сладкое греческое вино. Мир, лежащий за пределами Русской земли, уже не казался таким неведомым, как прежде, и многие из тех людей, которых ежедневно видела Анна, успели побывать в Константинополе и даже в Иерусалиме.
Событием в жизни Анны было каждое посещение Святой Софии. Княжеская семья слушала обедню в кафизме. Так называлось устроенное наверху по образцу константинопольской Софии помещение, забранное решеткой и закрытое пурпуровой завесой. Ярославна смотрела отсюда украдкой на стоявших в церкви людей. Внизу молился простой народ. Но впереди обычно занимали места богатые люди с женами в золотых ожерельях. Они приходили в церковь, чтобы показывать людям свои наряды, приобретенные у греческих купцов.
Анна часто наблюдала, как внук приводил к вечерне седоусого воеводу Вышату, ослепленного царем во время неудачного похода за море. Рядом с ним некогда стоял певец Боян. Сюда приходили румяные новгородские торговцы и приезжие греки в красных плащах. Потом для знатных устроили по их просьбе особую галерею, чтобы они могли молиться богу, не смешиваясь с чернью.
Однажды, отведя рукой шелковую завесу и бросив по обыкновению любопытный взгляд туда, где стояли молящиеся, Анна увидела незнакомого воина. Его волосы цвета спелой пшеницы, по скандинавскому обычаю, падали ему на плечи длинными локонами: так носили их молодые ярлы или северные скальды. Можно было догадаться, что это знатный человек, стоявший даже в храме с гордо поднятой головой. На нем был красивый голубой плащ, из-под которого виднелись желтые сапоги. Анна не могла видеть лица воина, обращенного туда, где находился алтарь, но как бы предчувствовала его красоту, угадывала в девических мыслях, что под широким плащом незнакомец строен, как те пальмы, с которыми сравнивают воинов в книгах. Это было все, что она рассмотрела из кафизмы, но ее сердце почему-то забилось тревожно, как голубка, неожиданно попавшая в сети птицелова. А между тем в ту весну ноги Анны красиво округлились, наметились под полотном рубашки маленькие груди, и она томилась в лунные ночи, сама не зная, почему…
Мать и Гертруда, жена брата Изяслава, и Мария, жена Всеволода, вместе с Елизаветой и Анастасией сидели на обитой золотой парчою скамье, устроенной вдоль стены, так как на клиросе читались бесконечные часы и по церковным правилам в это время разрешалось отдыхать от стояния. Поэтому никто из близких не видел, на кого смотрела Анна с таким вниманием. Только немного спустя, может быть для того, чтобы лучше слышать чтение, к завесе бесшумно, как кошка, подошел в мягких сапогах брат Всеволод. По его лицу было видно, что он погружен в благочестивые мысли. Молодой князь стоял с закрытыми глазами и слушал унылые слова о смерти и тщете человеческого существования. Потом просветлел лицом и, оторвавшись от своих горестных размышлений, вынул из-за пояса синий шелковый платок и стал вытирать влажный лоб. Анна знала этот платок: на нем привлекало взор золотое солнце, окруженное красными пылающими языками. Она шепотом спросила у брата:
– Кто этот воин, что стоит там, около слепого Вышаты?
Всеволод, с неохотой спускаясь из благолепия молитвенных помыслов, переспросил:
– В голубом плаще?
– В голубом плаще.
– Ярл Филипп.
– Откуда он прибыл к нам?
– Из-за моря. А ныне отправляется с Гаральдом в Царьград.
Чтение долгих часов окончилось. Все поднялись со скамьи. По другую сторону от Анны молился брат Изяслав, высокий человек с широко расставленными большими глазами, но с угнетенным выражением лица, точно он ежечасно ждал и опасался ударов судьбы, и рядом с ним другой брат, Святослав. Это был щеголь, любитель хорошо переписанных книг и всяких драгоценностей, статный воин. На нем и в тот день был обычный его наряд: синий плащ на красной подкладке, малинового цвета рубаха, черные штаны. Блюдя древний обычай, князь носил не бороду, а длинные усы. Святослав почитал просвещенных людей и беседовал с греками на философские темы, но любил также веселые пиры и охоту. Он отличался громоподобным голосом, рычал, как лев, когда какой-нибудь игумен осмеливался порицать его греховное времяпрепровождение, рвал в гневе обличительные эпистолии и топтал их зелеными сапогами, украшенными жемчугом.
Старшего брата, Владимира, в Киеве не было, он сидел посадником в Новгороде. Вячеслав в те дни охранял с дружиной пороги. Отец тоже находился в отъезде – строил города на реке Роси.
Анне хотелось еще многое узнать о красивом скандинаве, но разговор пришлось прекратить, потому что наступило время совершения таинства. Алтарь отделялся от молящихся только мраморной оградой, и Ярославна могла видеть, как священники, взявшись за углы малинового плата, который назывался «воздухом», поднимали и опускали его над золотой чашей. Это походило на волшебство, и девушке становилось жутко. Вся жизнь теперь наполнялась фимиамом, церковным пением, молитвами.
Анна снова взглянула вниз, но молодой ярл исчез, – очевидно, ему наскучило стоять в церкви. Ярославне стало грустно… А снизу, с амвона, как из тумана, доносился глуховатый, но торжественный голос Иллариона. Пресвитер не упускал ни единого случая, чтобы наставлять людей в христианских добродетелях, хотя это было весьма нелегким предприятием: богатые погрязли в грехах, бедные не хотели забыть языческих богов.
Но Анне показалось, что слова Иллариона обращены к ней, и она прислушалась. Священник взывал:
– Не хвались своим происхождением, благородный! Не говори: отец у меня боярин, братья мои – Христовы мученики, а мать знатного рода. Сказано: овцы пойдут одесную, а козлища ошуюю, ибо коза не приносит доброго плода, овца же творит волну и все потребное для человека…
Анна заметила, что при этих словах Святослав дернул в гневе ус и сказал Изяславу:
– Уже довольно мне этих упреков. Я не монах, чтобы жить в смирении. Как ты полагаешь?
На лице Изяслава ничего не отразилось. Тихий Всеволод сокрушенно вздохнул. Оглянувшись на мгновение, Анна увидела, что мать с каменным лицом смотрит прямо перед собой, а Мария, жена Всеволода, улыбается неизменно счастливой улыбкой и шепотом переговаривается о чем-то с сияющей красотой Елизаветой.
Как опытный оратор, Илларион возвысил голос в том месте, где это требовалось по правилам риторики:
– И дуб высок величием своим и прекрасен листвием, но без полезного плода для человека, ибо желуди потребны лишь для свиней, а малый злак, едва видимый на земле, родит нам зерно. Это – сильные мира сего, если они не творят добрых дел, и трудящиеся в поте лица…
Святослав опять с раздражением посмотрел на Изяслава, и под тонкой кожей у него заходили на щеках желваки. Но брат по-прежнему уныло смотрел перед собою, точно не понимал немого вопроса.
Илларион вздымал руки в патетическом жесте, будто перед ним стояли не простые воины и простодушные горожане, а воспитанники риторских школ. Этот русский книжник бывал в Константинополе, посещал училище при церкви Сорока Мучеников, встречался со знаменитым греческим писателем Михаилом Пселлом. Он громил богатых и возгордившихся:
– Были двое возниц, мытарь и фарисей. Последний запряг двух скакунов – добродетель и гордость, но гордыня помешала добродетели, колесница его разбилась, и сам он погиб. Мытарь запряг других коней – свои грешные дела и смирение – и не отчаяние получил, а спасение…
Илларион вспоминал, может быть, в эти минуты константинопольский Ипподром, где однажды на его глазах разбился насмерть возница. Святослав цедил сквозь зубы в княжеском высокомерии:
– Смирение! Смирение!
Анне эти слова священника тоже казались досадными. Она нахмурила соболиные брови, точно не понимая, чего от нее требуют. Кто может отнять у нее право хвалиться своим происхождением, родством с греческими царями? Впрочем, все было смутно в тот день в ее душе. Илларион жаловался:
– О богатый, ты зажег свечу на светиле! Но придет обиженная тобой вдовица, вздохнет и вздохом своим погасит свечу…
Бедная вдовица!
На сердце у Анны пели жаворонки, она испытывала благожелательство ко всему миру. Но странно… Ей казалось, что это чувство родили не выспренние слова Иллариона, а красота воина, что стоял в церкви. Пусть все люди живут в радости!
Молодого ярла в голубом плаще уже не было внизу, а где-то в таинственных глубинах женского сердца рождалась любовь, древняя, как пробуждение природы, как вешняя гроза, когда Перун мечет молнии и потрясает небеса громом, орошает землю теплым дождем и она вздыхает о жатве…
4
Гаральд и Филипп и многие другие варяжские воины уплыли в Царьград. Вскоре после этого Анну сватали за немецкого кесаря, но в жизни ее не произошло никаких перемен, и она часто вспоминала молодого ярла в голубом плаще. Однако годы текут, как вода, и в один прекрасный день Гаральд возвратился с богатой добычей и победой в Киев. Вместе с ним вернулся Филипп. В честь их приезда в княжеской гриднице был устроен пир.
Гаральд, сын Сигурда Сира, брат Олафа, по прозванию Смелый, поэт и воин, сражался с пятнадцати лет, и его жизнь была полна приключений. Но в ней не случилось ничего примечательного, пока он не встретил Елизавету. С тех пор не было на всем пространстве от варяжских фиордов до счастливой Сицилии ни одного знатного воина, ни одного скальда, который не знал бы, что молодой герой влюблен в дочь русского конунга, отвергшую его любовь. В крайнем огорчении Гаральд отправился в Константинополь и поступил на императорскую службу, чтобы снискать себе воинскую славу или погибнуть на поле сражения. Так пели о нем скальды, ибо иначе песни их не были бы достойны внимания слушателей. Им полагалось воспевать только высокие чувства – пламенную любовь и готовность ее заслужить, мужество и верность до гроба.
Гаральд водил корабли в Эгейское море, сражался с сарацинами на берегах Евфрата и под Мирами Ликийскими, принимал участие в походе протоспафария Текнея в Нильскую долину, а также в военных действиях в солнечной Сицилии, под начальством прославленного полководца Георгия Маниака. За эту войну Гаральд получил от императора почетное звание спафарокандидата. В Сицилии он встретился с патрикием Кевкаменом Катакалоном, который впоследствии был послан на Русь. Когда императору удалось установить длительное перемирие с египетским халифом, владевшим тогда Палестиной, по совету Катакалона, Гаральда послали с многочисленными рабочими в Иерусалим для восстановления храма Христа. Но по возвращении в Константинополь он был обвинен в сокрытии военной добычи и заключен в темницу.
В Киеве утайка от греческого царя сокровищ, захваченных у врагов, не могла рассматриваться как особенно тяжкое преступление, и когда Гаральду во время трагических событий, связанных с ослеплением Михаила Калафата, удалось покинуть Константинополь и вернуться в город, где жила гордая Елизавета, его встретили там с почетом и пиршество в его честь устроили на скандинавский лад. Пол обильно посыпали соломой, но залу осветили уже не древними смолистыми факелами, наполнявшими некогда помещение дымом и копотью, а восковыми свечами. Они горели в трех паникадилах, как три солнца висевших под потолком. Чтобы капли расплавленного воска не падали на сидящих за столами и не обжигали нежных красавиц, свечи были вставлены в серебряные чашечки, сделанные в виде раскрывшихся райских цветов. Это было чудо сереброкузнечной работы, и ее выполнил знаменитый в те дни киевский художник, имя которого затерялось, к сожалению, во мраке времен.
На пир позвали только самых знатных людей и самых богатых чужестранцев. По примеру царского константинопольского дворца, пиршественные столы, как некие церковные престолы, были покрыты драгоценными парчовыми скатертями и уставлены серебряной посудой.
Анне исполнилось тогда восемнадцать лет, и в тот день она впервые приняла участие в пире, рядом с сестрой Елизаветой. А еще не отошел в область предания древний северный обычай, когда женщины сидели за столом попарно с мужчинами и воин пил вино из одной чаши с соседкой, если он был мил ее сердцу, хотя греческие епископы и боролись всячески с такой распущенностью, требуя, чтобы на трапезах читались жития святых, а не распевались грешные песни о прелюбодеяниях и пролитии человеческой крови.
Ярослав избегал ссориться с митрополитом и побаивался суровых обличений Иллариона, но на этот раз князя удалось убедить устроить празднество так, как это делалось в дни Святослава и великого Владимира, когда на Руси еще не было ни церквей, ни фимиамного дыма.
Анну облачили на пиршество в греческий наряд, привезенный из Константинополя, и сама Мария учила ее, как надо приподнимать подол длинной одежды, чтобы она не мешала ногам при ходьбе или на ступеньках высоких лестниц. Щеки Анны впервые нарумянили, а косы уложили вокруг головы и украсили ниткой жемчуга. Когда девушка в смущении появилась в шумной гриднице, какой-то седоусый дружинник воскликнул:
– Ярославна, ты как утренняя заря!
За столами надменно сидели знатные люди, которых Анна часто видела в церкви: Никифор, Перенег, Чудин, Братислав, тучный воевода Микула из Новгорода. Гаральда посадили рядом с Елизаветой. Всеволод, как всегда, не разлучался с супругой. Мария, по своему обыкновению улыбаясь и щуря глаза, переводила любопытные взоры с одного гостя на другого, а он пожимал ей украдкой под столом маленькую горячую руку. Возле Ярослава тяжко опустилась на скамью его величественная супруга, которую Илларион в проповедях называл благоверной. Впрочем, так неизменно называли всех греческих цариц, даже прелюбодеек и отравительниц. По лицу княгини люди могли судить, что ее уже не занимают подобные собрания.
Но все были полны веселия, шумно усаживались за столы. Только Ярослав хмурился, поглощенный важными мыслями. Для него этот праздник и предстоящий брак дочери являлись государственными делами. Немного огорчали расходы, связанные с устройством празднества, однако пиры и женские прелести иногда могут сделать больше для укрепления мира, чем мужской ум, золото, тысячи воинов, закованных в железо. Ярослав с гордостью посмотрел на Елизавету. Ей шел двадцатый год, красота ее была в полном расцвете. Так стоит весной бело-розовая яблоня в ожидании золотых пчел. На нежной шее у дочери блистало тяжкое ожерелье, привезенное Гаральдом из Царьграда. Ярл уверял, что его носила императрица Зоя. Как оно могло попасть ему в руки? Но пусть будет так, и никто не посмеет подумать, что сподвижник Олафа похитил эту драгоценную вещь.
С пылающим лицом, опустив ресницы, рядом с Елизаветой сидела Анна. Девушку волновало, что возле нее случайно оказался человек, которого она некогда увидела из кафизмы, и теперь в ее чистом и доверчивом сердце вновь вспыхнули волнующие чувства. Анне в голову не приходило, что за эти два года молодой ярл держал в своих объятиях продажных распутниц и неверных жен.
Ярл Филипп мог выгодно жениться на любой богатой константинопольской вдове и даже на дочери самого логофета, которую однажды ему пришлось переносить через ручей, когда обрушился каменный мост на дороге во Влахернский монастырь. Девица прижималась к воину и не сводила с него глаз. Но, увы, была худощава и длинноноса. Одним словом, ярл ни на ком не женился, хотя ему уже стукнуло двадцать восемь лет. За эти годы Филипп никого не полюбил, сердце его осталось свободным, и Анна могла стать его царицей, если бы пожелала, а она не смела поднять взора на соседа, чувствуя всем существом своим, что рядом с нею сидит человек, о красоте которого шепотом переговариваются женщины за столом. Наконец, чуть скосив глаза, Ярославна увидела снившееся ей порой лицо, все такие же золотистые локоны, как бы в беспорядке упавшие на плечи зеленой рубахи. Ярл возмужал, у него резче стали выступать сильные скулы и более четко обрисовался крепкий бритый подбородок. Светлые усы падали вниз.
Филипп тоже бросал украдкой взгляды на княжну. Впрочем, он знал суровый характер Ярослава и не решался заговорить с Анной, а она молчала. Ярлу очень хотелось сделаться воеводой охранной дружины в Киеве, что дало бы ему много денег, села, рабов. Но неудовольствие киевского конунга можно было вызвать одним неосторожным словом.
Ярослав, его сыновья и многие гости сидели на пиру в красивых русских рубахах – красных, голубых, синих – с золотыми или серебряными оплечьями, а другие дружинники, по старому обычаю, – в белых. Замужние женщины пришли в шелковых убрусах, в парчовых сарафанах, красуясь дорогими ожерельями. Все это были румяные, белозубые красавицы, и только у некоторых славянская белизна уже смешалась со степной смугловатостью; у таких глаза стали чуть скошенными, казались лукавыми, и эти женщины особенно нравились северным ярлам…
Гаральд не спускал влюбленных глаз с Елизаветы, и по ее улыбке можно было предполагать, что на этот раз она не отвергнет его любовь. Всем сделалось известным, что в ближайшее время ярл отправлялся в сопровождении многочисленных воинов завоевывать принадлежащий ему по праву норвежский трон.
Гости ели мясо, в изобилии лежавшее на столе, и вытирали руки о расшитые полотенца, которые им подавал проворный отрок, а когда насытились и утолили жажду медом, стали разговорчивее. Только Ярослав все так же грустно-снисходительно оглядывал сидевших за столом людей, легко забывающих во время пиршества о том, о чем надлежит помышлять христианину. Ингигерда по-прежнему сжимала властные губы. Всеволод, отпив половину вина из чаши, угощал супругу и влюбленно смотрел на нее. Глаза Марии стали еще таинственнее и темнее от блистания восковых свеч. По другую сторону от молодого князя сидели Гаральд и Елизавета, а за ними Анна и Филипп. Это был стол конунга, полный яств. Напротив находились Изяслав и Гертруда. Святослав и Ода, пресвитер Илларион, а рядом с ним – поп Иван из церкви, построенной в Чернигове Святославом, беспутный человек, но тоже великий книжник.
Филипп много пил, и вино разогрело даже его холодное сердце: вдруг у него проснулась нежность к этой прекрасной деве с рыжими косами. Но Анна ни разу не подняла на него глаза, боясь осуждения матери, сидевшей поблизости, а он думал, что дочь конунга не удостаивает его своим вниманием, и пил чашу за чашей.
Ярослава интересовали события, которые произошли в последние годы в Царьграде, и Гаральд рассказывал ему со всеми подробностями о том, как один царь сменял в Священном дворце другого царя. По словам ярла, он лично принимал участие в этих кровавых событиях, и слушать его было занимательно.
Держа обеими руками прохладную серебряную чашу, Гаральд осушил ее и тотчас протянул отроку, чтобы тот снова наполнил сосуд вином. В Константинополе ярл тоже стал носить небольшую бороду, хотя и оставил длинные усы. На бритье подбородков в Священном дворце косились, считая это варварским обычаем, недостойным христиан. Но ношение бороды или безбородые лица – это только вопрос переменчивой моды: сам великий Константин был брит, как цирковой плясун.
– Что же случилось тогда в царском дворце? – торопил рассказчика Ярослав.
– Послушай мою повесть, конунг! Обо всем расскажу по порядку. Ведь я наблюдал это своими собственными глазами и видел, как царь Роман лежал на смертном одре, в последний раз облаченный в пурпур. Лицо у него было распухшее и почерневшее. Дворцовые служители рассказывали мне шепотом, что он утонул в бане. Но люди не тонут в купели без особой причины. Я много другого слышал во дворце, отчего волосы становятся дыбом даже у смелого человека. Преемником Романа был Михаил, любовник царицы Зои. Он еще продолжал разыгрывать из себя влюбленного, пока толпы народа не встретили его приветствиями на Ипподроме как нового императора, но, добившись того, к чему стремился, честолюбец показал себя во всей своей низости. Впрочем, спустя непродолжительное время умер и Михаил, и на престол взошел его племянник. Об этом царе ходили недобрые слухи. Его прозвали Калафатом. Так по-гречески называют на пристанях тех людей, что смолят корабли. Тогда я был этериархом. Под моим начальствованием служил ярл Филипп, и он поправит меня, если я в чем-нибудь буду не совсем точным.
Молодой ярл закивал в знак согласия. Филипп благоговел перед своим удачливым начальником.
– Новый василевс, – продолжал Гаральд, – возненавидел Зою, не знаю, за что, и обвинил царицу в попытке отравить его. Госпожу сослали, как преступницу, в сопровождении одной только служанки, на отдаленный остров, где заточили в монастырь, и по повелению императора ей остригли волосы. Помнишь, Филипп? Они еще и тогда казались золотыми. Как у тебя, милая Елизавета!
О, сколь приятно было слушать такого любезного рассказчика!
Сидевший за дальним столом седоусый варяг, верный сподвижник Гаральда, рассказывал своим соседям:
– Это было на Ипподроме… Но еще до того, как свергли Зою. Мы смотрели на представление. На арене плясали ученые медведи. Трудно придумать что-либо забавнее этого зрелища. Они поднимали то одну лапу, то другую и потом приседали, ударяя в бубен… В это время мимо нас прошла царица, почему-то покидавшая праздник. Откуда мне это знать! Может быть, у нее заболел живот? И что же? Увидев еще раз длинные волосы Гаральда, она заявила, что хотела бы получить прядь на память о таком знаменитом воине…
Рассказчик прыснул со смеху и закрыл рот рукой.
– А Гаральд? Как же он поступил тогда? – расспрашивали слушатели.
– А он…
Седоусый не мог продолжать от душившего его смеха.
– А он…
– Что же он ответил?
– Мы все выпили изрядно вина… Гаральд ответил… Ха-ха!
Должно быть, это была какая-нибудь очень грубая шутка, потому что воины, сидевшие за столом, разразились громовым хохотом.
Ярослав взглянул в ту сторону, и смех мало-помалу прекратился.
Впрочем, ненадолго. В гриднице делалось все шумнее и шумнее. Мед развязывал языки.
– И что же? – спросил опять старый князь.
Гаральд, разглаживая светлые усы, смотрел куда-то себе под ноги…
– Мне привелось присутствовать при отплытии корабля, так как во дворце опасались народного возмущения, и нам приказали, чтобы мы охраняли доступ к морю. Императрица поднялась на корабль, протянула руки к видневшемуся за кипарисами дворцу и промолвила сквозь рыдания: «Мою главу еще в колыбели украсили знаками царственного достоинства, меня некогда держал на коленях великий Василий, и я надеялась, что буду жить для счастья. Но, увы, ошиблась. И теперь страшусь людей и моря». И другие слова говорила. Помнишь, Филипп?
– Она говорила, что живой ложится в гроб, – подхватил Филипп. – В тот день мы испытали немало волнений. Народные толпы бушевали и готовы были ворваться во дворец и все предать огню. Мы едва сдерживали их напор…
– А царица надула губы, точно избалованный ребенок, – прибавил Гаральд.
Анна тоже слушала с большим вниманием рассказ о царьградских событиях. Судьба этой женщины не могла не взволновать ее. А Гаральд, в приподнятом настроении, чувствуя, что на него обращены взоры всех присутствующих, вдохновенно описывал сцены дворцового переворота.
– Но Зоя была любимицей народа. В Константинополе вспыхнул мятеж. Все были в отчаяньи, что императрица томится в изгнании, и проливали слезы. Даже простые ремесленники и корабельщики. Особенно негодовали женщины. Они вопили на улицах: «Где-то она теперь, единственная благородная душа в стане злодеев?»
Ярослав усмехнулся в бороду:
– Я слышал другое.
– Да, Зоя была способна на все. Ослепляла, не очень-то разбираясь, кто прав, кто виноват. И все-таки чернь любила ее. Мне передавал об этом некий патрикий Катакалон. Мы с ним вместе воевали в Сицилии. И еще я слышал кое-что от одного царедворца. Его имя – Михаил Пселл. Так что все, что я рассказываю, вполне соответствует истине.
– Тебе приходилось встречаться с Михаилом Пселлом? – удивился Илларион, смущавшийся немало на этом собрании вельмож, которых он часто обличал в греховном поведении.
– Я имел случай беседовать с протоспафарием, – не без удовольствия произнес трудный титул Гаральд, довольно знавший греческий язык, чтобы объясняться не только с простыми воинами, но и с придворными чинами. – Но позволь, конунг, продолжать повествование. Итак, Зоя уплыла на корабле в изгнание, и тогда в столице возмутился народ. Дома многих советников царя были разграблены. Филипп хорошо помнит эти беспорядки.
Молодой ярл кивнул головой, и Анна позавидовала варягам, испытавшим столько приключений, видевшим Царьград и Иерусалим и этот, похожий на сон, остров Сицилию, о котором Гаральд рассказывал Елизавете.
Филипп добавил, может быть желая обратить на себя внимание Ярославны:
– В тот день мои воины стояли на страже в Священном дворце. Он был пуст, все разбежались. Император спрятался в своей опочивальне и дрожал от страха. Я хотел…
Но Ярослав желал слушать Гаральда. Не подобает молодым перебивать старших, и князь приказал:
– Продолжай, Гаральд!
Филипп умолк. Он привык к повиновению, однако на лице у него выступили красные пятна. Гаральд продолжал прерванный рассказ:
– Помню, что в тот день был понедельник. Я вышел из дворцовых ворот посмотреть, что же происходит на улицах. Вижу, мимо скачет на коне знакомый протоспафарий. Тот самый Михаил Пселл, о котором я упоминал…
Илларион знал Михаила Пселла по его писаниям и даже два или три раза слышал, как знаменитый писатель говорил в их школе о риторических красотах Демосфена.
– Я окликнул его, и протоспафарий остановил коня. Я спросил, куда он стремится с такой поспешностью, и Михаил ответил, что на Ипподроме бушуют толпы и он хочет увидеть все воочию, чтобы потом описать события в своей хронике. И ускакал. Когда же я вернулся в притихший дворец, мне сказали, что к императору прибыл через потайную дверь его дядя Константин, по рассказам, мужественный человек. Позднее мне представился случай убедиться в этом. По совету магистра Зою немедленно вернули из монастыря в Константинополь и показали на Ипподроме живой и невредимой народу. Я близко видел царицу. Бедняжка дрожала от страха. Однако послушайте, что произошло дальше. Ее появление еще больше распалило гнев людей. Мятежники вообразили, что между ненавистным Калафатом и Зоей произошел сговор, и отвернулись от любимицы. Все устремились в монастырь, где жила в тишине ее сестра Феодора, не ждавшая, что судьба готовит ей такие перемены.
– Ты хорошо рассказываешь, – заметил Ярослав, – и внимать твоему рассказу поучительно.
– Но чтобы вам стало яснее положение, – заметил польщенный ярл, – надо сказать, что у Зои две сестры. Одну зовут Евдокией. Она прокаженная и навеки спрятала свое несчастье в монастыре. Вторую, как я уже говорил, зовут Феодорой. Она тоже была монахиней. Но насколько Зоя привлекательна по внешности, даже теперь, когда ей шестьдесят лет, настолько Феодора некрасива, худа, с предлинным, как у ослицы, лицом, с неуклюжим телом. Кроме того, она скупа, а болтлива, как сорока. Но послушайте, что произошло потом! Феодору извлекли из кельи и потащили в монашеском одеянии в храм Софии, чтобы провозгласить там под клики народа императрицей. Воспользовавшись тем, что его на время оставили в покое, Михаил Калафат бежал вместе со своим родственником Константином в монастырь, называемый Студион. Но Георгий Маниак, который всем распоряжался во дворце от имени перепуганной Феодоры, послал вдогонку воинов с приказанием доставить беглецов в Священный дворец.
– Он меня отправил за ними, – с удовольствием пояснил Филипп, что дало повод Анне поднять на него глаза.
– Да, сначала туда поспешил с малым отрядом мой молодой друг. А когда во дворце стало известно, что к Студиону движутся огромные толпы народа, я сам отправился в монастырь, и за мною увязался этот сочинитель хроник, что всюду сует свой нос. В руках у него была навощенная табличка и красивая палочка из слоновой кости. Он ею записывал что-то…
Михаил Пселл действительно всюду хотел быть и все видеть. Это таилось в его характере. Нетрудно догадаться, почему протоспафарий водил дружбу с дворцовыми варягами и часто угощал их вином.
Гаральд рассказывал:
– Писатель надеялся, что мы будем сообщать ему обо всем, что видим в Священном дворце. Но я сам больше узнал от этого болтуна, чем рассказал ему, хотя протоспафарий вечно что-то записывает на восковых дощечках. Между тем я уже явился в Студион, и Филипп сказал мне, что Михаил и Константин нашли прибежище в алтаре церкви. По греческим обычаям, никто не может схватить человека и вести его в темницу или на казнь, если он успеет войти в алтарь. Даже если это преступник. Мы видели с Филиппом, как оба они трясущимися руками срывали с себя царские инсигнии и поспешно облачались в черное монашеское одеяние, которое постарались принести монахи. Михаил цеплялся дрожащими руками за витые колонки престола. В Студийской церкви он сделан из литого серебра. И что же мы увидели? Подле согбенного царя стоял Константин и с презрением смотрел на нас. Я хотел войти в алтарь и увести обоих во дворец, однако монахи воспротивились этому, уверяя, что за подобное святотатство нас покарают небеса. Я уступил и стал ждать распоряжений. Ожидать пришлось недолго. Вскоре в церкви появился запыхавшийся эпарх. Так называется вельможа, которому поручено ведать городом. Его звали Никифор Кампанар. Он привез повеление, подписанное рукой Феодоры пурпуровыми чернилами, в коем предписывалось, чтобы царь и его дядя немедленно покинули храм. Тогда мы выволокли обоих на монастырский двор…
– И у тебя поднялась рука на помазанника? – спросил Всеволод, слушавший рассказ о константинопольских событиях в крайнем волнении. Это был единственный человек в семье, не считая Марии, который полагал, что надлежит быть в хороших отношениях с Царьградом. Странно, что, невзирая на такие взгляды, отец любил его больше всех других сыновей.
Гаральд смутился. Он мог бы умолчать о своем участии в этом деле, но вино развязало ему язык и породило желание рассказывать о тех потрясающих событиях. Ярл сказал в свое оправдание:
– Мы только исполняли то, что нам было приказано. Если ты, светлый конунг, повелишь своим воинам сделать что-либо, они обязаны выполнить это немедленно, иначе за что же они получают от тебя награду?
Однако слушателям не терпелось узнать, что происходило дальше, и слышались голоса, требовавшие продолжать. Гаральд посмотрел на Ярослава и, получив от него молчаливое разрешение, но не желая восстанавливать против себя этого святошу Всеволода, продолжал уже с меньшим увлечением:
– Потом произошло ужасное. Мы с Филиппом только присутствовали при этом и были не в силах помешать казни.
– Что же случилось? – спросил Ярослав.
– Когда мы вели схваченных по улице, нас сопровождали монахи, которым эпарх Никифор дал слово, что ничего плохого не сделают с царем и Константином… Но едва мы достигли площади, называемой Сигма, как встретили посланных из дворца палачей с орудиями ослепления. Они быстро развели огонь в переносном горне и раскалили на нем страшное железо. Василевс бился в руках мятежников, но палач спокойно продолжал под рыдания Михаила приготовления к казни. Какой-то сенатор, не опасаясь того, что может поплатиться за свое милосердие собственной головой, утешал несчастного. Когда василевсу связали цепью руки и раскаленное железо коснулось его зениц, он завыл, как зверь. Ослепленный стал биться на земле и царапать лицо. Константин держал себя мужественнее. Он сказал палачу, указывая на обступивших его людей, не желавших ничего упустить из такого зрелища: «Разгони эту чернь, чтобы все добропорядочные видели, как я перенесу казнь». И отказался от цепей, которыми обычно связывают ослепляемых, чтобы они не бились и не причиняли себе напрасных страданий. Затем Константин лег на землю. Он перенес казнь без единого стона! Помню, что рядом со мной стоял Пселл. Он шептал мне за плечом: «Утром еще они повелевали всем миром, а вечером стали жалкими слепцами!»
Гаральд был певцом, поэтом, играл на арфе и поэтому умел красиво рассказывать о том, что ему привелось увидеть во время своих странствий.
– И вот тогда-то, – воскликнул ярл, – и взошла на греческие небеса звезда Константина Мономаха!
Он знал, что Мария была дочерью василевса от первой жены, уже покинувшей мир. В этом месте рассказа требовались пышные хвалебные выражения: речь шла не только о том, чтобы получить в награду прелестную улыбку греческой красавицы, но и снискать расположение Всеволода, который имел большое влияние на отца. Кроме того, не лишним было и пробудить ревность Елизаветы. Как опытный соблазнитель, Гаральд знал цену этому страшному чувству. Мария же достаточно понимала русский язык, чтобы оценить панегирик отцу.
– Василевс, ныне царствующий в Константинополе, происходит из Далассы. Красота его напоминает статую…
Анна представила себе Константина Мономаха в образе Филиппа и затаив дыхание слушала рассказ.
– Семь долгих лет героя держали в ссылке. Семь лет он прозябал в изгнании, потому что при его появлении на улицах Константинополя народ приходил в неистовство. Но Пселл говорил правду, когда уверял меня, что природа сделала у этого царя крепость мышц только основанием здания. Потому что мощь василевса Константина не в мышцах, а где-то в глубине сердца. Однако десница его тоже отличается необычайной силой. Помню, однажды он с увлечением пожал мне руку за какую-то оказанную услугу, и я потом чувствовал это рукопожатие несколько дней, а ведь никто не может сказать, что я хилый человек. Но, кроме того, как он умеет очаровывать одинаково и мужчин и женщин своими улыбками!
От удовольствия Мария тоже улыбнулась рассказчику. На мгновение на смугловатом лице блеснули чудесные, как жемчужины, зубы. На правой щеке темнела родинка…
– Против таких улыбок не может устоять самое каменное сердце. И вот ради пользы государства этот красавец стал супругом стареющей Зои.
Анна внимала, не пропуская ни одного слова. Зоя уже старуха! А сколько она слышала об этой необыкновенной женщине, об ее умении пользоваться благовониями и притираниями! Как бы хотелось посетить Царьград, о красоте которого столько рассказывали брат Всеволод, и Илларион, и другие люди, побывавшие там. Недаром она и сестры одевались, подражая знатным гречанкам, а торговцы привозили им из Константинополя редкостные вещи. Но Анну вывел из задумчивости громоподобный голос брата Святослава:
– Отец, не довольно ли уже об убийствах и ослеплениях! Посмотри вокруг себя! Гостям хочется послушать певцов. Пусть Гаральд споет ту песню, которую он пел вчера за моим столом! Гаральд!
Святослав был в красной шелковой рубахе с богатым золотым оплечьем. Он поднялся со скамьи и счастливыми пьяными глазами, позабыв о своих болячках и скучной жене, оглядывал сидевших за столом, и все отвечали ему веселыми улыбками и шутками. От горящих свеч, медленно оплывавших на серебряные чашечки светильников, от разгоряченного вином человеческого дыхания в пиршественной зале становилось жарко. Перебродивший мед напоминал о пчельнике. Почтенные бояре, уже упившиеся вином, осоловелыми глазами поглядывали на соседей. Те, что помоложе, шумели, вскакивали со скамей и, поднимая турий рог, полный пенистого меда, были готовы под любым предлогом затеять драку, вырвать у соперника клок бороды. Но их белотелые жены звенели золотыми ожерельями, разрумянились и похорошели на пиру. Им хотелось веселиться, слушать музыку. Гаральд окинул взглядом собрание, точно спрашивал себя, оценят ли здесь его песню, сложенную с таким волнением в честь любимой русской девы. Потом поманил рукой одного из отроков. Прислонившись к притолоке двери, скрестив руки на груди, тот задумчиво смотрел на пирующих. Но юноша уловил знак и подошел к Гаральду, с полной готовностью служить такому знаменитому мужу.
– Друг, принеси арфу! – сказал ярл.
Когда Гаральду вручили ее, изогнутую, как лебединая шея, он стал настраивать золоченые струны опытной рукой, точно поджидая вдохновение, которое посещает певца в счастливые минуты. Мало-помалу наступила тишина. Елизавета, зная, что сейчас будет прославлена ее красота, отвернулась и опустила глаза. Но все другие устремили взоры на скальда. Теперь ярл носил кроме длинных усов коротко подстриженную бороду. Левая бровь у него взлетела выше, чем правая. Большие белые руки с редким искусством перебирали струны. Он был сложен, как Тор, бог войны, в которого еще верили старики и старухи в глухих селениях Упландии, где весною является на заре в березовых рощах зеленоглазая Фрейя.
Гаральд подбирал на арфе мелодию, и вдруг его сильный, но мягкий голос пропел знаменитые стихи о корабле, миновавшем Сицилию…
- Наш корабль миновал Сицилию,
- мы были в красивых одеждах,
- как подобает воинам.
- Быстроходный корабль с высокой кормою
- нес воинов к славе.
- Не думаю, чтоб малодушный
- решился уплыть так далеко.
- Но русская дева с золотым ожерельем
- мною пренебрегает…
Гаральд перестал петь, печально склонил голову набок и смотрел вдаль, точно вспоминая минувшие годы и еще раз переживая свою любовную тоску. Некоторое время он перебирал среди мертвой тишины звонкие струны, потом вздохнул, посмотрел на Елизавету и, запрокинув голову, продолжал:
- Мы смело построились перед трандами,
- хотя было их больше числом, нежели нас.
- Поистине там разыгралась ужасная битва,
- с их королем бился я в единоборстве
- и убил его в этом сраженье.
- Но русская дева с золотым ожерельем
- мною пренебрегает…
Снова раздался рокот арфы. Послышался чей-то женский вздох. Лицо Гаральда стало суровым, но он уже не смотрел на Елизавету и не видел, как высоко вздымалась ее грудь от взволнованного дыхания, которое вызывается любовью.
- Шестнадцать нас было, милая дева!
- Средь бури мы черпали воду в ладье,
- волны тяжелый корабль заливали.
- Не думаю, чтоб малодушный
- решился заплыть так далеко.
- Но русская дева с золотым ожерельем
- мною пренебрегает…
Теперь Елизавета не постыдилась повернуть свое лицо к певцу и, подарив его сияющей улыбкой, прошептала:
– Гаральд, я не пренебрегаю тобой…
Обращаясь к ней, он пропел:
- Я родился там, где упландцы натягивают луки.
- Теперь я правлю боевым кораблем среди скал.
- Гроза сарацин…
Наградой воину за стихи были восторженные восклицания. Слушатели поднимали за его здоровье рога, наполненные медом, женщины улыбались, а некоторые рукоплескали, научившись этому у приезжих греков, которые имеют обыкновение так выражать одобрение певцам и музыкантам. Лицо Елизаветы пылало.
Тогда арфу взял из рук Гаральда скальд Теодульф, чтобы прославить его своей песней:
- Смелым, Гаральд,
- тебя называют,
- ты в тишине
- не умрешь на соломе,
- ты среди битвы
- паришь, как орел…
Ярослав был доволен пиром. Но Ингигерда, устав от шума и духоты, покинула собрание в сопровождении прислужниц. Тогда старый князь предложил Гаральду пересесть поближе к нему. Он решил, что Елизавета еще успеет наговориться со своим возлюбленным, а ему хотелось расспросить ярла о некоторых благочестивых предметах.
– Слышал я, что ты был в Иерусалиме? – спросил старый князь.
– Я был в этом святом, а ныне несчастном городе.
– Что же ты видел там?
– Я видел страшное запустение. После войны греков с сарацинами Иерусалим лежит в развалинах. Храм, построенный на Голгофе, разрушен до основания. Василевс послал меня в Иерусалим, чтобы восстановить рухнувшие стены этого здания, и каменщики трудились много месяцев, прежде чем удалось выполнить повеление.
– И сарацины не чинили препятствий?
– Даже помогали нам, доставляя строительные материалы. А сам халиф присылал мне прохладительные напитки, так как в той стране в летнее время стоит невыносимая жара.
– Пришлось ли тебе видеть Иордан?
– Я искупался в этой реке, чтобы омыть грехи. В том месте проходит дорога в город Иерихон. На ней разбойники безнаказанно нападали на путников, отнимая у них ослов и одежду. Но халиф дал мне воинов, и я очистил путь от разбойников. Теперь все желающие могут направляться туда в полной безопасности.
– А еще что видел ты? – любопытствовал Ярослав.
– Еще я видел Мертвое море. Воды его полны серы, упавшей с небес, когда были истреблены Содом и Гоморра, и в этой черной воде не может жить никакая рыба.
– Много видели твои глаза, – с грустью сказал Ярослав.
Когда за столом уже началось целование между мужчинами и женщинами, Илларион поспешил уйти из гридницы, как того требовал церковный устав, и вслед за ним удалились Ярослав и Всеволод с Марией. Повинуясь знаку отца, Елизавета и Анна тоже встали из-за стола. Анна видела, что все были сыты и веселы. Женщины громко смеялись. Перед тем как покинуть пиршественную залу, она посмотрела с нежностью на молодого ярла. От этого взгляда его лицо залилось румянцем. Девушка улыбнулась ему и, еще не отдавая себе отчета в том счастье, которое вдруг наполнило ее сердце, с горестным сожалением оставила пир.
Заметив, что Илларион удалился, поп Иван пустился в пляс, при всеобщем одобрении и смехе.
Позднее, когда Анна расплетала наверху косы, в тихой горнице, где спали сестры, появилась сердитая мать, поговорила с Елизаветой, а потом пронзительно посмотрела на другую дочь и сказала:
– Хотела бы я знать, почему ты так смущалась за столом, медлила прикоснуться к пище?
Анна взглянула на мать с волнением, страшась, что тайна ее будет открыта.
– Почему же ты молчишь? – настаивала княгиня.
– Я не знаю, о чем ты говоришь. Мне нездоровилось.
– Нездоровилось? Вот почему так горело твое лицо? И теперь горит. А не потому ли, что ты лжешь матери?
– Я не лгу тебе.
Но мать не верила ей.
5
Едва умолк шум пира, как была устроена большая охота на вепрей. Эти звери водятся в большом количестве там, где растут дубы, дающие диким свиньям обильную пищу в виде желудей, а Киев со всех сторон окружали дубравы. В приготовлениях к забаве деятельное участие принимал Святослав, как всегда довольный собою, своим богатством, конями и оружием, хотя по-прежнему весьма страдавший от болячек на шее, от которых его не могли излечить лучшие армянские и сирийские врачи.
Всеволод, по обыкновению, от этого лова уклонился, ссылаясь на недомогание, а другие братья находились в отъезде. Зато Гаральд и Филипп приняли приглашение на охоту с восторгом, предвкушая удовольствие вонзить копья в ощетинившегося вепря и вдохнуть ноздрями острую, мускусную теплоту звериной крови. Никогда человек, казалось им, не чувствует так явственно жизнь, как наблюдая смерть врага или зверя. Пожелали отправиться на лов и обе сестрицы, Елизавета и Анна. По просьбе матери, Святослав должен был позаботиться, чтобы с ними не случилось чего-нибудь худого.
Накануне отправления на охоту, услышав, что брат действительно занемог, Анна навестила болящего. Молодой князь обитал с супругой в ограде княжеского дворища, но в отдельных хоромах. У него были свои вооруженные отроки и отдельный домоуправитель. Анна направилась в дальний конец двора, занимавшего такое обширное пространство, что на нем иногда собиралось народное вече и устраивались конские ристания. Сейчас на нем стояла тишина, все заросло крапивой. На траве лежали собаки и щелкали зубами, ловя злых осенних мух. Псы вежливо помахали хвостами, когда Анна проходила мимо. Кое-где рабы лениво выполняли ежедневные работы – один колол дрова у поварни, другой нес воду в ведрах на коромысле, некоторые проветривали меха. Над колючими цветами, которые называются лепками, кружились белые мотыльки. Хвосты у собак были полны этих шишек, и Анна вспомнила, что в детстве играла с братьями, бросая эти колючки, легко прилипавшие к одежде.
Мария, жена Всеволода, встретила свойственницу радостными поцелуями. Ярославна тоже с удовольствием прижалась щекой к ее прохладной щеке, спрашивая о брате. С улыбкой, стесняясь своего произношения, гречанка ответила, что у больного врачи.
Привыкшая к пышности Священного дворца и общению с воспитанными людьми, дочь царя, приехав в страшную скифскую страну, воображала, что мужем ее будет какой-нибудь огромный варвар, в объятиях которого ей придется трепетать, как птичке в пасти зверя, а он оказался тонким и болезненным юношей. С первых же дней Мария привязалась к нему со всей женской нежностью, взращенной в гинекее. Когда Всеволод хворал, она сама готовила для него отвары, какие предписывал врач, и проводила ночи у его изголовья. Но болезнь проходила, и тогда большой дом наполнялся смехом влюбленных супругов.
Молодой князь страдал печенью и всякий раз, как выпивал на пиру слишком много меду, болел.
Когда Анна появилась на пороге горницы, Всеволод улыбнулся ей. Он лежал на широкой деревянной кровати, под меховым покрывалом, невзирая на теплую погоду. У одра болящего стояли двое врачей.
Один из них, красивый, чернобородый, но предрасположенный к полноте человек, был армянин по имени Саргис, по каким-то причинам покинувший город Ани, вероятно спасаясь от неверных, и поселившийся в Киеве, где лечил всю княжескую семью: Ярослава от бессонницы, Святослава от нарывов, Ингигерду от сердечного томления, а Всеволода от колотья в боку. В умных глазах лекаря можно было прочитать гордость своей великой наукой, дававшей ему возможность взирать с аристотелевских высот на простых смертных, считавших, что недуги – лишь наказание, посылаемое за грехи, тогда как все объясняется сухостью или влажностью человеческого организма, обилием слизи или слабостью почек и прочими естественными причинами. Некогда врач изучал медицину в знаменитой Муфаргинской школе, которую прославили на весь мир два армянских врача – Бусаид и Иессе. Саргис хорошо говорил по-гречески и по-арабски, изучал Аристотеля и привез из Армении трактат Немесия «О природе человека», переведенный на арабский язык. Имена великого Гиппократа и Галена не были для него пустыми звуками, но в среде знатных людей он остерегался прибегать к сильнодействующим средствам, ограничиваясь рвотными снадобьями, кровопусканием и приятными отварами, от которых не могло произойти в таинственных недрах тела опасных изменений.
Увы, приходилось быть осторожным с гневливыми воинами, хотя русские дружелюбно относились ко всем чужестранцам.
Когда Анна вошла в горницу, Саргис стоял у постели и держал двумя пальцами запястье князя, точно прислушиваясь к чему-то, доступному только его слуху. Рядом находился другой врач, родом грек, по имени Евлампий, привезенный в Киев митрополитом Феопемптом. Этот человек, хотя и лечивший других, сам имел весьма болезненный вид, с неопрятной всклокоченной бородой, в монашеском одеянии. В течение многих лет Евлампий врачевал русских купцов в предместье святой Мамы и научился их языку.
Может быть, для того чтобы посрамить грека своим глубоким знанием врачебных тайн, Саргис бережно опустил руку Всеволода на одеяло и сказал:
– Что такое тело человека? Повозка, запряженная теплом, холодом, сухостью и влажностью. Это те же четыре элемента. Огонь, вода, воздух, земля. Поэтому лечить болезни нужно, сообразуясь с природой человека.
Женщины ничего не поняли из того, что сказал врач. Только Всеволод улавливал в его словах некоторые мысли, так как привык читать греческие книги, в которых говорится о подобных вещах.
Но грек, лечивший митрополита и прочих духовных особ освященных елеем, не признавал гиппократовских тонкостей. Он возразил Саргису:
– Болезни надо изгонять из человеческого тела постом и молитвою или помазанием елеем. Ибо всякий недуг – зловредный дух.
– Не спорю, – благоразумно ответил Саргис.
– К чему эти ухищрения? – негодовал грек. – Если господь не поможет совладать с недугом, не исцелят никакие снадобья.
– Не спорю, – дипломатично повторил армянин, – но что говорит об этом Гиппократ?
– Гиппократ! – презрительно поморщился Евлампий.
– Да, Гиппократ! Неугасающее светило! Он, например, говорит, что зевота или потягивание происходят отнюдь не от влияния нечистой силы, а от усталости тела. Конечно, бывает, что злые духи овладевают человеком, особенно во сне, принимая в сонном видении образ соблазнительной женщины или даже крылатого чудовища. Однако чаще всего это объясняется слишком обильной пищей, принятой во время позднего ужина…
Всеволод не без удовольствия выслушивал важные разглагольствования врачей, хотя и морщился от покалывания в боку.
– Тебе больно? – в крайнем огорчении спрашивала мужа Мария.
Князь застонал в ответ. Но Анна догадалась, что так он поступал для того, чтоб лишний раз вызвать в сердце любимой супруги нежность.
– Молись святому Пантелеймону и будешь здоров. Господь лучше знает, какая у тебя болезнь.
Грек ушел. Проводив, его взглядом, Саргис сказал:
– Для чего же нам дан разум? Не для того ли, чтобы распознавать болезни и лечить больных травами, произрастающими на земле? Что мы лечим у тебя? Болезнь печени. Ее признаки налицо. Боли в боку, в спине и правом плече. Правая рука у тебя отяжелела? Отяжелела. Как обычно бывает у тебя в таких случаях. Судя по биению жилы, тебя лихорадит. Причина всему – вино, поглощенное свыше меры. Я уже тебе говорил. Пьянство – не для тебя.
Всеволод терпеливо выслушивал советы врача, в надежде, что он и на этот раз избавит его от ноющей боли…
– Что предписывает в подобных случаях искусство врачевания? Покой, полынные отвары. Хорошо также пить настой из барбарисовых ягод или питье, приготовленное из меда с небольшим количеством уксуса.
– Князь не спал всю ночь, – пожаловалась Мария.
– И от бессонницы существуют средства. Вот что давай больному. Возьми головки мака, положи их в сосуд, налей в него воды, чтобы все было покрыто жидкостью, и вари на медленном огне, как похлебку. Затем процеди варево через чистое полотно. Храни этот отвар в глиняном горшке и давай выпить князю перед сном небольшое количество, предварительно разведя снадобье наполовину водой. Но ни в коем случае не позволяй больному вкушать ни жирного мяса, ни перцу.
– А вино? – спросил Всеволод.
– Разрешается, но в небольшом количестве. Оно пламенем сжигает человеку печень. Еще Иоаннес, выдающийся врач, писал, что у пьяниц сердце и печень ослабевают и находятся в состоянии угнетения. Вино вызывает тяжесть в желудке и гнилую отрыжку. Не говоря уже о том, что душа у опьяненного человека не способна приобщиться ни к чему разумному и как бы находится во мраке.
Всеволод вздохнул. Он подумал о том, что его братья пьют на пирах мед и вино и потом не испытывают ни малейшего страдания, а он прикован к постели за лишнюю чашу.
Саргис развел руками, как бы намекая на ограниченность человеческих сил.
– Ты знаешь, светлый князь, о моей готовности служить тебе. Если меня зовут к одру болящего, я спешу, не спрашивая, богат он или беден и может ли заплатить мне. Для меня безразлично, рубище на нем или золотое покрывало. Я лечу. Надеюсь, что тебе и на этот раз поможет полынное питье.
Анна видела, что эти врачи, приехавшие из Армении или Сирии, берут в свою руку кисть больного и определяют таким образом болезнь.
– Как ты можешь по биению жилки распознать недуг? – с уважением спросила она врача.
Армянин, потирая пухлые, опрятные руки, стал объяснять:
– Чем чаще бьется жилка, тем больше жар у человека. В юности я учился в далеком городе Муфаргине, неподалеку от Эдессы…
Названия этих далеких городов ничего не говорили Анне.
– Там я постиг арабскую науку врачевания. Потом я слушал в городе Ани учение о лекарственных травах. Один ученый человек, по имени Григорий, изучавший философию в Константинополе, основал с разрешения нашего царя школу, и от него я тоже узнал много полезных вещей. Но еще более я научился врачевать у некоего Кириака. Однажды я слышал, как он сказал Григорию, что его интересуют не звезды, не их влияние на судьбу человека, не движение небесных светил в зодиаках, а вопрос, каким образом соки пищи превращаются в кровь. Эта мысль так поразила меня, что с тех пор я стал задумываться над состояниями человеческого тела. Если мы откроем эту тайну, то возможно будет излечивать все недуги.
Врач получил мзду и удалился. Анна села на край постели. Мария же вынула засунутый за пояс белый платочек и с нежностью отерла пот со лба мужа.
– Скоро ты покинешь нас, – сказал Всеволод сестре.
Анна ничего не ответила. Мария смотрела на нее понимающими глазами.
Охотники пробудились задолго до рассвета. В городе пели охрипшие петухи. Поеживаясь от предутреннего холода, Святослав, Гаральд, Елизавета и Анна проехали по темным, кривым улицам. В хижинах уже просыпались трудолюбивые люди. Пастухи гнали коров к городским воротам. Горластые псы лаяли на всадников, и кони с умной предосторожностью косили на собак прекрасные глаза.
Святослав выехал на охоту в своем неизменном синем плаще на красной подкладке. От князя пахло потом и константинопольскими духами, которые привозили ему в подарок греки из Херсонеса, зная слабость русского князя к благовониям. Вместо меча на бедре у Святослава висела кривая печенежская сабля в простых кожаных ножнах с медными бляхами. Князь снял ее с убитого печенега после какого-то счастливого сражения и уверял, что никто не может выдержать молниеносного удара этим оружием.
Никогда еще Анна не испытывала такого волнения во время сборов на охоту, как в тот день. Она была уверена, что встретится сегодня с Филиппом.
После пира, разгоряченная впервые выпитой чашей греческого сладкого вина, а еще больше посетившим ее чувством, Анна без сил бросилась в постель, в своей неопытности не подозревая, что в тот вечер уже пришла к ней любовь. Она долго думала о прекрасном ярле, а потом уснула, сжимая в руках пуховую подушку. Наутро ее разбудил голос Елизаветы:
– Анна! Анна!
Ярославна проснулась, и первое, что ей пришло на ум, было вчерашнее пиршество, когда рядом с нею сидел за столом Филипп. В одно мгновение вспомнив все мельчайшие подробности, она так и осталась сидеть на постели с блаженной улыбкой на устах.
Сестра спрашивала ее со смехом:
– Что с тобой?
– Ничего, – ответила Анна, погруженная в свои сладкие воспоминания.
Она размышляла о том, что рассказывали вчера о царице Зое. Потом снова Филипп встал перед ней как живой, в широкой зеленой рубахе, сияющий, как крылатый архангел. Она повторила шепотом:
– Ничего.
Елизавета погрозила ей пальцем…
И вот по пути на охоту, в тусклом рассвете прохладного утра, Анна иногда оборачивалась или тайком смотрела в ту сторону, где рядом с Гаральдом ехал Филипп, и ей казалось, что она ловила на себе его взгляды. При мысли об этом у нее несколько раз щемило в груди. Она еще не знала, что бедное женское сердце способно так сладко замирать. И вдруг неожиданная радость наполняла все ее существо. Ей хотелось смеяться, неизвестно почему, так, без всякой причины, а потом вдруг становилось грустно до слез.
Когда охотники переправлялись вброд через неглубокую серебристую речку, извивавшуюся по долине, Анна улыбнулась Филиппу в ответ на его тревогу, с какой он посмотрел на нее, когда серая кобылица неловко поставила ногу на камень и поскользнулась. Анна едва не упала в воду. В этот миг ярл невольно подался вперед, широко раскрыл глаза, как бы в ужасе от того, что видел перед собою, и положил руку на сердце. Это движение выдало его с головой.
Анна догадалась, что Филипп любуется ею, и в порыве бессознательного лукавства подняла руки и стала поправлять на голове зеленый шелковый плат, под которым, как золото, лежали закрученные вокруг головы рыжие косы. Она была в широком сарафане из синего миткаля, с золотыми позументами, сшитом для охот и верховой езды, чтобы в случае нужды удобнее сидеть в седле по-мужски и чтобы ничей нескромный взгляд не увидел ее белые девичьи ноги… Из-под золотой каймы подола виднелись красные сафьяновые сапожки.
Ярославна чувствовала себя молодой, красивой, способной покорить весь мир.
Переправившись через речку, свернули с дороги к дальним курганам, за которыми на расстоянии нескольких поприщ уже начинались дубравы, обильные крупной дичью. Там водились лоси, олени, косули, вепри. Псы весело бежали впереди, принюхиваясь к крепким осенним запахам, довольные своим существованием, предчувствуя опьяняющую борьбу с клыкастыми зверями. Загонщики своевременно сообщили, что в дубраве за старым мостом замечен большой выводок диких свиней. Охота обещала богатую добычу. Мясо вепря, вскормленного горькими желудями, – прекрасная еда. Искусные повара сдабривают эту пищу перцем, шафраном, имбирем. Но охотники знали, что загнанный в трущобы кабан яростно защищает свое звериное существование, и поэтому все, кроме Елизаветы и Анны, выехали в поле с оружием. На вепрей обычно охотятся с копьями в руках.
Когда над туманным Днепром забрезжил рассвет, охотники стали трубить в рога, и псы, как безумные, бросились выгонять кабанов из чащи. Звери искали спасения в густых зарослях папоротника, но собаки с радостным заливистым и злым лаем, захлебываясь от нетерпения, помчали их в овраги, как будто бы понимая, что там охотникам будет легче всего настигнуть добычу. Кони сами неслись вдогонку за стадом злобно хрюкающих вепрей. Непрестанно слышались волнующие звуки охотничьего рога. В опьянении погони людям хотелось трубить, кричать бессмысленно, мчаться через препятствия, настигать зверя и пронзать его копьем.
Анна скакала вместе со всеми. Сидя по-мужски на небольшой, но быстроходной кобылице с плавным степным бегом, она вдыхала всем своим существом упругий осенний воздух, бивший в лицо, и запах лесной свежести. Ветер шумел в ушах, и от его шума сердце наполнялось ликованием. Порой нежная паутина прилипала к щеке. Рядом мчалась Елизавета и улыбалась сестре, разделяя ее радость. Святослав кричал им издали, оборачиваясь и сверкая глазами:
– Ликует стрелец, настигающий зверя! Так и я!
И они махали ему рукой.
Как и надеялись охотники, псы загнали несколько вепрей в глубокий овраг, где приходилось скакать с осторожностью, из опасения покалечить коням ноги. Анна заметила, что брат Святослав не расставался с Гаральдом, с которым он подружился в последние дни, покоренный его щедрыми дарами в виде двух огромных серебряных блюд. На одном полунагая женщина высыпала из рога изобилия плоды и цветы, на другом юный Давид пас овец и играл на кифаре. Тяжкое серебро мелькнуло в памяти Анны, но блеск металла тотчас погас: Святослав очутился перед огромным черным кабаном. Перед другим, таким же клыкастым, стоял Гаральд. Оба они в охотничьем порыве соскочили с коней и обнажили мечи, не имея копий, которыми лучше всего поражать этих зверей.
– Святослав! – крикнула Анна, не подумав, что может отвлечь внимание брата. К счастью, опытный охотник не обернулся на окрик.
В эти мгновения Ярославна находилась на самом краю оврага, едва сдерживая свою Ветрицу, под копытами которой осыпались комья земли, и хорошо видела все, что происходило внизу. Рядом с усилием натягивал поводья Филипп, чтобы не свалиться вместе с конем в глубокий провал.
Вепри, если они не ранены и не боятся за своих детенышей, предпочитают обычно искать спасения в бегстве, но стены оврага оказались слишком обрывистыми, чтобы им возможно было взобраться наверх, и загнанным зверям ничего не оставалось, как вступить в смертный бой. Псы с громким, но уже хриплым лаем, не прекращающимся ни на одно мгновение, и в остервенении, ничего равного которому нет на земле, смело бросились на добычу. Вепри выставляли страшные клыки; из мокрых разверстых пастей исходило огненно-зловонное дыхание… Вот один из особенно неистовых псов уже завыл и покатился с распоротым брюхом, обагряя кровью траву. Остальные собаки отшатнулись, умолкли на миг и потом с новой яростью продолжали драку. Среди этого смятения охотники ждали удобного случая, чтобы расправиться с опасными животными в заманчивом единоборстве. Но вдруг один из кабанов, черный, как бы опаленный адским огнем, покрытый невероятной щетиной, расшвыряв в последнем усилии собак, летевших от него в разные стороны, как жалкие щенки, изловчился и, понуждаемый ужасом смерти, прыгнул на торчавшее корневище, послужившее для него мостом, чтобы выбраться из оврага. Ни Святослав, ни Гаральд не могли помешать ему, так как обоим пришлось сражаться с другим свирепым зверем. А выбравшийся из оврага вепрь, неожиданно почувствовав себя на свободе, уже помчался с торжествующим хрюканьем в соседний орешник. Пока Гаральд убивал мечом второго кабана, собаки прыгали и пытались взобраться на корневище, но оно обрушилось, засыпая псов землею… Уже запахло мускусной кабаньей кровью. Оставленные без присмотра кони, встревоженные этим запахом, умчались, закусив удила, в другой конец оврага, вызвав всеобщий переполох и сердитую брань Святослава.
Едва вепрь очутился в орешнике, как Анна, даже не отдавая себе отчета в том, что делает, тут же повернула Ветрицу и кинулась за зверем в погоню. С нею не было ни оружия, ни псов, и охотница вспомнила об этом уже во время преследования кабана. Он мчался теперь к дубовой роще, и кобылица, легко выбрасывая ноги, скакала за ним сквозь ореховые кусты. Иногда Ярославна видела среди низкорослых папоротников подпрыгивающую спину зверя. Вепрь то скрывался в кустах, то вновь появлялся на очередной лужайке.
Однако Анне стала мешать неровность почвы, и расстояние между нею и кабаном увеличивалось с каждым мгновением, а впереди уже манила дубрава, где зверь жаждал найти спасение. Лишь теперь девушка услышала, что кто-то скачет позади. Она обернулась на миг. Это был Филипп. Ярл мчался на расстоянии полета стрелы…
Анна даже успела рассмотреть оскаленные желтые зубы белого жеребца. Филипп скакал, несколько склонившись набок, чтобы лучше видеть Ярославну, и голубой плащ развевался над ним, как крылья огромной птицы. Дева еще раз оглянулась, и ей показалось, что она прочла в глазах ярла любовь. От этого взгляда, полного мужского любования, ее сердце возликовало. Во время скачки Анна потеряла зеленый плат, которым были повязаны закрученные косы, и теперь волосы рассыпались у нее по плечам, вздымаясь от встречного ветра золотым руном, и если бы Филипп находился поближе, она могла бы услышать, как ярл шепчет пересохшими от волнения губами:
– Валькирия! Валькирия!
Вепрь стремительно бежал к роще, и приходилось удивляться, что его короткие ноги способны на такую быстроту и столь неутомимы, но потом вдруг бросился в сторону, спустился в лощину и пропал из поля зрения. Когда Анна выехала на открытое место, зверь уже исчез. В то же мгновение ее догнал Филипп.
– Где вепрь? – спросила Анна, едва справляясь со своим дыханием.
Ярл придержал коня.
– Разве найдешь его теперь среди дубов?
Лошади их очутились рядом. Белый жеребец почувствовал нежность к молодой серой кобылице и стал кусать розовыми губами ее холку. Должно быть, он ощущал сладостный запах пота Ветрицы, потому что неожиданно заржал от обуревавших его чувств. Но Филипп безжалостно вздыбил его и, изо всех сил натягивая поводья, заставил повернуться несколько раз на одном месте, и тогда скакун снова подчинился власти человека. Анна с невольной улыбкой восхищения смотрела на ловкого всадника.
Не тревожась более об ушедшем вепре и уже не думая о наслаждениях охоты, Ярославна ехала, сама не зная куда, без всякой цели, по тропинке, едва видной среди редких и поэтому казавшихся особенно величественными дубов. Красота каждого из них была создана природой по особому замыслу, как красота человека. Деревья застыли в солнечной тишине; они созерцали мироздание, в котором существовали сотни лет. Им не было дела до того, что происходит в мимолетном времени людской жизни.
В мире людей все казалось хрупким и бренным и не могло устоять против бури. Анна тоже чувствовала себя былинкой, что несется в потоке неизвестно в какое море. Ее душу наполняли неведомые доселе ощущения, каких она еще никогда не испытывала в жизни, самые радостные, какие только существуют на земле, и самые печальные, когда хочется умереть. Она не могла бы выразить их на скудном человеческом языке. Это все возможно передать только первым поцелуем, молчаливым взглядом, шепотом в лунную ночь.
Филипп тихо ехал позади, на расстоянии полета стрелы. Хотя он и был всего лишь варяжский наемник, смотревший на женщин как на временную утеху воина, но чувствовал сейчас, что ему не надо приближаться к Ярославне. И вдали от него Анна спрашивала себя: что же она делает? Разве она не дочь могущественного князя? Что ей до этого варяга, который сегодня служит здесь, а завтра в другой стране? Она повела плечом. Но оглянулась, и снова ее охватила сладкая грусть.
После погони за вепрем, когда порой захватывало дыхание, во рту у Анны пересохло, и ей захотелось пить. Это родилась огненная, ни с чем не сравнимая жажда. По некоторым признакам можно было догадаться, что где-то поблизости протекает ручей: там, где долина понижалась, росли ракиты, любящие близость влаги. Анна, даже не спросив, желает ли ярл следовать за нею, повернула коня в ту сторону. Вскоре она с радостью заметила прозрачную струйку воды, торопливо бежавшую по белым камушкам, как это часто бывает в местах, где растут дубы. Трава в ложбине, по которой протекал ручей, еще оставалась зеленой, и из нее с кряканьем вылетели дикие утки, в отчаянье вытягивая длинные шеи, но на лужках и под дубами злаки уже поблекли и все было усеяно желудями – привольное пастбище для диких свиней. Кое-где последние цветы, колокольчики и еще какие-то, названия которых Анна не знала, робко поднимали синие и розовые головки. Над ними хлопотали вялые осенние пчелы, осторожно опускались на цветы, счастливо склонявшиеся от этой ноши, и, неловко перебирая лапками, точно сердясь на свою немощь, собирали остатки летней сладости. Листья на ореховых кустах совсем пожелтели, и по сравнению с ними дубы казались покрытыми великолепной зеленью. С них шумно падали желуди и порой тихо слетал побуревший лист. Золотые и розовые осины трепетали в предчувствии зимы.