Суздаль. Это моя земля. Легенды и мифы Владимиро-Суздальской земли бесплатное чтение
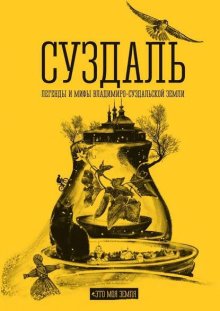
Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках реализации федеральной целевой программы
«Культура России»
Авторы: Сулейков Андрей, Подорожная Анастасия, Шипилова Анна, Киселёв Даниил, Пильникова Ольга, Архипова Татьяна, Востокова Анна
Редактор Елена Яковлева
Иллюстратор Наталья Рыбальченко
Корректор Анастасия Подорожная
© Андрей Сулейков, 2019
© Анастасия Подорожная, 2019
© Анна Шипилова, 2019
© Даниил Киселёв, 2019
© Ольга Пильникова, 2019
© Татьяна Архипова, 2019
© Анна Востокова, 2019
© Наталья Рыбальченко, иллюстрации, 2019
ISBN 978-5-4496-7123-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие редактора
У каждого города есть своя история. Она всегда вписана в историю страны, в которой он находится, и неотъемлема от событий, происходящих в ней. И будь этому городу тысяча, пятьсот, триста лет – эта история есть. Чем больше городу лет – тем больше историй в нём.
История Суздаля насчитывает почти тысячу лет, первое упоминание о нём в «Повести временных лет» датируется 1024 годом. Представляете, какая это богатая история? А сколько здесь накопилось историй за всё время? В них живут волхвы и русские князья, цари и их ссыльные в монастыри жёны, пропавшие дети и подставные государи, купечество, дворянство, крестьянство, ремесленники и монахи.
Это так и не построенная железная дорога, благодаря которой город сохранился в своей истинной красоте и почти первозданности. Это колокольни и купола, золотящиеся на солнце. Это советский кинематограф с нашими любимыми фильмами и советские же казематы тюрем, в которые превращали монастыри.
Этот город – место силы, где можно напитаться энергией, получить её из воздуха, из колокольного перезвона, из бесконечного неба над куполами и маковками церквей. Из искрящегося февральского снега. Из яркого июльского солнца. Из тех далей, что простираются от Суздаля и до горизонта на много вёрст вокруг. В этот город хочется возвращаться, где бы ты ни находился.
Мы написали свои истории, которые происходили, могли произойти или когда-нибудь произойдут в этом удивительном городе, равного которому нет ни в нашей стране, ни в мире, ни в одной точке на карте целой вселенной.
Авторы рассказов о Суздале вложили в них всю свою любовь к этому городу, всё своё восхищение им. И всю радость от того, что прикоснулись к его земле.
Благодарность
Мы познакомились в литературной мастерской, куда пришли за знаниями, вдохновением и бережным редактором, а вышли – с целым проектом, который воплотили в единой команде. Без учёбы в мастерской, без продюсера Елены Помазан, которая по счастливой случайности собрала нас, этого сборника не было бы, или он выглядел бы по-другому. Работать, писать, воплощать замыслы, брейнштормить идеи, искать, находить и договариваться гораздо легче, когда ощущаешь поддержку дружеского плеча. Мы все друг для друга за два месяца учебы и работы над сборником стали таким плечом. Главную задачу начинающих авторов – сделать так, чтобы твой голос был услышан – мы решили, потому что нас учили не только писать, но и слышать друг друга. Книга рождается в бумаге. Автор рождается в Litband. Хочешь реализовать себя в одном из литературных проектов – заходи на bandband.ru.
Дом.
Даниил Киселёв
[Пролог]
В центре Суздаля стоит дом. Он спрятан в глубине двора, и с улицы Ленина его не видно. Но если по какой-то причине вы обратите на него внимание, желания зайти в него не возникнет: узкий и длинный, высотой в два этажа, построенный из красного кирпича, тут и там глядящего на мир из-под давно облупившейся извёстки. Согнутое временем в небольшую дугу, с ветхим деревянным крыльцом, это здание выглядит уродливым и старым.
[1]
Бабка никак не хотела продавать свою развалюху. Место золотое: Кремль, река – всё буквально за огородом. Косой домик с побелёнными стенами давно пора снести и построить на участке гостиницу с причалом. Приходили с уговорами и денег предлагали, даже процент от будущего дохода.
«Нашто мне ваша доля? Только испортите всё. Видала я таких», – прошамкала старуха и захлопнула дверь.
Думали, помрёт скоро, всё равно земля наша станет – наследников нет. Годы шли, упрямая бабка не помирала.
Угрожали – нет и всё.
Хоть что с ней делай. Думает, шутки с ней шутят.
[2]
Безлунной осенней ночью домик подожгли. Огонь взметнулся, облизав стену до самой крыши, и через минуту потух, будто стену облили не бензином, а водой. Невесть откуда взявшиеся мужики, один из которых был с раскосыми глазами, а второй пьяный вдрызг, поймали горе-поджигателя у самого моста и как следует отлупили: заломив руки, поставили на колени, раскосый держал парня, а пьяный пинал его по голове и рёбрам, пока тот не потерял сознание.
[3]
Очнулся в помещении: подо мной – мягкий топчан, вокруг – полумрак, из звуков только тишина и мягкая дрожь поленьев в топке. «Где я?» Лежал, не двигаясь и почти не дыша. Тело ныло. Лицо разбито, саднит. «Надеюсь, ничего не сломали».
– Не бойся, не сломали!
От неожиданности я вздрогнул и ощутил капли холодного пота на спине. Со стула в углу комнаты поднялась фигура, её лицо прятала темнота.
– Садись, лечить буду, – услышал я спокойный шамкающий голос. Бабка скрылась в проходе на кухню. Самообладание медленно возвращалось, но неизвестность пугала.
Через несколько минут бабка вернулась и протянула мне большую кружку. Из кружки шёл пар.
– Что это? – Проскочила мысль, что ведьма яду в питьё насыпала.
– Не отрава это. Травки разные, волшебные. Сама собирала. Вмиг на ноги поставят.
«Мысли мои читает, что ли?»
Осторожно глотнул – тепло разлилось по груди, запах трав вернул меня в радость и беззаботность детского лета.
– Ну, давай знакомиться.
– Я Никита, шёл никого не трогал, тут выскочили…
– Нельзя это место портить, Игорь.
И я испугался по-настоящему. «Откуда она знает моё имя?» Мысли закружились, я будто падал с огромной высоты, медленно и долго, как во сне.
– Тут ведь дом. Он – мост, он – связь. Разрушишь – и ребятки мои пропадут. За тыщу лет не научились, как ужиться.
«Совсем у бабули крыша поехала». Я швыркал чаем и кивал, а мозг искал варианты, как объяснить дяде, что с заданием я не справился.
– Пошто с окаянными связался?
Я поперхнулся.
– Пошто дом хотел сжечь? – старуха говорила ровным сухим голосом, её лицо было абсолютно спокойным.
– Мама у меня… больная очень. И никого у неё нет кроме меня, – я опустил голову и врал на ходу, всё же допуская, что ведьма умеет читать мысли, – в Москву везти надо, на операцию, а денег нет. Вот и…
– Помрёт твоя мамка скоро. Не болеет, но помрёт, судьба у неё такая. И тебе недолго осталось, если не бросишь разбойничать.
Внутри меня всё похолодело, и даже горячий травяной чай не мог согреть сжавшиеся в комок внутренности.
– Хороший ты парень, Игорь. А дядька твой – бандит. Покажу тебе кое-что. Не хочу, но так нужно. Вставай.
Я осторожно поднялся и не сразу понял: не больно. Вышли на кухню, и мой взгляд, привыкший к полумраку, наткнулся на сидящего на табурете мужчину с нерусским лицом.
– Это Акчура. Погорячились они с Томашем, ты уж их извини. Он отведёт.
– Попытаешься убежать – убью, – узкоглазый так спокойно это сказал, что я понял: убьёт.
[4]
В лунном свете, пробившемся сквозь тучи, шёл Акчура, невысокий жилистый татарин с ногами в виде буквы «о», рядом неуверенно ступал Игорь. Через пятьсот метров они упёрлись в облупившуюся стену кирпичного дома, обошли его с правой стороны и оказались возле деревянного крыльца. На крутых полуистлевших ступенях сидел человек и курил. Заметив Игоря, он привстал, вглядываясь в его лицо.
– Ах, ты ж…
Длинную руку, ободрав костяшки, остановила стенка узкого крыльца. Завязалась драка. На шум из дома кто-то выскочил, и вместе с Акчурой они разняли дерущихся. Огромный бородатый мужик крепко обхватил Игоря, татарин держал нападавшего.
– Акчура, – пьяно орал тот, – пусти меня! Дай саблю, я… – конец фразы утонул в зажавшей рот руке.
[5]
Бородатый притащил меня на кухню. В проходе уже столпились, по-видимому, все разбуженные жильцы дряхлой коммуналки.
– Я отец Фёдор, – представился бородатый. Посиди пока тут, а мы разберёмся, в чём дело.
Я остался один. Огляделся: облезлые стены, дощатый пол, старый советский холодильник «Бирюса», на шкафчиках самоклеящаяся плёнка, деревянный стол с истёртой зелёной клеёнкой и газовая плита с баллоном под ней. При этом было идеально чисто и даже как-то уютно. В ожидании хозяев дома я сел на табурет и прислонился спиной к стене. Краем глаза уловил какое-то движение, но не успел повернуть голову, как почувствовал у горла холодное и острое – нож.
– Сжечь хотел, значит? Хранительницу? – услышал я над самым ухом, – душегуб проклятый, – голос был холодным, загробным.
– Если кто и душегуб, так это ты! – раздалось откуда-то из-под стола. – А ну-ка не балуйся, не пугай гостя, вишь, белее тебя стал.
Нож исчез так же быстро, как и появился. Медленно, очень медленно я повернулся – за мной была только стена. Под столом кто-то копошился и пыхтел, я сидел, боясь пошевелиться. Пыхтение вскоре прекратилось, и из-под свисающей почти до пола клеёнки вылез маленький старичок, ростом не больше тридцати сантиметров. Он встал в центре кухни, в кругу лунного света, падавшего из окна с железными решётками, и добро на меня посмотрел.
– Ты читать умеешь? – спросил старичок, будто стесняясь.
– Ага.
Он положил мне на колени кусочек бересты и снова отбежал назад. Не без труда я прочитал: «я дамавой бирёза хочишь чай». Скрипнула входная дверь, и через мгновение на кухне собрались шесть человек, а старичок мигом куда-то спрятался.
– Миритесь, – отец Фёдор подвёл ко мне пьяного. Высокий и худой, он с насмешливым взглядом протянул мне длинную руку:
– Томаш. Поляк. Грабил Суздаль в Смутное время. Водку пьёшь?
– Всё бы тебе водку хлестать, не все такие алкаши, как ты, – сказала женщина в чёрном сарафане и чёрном головном платке.
– Молчи, баба, тебя не спросили.
– Чай! Мы будем пить чай! У нас гостей уже тридцать лет не было! – завизжал старичок и обиженно запыхтел.
Я подумал, что схожу с ума. «Или это сон? Конечно, всё сон. Домовой, поляк с шизофренией…»
– Тихо все! – рявкнул отец Фёдор, и воцарилась тишина. – Красин.
– Тихо, тихо. Вишь, раскомандовался, – заворчал домовой.
– Здравствуй, Игорь, – мне протянул руку мужчина средних лет. У него было русское (иначе не опишешь) лицо, и говорил он голосом, какой обычно бывает у прирождённых переговорщиков. Меня зовут Михаил, но все называют по фамилии – Красин. Мы решили, что я тебе всё объясню. Но для начала, – он обратился ко всем, – давайте успокоимся и заварим чаю.
– Машка, сделай-ка! – звонко и со смешком сказала молодая девушка восточной внешности. Акчура дал ей подзатыльник. Она, не обидевшись, всё ещё посмеиваясь, подошла к плите и поставила чайник.
[6]
Красин говорил красиво, кратко и понятно:
– В доме всего пять квартир, и в каждой из них живёт, так скажем, слуга времени. Я – купец, видел постройку колокольни в честь победы над французами. Томаш – поляк, прибежал Русь грабить во время Смуты, да так тут и остался. За три века до него Акчура с младшей сестрой – Бархят – прискакали и сожгли Суздаль дотла. Отец Фёдор – священник из пятнадцатого столетия. Мария…
– Машка-мономашка, – вставила Бархят.
– …самая старшая из нас. По возрасту. Она здесь почти с самого основания.
Все молча наблюдали за моей реакцией. Может, дело было в прирождённом таланте купца, может ещё по какой причине, но я с удивлением поймал себя на мысли, что рассказ Красина не кажется мне бредом. После домового и ножа у горла от невидимой руки я готов был поверить во что угодно. Не понимал только, зачем меня сюда привели и всё это рассказывают.
Когда он заговорил о Хранительнице, мне хотелось провалиться от стыда:
– Хранительница, у которой в гостях ты уже побывал, видела рождение города, при ней он сгорал и возрождался. Она собрала нас вместе и связала века одной нитью. Всё идёт так, как должно, Игорь, своим чередом. Но иногда появляются те, кто хочет эту нить разрезать, изменить ход истории, и каждый из нас во вверенном ему отрезке времени следит, чтобы этого не случилось.
Дом Хранительницы стоит там, где должен, и будет стоять столько, сколько должен. Не пришло ещё время строить на том месте что-то другое.
Я хотел было о чём-то спросить, но тут засвистел чайник.
[7]
Бархят выключила плиту и открыла шкаф. Там не было ни одной кружки.
– Мо-и чашки. Мо-и… Верни! – задыхаясь от негодования, домовой выбежал из кухни в коридор.
– Да, у нас в доме есть ещё жители. С Берёзой вы уже, я понимаю, познакомились, – Красин кивнул на бересту в моих руках.
– Ну да. Он забавный, – с Красиным было легко, с ним я чувствовал себя свободно.
– И привидение. Мы зовём его Кудеяром, хотя при жизни оно было девушкой, ограбленной и убитой недалеко от Суздаля триста лет назад. С тех пор и живёт с нами, неприкаянная. Пакостит иногда, чтобы домового позлить: то насорит, то бересту спрячет. А тот за ней с веником бегает и татем проклятущим обзывает. Но это они по любви.
Откуда-то из глубины дома послышались крики, Мария и отец Фёдор пошли унимать влюблённых, а поляк заржал, широко открыв рот, после чего достал из холодильника начатую бутылку водки и банку огурцов.
– Стопарики-то не прячет мои, знает, с кем связываться, – подмигнул он мне, вынул из шкафа стопки, налил до краёв и жестом пригласил выпить. Я вежливо отказался, и мою стопку взял Акчура.
Вошёл довольный Берёза, он держал в ручонках несколько чашек и бурчал:
– Вишь, повадилась. Тать проклятый. Я тебя завтра…
– Молчи, нехристь. Наливай свой чай и давай за дело, – оборвал его поляк, чокнулся с татарином, опрокинул стопку и даже не закусил.
[8]
– Понимаешь, Игорь, – продолжил Красин, – мы не можем отдать землю. Сейчас мы постараемся убедить тебя в этом, чтобы ты потом убедил своего дядьку. Шею бы тебе свернуть за поджог да в реку бросить.
Бархят хихикнула, отец Фёдор стоял в проходе и гладил бороду, Мария склонила голову у окна, Берёза сидел на табурете, болтал ногами и швыркал чаем. Я покосился на поляка с татарином. Оба, не мигая, смотрели на меня. Стало не по себе.
– Но что-то в тебе увидела Хранительница. Поэтому не бойся, уйдёшь отсюда живой, как и пришёл.
Я медленно и беззвучно выдохнул.
– Допивай свой чай и пойдём, – купец поднялся. – Маша!
Мария будто очнулась ото сна, встала, оправилась. По её скользнувшему по мне взгляду я понял, что нужно идти за ней, бородач посторонился, освобождая проход.
– Эта ночка будет для тебя долгой, – услышал я за собой пьяный шёпот. От этих слов у меня внутри что-то оборвалось.
Мария остановилась у входа в одну из комнат. Левой рукой она взяла меня за плечо, ладонь правой приложила к двери и быстро зашептала. Слов разобрать я не мог, но мне показалось, что говорила она на старославянском. Резко замолкнув, толкнула дверь и рывком втащила меня за собой. Дальше всё было как в тумане.
[9]
Лето 6532. По всей суздальской земле поднялось крестьянское восстание, возглавляемое волхвами. Усмирять его приехал сам князь Ярослав Мудрый со своей дружиной. Лилась кровь волхвов и крестьян, дружинники пировали свои победы. Насыпались валы, строились оборонительные башни. Зимой по снегу, весной и осенью по размякшей от грязи бесплотным телом, не оставляя следов, ходил Игорь. Он видел болезни крестьян, рождения и смерти князей и их жён, измены и предательства, драки и свадьбы. Он видел таинство рождения. Рождался его родной город. И от увиденного сердце замирало. Игорь не ел, не спал и не старел, и сотня лет прошла как одно мгновение.
Лето 6640. На Суздаль опустился туман, такой густой, что собственной вытянутой руки не увидать. И в этой непроглядной мгле к Игорю подошла Мария, молодая русоволосая красавица. Она стояла совсем рядом, держала его за руку и улыбалась. «Поспи», – уложила его на мягкую летнюю траву, легла рядом. Игорь вдруг почувствовал себя абсолютно счастливым, как чувствует себя молодой муж, засыпая рядом с любимой женой, недавно родившей ему сына. Он обнял девушку и мгновенно провалился в сон.
Лето 6746. Туман рассеялся, Игорь проснулся. Вокруг валялись горы трупов. Суздаль тонул в крови убитых, но эти красные реки не могли затушить разгорающийся пожар. Огонь пожирал дома, стены, башни города, съедал без остатка тела мёртвых мужчин, женщин и детей. Ржали кони, лаяли псы. Игорь выбежал из умирающего города и увидел, как победители уводят в рабство побеждённых. Сердце ныло, хотелось рыдать, хотелось хоть как-то помочь, но Игорь был всего лишь бесплотным духом. Он почти догнал конников, когда один из них обернулся и посмотрел прямо на него. Акчура. Татарин пришпорил коня и, догнав Игоря, ударил плёткой по спине с такой силой, что лопнула одежда и кожа под ней. «Акчура! Не надо! Это же я!» – крикнул Игорь с мольбой. Татарин усмехнулся и натянул тетиву. «Надо!» Свистнув, стрела попала прямо в сердце. Игорь упал замертво с широко открытыми в ужасе глазами.
Лето 7081. Звонили колокола, краснощёкие дети барахтались в снегу, город разговлялся и провожал зиму. Растерзанный и сожжённый ордой, древний Суздаль возродился в камне. С ещё не затянувшейся раной в груди, в порванной одежде Игорь замерзал. Никто не обращал внимания на грязного попрошайку. Его будто не замечали. Только одна баба кинула ему блин, а другая – корку хлеба. Игорь обежал весь город, кричал: «Мария! Томаш! Акчура! Домовой!» – но никто не отзывался. Однажды он увидел проходящего мимо отца Фёдора, со слезами счастья кинулся к нему на шею, но священник отстранил его и брезгливо поморщился. «Всё идёт своим чередом. Смирись», – сказал и пошёл дальше. Последующие тридцать пять лет Игорь провёл, нищенствуя и побираясь.
Лето 7116. Город снова разрушен и разграблен. Женщины изнасилованы, мужчины убиты. Томаш, сильно хмельной, рассказывал товарищам о своих недавних подвигах, похваляясь, что может отрубить голову саблей с одного удара. Друзья потребовали доказательств. Вызов был принят, и они поехали искать «ненужного» человека, чтобы проверить пановскую удаль.
– Вытяни руку, – услышал Игорь властный пьяный голос. Он узнал его, даже не видя лица говорившего. – Руку, собака.
Игорь послушно вытянул вперёд левую руку. Сверкнула сталь, и на месте кисти остался только обрубок с белеющей в середине костью. Разгоряченный поляк спрыгнул с коня и замахнулся. Нищий покорно сидел на коленях, склонив голову. Томашу понадобился всего один удар, чтобы разрубить шею. Довольный, он кинул на тело Игоря монетку:
– Спасибо за помощь.
Лето 7162. Чума унесла жизни почти половины города. Игорь, уже седой, помогает больным. Врач по образованию, он рассказывал коллегам о пенициллине и стрептомицине, когда к нему подошёл высокий худой мужчина и попросил срочно поговорить с ним наедине. Когда они вышли на улицу, Томаш сказал:
– Не надо торопиться. Пусть всё идёт своим чередом.
Год 1819. Совсем уже дряхлый старик, в которого превратился Игорь, стоял на звоннице семидесятидвухметровой Преподобенской колокольни и смотрел на город. Рядом стоял Красин.
– Всему своё время. Время рождаться и время умирать. Время строить и разрушать. Время жить и время спать. Всё идёт своим чередом. Пусть всё идёт своим чередом.
Он по-дружески улыбнулся и столкнул Игоря с колокольни.
[10]
Я очнулся под мостом. Уже светало. Голова раскалывалась на части, больно было шевелиться. Еле-еле добрёл до машины. Посмотрел на своё отражение в стекле. Молодой, седых волос нет, руки-ноги руки целы. Только во взгляде что-то изменилось. Или кажется?
Воспоминания накрыли меня волной. Я будто попал в водоворот: меня мутило, тело как тряпочное, я задыхался, заново переживая свой сон. Я физически испытывал боль в сердце: от проткнувшей его стрелы, от осознания мук, испытанных многажды разрушенным и сожжённым, но всякий раз восстававшим из пепла городом.
Немного отдышавшись, я расстегнул куртку, задрал футболку и на груди увидел уродливый след от убившей меня стрелы. Поднял рукав – ещё один шрам чуть повыше запястья. Я уже знал, что увижу на своей шее. Я посмотрел на домик, который ещё вчера (вчера ли?) пытался поджечь. Он будет стоять здесь столько, сколько нужно.
– Он будет стоять столько, сколько нужно, – сказал я вслух самому себе и своему дяде-бизнесмену. В поисках ключей сунул руки в карманы. В правом нащупал странный упругий свиток. Кусок березовой коры с нацарапанным:
«тыхарошийзахадиначай
якудиярапраганюдамавой».
Сузь даль.
Андрей Сулейков
«Не раздобыть надёжной славы, покуда кровь не пролилась».
Булат Окуджава
[1]
Понедельник, утро, пробки, чуть не опоздал. Сам слежу за дисциплиной, должен пример подавать. Натыкаясь на столы, пробираюсь на кухню. А там очередь из таких же, как я, кофеманов, столпилась у кофемашины, жмёт на рычаги. Воды нет, зёрен нет – ни тебе кофе, ни тебе булочек с корицей.
– Лёха, какого чёрта, утро же, – думаю про себя. Разминаю пальцами лицо, на щеках остаются красные пятна. Лёха – начальник административно-хозяйственного отдела – должен следить за кофемашиной!
В офисе аромат кофе обычно распространяется с самого утра, но не сегодня. Без кофе сердце не стучит и душа не поёт. Без кофе нет работы и отдыха тоже нет.
Набираю Лёхин номер один раз, второй, третий, он сбрасывает звонки. Скребу ногтями трёхдневную щетину, оставляя на щеках кроме пятен ещё и полосы. Кофеманы отходят, прячут глаза. Наверное, перешёптываются, мол, шефу кофе не достался, а ночка тёмная была.
Лёха!
Не берёт.
Пойду перекурю.
Выхожу. А там – здрасьте, пожалуйста, вот он Лёха! Любезничает с Лерой из пиара, гляди ты! Иду к ним, впечатывая в асфальт каждый шаг.
– А у меня свободное место в палатке, – слышу Лёхин голос, вытягиваюсь вверх, изменяясь в росте. Свободное место в палатке у него? Да что ты!
– Эй, коллеги! – поезд, стой, раз-два. – Как насчёт кофе? – замечаю в руках у Лёхи и зёрна, и воду, и молоко для капучино. – Кому-то очень хочется лишиться премии, ага?
– Так ведь рано, шеф!
– Да что ты! Который час? – Лёха смотрит на часы. Рабочий день начался N минут назад. Ни он, ни Лера не отметились на стойке прибытия, а значит, опоздали на работу, а значит, премиальные долой.
– Кофе где?
– Ща всё будет, шеф, – Лёха отворачивается, но недостаточно быстро, и я вижу, как он скалится, обнажая жёлтые зубы с неровной кромкой. Кому он место предлагает в палатке, я не понял?
– Коллеги, коллеги, – быстрым шёпотом, оглушая «г», говорит Лера. Получается «калеки». Кто здесь калеки, интересно? – Это я виновата. Собираю группу наших на байках в Суздаль на фестиваль. Логотипы компании, все дела, реклама. Тома с телевизионщиками договорилась: интервью, съёмки… Сан Саныч, поехали с нами, а? Выезжаем с Курского в субботу утром, возвращаемся в воскресенье.
– Суздаль – это где? – я смотрю на крестик у Леры в декольте. Она нервничает, грудь вздымается, крестик меняет положение. Переводит стрелки, ясно же.
– От Владимира 30 километров. У тебя есть байк?
– Нет.
– Готов купить?
– Не вопрос. Поможешь выбрать?
– Конечно. Сегодня? – Запросто.
[2]
Вообще-то, велосипед у меня был. В школьные годы. С тех пор 40 лет прошло. Говорят, на велосипеде учатся кататься один раз и на всю жизнь, вот и проверим заодно.
Выбор аппарата похож на сеанс у психотерапевта. Нужно в себе покопаться, чтобы пройти интервью у продавца. Кроме роста, веса и ценовых ожиданий, консультанта неподдельно интересовали мои планы на жизнь. Где буду кататься? Что там за дороги: асфальт или грунт? Собираюсь ли в горы с байком? О! Опять это словечко. Любопытство продавца я переадресовал Лере с Лёхой, а сам только успевал фиксировать термины: обвес, кронштейн, контакты, рога, гидравлика… Мамочки мои, пять минут назад я был убеждён, что знаю, что такое велосипед.
Продавец предложил купить «штаны» на багажник – перемётную суму на заднее колесо. На витрине стояла такая, действительно похожа на штаны. Этакая веловерсия нижней части Венеры Милосской.
– Ни к чему, – морщится Лёха, – мы же на пару дней.
– Тяжёлые вещи можно в «штаны», а легкие в рюкзак! – продавец смотрит на доблестного велотуриста с подозрительным прищуром, типа, что ж ты, мерзавец, мне выручку сокращаешь.
– Говорю, ни к чему.
Я по-детски обрадовался трогательной заботе о моих финансах. Лёха домовитый – крепкий хозяйственник.
В финале взяли шорты с мягкими вкладками для филейных мест, очки с жёлтыми стеклами, велозамок, фонарик, термос, спальник, палатку и рюкзак. Примерять шорты пришлось при Лёхе.
– Бери на размер меньше, – наставлял он, – а то свободные при движении не отводят влагу и парусят. Помнишь, мы на скалодроме были, брали скальные туфли на размер меньше? Так и здесь.
– Лёха, не влезу, – хрипел я, втягивая живот, с треском натягивая ткань на тело.
– Ещё как влезешь, – улыбался, сверкая жёлтыми зубами, Лёха.
Ну вот и я втиснулся, сразу почувствовал себя колбасой-вязанкой. Швы разделили икры на порции. Если я в этом наряде попаду к людоедам, им не придется отчерчивать когтем свою долю. Насечки готовы! Палатка на одного – на сленге – гробик. И выглядит, как гробик. А я-то помню, Лёха, что у тебя палатка на двоих.
Весь скарб продавец поместил в рюкзак с запасом. Чемпион по тетрису, а не продавец. Как говорил в таких случаях Остап Ибрагимович: «Заверните в бумажку!»
[3]
Рассветная Москва создана для велопоездок. Велик круто меняет отношение к миру. Скорость перемещения выше, при этом успеваешь увидеть детали. С первым оборотом педали к физиономии прилипает блаженная улыбка, контрастируя с хмурыми лицами в окнах автобусов, которые обгоняешь на каждой остановке.
Сбор назначен в 7 утра в субботу на Курском. Билеты, чтобы ехать вместе, взяли заранее. На перроне, в обтягивающих одеждах, цокая металлом велосипедных туфель и пластиком шлемов, роилось и галдело человек двадцать. Я тоже галдел и цокал, шорты непривычно давили, я взмок, влага быстро испарялась с поверхности ткани, как и ванговал Лёха. Тома из пиара возглавила группу, раздаёт жилетки с логотипом. Никогда не думал, что Тома, с её застенчивостью, может так лихо руководить. А она, гляди-ка, распоряжается:
– Жилетки не теряем, не пачкаем. На фестивале будет репортаж. Телек, интервью, все дела. В понедельник проснётесь знаменитостями!
Лера прислала смс, она уже рядом. Успевает впритык. У Лёхи что-то с лицом, тревога? Не парься, бро, до Владимира поезда каждый час.
До отправления две минуты, появляется Лера, она никуда не спешит. Тоже небось знает, что поездов полно, как птиц на вокзале. Хочешь – сядешь на «Стрижа», хочешь – на «Ласточку». Лёха хватает велик Леры, затаскивает в вагон.
– Сан Саныч первый раз в велопоходе, – воркует она, – прошу не терять, любить и жаловать.
В глазах группы читаю не жалование, но жалость. Или померещилось. Впрочем, некогда. Быстро по местам. Отправляемся.
Пока трясёмся в вагоне, знакомлюсь с завсегдатаями клуба. Получаю инструктаж: сколько до места, как двигаемся, где магазины, как часто привалы. Лёха предложил проверить настройки моего велосипеда. Новый всё-таки. В магазине могли чего-нибудь недозакрепить. Заботливый такой АХОшник, должен упреждать хотелки. Я сначала вникал, потом бросил.
Лёха возился с байком минут тридцать. Я ничего не понял в настройках, зато сколько новых слов узнал: грейдер, говны, гары… на все остальные буквы алфавита сленга тоже достаточно. У велотусовки свой язык, или, как написано на сайте клуба, «бестолковый словарь». Читаешь эту феню и радуешься: все словечки вокруг любви, бухла и заботы о ближнем. Наши люди! Приятно!
Выгрузились во Владимире, ломанули в магазин. Затарились «Дымовым» – колбасами и копчёностями местного производства.
[4]
Прокатились по центру Владимира мимо храмов с фресками Андрея Рублёва, по пешеходной зоне, к Золотым воротам. Затем выехали из города и встали на маршрут. Странное ощущение от байка, будто всё время еду в гору.
Главная задача Томы как руководителя группы – довести коллектив до фестиваля без использования автомобильных дорог с интенсивным движением. Здесь много резонов: безопасность, чистый воздух, тишина и пасторальные пейзажи. Скорость, по сравнению с асфальтом, ниже, но из-за слепней всё равно чувствуешь себя кометой, хвост которой – насекомые. Если двигаться медленно, эти твари жрут беспощадно. Если резко остановиться, жужжащая гвардия горохом стучит в рюкзак и затылок. А в лесах живут комары и искренне радуются потным гостям. А ещё там горы валежника. И, чтобы пробраться через него, приходиться спешиваться и тащить байки в руках.
Парни помогают девушкам. Белый танец с препятствиями. Ухаживание на велоязыке называется «фламинго». Прикольно, если пару раз. А если каждые сто метров? Напоминает исполнение священного долга на армейской полосе. Вспомнилось, как однокашник, когда зубрили текст присяги, озадачил: «Что тебе больше нравится – тяготы или лишения воинской службы?»
Так, через броды, буреломы и говны, дорога вместо 30 километров по трассе превратилась в 60 километров испытаний на пересечённой местности. И, поверьте, по усилиям это превращение далеко не в два раза. Бодрые коллеги держались вместе, беседуя на ходу и похохатывая. Мои же порывы сублимировались в образ вороны из анекдота, которая, подвизавшись с перелётными птицами через океан, твердила: «Я смогу, я – крутая, но дууууурааааа…»
В антицеллюлитных поездках по лесным корням дали жару не только шорты на размер меньше, но и заводское сиденье. Уверен, что данный БДСМ-аксессуар прикручивают к велосипедам брутальные персонажи из рекламы, приговаривая «всё равно купят». Забегая вперёд, скажу, что после похода нормально сидеть на офисном кресле я не мог две недели. Друзья, заклинаю, при покупке надо сразу скручивать в магазине пыточный кол и ставить нормальный диван.
Вслед за шортами и бандана категорически не справлялась. Пот жёг глаза. За поездку я собственным потом растворил на очках жёлтое напыление. Какая занимательная химия! Надо будет ещё что-нибудь порастворять на досуге, раз уж я такой шкаф с реактивами.
Выгребаю сзади со стойким ощущением, что тяну за собой плуг и крепко порчу борозду. Силы уходят в обнимку с самооценкой. Мой зубовный скрежет и тяжёлое педалирование резко контрастируют с изяществом движения группы. Неужели я настолько рыхлый?
Прилично отстав, но ещё сохранив визуальный контакт со спинами сподвижников, поймал нечаянную радость. Местный парень на ржавой «Украине» бог знает каких годов издания выехал на перекресток просёлочных дорог. Некоторое время мы с ним ехали параллельно. Такой байк, как у него, я и сам пользовал на бабушкиной даче. Тяжелый, как слон, ваще не ломабельный. Знай, смазывай цепь и качай шины. Одна передача, восьмерка на заднем колесе, скрипучие пружины сиденья, тормоз обратным ходом – всё родное, знакомое.
Аборигену на вид лет 20, независимый вид, волосы в колтунах, видавшая виды рубаха с единственной пуговицей, сандалии из кожзама на босу ногу, немыслимые штаны то ли от свадебного, то ли от спортивного костюма и велосумка размером с две сигаретные пачки, привязанная к раме бельевыми веревками. Вот что там может поместиться, а? Благодаря геометрии «Украины», посадка у парня, как у отличника с первой парты, являла полную противоположность экстерьера любого из тех, кто выгрузился на Владимирском вокзале пару часов назад. Как сообщает нам велословарь, таких ребят, пренебрегающих брендами и техническим прогрессом, называют гарами.
Парень притормозил и помахал мне. Я остановился.
– Дядя, у тебя вода есть?
– Да. Вот, пожалуйста, – открепляю флягу от рамы, протягиваю.
– Дядя, ты очень странно едешь, – говорит абориген между глотками, – можно я посмотрю твой велосипед?
Я был рад любой паузе, лишь бы немного передохнуть. Гар перевернул велик. Ловко поставил на руль и сиденье. Сильно крутанул оба колеса. Через два оборота они остановились.
– Дядя, у тебя обе оси перетянуты.
Он полез в свою нановелосумку. Достал оттуда льняную куколку и советский мультитул – пару ключей с десятком вариантов под разные гайки. Через пару минут колёса крутились безостановочно.
– Ты давно так едешь? Ты очень сильный!
– Да я чуть не помер.
– А зачем ты так закрутил гайки?
– Это не я…
[5]
Подо мной был другой велосипед и другая дорога. Всё стало значительно радостнее. Дальше поехали вместе с аборигеном. Он стал мне Пятницей, родной душой. Парень тоже слышал о фестивале и собирался поглазеть.
– Хочешь, кое-что подскажу, будет чуть проще ехать? – Ещё как хочу! Делись скорее!
– Есть несколько правил. Первое – разгон. Ты слишком быстро набираешь скорость. В каждый момент времени крутить педали должно быть комфортно. Как только становится слишком легко или слишком тяжело, переключай передачу. Второе – переключение передач. Чем чаще, тем лучше. Так быстрее придёшь к автоматизму. Не забывай, что кроме девяти маленьких звёздочек есть три больших. Щёлкай постоянно, вырабатывай рефлексы. Третья – руки. Ты много веса отдаёшь в руки. Разгружай, переноси центр тяжести на ноги и на сиденье. Четвёртое – непрерывность. Нужно крутить постоянно. Ты же крутишь взрывно и через паузы. Общий совет – всё постепенно.
Посмотрел в небо и добавил:
– Любое действо без образа – это безобразное действо. Вот тебе притча. В храме есть колокол. Туристам предлагают ударить в него. Выбирают самого крепкого мужчину из группы. Тот дёргает канат изо всех сил, но язык колокола не шелохнётся. Он ещё, ещё, ещё – результат тот же. Когда мужчина сдаётся, из соседнего помещения выходит ребёнок, берёт канат, чуть тянет на себя, отпускает, ещё раз тянет, отпускает. Каждый раз при натяжении каната язык отклоняется на миллиметры, а потом ловит ритм. И через несколько минут весь Суздаль слышит колокольный звон. Представь, что, набирая скорость, ты не со светофора стартуешь на красном болиде, а деликатно, аккуратно, последовательно входишь в ритм вместе со своим велосипедом. И в этом мире, и в этом мгновении вы не существуете друг без друга.
[6]
Размышлений и попыток следовать советам Пятницы хватило, чтобы добраться до фестиваля без проклятий. Проще не стало, наоборот. Следить за техникой я не мог, сбивалось дыхание. Но зато полностью сосредоточился. Осознал происходящее. Сузил даль.
И ещё. У меня возникла пара вопросов к Лёхе. На очередном привале поговорить не удалось. Когда мы с Пятницей добрались, коллеги готовились двигаться дальше. Задорно поинтересовались, как дела. Спазм моей клоунской улыбки трактовали, как полное удовлетворение, а отставание от группы – как любовь к одиночеству. Социопат, что с него взять! Стало окончательно понятно, что их догнать – утопия почище Савранского. Доедем – поговорим. Теперь уж точно!
Очередной участок проехал в медитативном состоянии. Параллельно приходили размышления о смысле жизни, отношениях с людьми, текущем состоянии бизнеса. Подобные ритмичные нагрузки подталкивают к философствованию и переоценке ценностей. Так, пока ехал, провёл встречу с гуру, психотерапевтом, производственное совещание и экологический митинг.
[7]
До фестивальной поляны допедалили в сумерках. Только когда слез с велика, заметил, как затекли руки и окаменели мышцы. Узкие велосипедные шорты натёрли ровно в том месте, куда приводят все швы.
На сцену тем временем уже вышли основные звёзды. Музыкальная программа близилась к апофеозу. Тысячи лиц в фанзоне светились не хуже «юпитеров» по периметру площадки. Народ двигался и кайфовал. Сколько их приехало? Тысяч семь? Десять? Готовились. Планировали. Собирались в компании. И теперь наслаждаются. Снимают происходящее на смартфоны и ведут трансляции в соцсетях на зависть друзьям. Им там, в бетонных городских клетках, есть чему завидовать.
Лера, Лёха и большинство наших побросали вещи и растворились в толпе. Мне этот ухающий турбосаунд показался чрезмерным. Грезилось полное отсутствие движений.
В финальном рывке стреножили коней велозамками. Окунулись в речку. Поставили палатки. Переоделись. Утеплились. Натаскали сухих веток. Релакс.
Полулёг, облокотившись спиной на сосновый ствол, хлебнул чай, загрыз курагу, преломил с Пятницей шоколадку, затупил на костер. Запах дыма сдобрился нотками копчёностей и колбас…
Проснулся в той же позе. Конечности затекли, замёрзли, ну и комары попировали. Сцена утихла, на экране мельтешили клипы вперемешку с мультиками без звука. Жизнь на поляне в разгаре. Десятки костров, заздравные тосты, гитарный звон, хиты ДДТ, Чайфа… и куда ж без Батарейки. В нашем кругу солировал Лёха, но выбирал какой-то смурной, безрадостный репертуар и после каждой песни по 50. Пора поговорить.
– Лёш, можно тебя на минутку.
– Чё надо?
– Пойдём, прогуляемся, и ты мне расскажешь, зачем перетянул оси.
– Саныч, да иди ты! – в Лёхе уже плескалось грамм 300 водки, и он не фильтровал. Повернулся и прошипел:
– Ты не должен был сюда доехать. Ты должен был плюнуть через час, выйти на трассу, поймать попутку и вернуться. Пятница все испортил. Ты здесь лишний со своей деревенщиной. А у меня может другого шанса с Лерой не будет!
В нашем дворе за такое полагалось в табло. Я схватил Лёху за грудки.
– Слышь, ты! Плевать на твои амуры! Ты – не мужик, если из-за юбки творишь такое. Если бы не Пятница, я бы выплюнул сердце.
Лёха намного сильнее, нельзя дать ему размахнуться. Желтый оскал, тяжёлое дыхание, багровое лицо, жилка на виске надулась и пульсирует.
– Эй, парни!
Пятница и Лера подорвались от костра и втиснулись между нами. Лёха прёт через них на меня, как лось. Лера не пускает, виснет на руках.
– Отвалите все! Сами разберемся, – прохрипел я.
Тома метнулась к котелку с водой из речки, приготовленной для залива костра. Метко выплеснула нам на головы. Стоим, набычившись. Обтекаем. Пятница отошел на два шага и выступил:
– Я счастлив, что познакомился с каждым из вас. Ещё вчера у меня был только пустой дом в деревне, велосипед и колокольня. А сегодня у меня есть друзья и любовь. Лера, выходи за меня замуж!
Все онемели. И только Тома:
– Ой. Как красиво! Пойдёмте к костру. У нас выпивка осталась?
Упс, я, кажется, всё! Скорей в гробик. В спальник. Скорей.
[8]
Обожаю раннее утро. Идея встать пораньше и самостоятельно прокатиться по Суздалю родилась ещё в Москве. Заранее скачал мобильный путеводитель. Удобная штука. Видишь себя на карте, интересные места рядом. Читаешь, сравниваешь фото с реальностью. Впечатлил памятник Тарковскому. Проехал вдоль красной стены Спасо-Евфимиева.
А тут деревянные мостки и сияющий дедушка берендеевского вида. Зачем-то купил у него банку груздей. Отдал деньги, забеспокоился. Грибы-то домашние. Стрёмно. А он голубоглазо улыбнулся, любовно протёр банку шершавой ладонью и говорит:
– Лучок порежь тоненько колечками и сметанки добавь. Вспомнишь меня потом, спасибо скажешь!
Катанул ещё, почитал о храмах и монастырях – местах ссылок для неугодных царских жен. Увидел площадки, где снимали фильмы «Женитьба Бальзаминова», «Андрей Рублёв», «Метель» … Дал круг вдоль Торговых рядов. Зацепился за дегустационный зал медовухи.
Про Никольскую церковь, построенную без единого гвоздя, написано в путеводителе и на стенде рядом. На самом деле, гвоздей в этом сооружении – как иголок у ёжика, и все современники. Чтоб не ломать легенду, решил, что всё это последствия косметического ремонта.
Поглазел на вечный огонь. Над ним сонм ворон кружил. Прям Хичкок. Прям жуть. Сбежал.
Наткнулся на описание Пушкарской слободы, куда манят баней с сеновалом и фермерской кулинарией. Хочу! Пропарить забитые мышцы – то, что надо! Работают круглосуточно.
Пять минут на велике. Утром там ни души. Попал в сказку. Затейливый интерьер с ладьёй, сервируют чай с травами. Голубой бассейн с лагунами и мостиками, сауна, баня… прилёг на полок, потом окунулся и… опять стратегическая ошибка. Ещё бы пару раз повторить парилку, а я соблазнился на иван-чай, к которому предлагался список лакомств. Глаз выхватил земляничное варенье, и понеслось. Это, други моя, не аромат, это дурман. Вкусно так, что жалко глотать. Короче, час провел в гастрономических, а не в банных наслаждениях. И снова заметил, что получил пронзительный кайф, как только сузил пространство до ложки земляничного.
[9]
Во Владимир возвращались по трассе, так короче и быстрее, но я сдох через 15 минут после старта. Буксир невозможен. Оставлять одного не хотят. Вызывать такси – позориться перед коллегами. Решил умереть в седле! Собрал в кулак творожистый осадок, поскольку назвать это мышцами не поворачивается язык. Оскалился. Ребята выстроились, Лёха впереди, Лера рядом, Тома сзади. Лёха поучает:
– Держи, – говорит, – переднее колесо в сантиметрах десяти – пятнадцати от моего заднего, в разреженном потоке у тебя сопротивление воздуха будет меньше. Смотри, как переключаю передачи. Повторяй переключения. Жми педали в моём темпе.
На поезд успели. Только тронулись, проставился берендеевым деликатесом. Грузди с хрустом зашли на одном вдохе. Награждены титулом кулинарного шедевра без всяких излишеств, типа лучка и сметанки. Спасибо голубоглазому дедушке.
Дома встал на весы: минус 5 кг за двое суток.
Летняя жизнь длиной в полтора дня открыла новый мир, подружила с давно знакомыми людьми, преподнесла минуты восторга, серьёзные уроки и щелчки по носу. Бравое решение, принятое «на слабо», вылилось в тёплые воспоминания. Не забуду притчу, землянику, грузди, стаю ворон, Пятницу, костёр, схватку. Столько событий произошло за выходные – не верится. Улетучились иллюзии по поводу собственной спортивности. Через неделю, как только смог нормально сидеть, записался на велотренажёр с тренером.
А Суздаль навсегда остался городом, где время становится густо насыщенным и ароматным, как земляничное варенье. Где в единицу времени помещается больше, чем обычно. Сознание сужается и лезвием прорезает материю до самой сути. Так что теперь, когда жизнь подкидывает задачки, знаю, куда возвращаться за вдохновением.
Хочешь качественно прожить миг? Есть решение! Сузь даль!
Виноградов.
Анна Востокова
[1]
Он не понимает дочь. Понимал когда-нибудь? Савельев смотрел на угловатую вылинявшую девушку-подростка, спящую на пассажирском сидении. Смотрел и не узнавал. В худой, сутулой, иссушенной Арме, одетой по московской моде в бесцветные бесформенные одежды, отец не мог найти доверчивой румяной Ариши, которую он помнил.
Тогда ей было пять. Она была его принцессой, а может, медвежонком. Потом под колесами чёрного лимузина с мигалками погибла Наталья. Пятилетняя принцесса-медвежонок и Савельев остались одни. Медвежонок перестал быть смешным и румяным: Аришины большие глаза теперь не смеялись, девочка будто нетерпеливо и тревожно ждала кого-то очень нужного. Вечерами детские глаза уставали искать, они тускнели, становились пусты и бесконечно печальны.
Ещё какое-то время, совсем недолго, Савельев чувствовал дочь: по инерции, умел покупать ей одежду, отводить и забирать из детского сада. Москва заставила больше работать. Помогала тёща, пока могла. В первый класс Аришу отвели папа и бабушка, во второй папа, начиная с третьего – соседка Саида. Престарелая одинокая Саида сначала помогала по хозяйству, потом стала готовить для печальной и не по годам мудрой девочки, потом попросилась в няни. Савельев не возражал, как не возражал против любой помощи по дому и дочери. Так и повелось.
Савельев сначала устроился дизайнером в архитектурное бюро, потом открыл свое, заказов становилось больше, Савельев не отказывался ни от ресторанов в Махачкале, ни от особняков в Красноярске. Пока высокомерные коллеги ловили жирных клиентов в пределах МКАД, Савельев на три круга объехал Россию: Калининград, Краснодар, Иркутск, Владивосток… В командировках было проще – рядом не было девочки с большими взрослыми глазами.
Савельев избегал её, признался себе в этом, когда Арме было двенадцать. Тогда он впервые увидел, как похожа Арина на Наталью. Так же как мать, Арина иронично подхмыкивала над глупостью мира и существ, его населявших. Как мать, закусывала нижнюю губу, когда была погружена в работу. Как мать перебирала волосы за ухом, когда долго не могла найти нужное решение. То и дело подмечая знакомые черты и сплетая из них иллюзию Натальи, Савельев не мог «вернуть» их обратно дочери: Арина стала для него ожившей неточной фотографией, быть рядом с которой больно. За прошедшие годы принять смерть жены Савельев так и не смог: запретил себе осознавать, отложил на потом. Пока Арина была маленькой – полно хлопот, ими удобно заполнять мысли и время. Потом работа, много работы. Калининград, Краснодар, Иркутск… Только тогда, взглянув на двенадцатилетнюю Арину, понял – не сбежать, не обмануться. Натальи не будет никогда.
Тогда же Арина стала Армой:
– Папа, а правда, что мама хотела назвать меня Машей, а ты настоял на Арине? – спросила дочь за завтраком.
– Правда, – ответил Савельев, – Маш тогда было много, а Арина всего одна. Как няня Пушкина, – не признаваться же дочери, что Машей он не согласился её назвать, потому что так звали тещу, а имя Арина выбрали «чтобы никому не обидно», ткнув в перечень женских имен в орфографическом словаре.
– Я вот что подумала, здорово было бы два имени иметь, как в Америке.
– Здорово, но неудобно, – перебил Савельев.
– Неудобно, да, но я новое придумала. Буду Армой, Арина и Мария вместе.
Арма, так Арма. В свои двенадцать Савельева звали Тучей за тёмные кудри на голове и привычку хмуриться. Кого-то звали Длинный, кого-то Чиж. Эта пусть будет Армой.
[2]
Что у Армы проблемы, поняли не сразу. Савельев окончательно выключился из системы «дочь – школа», когда Арина стала для всех Армой, классу к восьмому. Арине-Арме повезло со школой – Савельев искал подходящую школу для девочки с печальными глазами и нашёл. Ради крошечной школы с художественным уклоном пришлось переехать с Таганки на север Москвы. Верная Саида провожала и встречала девочку, покупала ручки, фломастеры, балетки, готовила с собой бутерброды, ходила на родительские собрания и отчётные концерты. Пока Арина играла на флейте, разучивала партии в школьных спектаклях, ходила по театрам и музеям, всё было ровно: в школе накачанных искусством детей боготворили.
Дети, выросшие в свободе джаза, независимого кино и творческого бардака, именуемого поиском, отличались от сверстников. Они научились видеть красоту, но совершенно не умели видеть опасности, они ценили личность, не признавали общих условностей, соперничали в творчестве и совсем не гнались за модой. Арма жила в школе, возвращалась домой не раньше восьми. Инструмент, танцы и студия керамики. Лепить, обжигать и расписывать Арма полюбила сразу, как взяла ком пластичной глины в руки. За годы учёбы полки в детской и библиотеке покрылись бессчётными уточками, слониками, ангелочками. Арма росла, глянцевые фигурки становились всё более точными, изящными, сложными. Слоников и ангелочков сменили сгорбленные клоуны с вытянутыми обречёнными лицами, уставшие хрупкие балерины, царственные колдуньи, одинокие и закрытые. Арма лепила фигурки такими, что даже стоя тесной толпой на книжной полке, они не смотрели друг на друга. Все в себе.
Савельев в поделках дочери искусства не признавал, хотя керамические фигурки охотно принимали на детские выставки. Иногда Арма приносила дипломы и грамоты: её керамику хвалили за характер и образность. Какая, к чёрту, образность, если все на одно лицо: уныние, отчаяние и мрак. Обычный подростковый максимализм, только в глине, морщился Савельев.
В пятнадцать лет, несмотря на увещевания Саиды и протесты самой Армы, Савельев забрал дочь из творческой школы. Пора жить нормальной жизнью. После натужного лета с репетиторами по запущенной – чёртова студия керамики! – учебной программе Арма поступила в лицей при лучшем экономическом вузе. Два года в лицее повышали шансы девочки на поступление на «нормальный» факультет.
В декабре из лицея позвонили. Арму нашли в подсобке с признаками отравления. В рюкзаке девочки не было ни одного учебника: только телефон и два кома гончарной глины.
[3]
Дом в Суздале Савельев снял сразу, как только вопрос с поступлением в реставрационное училище был решён. Поживёт до начала учебного года, потом приедет Саида. Сам будет приезжать по мере возможности. Во Владимире живет младшая сестра Натальи – в случае чего присмотрит за племянницей.
Не такого пути хотел Савельев для Армы. От специальности «Реставрация, консервация произведений декоративно-прикладного искусства из керамики» несло пылью музейных архивов, дешевым порошковым кофе и нищетой. Реставрация и консервация. Да ещё и средне-профессиональное. Знающие коллеги успокаивали тем, что выпускники суздальского художественно-реставрационного училища горячо востребованы в центральных музеях обеих столиц; что работа в Эрмитаже, Пушкинском, или у Грабаря Арме почти обеспечена.
Остаток учебного года Арма провела дома и в школьной гончарной мастерской. Коллекцию клоунов и балерин пополнили субтильные ломаные фигурки, балансирующие на канатах, подоконниках, оградах мостов. Балансирующие и готовые сделать шаг вперед.
Савельев смотрел на спящую дочь, на глубокие тёмные пятна в глазницах, на короткие неровные ногти, на гладкие – будто сами из керамики – ладони. В ней почти не осталось Натальи. В ней и жизни-то почти не осталось.
Арма проснулась, пока он выгружал вещи из машины. С собой привезла только чемодан джинсов, холщовый мешок с инструментами для лепки и три десятикилограммовых мешка глины. Ни бутыльков с косметикой, ни пёстрых тряпок, которые, наверное, должны были быть у подростка, Арма не взяла. Может, у дочери их никогда не было?
Поделили комнаты. Дом был старый, но старательно отремонтированный специально под сдачу – с кондиционером, вай-фаем и исправным водоснабжением. Арма заняла одну из спален и угол веранды. Застеклённая веранда, опоясывающая две стороны дома, была гордостью хозяев: прохладная летом и тёплая зимой, она служила и гостиной, и столовой, и библиотекой, и курительной комнатой. Теперь ту часть, что окнами выходила на сад, заняла Арма. Оборудовала угол под мастерскую: на большом застланном клеёнкой столе лепила, сушила. Обжигать готовые фигурки было негде, они копились на столе, на стеллаже и комоде. Савельев пообещал отвезти заготовки на обжиг в школьную мастерскую, как только соберётся в Москву.
За лето исходили Суздаль вдоль и поперёк, выучили названия половины городских церквей, объехали ближние достопримечательности, многовековые храмы, музеи соседнего Владимира. Бесконечно много ходили и бесконечно много разговаривали. Сначала на безопасные дежурные темы: о том, как устроить быт, о Суздале, о дурацких его огурцах, которых в городе летом было особенно много. Потом о керамике. Оказалось, Арма не просто лепила, но живо интересовалась историей.
– Знаешь, Виноградов, который русский фарфор придумал, тоже отсюда, из Суздаля, – рассказывала Арма, пока они взбирались на земляной вал у Кремля, чтобы посмотреть на закатную реку – а погиб, между прочим, из-за своего открытия.
– Вот как? – Савельеву не было никакого дела ни до русского фарфора, ни до его изобретателя. Но ему нравилось слушать дочь. Впервые за десять лет он слушал и слышал Арму. По-настоящему. Будто не было долгого отчуждения, будто несказанные ею слова копились в огромный загашник и сейчас нескончаемым потоком обрушивались на готового слушать отца.
– Да, погиб. Прожил всего 38 лет. Виноградов долго искал рецепт, пробовал копировать европейцев, но в конце концов создал собственную технологию на местных ингредиентах. Его фарфор был получше мейсенского, даже с китайским можно сравнить, представляешь?
– Ну молодец мужик этот Виноградов, – согласился Савельев, – а в чём трагедия?
– После того, как из виноградовского фарфора научились делать всякие штуки, Черкасов, Елизаветин кабинет-министр, запер Виноградова на заводе. И никуда не выпускал, даже к семье. И здесь, в Суздале, Виноградов больше не был. Тогда рецепт фарфора считался государственной тайной. Черкасов к Виноградову специальных надзирателей приставлял, и они постоянно следили, чтобы он кому-нибудь секрета не выдал. Много всякого. Историки пишут, что его били, унижали, пишут даже, что во время обжига Виноградова силой у печи держали – чтобы постоянно за процессом следил. Хотя что там следить? Если в печь засунул и с режимом ошибся, расслабься уже.
– И чего он, сгорел что ли в печи? – отец и дочь стояли на верхушке вала, провожая последние всполохи летнего заката. Розовые, лиловые, они бликовали то здесь, то там, путаясь в бесчисленных куполах Суздаля.
– Не, не сгорел. Сначала с ума сошёл от издевательств, потом заболел и умер. Причина неизвестна. Считается, что от заточения и разлуки с родными.
– Да уж, поучительная история, – Савельев поёжился. Не то влажная ночная прохлада, не то история фарфорового первооткрывателя, но холодно стало резко и пробирало до костей, – пойдём-ка домой, темно уже.
[4]
Вернувшись домой, Савельев устроился на просторной веранде, полюбил долгие ночные чаепития. Налить пузатую кружку горячего чая с медом или домашним вареньем, уставиться в летнюю ночь и молчать о своём. Арма обычно чаёвничала с отцом, но сегодня ушла спать. От ежедневных прогулок на свежем воздухе дочь ожила, на острых скулах выступил румянец, но сил ещё не хватало.
Ночи в Суздале совсем не такие, как в Москве. Темнее, гуще. В такую ночь нельзя заглянуть – вязкая темнота, не разбавленная уличными фонарями или светом фар, надёжно укрывает пространство за окном. Кажется, снаружи нет вообще ничего – в окнах отражается только свет абажура над чайным столом, чашки, блюдца, сам Савельев. Будто враз исчезло всё лишнее, ненужное, можно сосредоточиться, подумать.
В Суздале думалось глубже, честнее. За время, проведённое здесь, Савельев многое передумал – о себе, о дочери, о том, как дальше потечёт их жизнь. Сначала мелкими рваными мыслишками – о том, что надо будет свозить Арму в Москву за новой одеждой к осени, что нужно проверить систему отопления в доме, что Саиде нужно завести карточку удобного банка, что в четверг нужно отправить эскиз заказчику из Казани… Потом научился мыслить долго, неспешно обдумывая каждую задачу, встраивая её в общий жизненный уклад.
Ночами на веранде и работалось хорошо, Савельев раньше срока закончил чертежи и рисунки по текущим заказам, навёл порядок на заброшенном сайте, обновил информацию, портфолио работ, разобрал почту – скоро и «висяков» почти не осталось. Арма тоже работала ночами. В её импровизированной мастерской на другом конце веранды свет горел и после того, как Савельев закрывал компьютер и ложился спать. Говорит, в дневном свете у фигурок выражение лиц другое, обманчивое. Ну и пусть.
Савельев включил компьютер, но против привычки открыл не служебную почту или фейсбук, а поисковик. «Фарфор Виноградов», – спросил у всезнающей паутины. «Трагедия Дмитрия Виноградова», «отец русского фарфора» – Гугл выдал полтора десятка однотипных статей, ничего нового к рассказу Армы не добавивших. История плохо помнила жизнь фарфорового гения до изобретения им фарфора. Сведений о семье Виноградова в Гугле тоже не нашлось.
«А ведь он мог жить где-то здесь, да вот хоть бы на месте нашего дома», – подумал Савельев. Подумал и спохватился: фантазия, чистая фантазия, как давно он не фантазировал? Как давно не выуживал образы из зыбкого, висящего на паутине сознания, между сном и явью? А ведь он тоже художник. Был когда-то. Когда поступал на архитектурный и носился с пёстрыми эскизами по мастерским. Савельев никогда не стремился жить у мольберта, но ловить на холсте силуэты, цвета, динамику – это он умел. Савельев читал о гении русского фарфора, а воображение рисовало сломленного человека, мечущегося по тусклым цехам «порцелиновой мануфактуры», как называли первый фарфоровый завод. Вот уже виден худой угловатый профиль с высокими скулами в парике, в посеревшей от времени и заводской грязи рубахе. Выжженный страданием мужчина со старческим лицом сидит на полу у огромного горна, где в тысяче градусов сушатся блюда и вазы для императорского сервиза. Стенки печи раскалили воздух в цеху – дышать тяжело, рубаха липнет к мокрой спине, испарина крупными бусинами выступила на лбу и переносице страдальца, вот уже еле видимые струйки, упираясь в брови, сочатся по вискам, щекам, подбородку. Губы Виноградова сухи до корок. Нынешнему тюремщику капитану Хвостову, приставленному охранять секреты производства, издевательства над барином доставляли скотское наслаждение. Стоны запертого в цеху Виноградова ему не досаждали, наоборот! Чуя особо надрывную ноту, он входил и – смотря по настроению – или молча лыбился, или делал так, чтобы «посуднику» стало хуже. Цех обжига Хвостов любил особенно: в этом цеху полубезумный уже Виноградов был полностью в его власти. Захочет – даст воды, не захочет – валяйся, собака учёная, по полу, скули, да погромче. Или – как сегодня – принёс ведро студёной воды и вылил на каменный пол. Прямо перед носом краснорожего потного «анженера». Тот в пол лицом бухнулся, лужицы в стыках каменной кладки лижет, щеками о мокрое трётся – смотреть тошно. Хвостов и не стал смотреть, вышел из раскалённой духоты. Проверил замок: «Крепко, изнутри не выбить!» – и ушёл по служебной нужде.
Сухой горячий воздух распарывает горло. Сознания нет – в голове тугим и красным пульсирует жар. Много его, много! Жаром залита вся черепная ёмкость, бух-бух-бух, виски вот-вот выломаются наружу от его давления.
– Ваа… – скоблит сухими губами Виноградов. Выходит еле слышное «фаа». – Фаа…
Хрюкает дверной замок, тяжёлая кованая дверь отходит с разноголосым скрипом – вернулся Хвостов.
– Как поживаешь, ваше благородие? Не мёрзнешь? А то шубку принесу медвежью. Да надеть заставлю.
– Фа… – Виноградов уже не сидит, распластался на животе, хочет ползти к мучителю, но получается только вытянуть руку вперёд да оторвать от пола голову:
– Фаа…
– Не болтлив ты сегодня, как я погляжу. Уйти мне может? Сам поди с обжигом справишься. Тут работы всего ничего, часов на десять. Прям прогулка по райскому саду у тебя, а не работа.
– Фааа, Фареньке перетай, – выдрав остатки воздуха из лёгких, шепчет Виноградов.
– Что? Ты, Дмитрий Иванович, человек вроде ученый, а как мужик деревенский. Кто ж в приличном обществе шепчет? С капитаном царской Её Императорского Величества армии говоришь. Так говори, как положено, неча морду воротить, – Хвостов подошёл ближе к худому мокрому телу и носком сапога перевернул Виноградова на спину. – Во, дело, так и говори.
Вместо слов Виноградов непослушной рукой из-за пояса штанов вытянул что-то белое, маленькое. Фарфоровая свистулька-уточка. Протянул нависшему над ним тюремщику:
– Фареньке перетай, день ангела у неё, – и откинулся на пол, голова гулко стукнула о каменный пол.
Хвостов взял игрушку, рассмотрел. Свистулька как свистулька, сбоку завитушка для украшения. Снизу, где лапы – двойная «Вэ», вроде как фирменный знак Winogradow. Совсем полетел разумом посудник. Ему государыня-матушка великое дело доверила, а он свистульки лепит. И кто такая эта Варенька? Жена, что ль, или дочь? А может девка какая заводская? Хвостов сочно сплюнул, бросил свистульку на пол, раздавил сапогом. Цацка беспомощно хрустнула и осталась лежать пятном фарфоровых осколков рядом с недвижимым создателем.
[5]
От экрана Савельева отвлёк звон. Тонкий, но ярко заметный в плотной ночной тишине. Не звон – прерывистый стук металла о стекло. Нет, не стекло, керамика. Будто чайной ложкой по стенкам чашки задевают, когда чай размешивают. Савельев вскинулся, прислушался. Позвякивало совсем рядом, будто за его же столом. Замер, тело вмиг засвинцовело. Не сразу, медленно, усилием воли отвёл глаза от светлого прямоугольника экрана и вгляделся в соседнюю, бурую от отблесков тьму. Никого. Сорвался с места, нащупал выключатель, веранду залило электрическим светом. Никого. Вернулся за стол успокоить дыхание. Рядом с ноутбуком стояла пустая фарфоровая чашка, на дне остатки чая. Савельев аккуратно, как до спящего опасного зверя, дотронулся до чашки. Теплая – чай из неё только-только выпили. Рядом витая ложечка – таких в доме Савельева не было. В осмелевшее вроде тело вернулась неподъёмная тяжесть. В основании черепа стало липко и холодно. Шевелиться, главное, шевелиться. Страх парализует, но мгновенно отступает, если пошевелить хотя бы пальцем, сделать шаг, махнуть рукой – не важно. Зажмурился, заставил ладонь сжаться в кулак, разжаться. Помогло. Открыл глаза. Никакой чашки, кроме его собственной с остатками холодного чая, на столе не было – всё как обычно. Чёрт, спать пора.
Уже почти зашёл в дом, как увидел, что на другом конце веранды тускло горит свет. Видимо, не заметил, как Арма проснулась и проскользнула в мастерскую. Дочь, ссутулившись, сидела за столом, в одной руке держала маленькую заготовку, другой оглаживала её, придавая нужную форму.
– Не крадись, я вижу отражение в окне, – не оборачиваясь, сказала она. От звука её голоса, пусть тихого, но живого и знакомого, морок Савельева вовсе растаял. Чего только не примерещится ночью.
– Я спать, – подошел к Арме, поцеловал во взлохмаченную макушку, – чего лепишь?
– А вот, посмотри, приснилась, – Арма протянула отцу круглую уточку-свистульку, – не «Мыслитель», конечно, зато свистит. Высохнет, можно попробовать.
– Слушай, а можно мне?
– Что, посвистеть?
– Нет, можно я тоже вылеплю? Ну вот, хоть такую же уточку?
– Попробуй, – Арма протянула отцу ком белой гончарной глины.
Савельев сел рядом с Армой, взял глиняный шар, размял непослушными руками, сплюснул по сторонам, и ногтем выдавил двойную «Вэ» – начну, пожалуй, с основания.
Реставратор.
Татьяна Архипова
[1]
Как всегда, работала «Культура»: «…На территории Владимиро-Суздальского заповедника реставрируют усадьбу Храповицкого… объектом культурного наследия… утрата живописи… руками Суздальских реставраторов… реставраторы… реставраторы… станковой и темперной живописи… икон…».
В своей динамичной вечерней рутине я остановилась и села на край дивана. С мокрыми руками и чашкой.
«…Реставрация икон и произведений темперной живописи…» Звук понемногу стихал, на экране мелькали иконы: до (в своём плачевном состоянии) и после восстановления. Женщина со светлым лицом что-то рассказывала корреспонденту. Я смотрела сюжет уже без звука, кто-то выключил его внутри меня. Что-то кольнуло, а потом медленно начало ныть, какое-то глубинное чувство чего-то неприятного, недоделанного, смешанного то ли с долгом, то ли со стыдом.
Поставив недомытую чашку на пол, я вытерла руки и обречённо пошла к шкафу. Открыла створку, потянула нижний ящик на себя. Под старым бабушкиным альбомом в коленкоровом красном переплете с золотой окантовкой лежал свёрток такого же размера в мягком выцветшем ситце. Я подержала его пару минут в руках, как будто готовясь, а может, скрывая внутреннюю неловкость, а потом начала медленно разворачивать ситцевое полотно. К горлу подступил комок. На моих руках лежала она – икона.
Деревянная доска выгнулась и совсем рассохлась. Всё больше и больше была видна граница между двумя досками, части иконы еле держались вместе. Лик сильно потемнел. Мелкие трещины паутиной затянули края иконы. Кое-где краска потрескалась и обнажила марлевую основу. Несколько слоёв краски неумолимо осыпались по краям. Я задержала свой взгляд на торце иконы. Торец – точно из тёмного янтаря, только древние крохотные лазы жучков говорят о том, что когда-то это было дерево.
Я её не любила. Да. У нас с ней были сложные отношения. Она досталась мне от бабушки, а ей – то ли от свекрови, то ли ещё от какой-то муромской родни. Историю иконы я особо не знала, да и бабушка вряд ли знала, а то рассказала бы мне.
Икона никогда не стояла у бабушки в красном углу, а тоже лежала в шкафу, с одной только разницей, что шкаф был другой, а ситец, по-моему, тот же. Помню, в детстве я вглядывалась в её потемневший от времени лик и долго, часами рассматривала его. Во взгляде я различала суровость и сдержанность. Бабушка сказала, что это Богородица. Лик был сильно повреждён. Буквы надписей стёрлись. Я видела женщину с ребёнком на руках, склонившую голову. У ребёнка было взрослое лицо.
Я часами рассматривала остатки очертаний глаз, бровей, носа, мягкий овал лица Богородицы. Сильно потемневшая от времени, она смотрела на меня строго и отрешённо. Ещё в юности, когда бабушка была жива, я так же подолгу заглядывала Богородице в лицо, пробуя найти то сочувствие, то одобрение, то поддержку, то помощь. Пробовала с ней говорить тогда ещё, в юности, но она молчала. Наверняка я просила её о чем-то, уже и не помню, а она молчала в ответ.
Открыв икону несколько лет спустя, я заметила во взгляде Богородицы осуждение: мол, ходишь, небо коптишь, ни семьи, ни детей. Показалось. Точно, показалось. Но всякий раз, когда я видела это, мне становилось страшно. Я быстро накрывала её ситцем и убирала обратно в шкаф.
Шли годы. Воздух, сильно пересушенный отоплением, конечно же, не шёл иконе на пользу, она разрушалась. Я время от времени всматривалась в лицо Богородицы, иногда понимающее, иногда сочувствующее, но наши с ней отношения явно были далеки от душевных.
Кто-то сказал мне, или я сама это почувствовала, что надо отнести икону в храм, только вначале хорошо бы позаботиться о ней и отдать реставратору. Но руки так и не доходили, реставратора я не нашла, а каждый раз подойти к ящику, открыть икону и всмотреться в неё было делом нелёгким.
Сон! Точно, сон! Пару дней назад я видела очень странный сон. Будто стою на остановке, на «Чистых прудах» со стороны «Современника», на улице тепло, приходит трамвай, я захожу, смотрю, а внутри никого нет, ни одного человека. И водителя нет. Оборачиваюсь и вижу: на задней площадке во всю высоту трамвайного вагона стоит огромная икона. Богородица с поднятыми к небу руками. Я на неё смотрю, а она – на меня. Так и едем, уже Чистые пруды обогнули, и трамвай идёт вниз, по бульварам, а я все смотрю на неё и не могу оторвать глаз. Так и проснулась. Как же я могла забыть этот сон… Пора. Видимо, пора привести и мою в порядок, раз так. Раз вот так случайно попался сюжет с именами-фамилиями, да и хорошо, что Суздаль, а не Москва. Я ещё со времен 90-х и шумихи всей этой вокруг икон и утвари церковной всегда обходила столичные салоны стороной. На Пречистенке, на Гоголевском в антикварные лавки даже просто зайти не хотелось – уж слишком явный там был фейс-контроль и слишком красивые, лубочные какие-то, одинаковые иконы висели под светом ярких ламп, отливая ну слишком золотыми окладами. Слишком.
[2]
– Грачи прилетели… Не уверена, что грачи, но вороны точно прилетели, – бормотала я про себя, разглядывая суздальский полдень.
Как будто и вправду с этой точки в такой вот день Саврасов писал «Грачей»: март плакал капелью, развесистая голая береза приютила с пяток чёрных гнёзд, на заднем плане виднелась долговязая церковь.
Я стояла во дворе реставрационных мастерских и не представляла, ни что это за место, ни как меня там встретят. Домофон, открытая дверь, второй этаж.
– Сюжет о вас видела по «Культуре». Про Храповицких, про плафон и иконы.
– Проходите, раз приехали. Я Светлана.
Сначала я увидела только глаза. Живые, серо-голубые глаза, в них не мелькнуло ни тени вопроса или оценки.
– Проходите, раздевайтесь, чаем вас напою с дороги.
Большое светлое помещение состояло из двух комнат. Я зашла в первую, побольше, с огромным окном и двумя столами: на одном большой светло-серый микроскоп, на втором – холст и утюг. Я порядком устала с дороги, хотелось согреться, посидеть. Я почувствовала, что попала в другой мир, в другое время. Кто эта женщина? Почему она выглядит счастливой, почему мне не хочется отсюда уйти?
– Вы давно здесь работаете? – начала я разговор.
– Да всю жизнь. Как училище суздальское закончила, так и позвали в бригаду. В первую бригаду художников-реставраторов, тогда ещё, в 90-е. Руководитель у нас был прекрасный, Некрасов Александр Петрович, знаете такого? – начала как будто подготовленный текст Светлана.
– Нет.
– Ну как же, фрески Андрея Рублева в Успенском соборе восстанавливал, Спасо-Преображенский, Рождественский в Суздале. Я девчонкой была, сразу после училища и попала сюда. А у Некрасова учителем Сычёв был, Николай Петрович, директор Русского Музея, умница. Храм Василия Блаженного, Сретенский собор, у вас, в Москве, – как будто подбирая знакомые мне московские образы, продолжала Светлана:
– Вы в Успенском-то были? Сходите обязательно, хоть ненадолго зайдите.
– Хорошо.
– Много у нас народу побывало, всё про историю усадьбы Храповицких расспрашивали. Вы журналист?
– Нет.
– Нет? А зачем приехали?
Я наклонилась с своему бумажному пакету, доставая из него обувную коробку. Пакет хрустел, коробка была неуклюжей, с яркой надписью. Я перенесла коробку на пустой стол, открыла крышку, вынула покрытую ситцем икону. Развернула. При ярком дневном свете икона выглядела совсем разрушенной. За время нашего недолгого пути до Суздаля два деревянных полотна иконы (одно побольше, с ликом Богородицы, второе поменьше) рассохлись ещё сильнее. Я не осмелилась посмотреть на неё.
– Вот, – протянула я икону, поддерживая снизу деревянные полотна.
– Мдааа… – на лице Светланы не появилось ни удивления, ни явного интереса. – Что вы хотите? Мы ведь здесь музейной реставрацией в основном занимаемся.
– А что это?
– Ну, в двух словах, это консервация иконы. Освободим первоначальное изображение от более поздних записей, наслоений, копоти или олифы, а дописывать не будем. Тут у вас правда доска рушится, дайте я посмотрю.
Светлана взяла на руки икону и поднесла её ближе к свету.
– А какая ещё реставрация бывает?
– Антикварная, чтобы образ восстановить, дописать, где надо, да продать побыстрее. Вы подумайте, а мне кое-что доделать надо, хотите, оставляйте свою икону, взгляну на неё часика через два.
Я вышла на улицу. Плана на судьбу иконы у меня не было. На улице похолодало. Я почему-то вспомнила про Успенский собор. До Владимира рукой подать – всего каких-то полчаса.
[3]
В храме было достаточно темно, на входе церковная лавка. Всё как обычно. Чей-то голос монотонно бубнил:
– Билетики, билетики предъявляем.
Я подняла голову – яркая синяя роспись, золото, массивная люстра.
– Простите, а где у вас Рублев? – поинтересовалась я.
– Вот прямо проходите, увидите своды.
Я прошла вперёд и подняла глаза: два свода храма, южный и северный, были пронизаны пастельными ликами. Лики, кажется, десятки, сотни ликов святых. Лики, лишь обозначенные нимбами, уходящие в горизонт, но присутствующие здесь, со мной, в этом пространстве. Пастельная, охровая, неброская, удивительно чистая красота. Эфирная красота.
– Понимаешь, доводишь до совершенства не мастерством, а состоянием, – громко шептал кто-то рядом со мной. Его собеседник только кивал, не отрывая глаз от космоса в отдельно взятом Успенском храме.
[4]
– Светлана, музейную, – с порога выпалила я, открыв дверь в мастерскую.
Светлана сидела спиной ко входу и рассматривала икону под микроскопом. Я подошла, встала рядом.
– Ну что вам сказать, икона интересная. Возможно, XVIII век. Дерево – скорее кипарис, это привозные доски. У нас-то липа, сосна, в Сибири лиственница. Раньше ведь как: и когда дерево рубить знали, и как потом ощелачивать его на дне реки, и как сушить на русской печи.
Светлана бережно перевернула икону.
– Видите, вот здесь доски скреплены врезными шпонками, их надо заменить, рассыпались совсем, смотрите, вот-вот выпадут, оттого и трещины здесь. Вы вовремя успели.
– Да уж…
– Где же она у вас так высохла?
– В квартире, где. Топят у нас хорошо.
– Связь паволоки1 с левкасом2 и основы нарушена. Посмотрите, этого никак не видно, – Светлана начала осторожно поглаживать ладонью поверхность иконы:
– Слышите, на здоровых участках звук глухой, а там, где пустоты – звонкий. Это паволока вздулась вместе с левкасом и красочным слоем. Видите, тут было сначала закрытое вздутие, затем левкас растрескался, фрагменты оторвались и осыпались. И кракелюр3, видите?
Светлана показала на сетки трещинок по краям.
– Я посмотрела на утраты. Паволока, похоже, наклеена на всю поверхность иконы, она сплошная. Левкас сильно пострадал, смотрите, вот здесь и здесь, зато видны слои краски. Смотрите сюда, – Светлана показала осыпавшийся край, – раскрывать её надо… – А это как?
– Слой за слоем будем убирать запись, лак, загрязнения.
– То есть? Вы уберёте этот образ?
– Есть более старые, первоначальные. Знаете, в старину образ обновляли, «поновляли», часто на одной доске поверх старого писали новый, а иногда и не разглядеть было старый под почерневшей олифой, так поверх него сразу и писали. Хоть ту же Богородицу, а хоть и другого святого. Иконы ведь до XVII века писались по канону, без малейшего отступления. И храниться они могут долго, если условия соблюдать. Одно дерево-то как заготавливали, поэтому оно ценнее иконописи и было, вот и записывали его по несколько раз.
– Дааа… меняются ценности.
– Лучше так, чем как после революции, когда баржи, гружёные иконами, по Волге шли. Позолоту с них счищали, а деревом печки топили…
– Смотрите, смотрите сюда, видите слой – олифа, а дальше слой лазурь. Видите? Раскрывать её надо. Бывает как: открываются слои XIX, XVIII век, пять-шесть-семь слоёв, а там родная авторская живопись… – Хорошо.
Я не ожидала такого поворота. Смотрела и запоминала Богородицу в малейших деталях.
– Только я у вас её не возьму, у меня проект большой музейный, заказы из частных коллекций. Да вы не расстраивайтесь, есть у меня выпускница Суздальского училища, тоже станковой живописи, правда она во Владимире, я дам её контакт, может она возьмётся, поговорите.
[5]
Дверь открыла невысокая хрупкая женщина.
– Проходите, мне Светлана звонила.
Самая обычная трёшка, только вместо гостиной в большой комнате оборудована мастерская. Я прошла туда. Картины, храмовые иконы стояли вдоль стен на полу. На чистом столе всего несколько инструментов.
– Много вы икон сделали?
– Да уж больше тысячи, я и не помню.
– Интересная у вас работа. С иконами находитесь в одном пространстве. Чудеса какие-нибудь случаются? – почему-то вдруг мне пришла в голову именно эта мысль.
– Чудеса? Да… Не знаю. Вроде как. Да вот они, мои чудеса, – в комнату со звонким криком вбежали две маленькие девчушки и повисли на своей маме, не замечая меня.
– Ну, я поеду, Галина, звоните, – я записала телефон и оставила свою ситцевую тайну.
[6]
Ежедневная московская суета через пару дней смыла магию моей Суздальской поездки. Прошёл месяц, возможно даже немножко больше, всё закрутилось, поменялось, срослось. Я почти забыла о том дне, о тех удивительных людях, их глазах, трепете, преданности прекрасному и подвижническому делу. Где-то в глубине сумки вибрировал телефон, я одной рукой не без труда выудила его с самого дна, второй рукой балансируя руль:
– Да, я, здравствуйте, Галина… а… да, помню.
– Да, хорошо, приеду в субботу.
– С ней все нормально?
– Да, обязательно.
Лифт был слишком хорош для обычного блочного дома. Он шёл медленно, как в больнице, казалось, вечность поднимаясь на седьмой этаж. Остановился на третьем.
– Вы вниз? – спросил крупный суровый мужчина с собакой.
Я не смогла ничего ответить и только через длинную, как мне показалось, паузу замотала головой. Мужчина уже вошёл и встал спиной. Маленький щенок – не взрослая собака, теперь я его разглядела – улёгся рядом и вытянул лапы.
Дверь открыла Галина. Девчушки носились по коридору. Я прошла в комнату и… выронила телефон из рук. Со стола на меня смотрела икона из того самого трамвая на Чистых Прудах. Это была она! У меня перехватило дыхание, я не могла издать ни звука, только долго смотрела на чистый манящий лик, утопающий в лазурном фоне.
– Это «Знамение», список с Новгородской иконы. Он в храме Успения в Суздале. Видели, наверное?
– Дааа… Я её в другом месте видела.
«…в момент созерцания иконы молящемуся как бы открывается святая святых, внутренняя Марии, в недрах Которой Духом Святым зачинается Богочеловек…»4 Руки Богородицы воздеты к небу, они распахнуты навстречу Тому, кто выше всей вселенной, и в тоже время благословляют каждого из нас.
Волшебная крынка.
Ольга Пильникова
[1]
Я думала, что никогда не любила Марка. Да, он мне нравился, даже очень, особенно в старших классах, но это скорее была увлечённость. Он сильно выделялся на фоне наших остальных одноклассников не столько внешностью, сколько манерой одеваться, нарочитыми жестами и речью невпопад, за что бесконечно получал подзатыльники, насмешки, плевки – то есть, всё то, чем так богата подростковая бескомпромиссность и нетерпимость.
Правда, в отличие от многих, Марк очень тонко чувствовал красоту. Возможно, потому что вырос в семье творческих людей. Его папа был художником, картины которого выставлялись даже в московских галереях, а мама занималась реставрацией икон. Марка же интересовала керамика.
Мне иногда казалось, что он родился с куском глины в руке, настолько тонкие и изящные вещи он мог делать из довольно грубой и неподатливой материи. Я к нему относилась с большой теплотой, мне импонировали все его странности, которые в любом мегаполисе пришлись бы кстати, но не в нашей закостенелой деревне, где проживало десять тысяч человек, и телефон каждого был в записной книжке.