Суходол бесплатное чтение
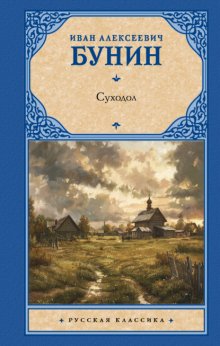
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Суходол
I
В Наталье всегда поражала нас ее привязанность к Суходолу.
Молочная сестра нашего отца, выросшая с ним в одном доме, целых восемь лет прожила она у нас в Луневе, прожила как родная, а не как бывшая раба, простая дворовая. И целых восемь лет отдыхала, по ее же собственным словам, от Суходола, от того, что заставил он ее выстрадать. Но недаром говорится, что как волка ни корми, он все в лес смотрит: выходив, вырастив нас, снова воротилась она в Суходол.
Помню отрывки наших детских разговоров с нею:
– Ты ведь сирота, Наталья?
– Сирота-с. Вся в господ своих. Бабушка-то ваша Анна Григорьевна куда как рано ручки белые сложила! Не хуже моего батюшки с матушкой.
– А они отчего рано померли?
– Смерть пришла, вот и померли-с.
– Нет, отчего рано?
– Так Бог дал. Батюшку господа в солдаты отдали за провинности, матушка веку не дожила из-за индюшат господских. Я-то, конечно, не помню-с, где мне, а на дворне сказывали: была она птишницей, индюшат под ее начальством было несть числа, захватил их град на выгоне и запорол всех до единого… Кинулась бечь она, добежала, глянула – да и дух вон от ужасти!
– А отчего ты замуж не пошла?
– Да жених не вырос еще.
– Нет, без шуток?
– Да говорят, будто госпожа, ваша тетенька, заказывала. За то-то и меня, грешную, барышней ославили.
– Ну-у, какая же ты барышня!
– В аккурат-с барышня! – отвечала Наталья с тонкой усмешечкой, морщившей ее губы, и обтирала их темной старушечьей рукой. – Я ведь молочная Аркадь Петровичу, тетенька вторая ваша…
Подрастая, все внимательнее прислушивались мы к тому, что говорилось в нашем доме о Суходоле: все понятнее становилось непонятное прежде, все резче выступали странные особенности суходольской жизни. Мы ли не чувствовали, что Наталья, полвека своего прожившая с нашим отцом почти одинаковой жизнью, – истинно родная нам, столбовым господам Хрущевым! И вот оказывается, что господа эти загнали отца ее в солдаты, а мать в такой трепет, что у нее сердце разорвалось при виде погибших индюшат!
– Да и правда, – говорила Наталья, – как было не пасть замертво от такой оказии? Господа за Можай ее загнали бы!
А потом узнали мы о Суходоле нечто еще более странное: узнали, что проще, добрей суходольских господ «во всей вселенной не было», но узнали и то, что не было и «горячее» их; узнали, что темен и сумрачен был старый суходольский дом, что сумасшедший дед наш Петр Кириллыч был убит в этом доме незаконным сыном своим, Герваськой, другом отца нашего и двоюродным братом Натальи; узнали, что давно сошла с ума – от несчастной любви – и тетя Тоня, жившая в одной из старых дворовых изб возле оскудевшей суходольской усадьбы и восторженно игравшая на гудящем и звенящем от старости фортепиано экосезы; узнали, что сходила с ума и Наталья, что еще девчонкой на всю жизнь полюбила она покойного дядю Петра Петровича, а он сослал ее в ссылку, на хутор Сошки… Наши страстные мечты о Суходоле были понятны. Для нас Суходол был только поэтическим памятником былого. А для Натальи? Ведь это она, как бы отвечая на какую-то свою думу, с великой горечью сказала однажды:
– Что ж! В Суходоле с татарками за стол садились! Вспомнить даже страшно.
– То есть с арапниками? – спросили мы.
– Да это все едино-с, – сказала она.
– А зачем?
– А на случай ссоры-с.
– В Суходоле все ссорились?
– Борони Бог! Дня не проходило без войны! Горячие все были – чистый порох.
Мы-то млели при ее словах и восторженно переглядывались: долго представлялся нам потом огромный сад, огромная усадьба, дом с дубовыми бревенчатыми стенами под тяжелой и черной от времени соломенной крышей – и обед в зале этого дома: все сидят за столом, все едят, бросая кости на пол, охотничьим собакам, косятся друг на друга – и у каждого арапник на коленях: мы мечтали о том золотом времени, когда мы вырастем и тоже будем обедать с арапниками на коленях. Но ведь хорошо понимали мы, что не Наталье доставляли радость эти арапники. И все же ушла она из Лунева в Суходол, к источнику своих темных воспоминаний. Ни своего угла, ни близких родных не было у ней там; и служила она теперь в Суходоле уже не прежней госпоже своей, не тете Тоне, а вдове покойного Петра Петровича, Клавдии Марковне. Да вот без усадьбы-то этой и не могла жить Наталья.
– Что делать-с: привычка, – скромно говорила она. – Уж куда иголка, туда, видно, и нитка. Где родился, там годился…
И не одна она страдала привязанностью к Суходолу. Боже, какими страстными любителями воспоминаний, какими горячими приверженцами Суходола были и все прочие суходольцы!
В нищете, в избе обитала тетя Тоня. И счастья, и разума, и облика человеческого лишил ее Суходол. Но она даже мысли не допускала никогда, несмотря на все уговоры нашего отца, покинуть родное гнездо, поселиться в Луневе:
– Да лучше камень в горе бить!
Отец был беззаботный человек; для него, казалось, не существовало никаких привязанностей. Но глубокая грусть слышалась в его рассказах о Суходоле. Уже давным-давно выселился он из Суходола в Лунево, полевое поместье бабки нашей Ольги Кирилловны. Но жаловался чуть не до самой кончины своей:
– Один, один Хрущев остался теперь в свете. Да и тот не в Суходоле!
Правда, нередко случалось и то, что, вслед за такими словами, задумывался он, глядя в окна, в поле, и вдруг насмешливо улыбался, снимая со стены гитару.
– А и Суходол хорош, пропади он пропадом! – прибавлял он с тою же искренностью, с какой говорил и за минуту перед тем.
Но душа-то и в нем была суходольская, – душа, над которой так безмерно велика власть воспоминаний, власть степи, косного ее быта, той древней семейственности, что воедино сливала и деревню, и дворню, и дом в Суходоле. Правда, столбовые мы, Хрущевы, в шестую книгу вписанные, и много было среди наших легендарных предков знатных людей вековой литовской крови да татарских князьков. Но ведь кровь Хрущевых мешалась с кровью дворни и деревни спокон веку. Кто дал жизнь Петру Кириллычу? Разно говорят о том предания. Кто был родителем Герваськи, убийцы его? С ранних лет мы слышали, что Петр Кириллыч. Откуда истекало столь резкое несходство в характерах отца и дяди? Об этом тоже разно говорят. Молочной же сестрой отца была Наталья, с Герваськой он крестами менялся… Давно, давно пора Хрущевым посчитаться родней с своей дворней и деревней!
В тяготенье к Суходолу, в обольщении его стариною долго жили и мы с сестрой. Дворня, деревня и дом в Суходоле составляли одну семью. Правили этой семьей еще наши пращуры. А ведь и в потомстве это долго чувствуется. Жизнь семьи, рода, клана глубока, узловата, таинственна, зачастую страшна. Но темной глубиной своей да вот еще преданиями, прошлым и сильна-то она. Письменными и прочими памятниками Суходол не богаче любого улуса в башкирской степи. Их на Руси заменяет предание. А предание да песня – отрава для славянской души! Бывшие наши дворовые, страстные лентяи, мечтатели, – где они могли отвести душу, как не в нашем доме? Единственным представителем суходольских господ оставался наш отец. И первый язык, на котором мы заговорили, был суходольский. Первые повествования, первые песни, тронувшие нас, – тоже суходольские, Натальины, отцовы. Да и мог ли кто-нибудь петь так, как отец, ученик дворовых, – с такой беззаботной печалью, с таким ласковым укором, с такой слабовольной задушевностью про «верную-манерную сударушку свою»? Мог ли кто-нибудь рассказывать так, как Наталья? И кто был роднее нам суходольских мужиков?
Распри, ссоры – вот чем спокон веку славились Хрущевы, как и всякая долго и тесно живущая в единении семья. А во времена нашего детства случилась такая ссора между Суходолом и Луневым, что чуть не десять лет не переступала нога отца родного порога. Так путем и не видали мы в детстве Суходола: были там только раз, да и то проездом в Задонск. Но ведь сны порой сильнее всякой яви. И смутно, но неизгладимо запомнили мы летний долгий день, какие-то волнистые поля и заглохшую большую дорогу, очаровавшую нас своим простором и кое-где уцелевшими дуплистыми ветлами; запомнили улей на одной из таких ветел, далеко отошедшей с дороги в хлеба, – улей, оставленный на волю Божию, в полях, при заглохшей дороге; запомнили широкий поворот под изволок, громадный голый выгон, на который глядели бедные курные избы, и желтизну каменистых оврагов за избами, белизну голышей и щебня по их днищам… Первое событие, ужаснувшее нас, тоже было суходольское: убийство дедушки Герваськой. И, слушая повествования об этом убийстве, без конца грезили мы этими желтыми, куда-то уходящими оврагами: все казалось, что по ним-то и бежал Герваська, сделав свое страшное дело и «канув как ключ на дно моря».
Мужики суходольские навещали Лунево не с теми целями, что дворовые, а насчет земельки больше; но и они как в родной входили в наш дом. Они кланялись отцу в пояс, целовали его руку, затем, тряхнув волосами, троекратно целовались и с ним, и с Натальей, и с нами в губы. Они привозили в подарок мед, яйца, полотенца. И мы, выросшие в поле, чуткие к запахам, жадные до них не менее, чем до песен, преданий, навсегда запомнили тот особый, приятный, конопляный какой-то запах, что ощущали, целуясь с суходольцами; запомнили и то, что старой степной деревней пахли их подарки: мед – цветущей гречей и дубовыми гнилыми ульями, полотенца – пуньками, курными избами времен дедушки… Мужики суходольские ничего не рассказывали. Да что им и рассказывать-то было! У них даже и преданий не существовало. Их могилы безыменны. А жизни так похожи друг на друга, так скудны и бесследны! Ибо плодами трудов и забот их был лишь хлеб, самый настоящий хлеб, что съедается. Копали они пруды в каменистом ложе давно иссякнувшей речки Каменки. Но пруды ведь ненадежны – высыхают. Строили они жилища. Но жилища их недолговечны: при малейшей искре дотла сгорают они… Так что же тянуло нас всех даже к голому выгону, к избам и оврагам, к разоренной усадьбе Суходола?
II
В усадьбу, породившую душу Натальи, владевшую всей ее жизнью, в усадьбу, о которой так много слышали мы, довелось нам попасть уже в позднем отрочестве.
Помню так, точно вчера это было. Разразился ливень с оглушительными громовыми ударами и ослепительно быстрыми, огненными змеями молний, когда мы под вечер подъезжали к Суходолу. Черно-лиловая туча тяжко свалилась к северо-западу, величаво заступила полнеба напротив. Плоско, четко и мертвенно-бледно зеленела равнина хлебов под ее огромным фоном, ярка и необыкновенно свежа была мелкая мокрая трава на большой дороге. Мокрые, точно сразу похудевшие лошади шлепали, блестя подковами, по синей грязи, тарантас влажно шуршал… И вдруг, у самого поворота в Суходол, увидали мы в высоких мокрых ржах высокую и престранную фигуру в халате и шлыке, фигуру не то старика, не то старухи, бьющую хворостиной пегую комолую корову. При нашем приближении хворостина заработала сильнее, и корова неуклюже, крутя хвостом, выбежала на дорогу. А старуха, что-то крича, направилась к тарантасу и, подойдя, потянулась к нам бледным лицом. Со страхом глядя в черные безумные глаза, чувствуя прикосновение острого холодного носа и крепкий запах избы, поцеловались мы с подошедшей. Не сама ли это Баба-яга? Но высокий шлык из какой-то грязной тряпки торчал на голове Бабы-яги, на голое тело ее был надет рваный и по пояс мокрый халат, не закрывавший тощих грудей. И кричала она так, точно мы были глухие, точно с целью затеять яростную брань. И по крику мы поняли: это тетя Тоня.
Закричала, но весело, институтски-восторженно и Клавдия Марковна, толстая, маленькая, с седенькой бородкой, с необыкновенно живыми глазками, сидевшая у открытого окна в доме с двумя большими крыльцами, вязавшая нитяный носок и, подняв очки на лоб, глядевшая на выгон, слившийся с двором. Низко, с тихой улыбкой поклонилась стоявшая на правом крыльце Наталья – дробненькая, загорелая, в лаптях, в шерстяной красной юбке и в серой рубахе с широким вырезом вокруг темной, сморщенной шеи. Взглянув на эту шею, на худые ключицы, на устало-грустные глаза, помню, подумал я: это она росла с нашим отцом – давным-давно, но вот именно здесь, где от дедовского дубового дома, много раз горевшего, остался вот этот, невзрачный, от сада – кустарники да несколько старых берез и тополей, от служб и людских – изба, амбар, глиняный сарай да ледник, заросший полынью и подсвекольником… Запахло самоваром, посыпались расспросы; стали появляться из столетней горки хрустальные вазочки для варенья, золотые ложечки, истончившиеся до кленового листа, сахарные сушки, сбереженные на случай гостей. И, пока разгорался разговор, усиленно дружелюбный после долгой ссоры, пошли мы бродить по темнеющим горницам, ища балкона, выхода в сад.
Все было черно от времени, просто, грубо в этих пустых, низких горницах, сохранивших то же расположение, что и при дедушке, срубленных из остатков тех самых, в которых обитал он. В углу лакейской чернел большой образ святого Меркурия Смоленского, того, чьи железные сандалии и шлем хранятся на солее в древнем соборе Смоленска. Мы слышали: был Меркурий муж знатный, призванный к спасению от татар Смоленского края гласом иконы Божьей Матери Одигитрии Путеводительницы. Разбив татар, святой уснул и был обезглавлен врагами. Тогда, взяв свою главу в руки, пришел он к городским воротам, дабы поведать бывшее… И жутко было глядеть на суздальское изображение безглавого человека, держащего в одной руке мертвенно-синеватую голову в шлеме, а в другой икону Путеводительницы, – на этот, как говорили, заветный образ дедушки, переживший несколько страшных пожаров, расколовшийся в огне, толсто окованный серебром и хранивший на оборотной стороне своей родословную Хрущевых, писанную под титлами. Точно в лад с ним, тяжелые железные задвижки и вверху и внизу висели на тяжелых половинках дверей. Доски пола в зале были непомерно широки, темны и скользки, окна малы, с подъемными рамами. По залу, уменьшенному двойнику того самого, где Хрущевы садились за стол с татарками, мы прошли в гостиную. Тут, против дверей на балкон, стояло когда-то фортепиано, на котором играла тетя Тоня, влюбленная в офицера Войткевича, товарища Петра Петровича. А дальше зияли раскрытые двери в диванную, в угольную, – туда, где были когда-то дедушкины покои…
Вечер же был сумрачный. В тучах, за окраинами вырубленного сада, за полуголой ригой и серебристыми тополями, вспыхивали зарницы, раскрывавшие на мгновение облачные розово-золотистые горы. Ливень, верно, не захватил Трошина леса, что темнел далеко за садом, на косогорах за оврагами. Оттуда доходил сухой, теплый запах дуба, мешавшийся с запахом зелени, с влажным мягким ветром, пробегавшим по верхушкам берез, уцелевших от аллеи, по высокой крапиве, бурьянам и кустарникам вокруг балкона. И глубокая тишина вечера, степи, глухой Руси царила надо всем…
– Чай кушать пожалуйте-с, – окликнул нас негромкий голос.
Это была она, участница и свидетельница всей этой жизни, главная сказительница ее, Наталья. А за ней, внимательно глядя сумасшедшими глазами, немного согнувшись, церемонно скользя по темному гладкому полу, подвигалась госпожа ее. Шлыка она не сняла, но вместо халата на ней было теперь старомодное барежевое платье, на плечи накинута блекло-золотистая шелковая шаль.
– Où êtes-vous, mes enfants?[1] – жантильно улыбаясь, кричала она, и голос ее, четкий и резкий, как голос попугая, странно раздавался в пустых черных горницах…
III
Как в Наталье, в ее крестьянской простоте, во всей ее прекрасной и жалкой душе, порожденной Суходолом, было очарование и в суходольской разоренной усадьбе.
Пахло жасмином в старой гостиной с покосившимися полами. Сгнивший, серо-голубой от времени балкон, с которого, за отсутствием ступенек, надо было спрыгивать, тонул в крапиве, бузине, бересклете. В жаркие дни, когда его пекло солнце, когда были отворены осевшие стеклянные двери и веселый отблеск стекла передавался в тусклое овальное зеркало, висевшее на стене против двери, все вспоминалось нам фортепиано тети Тони, когда-то стоявшее под этим зеркалом. Когда-то играла она на нем, глядя на пожелтевшие ноты с заглавиями в завитушках, а он стоял сзади, крепко подпирая талию левой рукой, крепко сжимая челюсти и хмурясь. Чудесные бабочки – и в ситцевых пестреньких платьицах, и в японских нарядах, и в черно-лиловых бархатных шалях – залетали в гостиную. И перед отъездом он с сердцем хлопнул однажды ладонью по одной из них, трепетно замиравшей на крышке фортепиано. Осталась только серебристая пыль. Но, когда девки, по глупости, через несколько дней стерли ее, с тетей Тоней сделалась истерика. Мы выходили из гостиной на балкон, садились на теплые доски – и думали, думали. Ветер, пробегая по саду, доносил до нас шелковистый шелест берез с атласно-белыми, испещренными чернью стволами и широко раскинутыми зелеными ветвями, ветер, шумя и шелестя, бежал с полей – и зелено-золотая иволга вскрикивала резко и радостно, колом проносясь над белыми цветами за болтливыми галками, обитавшими с многочисленным родством в развалившихся трубах и в темных чердаках, где пахнет старыми кирпичами и через слуховые окна полосами падает на бугры серо-фиолетовой золы золотой свет; ветер замирал, сонно ползали пчелы по цветам у балкона, совершая свою неспешную работу, – и в тишине слышался только ровный, струящийся, как непрерывный мелкий дождик, лепет серебристой листвы тополей… Мы бродили по саду, забирались в глушь окраин. Там, на этих окраинах, слившихся с хлебами, в прадедовской бане с провалившимся потолком, в той самой бане, где Наталья хранила украденное у Петра Петровича зеркальце, жили белые трусы. Как они мягко выпрыгивали на порог, как странно, шевеля усами и раздвоенными губами, косили они далеко расставленные, выпученные глаза на высокие татарки, кусты белены и заросли крапивы, глушившей терн и вишенник! А в полураскрытой риге жил филин. Он сидел на перемете, выбрав место посумрачнее, торчком подняв уши, выкатив желтые слепые зрачки – и вид у него был дикий, чертовский. Опускалось солнце далеко за садом, в море хлебов, наступал вечер, мирный и ясный, куковала кукушка в Трошином лесу, жалобно звенели где-то над лугами жалейки старика-пастуха Степы… Филин сидел и ждал ночи. Ночью все спало – и поля, и деревня, и усадьба. А филин только и делал, что ухал и плакал. Он неслышно носился вкруг риги, по саду, прилетал к избе тети Тони, легко опускался на крышу – и болезненно вскрикивал… Тетя просыпалась на лавке у печки.
– Исусе сладчайший, помилуй мя, – шептала она, вздыхая.
Мухи сонно и недовольно гудели по потолку жаркой, темной избы. Каждую ночь что-нибудь будило их. То корова чесалась боком о стену избы; то крыса пробегала по отрывисто звенящим клавишам фортепиано и, сорвавшись, с треском падала в черепки, заботливо складываемые тетей в угол; то старый черный кот с зелеными глазами поздно возвращался откуда-то домой и лениво просился в избу; или же прилетал вот этот филин, криками своими пророчивший беду. И тетя, пересиливая дремоту, отмахиваясь от мух, в темноте лезших в глаза, вставала, шарила по лавкам, хлопала дверью – и, выйдя на порог, наугад запускала вверх, в звездное небо, скалку. Филин, с шорохом, задевая крыльями солому, срывался с крыши – и низко падал куда-то в темноту. Он почти касался земли, плавно доносился до риги и, взмыв, садился на ее хребет. И в усадьбу опять доносился его плач. Он сидел, как будто что-то вспоминая, – и вдруг испускал вопль изумления; смолкал – и внезапно принимался истерически ухать, хохотать и взвизгивать; опять смолкал – и разражался стонами, всхлипываниями, рыданиями… А ночи, темные, теплые, с лиловыми тучками, были спокойны, спокойны. Сонно бежал и струился лепет сонных тополей. Зарница осторожно мелькала над темным Трошиным лесом – и тепло, сухо пахло дубом. Возле леса, над равнинами овсов, на прогалине неба среди туч, горел серебряным треугольником, могильным голубцом Скорпион…
Поздно возвращались мы в усадьбу. Надышавшись росой, свежестью степи, полевых цветов и трав, осторожно поднимались мы на крыльцо, входили в темную прихожую. И часто заставали Наталью на молитве перед образом Меркурия. Босая, маленькая, поджав руки, стояла она перед ним, шептала что-то, крестилась, низко кланялась ему, невидному в темноте, – и все это так просто, точно беседовала она с кем-то близким, тоже простым, добрым, милостивым.
– Наталья? – тихо окликали мы.
– Я-с? – тихо и просто отзывалась она, прерывая молитву.
– Что же ты не спишь до сих пор?
– Да авось еще в могиле-с наспимся…
Мы садились на коник, раскрывали окно; она стояла, поджав руки. Таинственно мелькали зарницы, озаряя темные горницы; перепел бил где-то далеко в росистой степи. Предостерегающе-тревожно крякала проснувшаяся на пруде утка…
– Гуляли-с?
– Гуляли.
– Что ж, дело молодое… Мы, бывалыча, так-то все ночи напролет прогуливали… Одна заря выгонит, другая загонит…
– Хорошо жилось прежде?
– Хорошо-с…
И наступало долгое молчание.
– Чего это, нянечка, филин кричит? – говорила сестра.
– Не судом кричит-с, пропасти на него нету. Хоть бы из ружья постращать. А то прямо жуть, все думается: либо к беде какой? И все барышню пугает. А она ведь до смерти пуглива!
– А как захворала она?
– Да известно-с: все слезы, слезы, тоска… Потом молиться зачали… Да все лютее с нами, с девками, да все сердитей с братцами…
И, вспоминая арапники, мы спрашивали:
– Не дружно, значит, жили?
– Куда как дружно! А уж особливо после того, как заболели-то оне, как дедушка померли, как вошли в силу молодые господа и женился покойник Петр Петрович. Горячие все были – чистый порох!
– А пороли дворовых часто?
– Этого у нас и в заведенье не было-с. Я как провинилась-то! А и было-то всего-навсего, что приказали Петр Петрович голову мне овечьими ножницами оболванить, затрапезную рубаху надеть да на хутор отправить…
– А чем же ты провинилась?
Но ответ далеко не всегда следовал прямой и скорый. Рассказывала Наталья порою с удивительной прямотой и тщательностью; но порою запиналась, что-то думала; потом легонько вздыхала, и по голосу, не видя лица в сумраке, мы понимали, что она грустно усмехается:
– Да тем и провинилась… Я ведь уж сказывала… Молода-глупа была-с. «Пел на грех, на беду соловей во саду…» А, известно, дело мое было девичье…
Сестра ласково спросила ее:
– Ты уж скажи, нянечка, стихи эти до конца.
И Наталья смущалась.
– Это не стихи-с, а песня… Да я ее и не упомню-с теперь.
– Неправда, неправда!
– Ну, извольте-с…
И скороговоркой кончала:
– «Как на грех, на беду…» То бишь: «Пел на грех, на беду соловей во саду – песню томную… Глупой спать не давал – в ночку темную…»
Пересиливая себя, сестра спрашивала:
– А ты очень была влюблена в дядю?
И Наталья тупо и кратко шептала:
– Очень-с.
– Ты всегда поминаешь его на молитве?
– Всегда-с.
– Ты, говорят, в обморок упала, когда тебя везли в Сошки?
– В оморок-с. Мы, дворовые, страшные нежные были… жидки на расправу… не сравнять же с серым однодворцем! Как повез меня Евсей Бодуля, отупела я от горя и страху… В городе чуть не задохнулась с непривычки. А как выехали в степь, таково мне нежно да жалостно стало! Метнулся офицер навстречу, похожий на них, – крикнула я, да и замертво! А пришедчи в себя, лежу этак в телеге и думаю: хорошо мне теперь, ровно в царстве небесном!
– Строг он был?
– Не приведи господи!
– Ну а все-таки своенравнее всех тетя была?
– Оне-с, оне-с. Докладываю же вам: их даже к угоднику возили. Натерпелись мы страсти с ними! Им бы жить да поживать теперь, как надобно, а оне погордилися, да и тронулись… Как любил их Войткевич-то! Ну да вот поди ж ты!
– Ну а дедушка?
– Те что ж? Те слабы умом были. А, конечно, и с ними случалось. Все в ту пору были пылкие… Да зато прежние-то господа нашим братом не брезговали. Бывалыча, папаша ваш накажут Герваську в обед, – энтого и следовало! – а вечером, глядь, уж на дворне жируют, на балалайках с ним жундят…
– А скажи, – он хорош был, Войткевич-то?
Наталья задумывалась.
– Нет-с, не хочу соврать: вроде калмыка был. А сурьезный, настойчивый. Все стихи ей читал, все напугивал: мол, помру и приду за тобой…
– Ведь и дед от любви с ума сошел?
– Те по бабушке. Это дело иное, сударыня. Да и дом у нас был сумрачен, – не веселый, бог с ним. Вот извольте послушать мои глупые слова…
И неторопливым шепотом начинала Наталья долгое, долгое повествование…
IV
Если верить преданиям, прадед наш, человек богатый, только под старость переселился из-под Курска в Суходол: не любил наших мест, их глуши, лесов. Да ведь это вошло в пословицу: «В старину везде леса были…» Люди, пробиравшиеся лет двести тому назад по нашим дорогам, пробирались сквозь густые леса. В лесу терялись и речка Каменка, и те верхи, где протекала она, и деревня, и усадьба, и холмистые поля вокруг. Однако уже не то было при дедушке. При дедушке картина была иная: полустепной простор, голые косогоры, на полях – рожь, овес, греча, на большой дороге – редкие дуплистые ветлы, а по Суходольскому верху – только белый голыш. От лесов остался один Трошин лесок. Только сад был, конечно, чудесный: широкая аллея в семьдесят раскидистых берез, вишенники, тонувшие в крапиве, дремучие заросли малины, акации, сирени и чуть не целая роща серебристых тополей на окраинах, сливавшихся с хлебами. Дом был под соломенной крышей, толстой, темной и плотной. И глядел он на двор, по сторонам которого шли длиннейшие службы и людские в несколько связей, а за двором расстилался бесконечный зеленый выгон и широко раскидывалась барская деревня, большая, бедная и – беззаботная.
– Вся в господ-с! – говорила Наталья. – И господа беззаботны были – не хозяйственны, не жадны. Семен Кириллыч, братец дедушки, разделились с нами: себе взяли что побольше да полутче, престольную вотчину, нам только Сошки, Суходол да четыреста душ прикинули. А из четырех-то сот чуть не половина разбежалася…
Дедушка Петр Кириллыч умер лет сорока пяти. Отец часто говорил, что помешался он после того, как на него, заснувшего на ковре в саду, под яблоней, внезапно сорвавшийся ураган обрушил целый ливень яблок. А на дворне, по словам Натальи, объясняли слабоумие деда иначе: тем, что тронулся Петр Кириллыч от любовной тоски после смерти красавицы бабушки, что великая гроза прошла над Суходолом перед вечером того дня. И доживал Петр Кириллыч, – сутулый брюнет, с черными, внимательно-ласковыми глазами, немного похожий на тетю Тоню, – в тихом помешательстве. Денег, по словам Натальи, прежде не знали, куда девать, и вот он, в сафьяновых сапожках и пестром архалуке, заботливо и неслышно бродил по дому и, оглядываясь, совал в трещины дубовых бревен золотые.
– Это я для Тонечки в приданое, – бормотал он, когда захватывали его. – Надежнее, друзья мои, надежнее… Ну, а за всем тем – воля ваша: не хочете – я не буду…
И опять совал. А не то переставлял тяжелую мебель в зале, в гостиной, все ждал чьего-то приезда, хотя соседи почти никогда не бывали в Суходоле; или жаловался на голод и сам мастерил себе тюрю – неумело толок и растирал в деревянной чашке зеленый лук, крошил туда хлеб, лил густой пенящийся суровец и сыпал столько крупной серой соли, что тюря оказывалась горькой и есть ее было не под силу. Когда же, после обеда, жизнь в усадьбе замирала, все разбредались по излюбленным углам и надолго засыпали, не знал куда деваться одинокий, даже по ночам мало спавший Петр Кириллыч. И, не выдержав одиночества, начинал заглядывать в спальни, прихожие, девичьи и осторожно окликать спящих:
– Ты спишь, Аркаша? Ты спишь, Тонюша?
И, получив сердитый окрик: «Да отвяжитесь вы, ради бога, папенька!» – торопливо успокаивал:
– Ну спи, спи, душа моя. Я тебя будить не буду…
И уходил дальше, – минуя только лакейскую, ибо лакеи были народ очень грубый, – а через десять минут снова появлялся на пороге и снова еще осторожнее окликал, выдумывая, что по деревне кто-то проехал с ямщицкими колокольчиками, – «уж не Петенька ли из полка в побывку», – или что заходит страшная градовая туча.
– Они, голубчики, уж очень грозы боялись, – рассказывала Наталья. – Я-то еще девчонкой простоволосой была, ну а все-таки помню-с. Дом у нас какой-то черный был… невеселый, господь с ним. А день летом – год. Дворни девать было некуды… одних лакеев пять человек… Да, известно, започивают после обеда молодые господа, а за ними и мы, холопы верные, слуги примерные. И тут уж Петр Кириллыч не приступайся к нам, – особливо к Герваське. «Лакеи! Лакеи! Вы спите?» А Герваська подымет голову с ларя, да и спрашивает: «А хочешь, я тебе сейчас крапивы в мотню набью?» – «Да ты кому ж это говоришь-то, бездельник ты этакий?» – «Домовому, сударь, спросонья…» Ну вот, Петр Кириллыч и пойдут опять по залу, по гостиной и все в окна, в сад заглядывают: не видно ли тучи? А грозы, и правда, куда как часто в старину сбирались. Да и грозы-то великие. Как, бывалыча, дело после обеда, так и почнет орать иволга, и пойдут из-за саду тучки… потемнеет в доме, зашуршит бурьян да глухая крапива, попрячутся индюшки с индюшатами под балкон… прямо жуть, скука-с! А они, батюшка, вздыхают, крестятся, лезут свечку восковую у образов зажигать, полотенце заветное с покойника прадедушки вешать, – боялась я того полотенца до смерти! – али ножницы за окошко выкидывают. Это уж первое дело-с, ножницы-то: очень хорошо против грозы…
Было веселее в суходольском доме, когда жили в нем французы, – сперва какой-то Луи Иванович, мужчина в широчайших, книзу узких панталонах, с длинными усами и мечтательными голубыми глазами, накладывавший на лысину волосы от уха к уху, а потом пожилая, вечно зябнувшая мадмазель Сизи, – когда по всем комнатам гремел голос Луи Ивановича, оравшего на Аркашу: «Идь-ите и больше не вернитесь!» – когда слышалось в классной: «Maître corbeau sur un arbre perche»[2] и на фортепиано училась Тонечка. Восемь лет жили французы в Суходоле, оставались в нем, чтобы не скучно было Петру Кириллычу, и после того, как увезли детей в губернский город, покинули же его перед самым возвращением их домой на третьи каникулы. Когда прошли эти каникулы, Петр Кириллыч уже никуда не отправил ни Аркашу, ни Тонечку: достаточно было, по его мнению, отправить одного Петеньку. И дети навсегда остались и без ученья и без призора… Наталья говаривала:
– Я-то была моложе их всех. Ну, а Герваська с папашей вашим почти однолетки были и, значит, первые друзья-приятели-с. Только, правда говорится, – волк коню не свойственник. Подружились они это, поклялись в дружбе на вечные времена, поменялись даже крестами, а Герваська вскорости же и начереди: чуть было вашего папашу в пруде не утопил! Коростовый был, а уж на каторжные затеи мастер. «Что ж, – говорит раз барчуку, – ты подрастете, будете меня пороть?» – «Буду». – «Ан нет». – «Как так?» – «А так…» И надумал: стояла у нас бочка над прудами, на самом косогоре, а он и заприметь ее, да и подучи Аркадь Петровича залезть в нее и покатиться вниз. «Перва, говорит, ты, барчук, прожжете, а там я…» Ну, а барчук-то и послушайся: залез, толкнулся, да как пошел греметь под гору, в воду, как пошел… Матушка Царица Небесная! Только пыль столбом завихрилась!.. Уж спасибо вблизи пастухи оказалися…
Пока жили французы в суходольском доме, дом сохранял еще жилой вид. При бабушке еще были в нем и господа, и хозяева, и власть, и подчинение, и парадные покои, и семейные, и будни, и праздники. Видимость всего этого держалась и при французах. Но французы уехали, и дом остался совсем без хозяев. Пока дети были малы, на первом месте был как будто Петр Кириллыч. Но что он мог? Кто кем владел: он дворовыми или дворовые им? Фортепиано закрыли, скатерть с дубового стола исчезла, – обедали без скатерти и когда попало, в сенцах проходу не было от борзых собак. Заботиться о чистоте стало некому, – и темные бревенчатые стены, темные полы и потолки, темные тяжелые двери и притолки, старые образа, закрывавшие своими суздальскими ликами весь угол в зале, скоро и совсем почернели. По ночам, особенно в грозу, когда бушевал под дождем сад, поминутно озарялись в зале лики образов, раскрывалось, распахивалось над садом дрожащее розово-золотое небо, а потом, в темноте, с треском раскалывались громовые удары, – по ночам в доме было страшно. А днем – сонно, пусто и скучно. С годами Петр Кириллыч все слабел, становился все незаметнее, хозяйкой же дома являлась дряхлая Дарья Устиновна, кормилица дедушки. Но власть ее почти равнялась его власти, а староста Демьян не вмешивался в управление домом: он знал только полевое хозяйство, с ленивой усмешкой говоря иногда: «Что ж, я своих господ не обиждаю…» Отцу, юноше, не до Суходола было: его с ума сводила охота, балалайка, любовь к Герваське, который числился в лакеях, но по целым дням пропадал с ним на каких-то Мещерских болотцах или в каретном сарае за изучением балалаечных и жалеечных хитростей.
– Так уж мы и знали-с, – говорила Наталья, – в доме только почивают. А не почивают, – значит, либо на деревне, либо в каретном, либо на охоте: зимою – зайцы, осенью – лисицы, летом – перепела, утки либо дряхвы; сядут на дрожки беговые, перекинут ружьецо за плечи, кликнут Дианку, да и с Господом: нынче на Середнюю мельницу, завтра на Мещерские, послезавтра на степя. И все с Герваськой. Тот первый коновод всему был, а прикидывался, что это барчук его таскает. Любил его, врага своего, Аркадь Петрович истинно как брата, а он, чем дальше, тем все злей измывался над ним. Бывалыча, скажут: «Ну, давай, Гервасий, на балалайках! Выучи ты меня, за ради бога, «Закатилось солнце красное за лес…». А Герваська посмотрит на них, пустит в ноздри дым и этак с усмешечкой: «Поцелуйте перва ручку у меня». Побелеют весь Аркадь Петрович, вскочут с места, бац его, что есть силы, по щеке, а он только головой мотнет и еще черней сделается, насупится, как разбойник какой. «Встать, негодяй!» Встанет, вытянется, как борзой, портки плисовые висят… молчит. «Проси прощенья». – «Виноват, сударь». А барчук задвохнутся – и уж не знают, что дальше сказать. «То-то “сударь”! – кричат. – Я, мол, норовлю с тобой, с негодяем, как с равным обойтиться, я, мол, иной раз думаю: я для него души не пожалею… А ты что? Ты нарочно меня озлобляешь?»
– Диковинное дело! – говорила Наталья. – Над барчуком и дедушкой Герваська измывался, – а надо мной – барышня. Барчук, – а, по правде-то сказать, и сами дедушка, – в Герваське души не чаяли, а я – в ней… как из Сошек-то вернулась я да маленько образумилась посля своей провинности…
V
С арапниками садились за стол уже после смерти дедушки, после бегства Герваськи и женитьбы Петра Петровича, после того как тетя Тоня, тронувшись, обрекла себя в невесты Иисусу сладчайшему, а Наталья возвратилась из этих самых Сошек. Тронулась же тетя Тоня и в ссылке побывала Наталья – из-за любви.
Скучные, глухие времена дедушки сменились временами молодых господ. Возвратился в Суходол Петр Петрович, неожиданно для всех вышедший в отставку. И приезд его оказался гибельным и для Натальи, и для тети Тони.
Они обе влюбились. Не заметили, как влюбились. Им казалось сперва, что «просто стало веселее жить».
Петр Петрович повернул на первых порах жизнь в Суходоле на новый лад – на праздничный и барский. Он приехал с товарищем, Войткевичем, привез с тобой повара, бритого алкоголика, с пренебрежением косившегося на позеленевшие рубчатые формы для желе, на грубые ножи, вилки. Петр Петрович желал показать себя перед товарищем радушным, щедрым, богатым – и делал это неумело, по-мальчишески. Да он и был почти мальчиком, очень неясным и красивым с виду, но по натуре резким и жестоким, мальчиком как будто самоуверенным, но легко и чуть не до слез смущающимся, а потом надолго затаивающим злобу на того, кто смутил его.
– Помнится, брат Аркадий, – сказал он за столом в первый же день своего пребывания в Суходоле, – помнится, была у нас мадера недурная?
Дедушка покраснел, хотел что-то сказать, но не насмелился и только затеребил на груди архалук. Аркадий Петрович изумился:
– Какая мадера?
А Герваська нагло поглядел на Петра Петровича и ухмыльнулся.
– Вы изволили забыть, сударь, – сказал он Аркадию Петровичу, даже и не стараясь скрыть насмешки. – У нас, и правда, девать некуда было этой самой мадеры. Да все мы, холопы, потаскали. Вино барское, а мы ее дуром, заместо квасу.
– Это еще что такое? – крикнул Петр Петрович, заливаясь своим темным румянцем. – Молчать!
Дедушка восторженно подхватил.
– Так, так, Петенька! Фо`ра! – радостно, тонким голосом воскликнул он и чуть не заплакал. – Ты и представить себе не можешь, как он меня уничтожает! Я уж не однажды думал: подкрадусь и проломлю ему голову толкачом медным… Ей-богу, думал! Я ему кинжал в бок по эфес всажу!
А Герваська и тут нашелся.
– Я, сударь, слышал, что за это больно наказывают, – возразил он, насупясь. – А то и мне все лезет в голову: пора барину в Царство Небесное!
Говорил Петр Петрович, что после такого неожиданно дерзкого ответа сдержался он только ради чужого человека. Он сказал Герваське только одно: «Сию минуту выйди вон!» А потом даже устыдился своей горячности – и, торопливо извиняясь перед Войткевичем, поднял на него с улыбкой те очаровательные глаза, которых долго не могли забыть все знавшие Петра Петровича.
Слишком долго не могла забыть этих глаз и Наталья.
Счастье ее было необыкновенно кратко – и кто бы мог думать, что разрешится оно путешествием в Сошки, самым замечательным событием всей ее жизни?
Хутор Сошки цел и доныне, хотя уже давно перешел к тамбовскому купцу. Это – длинная изба среди пустой равнины, амбар, журавль колодца и гумно, вокруг которого бахчи. Таким, конечно, был хутор и в дедовские времена; да мало изменился и город, что на пути к нему из Суходола. А провинилась Наташка тем, что, совершенно неожиданно для самой себя, украла складное, оправленное в серебро, зеркальце Петра Петровича.
Увидела она это зеркальце – и так была поражена красотой его, – как, впрочем, и всем, что принадлежало Петру Петровичу, – что не устояла. И несколько дней, пока не хватились зеркальца, прожила ошеломленная своим преступлением, очарованная своей страшной тайной и сокровищем, как в сказке об аленьком цветочке. Ложась спать, она молила Бога, чтобы скорее прошла ночь, чтобы скорее наступило утро: празднично было в доме, который ожил, наполнился чем-то новым, чудесным с приездом красавца барчука, нарядного, напомаженного, с высоким красным воротом мундира, с лицом смуглым, но нежным, как у барышни; празднично было даже в прихожей, где спала Наташка и где, вскакивая с рундука на рассвете, она сразу вспоминала, что в мире – радость, потому что у порога стояли, ждали чистки такие легонькие сапожки, что их впору было царскому сыну носить; и всего страшнее и праздничнее было за садом, в заброшенной бане, где хранилось двойное зеркальце в тяжелой серебряной оправе, – за садом, куда, пока еще все спали, по росистым зарослям, тайком бежала Наташка, чтоб насладиться обладанием своего сокровища, вынести его на порог, раскрыть при жарком утреннем солнце и насмотреться на себя до головокруженья, а потом опять скрыть, схоронить и опять бежать, прислуживать все утро тому, на кого она и глаз поднять не смела, для кого она, в безумной надежде понравиться, и заглядывалась-то в зеркальце.
Но сказка об аленьком цветочке кончилась скоро, очень скоро. Кончилась позором и стыдом, которому нет имени, как думала Наташка… Кончилась тем, что сам же Петр Петрович приказал остричь, обезобразить ее, принаряжавшуюся, сурьмившую брови перед зеркальцем, создавшую какую-то сладкую тайну, небывалую близость между ним и собой. Он сам открыл и превратил ее преступление в простое воровство, в глупую проделку дворовой девчонки, которую, в затрапезной рубахе, с лицом, опухшим от слез, на глазах всей дворни, посадили на навозную телегу и, опозоренную, внезапно оторванную от всего родного, повезли на какой-то неведомый, страшный хутор, в степные дали. Она уже знала: там, на хуторе, она должна будет стеречь цыплят, индюшек и бахчи; там она спечется на солнце, забытая всем светом; там, как годы, будут долги степные дни, когда в зыбком мареве тонут горизонты и так тихо, так знойно, что спал бы мертвым сном весь день, если бы не нужно было слушать осторожный треск пересохшего гороха, домовитую возню наседок в горячей земле, мирно-грустную перекличку индюшек, не следить за набегающей сверху, жуткой тенью ястреба и не вскакивать, не кричать тонким протяжным голосом: «Шу-у!..» Там, на хуторе, чего стоила одна старуха-хохлушка, получившая власть над ее жизнью и смертью и, верно, уже с нетерпением поджидавшая свою жертву! Единственное преимущество имела Наташка перед теми, которых везут на смертную казнь: возможность удавиться. И только одно это и поддерживало ее на пути в ссылку, – конечно, вечную, как полагала она.
На пути из конца в конец уезда чего только она не насмотрелась! Да не до того ей было. Она думала или, скорее, чувствовала одно: жизнь кончена, преступление и позор слишком велики, чтобы надеяться на возвращение к ней! Пока еще оставался возле нее близкий человек, Евсей Бодуля. Но что будет, когда он сдаст ее с рук на руки хохлушке, переночует и уедет, навеки покинет ее в чужой стороне? Наплакавшись, она захотела есть. И Евсей, к удивлению ее, взглянул на это очень просто и, закусывая, разговаривал с ней так, как будто ничего не случилось. А потом она заснула – и очнулась уже в городе. И город поразил ее только скукой, сушью, духотой да еще чем-то смутно-страшным, тоскливым, что похоже было на сон, который не расскажешь. Запомнилось за этот день только то, что очень жарко летом в степи, что бесконечнее летнего дня и длиннее больших дорог нет ничего на свете. Запомнилось, что есть места на городских улицах, выложенные камнями, по которым престранно гремит телега, что издалека пахнет город железными крышами, а среди площади, где отдыхали и кормили лошадь, возле пустых под вечер «обжорных» навесов, – пылью, дегтем, гниющим сеном, клоки которого, перебитые с конским навозом, остаются на стоянках мужиков. Евсей отпряг и поставил лошадь к телеге, к корму; сдвинул на затылок горячую шапку, вытер рукавом пот и, весь черный от зноя, ушел в харчевню. Он строго-настрого приказал Наташке «поглядывать» и, в случае чего, кричать на всю площадь. И Наташка сидела, не двигаясь, не сводила глаз с купола тогда только что построенного собора, огромной серебряной звездой горевшего где-то далеко за домами, – сидела до тех пор, пока не вернулся жующий, повеселевший Евсей и не стал, с калачом под мышкой, снова заводить лошадь в оглобли.
– Припоздали мы с тобой, королевишна, маленько! – оживленно бормотал он, обращаясь не то к лошади, не то к Наташке. – Ну, да авось не удавят! Авось не на пожар… Я и назад гнать не стану, – мне, брат, барская лошадь подороже твоего хайла, – говорил он, уже разумея Демьяна. – Разинул хайло: «Ты у меня смотри! Я, в случае чего, догляжусь, что у тебя в портках-то…» А-ах! – думаю… Взяла меня обида поперек живота! С меня, мол, господа, и те еще не спускали порток-то… не тебе чета, чернонёбому. – «Смотри!» – А чего мне смотреть? Авось не дурей тебя. Захочу – и совсем не ворочусь: девку доправлю, а сам перекрещусь да потуда меня и видели… Я и на девку-то дивуюсь: чего, дура, затужила? Ай свет клином сошелся? Пойдут чумаки либо старчики какие мимо хуторя – только слово сказать: в один мент за Ростовым-батюшкой очутишься… А там и поминай как звали!
И мысль: «удавлюсь» – сменилась в стриженой голове Наташки мыслью о бегстве. Телега заскрипела и закачалась. Евсей смолк и повел лошадь к колодцу среди площади. Там, откуда приехали, опускалося солнце за большой монастырский сад, и окна в желтом остроге, что стоял против монастыря, через дорогу, сверкали золотом. И вид острога на минуту еще больше возбудил мысль о бегстве. Вона, и в бегах живут! Только вот говорят, что старчики выжигают ворованным девкам и ребятам глаза кипяченым молоком и выдают их за убогеньких, а чумаки завозят к морю и продают нагайцам… Случается, что и ловят господа своих беглых, забивают их в кандалы, в острог сажают… Да авось и в остроге не быки, а мужики, как говорит Герваська!
Но окна в остроге гасли, мысли путались, – нет, бежать еще страшнее, чем удавиться! Да смолк, отрезвел и Евсей.
– Припоздали, девка, – уже беспокойно говорил он, вскакивая боком на грядку телеги.
И телега, выбравшись на шоссе, опять затряслась, забилась, шибко загремела по камням… «Ах, лучше-то всего было бы назад повернуть ее, – не то думала, не то чувствовала Наташка, – повернуть, доскакать до Суходола – и упасть господам в ноги!» Но Евсей погонял. Звезды за домами уже не было. Впереди была белая голая улица, белая мостовая, белые дома – и все это замыкалось огромным белым собором под новым бело-жестяным куполом, и небо над ним стало бледно-синее, сухое. А там, дома, в это время уже роса падала, сад благоухал свежестью, пахло из топившейся поварской; далеко за равнинами хлебов, за серебристыми тополями на окраинах сада, за старой заветной баней догорала заря, а в гостиной были отворены двери на балкон, алый свет мешался с сумраком в углах, и желто-смуглая, черноглазая, похожая и на дедушку, и на Петра Петровича барышня поминутно оправляла рукава легкого и широкого платья из оранжевого шелка, пристально смотрела в ноты, сидя спиной к заре, ударяя по желтым клавишам, наполняя гостиную торжественно-певучими, сладостно-отчаянными звуками полонеза Огинского и как будто не обращая никакого внимания на стоявшего за нею офицера – приземистого, темноликого, подпиравшего талию левой рукою и сосредоточенно-мрачно следившего за ее быстрыми руками…
«У ней – свой, а у меня – свой», – не то думала, не то чувствовала Наташка в такие вечера с замиранием сердца и бежала в холодный, росистый сад, забивалась в глушь крапивы и остро пахнущих, сырых лопухов и стояла, ждала несбыточного, – того, что сойдет с балкона барчук пойдет по аллее, увидит ее и, внезапно свернув, приблизится к ней быстрыми шагами – и она не проронит от ужаса и счастья ни звука…
А телега гремела. Город был вокруг, жаркий и вонючий, тот самый, что представлялся прежде чем-то волшебным. И Наташка с болезненным удивлением глядела на разряженный народ, идущий взад и вперед по камням возле домов, ворот и лавок с раскрытыми дверями… «И зачем поехал тут Евсей, – думала она, – как решился он греметь тут телегой?»
Но проехали мимо собора, стали спускаться к мелкой реке по ухабистым пыльным косогорам, мимо черных кузниц, мимо гнилых мещанских лачуг… Опять знакомо запахло пресной теплой водой, илом, полевой вечерней свежестью. Первый огонек блеснул вдали, на противоположной горе, в одиноком домишке близ шлагбаума… Вот и совсем выбрались на волю, переехали мост, поднялись к шлагбауму – и глянула в глаза каменная, пустынная дорога, смутно белеющая и убегающая в бесконечную даль, в синь степной свежей ночи. И лошадь пошла мелкой рысцой, а миновав шлагбаум, и совсем шагом. И опять стало слышно, что тихо, тихо ночью и на земле и в небе, – только где-то далеко плачет колокольчик. Он плакал все слышнее, все певучее и слился наконец с дружным топотом тройки, с ровным стуком бегущих по шоссе и приближающихся колес… Тройкой правил вольный молодой ямщик, а в бричке, уткнувши подбородок в шинель с капюшоном, сидел офицер. Поравнявшись с телегой, на мгновение поднял он голову – и вдруг увидела Наташка красный воротник, черные усы, молодые глаза, блеснувшие под каской, похожей на ведерко… Она вскрикнула, помертвела, потеряла сознание…
Озарила ее безумная мысль, что это Петр Петрович, и, по той боли и нежности, которая молнией прошла ее нервное дворовое сердце, она вдруг поняла, чего она лишилась: близости к нему… Евсей кинулся поливать ее стриженую, отвалившуюся голову водой из дорожного жбана.
Тогда она очнулась от приступа тошноты – и торопливо перекинула голову за грядку телеги. Евсей торопливо подложил под ее холодный лоб ладонь…
А потом, облегченная, озябнувшая, с мокрым воротом, лежала она на спине и смотрела на звезды. Перепугавшийся Евсей молчал, думая, что она уснула, – только головой покачивал, – и погонял, погонял. Телега тряслась и убегала. А девчонке казалось, что у нее нет тела, что теперь у нее – одна душа. И душе этой было «так хорошо, ровно в царстве небесном»…
Аленьким цветочком, расцветшим в сказочных садах, была ее любовь. Но в степь, в глушь, еще более заповедную, чем глушь Суходола, увезла она любовь свою, чтобы там, в тишине и одиночестве, побороть первые, сладкие и жгучие муки ее, а потом надолго, навеки, до самой гробовой доски схоронить ее в глубине своей суходольской души.
VI
Любовь в Суходоле необычна была. Необычна была и ненависть.
Дедушка, погибший столь же нелепо, как и убийца его, как и все, что гибли в Суходоле, был убит в том же году. На Покров, престольный праздник в Суходоле, Петр Петрович назвал гостей – и очень волновался: будет ли предводитель, давший слово быть? Радостно, неизвестно чему волновался и дедушка. Предводитель приехал – и обед удался на славу. Было и шумно и весело, дедушке – веселее всех. Рано утром второго октября его нашли на полу в гостиной мертвым.
Выйдя в отставку, Петр Петрович не скрыл, что он жертвует собою ради спасения чести Хрущевых, родового гнезда, родовой усадьбы. Не скрыл, что хозяйство он «поневоле» должен взять в свои руки. Должен и знакомства завести, дабы общаться с наиболее просвещенными и полезными дворянами уезда, а с прочими – просто не порывать отношений. И сначала все в точности исполнял, посетил даже всех мелкопоместных, даже хутор тетушки Ольги Кирилловны, чудовищно-толстой старухи, страдавшей сонной болезнью и чистившей зубы нюхательным табаком. К осени уже никто не дивился, что Петр Петрович правит имением единовластно. Да он и вид имел уже не красавчика-офицера, приехавшего на побывку, а хозяина, молодого помещика. Смущаясь, он не заливался таким темным румянцем, как прежде. Он выхолился, пополнел, носил дорогие архалуки, маленькие ноги свои баловал красными татарскими туфлями, маленькие руки украшал кольцами с бирюзою. Аркадий Петрович стеснялся смотреть в его карие глаза, не знал, о чем с ним говорить, первое время во всем уступал ему и пропадал на охоте.
На Покров Петр Петрович хотел очаровать всех до единого своим радушием, да и показать, что именно он первое лицо в доме. Но ужасно мешал дедушка. Дедушка был блаженно-счастлив, но бестактен, болтлив и жалок в своей бархатной шапочке с мощей и в новом, не в меру широком синем казакине, сшитом домашним портным. Он тоже вообразил себя радушным хозяином и суетился с раннего утра, устраивая какую-то глупую церемонию из приема гостей. Одна половинка дверей из прихожей в залу никогда не открывалась. Он сам отодвинул железные задвижки и внизу и вверху, сам придвигал стул и, весь трясясь, влезал на него; а распахнув двери, стал на порог и, пользуясь молчанием Петра Петровича, замиравшего от стыда и злобы, но решившегося все претерпеть, не сошел с места до приезда последнего гостя. Он не сводил глаз с крыльца, – и на крыльцо пришлось отворить двери, этого тоже будто бы требовал какой-то старинный обычай, – топтался от волнения, завидя же входящего, кидался ему навстречу, торопливо делал па, подпрыгивал, кидая ногу за ногу, отвешивал низкий поклон и, захлебываясь, всем говорил:
– Ну, как я рад! Как я рад! Давненько ко мне не жаловали! Милости прошу, милости прошу!
Бесило Петра Петровича и то, что дедушка всем и каждому зачем-то докладывал об отъезде Тонечки в Лунево, к Ольге Кирилловне. «Тонечка больна тоской, уехала к тетеньке на всю осень» – что могли думать гости после таких непрошеных заявлений? Ведь история с Войткевичем, конечно, уже всем была известна. Войткевич, может статься, и впрямь имел серьезные намерения, загадочно вздыхая возле Тонечки, играя с ней в четыре руки, глухим голосом читая ей «Людмилу» или говоря в мрачной задумчивости: «Ты мертвецу святыней слова обручена…» Но Тонечка бешено вспыхивала при каждой его даже самой невинной попытке выразить свои чувства, – поднести, например, ей цветок, – и Войткевич внезапно уехал. Когда он уехал, Тонечка стала не спать по ночам, в темноте сидеть возле открытого окна, точно поджидая какого-то известного ей срока, чтобы вдруг громко зарыдать – и разбудить Петра Петровича. Он долго лежал, стиснув зубы, слушая эти рыдания да мелкий, сонный лепет тополей за окнами в темном саду, похожий на непрестанный дождик. Затем шел успокаивать. Шли успокаивать и заспанные девки, иногда тревожно прибегал дедушка. Тогда Тонечка начинала топать ногами, кричать: «Отвяжитесь от меня, враги мои лютые!» – и дело кончалось безобразной бранью, чуть не дракой.
– Да пойми же ты, пойми, – бешено шипел Петр Петрович, выгнав вон девок, дедушку, захлопнув дверь и крепко ухватясь за скобку, – пойми, змея, что могут вообразить!
– Ай! – неистово взвизгивала Тонечка. – Папенька, он кричит, что я брюхата!
И, вцепившись себе в голову, Петр Петрович кидался вон из комнаты.
Очень тревожил на Покров и Герваська: как бы не нагрубил при каком-нибудь неосторожном слове.
Герваська страшно вырос. Огромный, нескладный, но и самый видный, самый умный из слуг, он тоже был наряжен в синий казакин, такие же шаровары и мягкие козловые сапоги без каблуков. Гарусный лиловый платок повязывал его тонкую темную шею. Черные, сухие, крупные волосы он причесал на косой ряд, но остричься под польку не пожелал – подрубил их в кружок. Брить было нечего, только два-три редких и жестких завитка чернело на его подбородке и по углам большого рта, про который говорили: «Рот до ушей, хоть завязочки пришей». Будылястый, очень широкий в плоской костлявой груди, с маленькой головою и глубокими орбитами, тонкими пепельно-синими губами и крупными голубоватыми зубами, он, этот древний ариец, парс из Суходола, уже получил кличку: борзой. Глядя на его оскал, слушая его покашливания, многие думали: «А скоро ты, борзой, издохнешь!» Вслух же, не в пример прочим, величали молокососа Гервасием Афанасьевичем.
Боялись его и господа. У господ было в характере то же, что у холопов: или властвовать, или бояться. За дерзкий ответ дедушке в день приезда Петра Петровича Герваське, к удивлению дворни, ровно ничего не было. Аркадий Петрович сказал ему кратко: «Положительно скотина ты, брат!» – на что и ответ получил очень краткий: «Терпеть его не могу я, сударь!» А к Петру Петровичу Герваська сам пришел: стал на порог и, по своей манере, развязно осев на свои несоразмерно с туловищем длинные ноги в широчайших шароварах, углом выставив левое колено, попросил, чтоб его выпороли.
– Очень я грубиян и горячий, сударь, – сказал он безразлично, играя черными глазищами.
И Петр Петрович, почувствовав в слове «горячий» намек, струсил.
– Успеется еще, голубчик! Успеется! – притворно-строго крикнул он. – Выйди вон! Я тебя, дерзкого, видеть не могу.
Герваська постоял, помолчал. Потом сказал:
– Есть на то воля ваша.
Постоял еще, крутя жесткий волос на верхней губе, поскалил по-собачьи голубоватые челюсти, не выражая на лице ни единого чувства, и вышел. Твердо убедился он с тех пор в выгоде этой манеры – ничего не выражать на лице и быть как можно более кратким в ответах. А Петр Петрович стал не только избегать разговоров с ним, но даже в глаза ему смотреть.
Так же безразлично, загадочно держался Герваська и на Покров. Все сбились с ног, готовясь к празднику, отдавая и принимая распоряжения, ругаясь, споря, моя полы, чистя синеющим мелом темное тяжелое серебро икон, поддавая ногами лезущих в сенцы собак, боясь, что не застынет желе, что не хватит вилок, что пережарятся налевашники, хворостики; один Герваська спокойно ухмылялся и говорил бесившемуся Казимиру, алкоголику-повару: «Потише, отец дьякон, подрясник лопнет!»
– Смотри не напейся, – рассеянно, волнуясь из-за предводителя, сказал Герваське Петр Петрович.
– С отроду не пил, – как равному кинул ему Герваська. – Не антересно.
И потом, при гостях, Петр Петрович даже заискивающе кричал на весь дом:
– Гервасий! Не пропадай ты, пожалуйста. Без тебя как без рук.
А Герваська вежливейше и с достоинством отзывался:
– Не извольте, сударь, беспокоиться. Не посмею отлучиться.
Он служил, как никогда. Он вполне оправдывал слова Петра Петровича, вслух говорившего гостям:
– До чего дерзок этот дылда, вы и представить себе не можете! Но положительно гений! Золотые руки!
Мог ли он предположить, что роняет в чашу именно ту каплю, которая переполнит ее? Дедушка услыхал его слова. Он затеребил на груди казакин и вдруг через весь зал закричал предводителю:
– Ваше превосходительство! Подайте руку помощи! Как к отцу, прибегаю к вам с жалобой на слугу моего! Вот на этого, на этого – на Гервасия Афанасьева Куликова! Он на каждом шагу уничтожает меня! Он…
Его прервали, уговорили, успокоили. Взволновался дедушка до слез, но его стали успокаивать так дружно и с таким почтением, конечно, насмешливым, что он сдался и почувствовал себя опять детски-счастливым. Герваська стоял у стены строго, с опущенными глазами и слегка поворотив голову. Дедушка видел, что у этого великана чересчур мала голова, что она была бы еще меньше, если бы остричь ее, что затылок у него острый и что особенно много волос именно на затылке, – крупных, черных, грубо подрубленных и образующих выступ над тонкой шеей. От загара, от ветра на охоте темное лицо Герваськи местами шелушилось, было в бледно-лиловых пятнах. И дедушка со страхом и тревогой кидал взгляды на Герваську, но все-таки радостно кричал гостям:
– Хорошо, я прощаю его! Только за это я не отпущу вас, дорогие гости, целых три дня. Ни за что не отпущу! Особливо же прошу, не уезжайте на́ вечер. Как дело на́ вечер, я сам не свой: такая тоска, такая жуть! Тучки заходят, в Трошином лесу, говорят, опять двух французов бонапартишкиных поймали… Я беспременно помру вечером, – попомните мое слово! Мне Мартын Задека предсказал…
Но умер он рано утром.
Он настоял-таки: «ради него» много народу осталось ночевать; весь вечер пили чай, варенья было страшно много, и все разное, так что можно было подходить и пробовать, подходить и пробовать; затем наставили столов, зажгли столько спермацетовых свечей, что они отражались во всех зеркалах, и по комнатам, полным дыма душистого жуковского табаку, шума и говора, был золотистый блеск, как в церкви. Главное же, многие ночевать остались. И значит, впереди был не только новый веселый день, но и большие хлопоты, заботы: ведь если бы не он, не Петр Кириллыч, никогда не сошел бы так отлично праздник, никогда не было бы такого оживленного и богатого обеда.
«Да, да, – волнуясь, думал дедушка ночью, скинув казакин и стоя в своей спальне перед аналоем, перед зажженными на нем восковыми свечечками, глядя на черный образ Меркурия. – Да, да, смерть грешнику люта… Да не зайдет солнце в гневе нашем!»
Но тут он вспомнил, что хотел подумать что-то другое; горбясь и шепча пятидесятый псалом, прошелся по комнате, поправил тлевшую на ночном столике курительную монашку, взял в руки Псалтырь и, развернув, снова с глубоким, счастливым вздохом поднял глаза на безглавого святого. И вдруг напал на то, что хотел подумать, и засиял улыбкой:
– Да, да: есть старик – убил бы его, нет старика – купил бы его!
Боясь проспать, не распорядиться о чем-то, он почти не спал. А рано утром, когда в комнатах, еще не убранных и пахнувших табаком, стояла та особенная тишина, что бывает только после праздника, осторожно, на босу ногу вышел он в гостиную, заботливо поднял несколько мелков, валявшихся у раскрытых зеленых столов, и слабо ахнул от восторга, взглянув на сад за стеклянными дверями: на яркий блеск холодной лазури, на серебро утренника, покрывшего и балкон, и перила, на коричневую листву в голых зарослях под балконом. Он отворил дверь и потянул носом: еще горько и спиртуозно пахло из кустов осенним тлением, но этот запах терялся в зимней свежести. И все было неподвижно, успокоенно, почти торжественно. Чуть показавшееся сзади, за деревней, солнце озаряло вершины картинной аллеи, полуголых, осыпанных редким и мелким золотом, белоствольных берез, и прелестный, радостный, неуловимо-лиловатый тон был в этих белых с золотом вершинах, сквозивших на лазури. Пробежала собака в холодной тени под балконом, хрустя по сожженной морозом и точно солью осыпанной траве. Хруст этот напомнил зиму – и, с удовольствием передернув плечами, дедушка вернулся в гостиную и, затаивая дыхание, стал передвигать, расставлять тяжелую, рычащую по полу мебель, изредка поглядывая в зеркало, где отражалось небо. Вдруг неслышно и быстро вошел Герваська – без казакина, заспанный, «злой как черт», как он сам же про себя рассказывал потом.
Он вошел и строго крикнул шепотом:
– Тише ты! Чего лезешь не в свое дело?
Дедушка поднял возбужденное лицо и, с той же нежностью, которая не покидала его весь вчерашний день и всю ночь, шепотом ответил:
– Вот видишь, какой ты, Гервасий! Я простил тебя вчерась, а ты, заместо благодарности барину…
– Надоел ты мне, слюнтяй, хуже осени! – перебил Герваська. – Пусти.
Дедушка со страхом взглянул на его затылок, еще более выступавший теперь над тонкой шеей, торчавшей из ворота белой рубахи, но вспыхнул и загородил собою ломберный стол, который хотел тащить в угол.
– Ты пусти! – мгновение подумав, негромко крикнул он. – Это ты должон уступить барину. Ты доведешь меня: я тебе кинжал в бок всажу!
– А! – досадливо сказал Герваська, блеснув зубами, – и наотмашь ударил его в грудь.
Дедушка поскользнулся на гладком дубовом полу, взмахнул руками – и как раз виском ударился об острый угол стола.
Увидя кровь, бессмысленно раскосившиеся глаза и разинутый рот, Герваська сорвал с еще теплой дедушкиной шеи золотой образок и ладанку на заношенном шнуре… оглянулся, сорвал и бабушкино обручальное кольцо с мизинца… Затем неслышно и быстро вышел из гостиной – и как в воду канул.
Единственным человеком из всего Суходола, видевшим его после этого, была Наталья.
VII
Пока жила она в Сошках, произошло в Суходоле еще два крупных события: женился Петр Петрович и отправились братья «Охотниками» в Крымскую кампанию.
Вернулась она только через два года: о ней забыли. И, вернувшись, не узнала Суходола, как не узнал ее и Суходол.
В тот летний вечер, когда телега, присланная с барского двора, заскрипела возле хуторской хаты и Наташка выскочила на порог, Евсей Бодуля удивленно воскликнул:
– Ужли это ты, Наташка?
– А то кто же? – ответила Наташка с чуть заметной улыбкой.
И Евсей покачал головою:
– Добре́ ты не хороша-то стала!
А стала она только не похожа на прежнюю: из стриженой девчонки, круглоликой и ясноглазой, превратилась в невысокую, худощавую, стройную девку, спокойную, сдержанную и ласковую. Она была в плахте и вышитой сорочке, хотя покрыта темным платочком по-нашему, немного смугла от загара и вся в мелких веснушках цвета проса. А Евсею, истому суходольцу, и темный платок, и загар, и веснушки, конечно, казались некрасивыми.
На пути в Суходол Евсей сказал:
– Ну вот, девка, и невестой ты стала. Хочется замуж-то?
Она только головой помотала:
– Нет, дядя Евсей, никогда не пойду.
– Это с какой же радости? – спросил Евсей и даже трубку изо рта вынул.
И не спеша она пояснила: не всем же замужем быть; отдадут ее, верно, барышне, а барышня обрекла себя Богу и, значит, замуж ее не пустит; да и сны уж очень явственные снились ей не раз…
– Что ж ты видела? – спросил Евсей.
– Да так, пустое, – сказала она. – Напугал меня тогда Герваська до смерти, наговорил новостей, раздумалась я… Ну вот и снилось.
– А ужли правда, завтракал он у вас, Герваська-то?
Наташка подумала:
– Завтракал. Пришел и говорит: пришел я к вам от господ по большому делу, только дайте сперва поесть мне. Ему и накрыли, как путному. А он наелся, вышел из избы и мне моргнул. Я выскочила, он рассказал мне за углом все дочиста, да и пошел себе…
– Да что ж ты хозяев-то не кликнула?
– Экося. Он убить пригрозил. До вечера не велел сказывать. А им сказал, – спать под анбар иду…
В Суходоле с большим любопытством глядела на нее вся дворня, приставали с расспросами подруги и сверстницы по девичьей. Но и подругам отвечала она все так же кратко и точно любуясь какой-то ролью, взятой на себя.
– Хорошо было, – повторяла она.
А раз сказала тоном богомолки:
– У Бога всего много. Хорошо было.
И просто, без промедлений вступила в рабочую, будничную жизнь, как бы совсем не дивясь тому, что нет дедушки, что ушли молодые господа на войну «Охотниками», что барышня «тронулась» и бродит по комнатам, подражая дедушке, что правит Суходолом новая, всем чужая барыня, – маленькая, полная, очень живая, беременная…
Барыня крикнула за обедом:
– Позовите же сюда эту… как ее? – Наташку.
И Наташка быстро и неслышно вошла, перекрестилась, поклонилась в угол, образам, потом барыне и барышне – и стала, ожидая расспросов и приказаний. Расспрашивала, конечно, только барыня, – барышня, очень выросшая, похудевшая, востроносая, глядя своими неправдоподобно черными глазами пристально-тупо, ни слова не проронила. Барыня же и определила ее состоять при барышне. И она поклонилась и просто сказала:
– Слушаю-с.
Барышня, глядя все так же внимательно-равнодушно, внезапно кинулась на нее вечером и, яростно раскосив глаза, жестоко и с наслаждением изорвала ей волосы – за то, что она неумело дернула с ее ноги чулок. Наташка по-детски заплакала, но смолчала; а выйдя в девичью, сев на коник и выбирая вырванные волосы, даже улыбнулась сквозь висевшие на ресницах слезы.
– Ну, люта-а! – сказала она. – Трудно мне будет.
Барышня, проснувшись утром, долго лежала в постели, а Наташка стояла у порога и, опустив голову, искоса поглядывала на ее бледное лицо.
– Что ж видела во сне? – спросила барышня так равнодушно, точно кто-то другой говорил за нее.
Она ответила:
– Кажись, ничего-с.
И тогда барышня, опять так же внезапно, как вчера, вскочила с постели, бешено запустила в нее чашку с чаем и, упав на постель, горько, с криком зарыдала. От чашки Наташка увернулась – и вскоре научилась увертываться с необыкновенной ловкостью. Оказалось, что глупым девкам, отвечавшим на вопрос о снах: «Ничего-с не видала», – барышня кричала иногда: «Ну полги что-нибудь!» Но так как лгать Наташка была не мастерица, то и пришлось ей развивать в себе другое уменье: увертываться.
Наконец к барышне привезли лекаря. Лекарь дал ей много пилюль, капель. Боясь, что ее отравят, барышня заставила перепробовать эти пилюли и капли Наташку – и та без отказа перепробовала их все подряд. Вскоре после приезда узнала она, что барышня ждала ее «как света белого»: барышня-то и вспомнила о ней – все глаза проглядела, не едут ли из Сошек, горячо уверяла всех, что будет совсем здорова, как только вернется Наташка. Наташка вернулась – и встречена была совершенно равнодушно. Но не были ли слезы барышни слезами горького разочарования? У Наташки дрогнуло сердце, когда она сообразила все это. Она вышла в коридор, села на рундук и опять заплакала.
– Что ж, лучше тебе? – спросила барышня, когда она вошла к ней потом с опухшими глазами.
– Лучше-с, – шепотом сказала Наташка, хотя от лекарств у нее замирало сердце и кружилась голова, и, подойдя, горячо поцеловала руку барышни.
И долго после того ходила с опущенными ресницами, боясь поднять их на барышню, умиленная жалостью к ней.
– У, хохлушка подколодная! – крикнула раз одна из подруг ее по девичьей, Солошка, чаще всех пытавшаяся стать наперсницей всех тайн и чувств ее и постоянно натыкавшаяся на краткие, простые ответы, исключавшие всякую прелесть девичьей дружбы.
Наташка грустно усмехнулась.
– А что ж, – сказала она задумчиво. – И то правда. С кем поведешься, от того и наберешься. Я иной раз по отцу-матери не жалкую так-то, как по хохлам своим…
В Сошках она сперва совсем не придала значения тому новому, что окружало ее. Приехали под утро – и странным показалось ей в это утро только то, что хата очень длинна и бела, далеко видна среди окрестных равнин, что хохлушка, топившая печь, поздоровалась приветливо, а хохол не слушал Евсея. Евсей молол без умолку – и о господах, и о Демьяне, и о жаре в пути, и о том, что ел он в городе, и о Петре Петровиче, и, уж конечно, о зеркальце, – а хохол, Шарый, или, как звали его в Суходоле, Барсук, только головой мотал и вдруг, когда Евсей смолк, рассеянно глянул на него и превесело заныл под нос: «Круть, верть, метелиця…» Потом стала она понемногу приходить в себя – и дивоваться на Сошки, находить в них все больше прелести и несходства с Суходолом. Одна хата хохлацкая чего стоила – ее белизна, ее гладкая, ровная, очеретёная крыша. Как богато казалось в этой хате внутреннее убранство по сравнению с неряшливым убожеством суходольских изб! Какие дорогие фольговые образа висели в углу ее, что за дивные бумажные цветы окружали их, как красиво пестрели полотенца, висевшие под ними! А узорчатая скатерть на столе! А ряды сизых горшков и махоточек на полках возле печи! Но удивительнее всего были хозяева.
Чем они удивительны, она не совсем понимала, но чувствовала постоянно. Никогда еще не видала она таких опрятных, спокойных и ладных мужиков, как Шарый. Был он невысок, голову имел клином, стриженую, в густом крепком серебре, усы, – он только усы носил, – тоже серебряные, узкие, татарские, лицо и шею черные от загара, в глубоких морщинах, но тоже каких-то ладных, определенных, нужных почему-то. Ходил он неловко, – тяжелы были его сапоги, – в сапоги заправлял порты из грубого беленого холста, в порты – такую же рубаху, широкую под мышками, с отложным воротом. На ходу гнулся слегка. Но ни эта манера, ни морщины, ни седины не старили его: не было ни усталости нашей, ни вялости в его лице; небольшие глаза глядели остро, тонко-насмешливо. Старика-серба, откуда-то заходившего однажды в Суходол с мальчиком, игравшим на скрипке, напомнил он Наташке.
А хохлушку Марину суходольцы прозвали Копьем. Стройна была эта высокая пятидесятилетняя женщина. Желтоватый загар ровно покрывал тонкую, не суходольскую кожу ее широкоскулого лица, грубоватого, но почти красивого своей прямотой и строгой живостью глаз – не то агатовых, не то янтарно-серых, менявшихся, как у кошки. Высоким тюрбаном лежал на ее голове большой черно-золотой, в красном горошке, платок; черная, короткая плахта, резко оттенявшая белизну сорочки, плотно облегала удлиненные бедра и голени. Обувалась она на босу ногу, в башмаки с подковками, голые берцы ее были тонки, но округлы, стали от солнца как полированное желто-коричневое дерево. И когда она порою пела за работой, сдвинув брови, сильным грудным голосом, песню об осаде неверными Почаева, о том,
- Як зiйшла зоря вечiровая,
- Та над Почаевом стала, —
как сама Божья Матерь святой монастырь «рятува́ла», в голосе ее было столько безнадежности, завывания, но вместе с тем столько величия, силы, угрозы, что Наташка не спускала в жутком восторге глаз с нее.
Детей хохлы не имели; Наташка была сирота. И живи она у суходольцев, звали бы ее дочкой приемной, а порой и воровкой, то жалели бы ее, то глаза кололи. А хохлы были почти холодны, но ровны в обращении, совсем не любопытны и не многоречивы. Осенью пригоняли на косьбу, на молотьбу калужских баб и девок, которых звали за их пестрые сарафаны «распашонками». Но распашонок Наташка чуждалась: слыли они распутными, дурноболезными, были грудасты, охальны и дерзки, ругались скверно и с наслаждением, прибаутками так и сыпали, на лошадь садились по-мужичьи, скакали как угорелые. Рассеялось бы ее горе в привычном быту, в откровенностях, в слезах и песнях. Да с кем было откровенничать или песни петь? Распашонки затягивали своими грубыми голосами, подхватывали их не в меру дружно и зычно, с ёканьем и свистом. Шарый пел только насмешливо-плясовое что-то. А Марина в своих песнях, даже любовных, была строга, горда и задумчиво-сумрачна.
- В кiнцi греблi шумлять верби,
- Що я посадила, —
тоскливо-протяжно рассказывала она – и прибавляла, понижая голос, твердо и безнадежно:
- Нема мого́
- Миленького,
- Що я полюбила…
И в одиночестве медленно испила Наташка первую, горько-сладкую отраву неразделенной любви, перестрадала свой стыд, ревность, страшные и милые сны, часто снившиеся ей по ночам, несбыточные мечты и ожидания, долго томившие ее в молчаливые степные дни. Часто жгучая обида сменялась в ее сердце нежностью, страсть и отчаяние – покорностью, желанием самого скромного, незаметного существования близ него, любви, навеки скрытой от всех и ничего не ждущей, ничего не требующей. Вести, новости, доходившие из Суходола, отрезвляли. Но не было долго вестей, не было ощущения будничной суходольской жизни – и начинал казаться Суходол таким прекрасным, таким желанным, что не хватало сил терпеть одиночество и горе… Вдруг явился Герваська. Он торопливо-резко выкинул ей все суходольские новости, в полчаса рассказал то, что другой не сумел бы и в день рассказать, – вплоть до того, как он насмерть «толконул» деда, и твердо сказал:
– Ну, а теперь прощай до́веку!
Он, прожигая ее, ошеломленную, своими глазищами, крикнул, выходя на дорогу:
– А дурь из головы пора вон выбить! Он вот-вот женится, ты ему и в любовницы не годишься… Образумься!
И она образумилась. Пережила страшные новости, пришла в себя – и образумилась.
Дни потянулись после того мерно, скучно, как те богомолки, что шли и шли по шоссе мимо хутора, вели, отдыхая, долгие беседы с ней, учили терпению да надежде на Господа Бога, имя которого произносилось тупо, жалобно, а пуще всего правилу: не думать.
– Думай не думай – по-нашему не будет, – говорили богомолки, перевязывая лапти, морща измученные лица и расслабленно глядя в степную даль. – У Господа Бога всего много… Сорви-ка ты нам, деушка, лучку украдкой…
А иные, как водится, и стращали – грехами, тем светом, сулили еще и не такие беды и страхи. И однажды приснилось ей чуть не подряд два ужасных сна. Все думала она о Суходоле, – трудно было сначала не думать-то! – думала о барышне, о дедушке, о своем будущем, гадала, выйдет ли она замуж, и если выйдет, то когда, за кого… Думы так незаметно перешли однажды в сон, что совершенно явственно увидала она предвечернее время знойного, пыльного, тревожно-ветреного дня и то, что бежит она на пруд с ведрами – и вдруг видит на глинисто-сухом косогоре безобразного, головастого мужика-карлика в разбитых сапогах, без шапки, со всклоченными ветром рыжими кудлами, в распоясанной, развевающейся огненно-красной рубахе. «Дедушка! – крикнула она в тревоге и ужасе. – Ай пожар?» – «До шпенту все слетит сейчас! – тоже криком, заглушаемым горячим ветром, отозвался карлик. – Туча́ идет несказанная! И думать не моги замуж собираться!» – А другой сон был и того страшнее: стояла она будто бы в полдень в жаркой пустой избе, припертая кем-то снаружи, замирала, ждала чего-то – и вот выпрыгнул из-за печки громадный серый козел, вскинулся на дыбы и прямо к ней, непристойно возбужденный, с горящими, как уголья, радостно-бешеными и молящими глазами. «Я твой жених!» – крикнул он человечьим голосом, быстро и неловко подбегая, мелко топоча маленькими задними копытцами – и с размаху упал ей на грудь передними…
Вскакивая после таких снов на своей постели в сенцах, чуть не умирала она от сердцебиения, от страха темноты и мысли, что не к кому кинуться ей.
– Господи Исусе, – скороговоркой шептала она. – Матушка Царица Небесная! Угодники Божии!
Но оттого, что все угодники представлялись ей коричневыми и безглавыми, как Меркурий, делалось еще страшнее.
Когда же стала она обдумывать сны, то в голову стало приходить, что девичьи годы ее кончены, что судьба ее уже определилась, – недаром выпало ей на долю нечто необычное, любовь к барину! – что ждут ее еще какие-то испытания, что надо подражать хохлам в сдержанности, а богомолкам – в простоте и смирении. И так как любят суходольцы играть роли, внушать себе непреложность того, что будто бы должно быть, хотя сами же они и выдумывают это должное, то взяла на себя роль и Наташка.
VIII
У нее ноги отнялись от радости, когда, выскочив на порог накануне Петрова дня, поняла она, что Бодуля – за нею, когда увидала она запыленную, растрепанную суходольскую телегу, увидала рваную шапку на лохматой голове Бодули, его выцветшую на солнце путаную бороду, его лицо, усталое и возбужденное, до времени состарившееся и безобразное, даже непонятное какое-то в убожестве и несоразмерности черт, увидала знакомого кобеля, тоже лохматого, имеющего какое-то сходство не только с Бодулей, но со всем Суходолом, – мутно-серого на спине, а спереди, с груди, с густо-опушенной шеи, точно прокопченного темным дымом курной избы. Но она быстро овладела собою. Бодуля по пути домой плел, что в голову влезет, о Крымской войне, то как будто радовался ей, то сокрушался, и Наташка рассудительно говорила:
– Что ж, видно, надобно окоротить их, французов-то…
Весь долгий день на пути к Суходолу прошел в жутком ощущении – смотреть новыми глазами на старое, знакомое, переживать, приближаясь к родному углу, прежнюю самое себя, замечать перемены, узнавать встречных. При повороте в Суходол с большой дороги, на парах, заросших сергибусом, бегал третьяк жеребенок: мальчишка, став на веревочный повод босой ногой, уцепился за шею жеребенка и силился закинуть другую на спину, а жеребенок не давался, бегал, тряс его. И Наташка радостно взволновалась, признав в мальчишке Фомку Пантюхина. Повстречался столетний Назарушка, сидевший в пустой телеге уже не по-мужичьи, а по-бабьи, – с прямо вытянутыми ногами, – с напряженно, высоко и слабосильно поднятыми плечами, с бесцветными, жалко-грустными глазами, исхудевший до того, что «нечего в гроб положить», без шапки и в длинной ветхой рубахе, сизой от золы, от постоянного лежания в печке. И опять содрогнулось сердце, – вспомнилось, как года три тому назад добрейший и беззаботнейший Аркадий Петрович хотел пороть этого Назарушку, пойманного на огороде с хвостиком редьки и плакавшего среди дворни, окружившей его, еле живого от страха, и с хохотом кричавшей:
– Нет, дед, не калянься: видно, уж придется подгузники скидывать! Не минуешь!
А как забилось сердце, когда увидала она выгон, ряд изб – и усадьбу: сад, высокую крышу дома, задние стены людских, амбаров, конюшен. Желтое ржаное поле, полное васильков, вплотную подходило к этим стенам, к бурьянам, татаркам; чей-то белый в коричневых пятнах теленок тонул среди овсов, стоял в них, объедая кисти. Все вокруг было мирно, просто, обычно – все необычнее, все тревожнее становилось только в ее уме, который и совсем помутился, когда шибко покатила телега по широкому двору, белевшему спящими борзыми, как погост камнями, когда, впервые после двухлетнего пребывания в избе, вошла она в прохладный дом, так знакомо пахнущий восковыми свечами, липовым цветом, буфетной, казацким седлом Аркадия Петровича, валявшимся на лавке в прихожей, опустевшими перепелиными клетками, висевшими над окном, – и робко взглянула на Меркурия, перенесенного из дедушкиных покоев в угол прихожей…
По-прежнему весело озарен был сумрачный зал солнцем, светившим из сада в маленькие окна. Цыпленок, неизвестно зачем попавший в дом, сиротливо пищал, бродя по гостиной. Липовый цвет сох и благоухал на горячих, ярких подоконниках… Казалось, – все старое, что окружало ее, помолодело, как всегда бывает это в домах после покойника. Во всем, во всем – и особенно в запахе цветов – чувствовалась часть ее собственной души, ее детства, отрочества, первой любви. И жаль было выросших, умерших, изменившихся – самое себя, барышню. Выросли ее сверстники и сверстницы. Многие старики и старухи, качавшие от дряхлости головами и порою тупо выглядывавшие с порогов людских на мир Божий, навсегда исчезли из этого мира. Исчезла Дарья Устиновна. Исчез дедушка, так по-детски боявшийся смерти, думавший, что смерть будет овладевать им медленно, приуготовляя его к страшному часу, и так неожиданно, молниеносно скошенный ее косою. И не верилось, что нет его, что под могильным бугром возле церкви села Черкизова истлел именно он. Не верилось, что эта черная, худая, востроносая женщина, то равнодушная, то бешеная, то тревожно-болтливая и откровенная с ней, как с равной, то вырывающая ей волосы, – барышня Тонечка. Непонятно было, почему хозяйствует в доме какая-то Клавдия Марковна, маленькая, крикливая, с черными усиками… Раз робко заглянула Наташка в ее спальню, увидала роковое зеркальце в серебряной оправе – и сладостно прихлынули к ее сердцу все ее прежние страхи, радости, нежность, ожидание стыда и счастья, запах росистых лопухов на вечерней заре… Но все чувства, все помыслы затаивала, подавляла она в себе. Старая, старая суходольская кровь текла в ней! Слишком пресный хлеб ела она с того суглинка, что окружал Суходол. Слишком пресную воду пила из тех прудов, что изрыли ее деды в русле иссякнувшей речки. Не пугали ее изнуряющие будни – пугало необычное. Не страшила даже смерть; но в трепет приводили сны, ночная темнота, буря, гром и – огонь. Как ребенка под сердцем, носила она смутное ожидание каких-то неминуемых бед…
Это ожидание старило ее. Да и неустанно внушала она себе, что молодость миновала, во всем искала доказательства тому. И не сровнялось года с приезда ее в Суходол, как уже следа не осталось от того молодого чувства, с которым перешагнула она порог суходольского дома.
Родила Клавдия Марковна. Федосью-птичницу произвели в няньки – и Федосья, женщина еще молодая, надела темное старушечье платье, стала смиренной, богобоязненной. Еще едва таращил молочные бессмысленные глазки, пускал пузырями слюну, беспомощно падал вперед, одолеваемый тяжестью собственной головы, и свирепо орал новый Хрущев. А его уже называли барчуком, – уже слышались из детской старые, старые причитания:
– Вон он, вон он, старик-то с мешком… Старик, старик! Не ходи к нам, мы не дадим тебе барчука, он не будет кричать…
И Наташка подражала Федосье, считая себя тоже нянькой – нянькой и подругой больной барышни. Зимой умерла Ольга Кирилловна – и она выпросилась ехать со старухами, доживавшими свой век в людских, на похороны, ела там кутью, которая внушала ей отвращение своим пресным и приторным вкусом, а воротясь в Суходол, с умилением рассказывала, что лежала барыня «почесть совсем как живая», хотя даже старухи не решались глядеть на гроб с этим чудовищным телом.
А весной привозили к барышне колдуна из села Чермашного, знаменитого Клима Ерохина, благообразного, богатого однодворца, с сивой большой бородой, с сивыми кудрями, расчесанными на прямой ряд, очень дельного хозяина и очень разумного, простого в речах обычно, но преображавшегося в волхва возле болящих. На редкость крепка и опрятна была его одежда – поддевка из сермяги железного цвета, красная подпояска, сапоги. Хитры и зорки были его маленькие глаза, истово искал он ими образа, осторожно, немного согнув свой ладный стан, входил он в дом, деловито начинал разговор. Говорил он сперва о хлебах, о дождях и засухе, потом долго, аккуратно пил чай, потом опять крестился и уже после всего этого, сразу меняя тон, спрашивал о болящем.
– Зорька… темняет… пора, – говорил он таинственно.
Барышню била лихорадка, она готова была покатиться в судорогах на пол, когда, сидя в сумерках в спальне, ожидала она появления на пороге Клима. С ног до головы была охвачена жутью и Наталья, стоявшая возле нее. Стихал весь дом, – даже барыня набивала девками свою комнату и разговаривала шепотом. Ни единого огня не смел никто зажечь, ни единого голоса возвысить. У веселой Солошки, дежурившей в коридоре, – на случай зова, приказаний Клима, – мутилось в глазах и колотилось в горле сердце. И вот он проходил мимо нее, развязывая на ходу платочек с какими-то колдовскими косточками. Затем из спальни раздавался в гробовой тишине его громкий, необычный голос:
– Встань, раба Божия!
Затем показывалась его сивая голова из-за двери.
– Доску, – кидал он безжизненно.
И на доску, положенную на пол, ставили барышню, с выкатившимися от ужаса глазами, похолодевшую, как покойник. Уже так темно было, что едва различала Наталья лицо Клима. И вдруг он зачинал странным, отдаленным каким-то голосом:
– Взыдет Филат… Окна откроет… Двери растворит… Кликнет и скажет: тоска, тоска!
– Тоска, тоска! – восклицал он с внезапной силой и грозной властью. – Ты иди, тоска, во темные леса, – там твои мяста! На море, на окияне, – бормотал он глухой зловещей скороговоркой, – на море, на окияне, на острове Буяне лежит сучнища, на ей серая рунища…
И чувствовала Наталья, что нет и не может быть более ужасных слов, чем эти, сразу переносящие всю ее душу куда-то на край дикого, сказочного, первобытно-грубого мира. И нельзя было не верить в силу их, как не мог не верить в нее и сам Клим, делавший порою прямо чудеса над одержимыми недугом, – тот же Клим, что так просто и скромно говорил, сидя после волхвования в прихожей, вытирая потный лоб платочком и опять принимаясь за чай:
– Ну, теперь еще две зорьки осталось… Авось, Бог даст, полегчает маленько… Сеяли гречишку-то в нонешнем годе, сударыня? Хороши, говорят, нонче гречихи! Дюже хороши!
Летом ждали из Крыма хозяев. Но прислал Аркадий Петрович «страховое» письмо с новым требованием денег и вестью, что раньше начала осени нельзя им вернуться – по причине небольшой, но требующей долгого покоя раны Петра Петровича. Послали к пророчице Даниловне в Черкизово спросить, благополучно ли кончится болезнь. Даниловна заплясала, защелкала пальцами, что, конечно, означало: благополучно. И барыня успокоилась. А барышне и Наталье не до них было. Барышне сперва полегчало. Но с конца Петровок опять началось: опять тоска и такой страх гроз, пожаров и еще чего-то, что она затаивала, что не до братьев ей было. Не до них стало и Наталье. На каждой молитве она поминала Петра Петровича за здравие, как потом всю жизнь свою, до гробовой доски, поминала его за упокой. Но барышня была ей уже ближе всех. И барышня все больше заражала ее своими страхами, ожиданиями бед – и тем, что держала она в тайне.
Лето же было знойное, пыльное, ветреное, с каждодневными грозами. По народу бродили темные, тревожные слухи – о какой-то новой войне, о каких-то бунтах и пожарах. Одни говорили, что вот-вот отойдут все мужики на волю, другие, что, напротив, будут с осени забривать в солдаты всех мужиков поголовно. И, как водится, появились в несметном количестве бродяги, дурачки, монахи. И барышня чуть не в драку лезла с барыней из-за них, оделяла их хлебом, яйцами. Приходил Дроня, длинный, рыжий, не в меру оборванный. Был он просто пьяница, но играл блаженного. Он так задумчиво шел по двору прямо к дому, что стукался головой в стену и с радостным лицом отскакивал.
– Птушечки мои! – фальцетом вскрикивал он, подпрыгивая, изламывая все тело и правую руку, делая из нее как бы щиток от солнца. – Полетели, полетели по поднебесью мои птушечки!
И Наталья, подражая бабам, смотрела на него так, как и полагается смотреть на Божьих людей: тупо и жалостно. А барышня кидалась к окну и кричала со слезами, жалким голосом:
– Угодниче Божий Дроние, моли Бога за мя, грешную!
И при этом крике у Наташки глаза останавливались от страшных предположений.
Ходил из села Кличина Тимоша Кличинский: маленький, женоподобно-жирный, с большими грудями, с лицом косого младенца, одуревшего и задыхающегося от полноты, желтоволосый, в белой коленкоровой рубахе и коротеньких коленкоровых порточках. Торопливо, мелко и с носка ступал он маленькими налитыми ножками, приближаясь к крыльцу, и узенькие глазки его смотрели так, точно из воды выскочил он или спасся от неминуемой гибели.
– Бяда! – бормотал он, задыхаясь. – Бяда…
Его успокаивали, кормили, ждали от него чего-то. Но он молчал, сопел и жадно чавкал. А начавкавшись, опять вскидывал мешок за спину и тревожно искал свою длинную палку.
– Когда ж еще придешь, Тимоша? – кричала ему барышня.
И он отзывался тоже криком, нелепо высоким альтом, зачем-то коверкая отчество барышни:
– О Святой, Лукьяновна!
И жалостно вопила вослед ему барышня:
– Угодниче Божий! Моли Бога за мя, грешную, Марию Египетскую!
Каждый день приходили отовсюду вести о бедах – о грозах и пожарах. И все возрастал в Суходоле древний страх огня. Чуть только начинало меркнуть песчано-желтое море зреющих хлебов под заходящей из-за усадьбы тучей, чуть только взвивался первый вихрь по выгону и тяжело прокатывался отдаленный гром, кидались бабы выносить на порог темные дощечки икон, готовить горшки молока, которым, как известно, скорей всего усмиряется огонь. А в усадьбе летели в крапиву ножницы, вынималось страшное заветное полотенце, завешивались окна, зажигались дрожащими руками восковые свечки… Не то притворялась, не то и впрямь заразилась страхом даже барыня. Прежде она говорила, что гроза – «явление природы». Теперь она тоже крестилась и жмурилась, вскрикивала при молниях, а чтобы увеличить и свой страх, и страх окружающих, все рассказывала о какой-то необыкновенной грозе, разразившейся в 1771 году в Тироле и сразу убившей сто одиннадцать человек. А слушательницы подхватывали – торопились рассказать свое: то о ветле, дотла сожженной на большой дороге молнией, то о бабе, пришибленной на днях в Черкизове громом, то о какой-то тройке, столь оглушенной в пути, что вся она упала на колени… Наконец, к этим радениям пристрял некто Юшка, «провинёный монах», как он называл себя.
IX
Родом Юшка был мужик. Но палец о палец не ударил он никогда, а жил где бог пошлет, платя за хлеб, за соль рассказами о своем полнейшем безделье и о своей «провинности». – «Я, брат, мужик, да умен и на горбатого похож, – говорил он. – Что ж мне работать!»
И правда, смотрел он как горбун – едко и умно, растительности на лице не имел, плечи, по причине рахитизма грудной клетки, держал приподнятыми, грыз ногти, пальцы его, которыми он поминутно закидывал назад длинные красно-бронзовые волосы, были тонки и сильны. Пахать показалось ему «непристойно и скучно». Вот он и пошел в Киевскую лавру, «подрос там» – и был изгнан «за провинность». Тогда, сообразив, что прикидываться странником по святым местам, человеком, спасающим душу, – старо, а может оказаться и неприбыльно, попробовал прикинуться иначе: не снимая подрясника, стал открыто хвастаться своим бездельем и похотливостью, курить и пить сколько влезет, – он никогда не пьянел, – издеваться над лаврой и пояснять, за что именно изгнан он оттуда, при посредстве непристойнейших жестов и телодвижений.
– Ну, известно, – рассказывал он мужикам, подмигивая, – известно, сейчас меня, раба Божья, за это за самое по шее. Я и закатился домой, на Русь… Не пропаду, мол!
И точно – не пропал: Русь приняла его, бесстыжего грешника, с не меньшим радушием, чем спасающих души: кормила, поила, пускала ночевать, с восторгом слушала его.
– Так и зарекся ты навек работать? – спрашивали мужики, блестя глазами в ожидании едких откровенностей.
– Черт меня теперь заставит работать! – отзывался Юшка. – Набалован, брат! Яровит я пуще козла лаврского. Девки эти самые, – мне бабы и даром не надобны! – боятся меня до смерти, а любят. Да что ж! Я и сам – хоть куда: пёрушком не хорош, зато косточкой строён!
Явившись в суходольскую усадьбу, он, как человек бывалый, прямо вошел в дом, в прихожую. Там на лавке сидела Наташка, напевая: «Я мела, млада, сенюшки, нашла себе сахарцу…» Увидев его, она в ужасе вскочила.
– Да ктой-то? – крикнула она.
– Человек, – ответил Юшка, быстро оглядывая ее с ног до головы. – Доложи барыне.
– Кто это? – крикнула и барыня из зала.
Но Юшка в одну минуту успокоил ее: сказал, что он бывший монах, а вовсе не беглый солдат, как она, верно, подумала, что он возвращается на родину – и просит обыскать его, а затем разрешить ему переночевать, отдохнуть немного. И так поразил своей прямотой барыню, что на другой же день мог перебраться в лакейскую и стать совсем своим человеком в доме. Шли грозы, а он без устали забавлял хозяек рассказами, придумал забить слуховые окна, чтобы обезопасить крышу от молний, выбегал под самые страшные удары на крыльцо, чтобы показать, как они не страшны, помогал девкам ставить самовары. Девки косились на него, чувствуя на себе его быстрые, похотливые взгляды, но смеялись его шуткам, а Наташка, которую он уже не раз останавливал в темном коридоре быстрым шепотом: «Влюбился я в тебя, девка!» – глаз не смела на него поднять. Он был и гадок ей запахом махорки, пропитавшим весь его подрясник, и страшен, страшен.
Она уже твердо знала, что будет. Она спала одна, в коридоре, возле двери в спальню барышни, а Юшка уже отрубил ей: «Приду. Хоть зарежь, приду. А закричишь – дотла вас сожгу». Но что пуще всего лишало ее сил, так это сознание, что совершается нечто неминучее, что близко осуществление страшного сна ее, – в Сошках, про козла, – что, видно, на роду написано ей погибать вместе с барышней. Уже все понимали теперь: по ночам вселяется в дом сам дьявол. Все понимали, что именно, помимо гроз и пожаров, с ума сводило барышню, что заставляло ее сладко и дико стонать во сне, а затем вскакивать с такими ужасными воплями, перед которыми ничто самые оглушительные удары грома. Она вопила: «Змий эдемский, иерусалимский душит мя!» А кто же этот змий, как не черт, не тот самый козел, что входит по ночам к женщинам и девушкам? И есть ли что-либо в мире более страшное, чем приходы его в темноте, в ненастные ночи с немолчными перекатами грома и отблесками молний по черным иконам? Та страсть, та похоть, с которой шептал Наташке проходимец, была тоже нечеловеческая: как же можно было противиться ей? Думая о своем роковом, неминучем часе, сидя ночью на полу в коридоре, на своей попонке, и с бьющимся сердцем вглядываясь в темноту, прислушиваясь к каждому малейшему треску и шороху в спящем доме, уже чувствовала она первые приступы той тяжкой болезни, что долго мучила ее впоследствии: внезапно возникал зуд в ее ступне, проходила по ней острая, колючая судорога, гнула, крючила все пальцы к подошве – и бежала, изуверски, сладострастно крутя жилы, по ногам, по всему телу, вплоть до глотки, до того момента, когда хотелось вскрикнуть еще неистовее, еще сладостнее и мучительнее, чем вскрикивала барышня…
И неминучее свершилось. Юшка пришел – как раз в страшную ночь конца лета, в ночь под Илью наделящего, древнего Огнеметателя. Не было грома в ту ночь, и не было сна у Наташки. Она задремала – и вдруг, как от толчка, очнулась. Было самое глухое время – она поняла это своим безумно колотившимся сердцем. Она вскочила, глянула в один конец коридора, в другой: со всех сторон вспыхивало, воспламенялось, трепетало и слепило золотыми и бледно-голубыми сполохами молчаливое, полное огня и таинств небо. В прихожей поминутно делалось светло как днем. Она побежала – и остановилась как вкопанная: осиновые бревна, давно лежавшие на дворе за окном, ослепительно белели при вспышках. Она сунулась в зал: там было одно окно поднято, слышался ровный шум сада, было темнее, но тем ярче сверкал огонь за всеми стеклами, мраком заливалось все, но тотчас же опять вздрагивало, загоралось то там, то тут, – и мелькал, рос, трепетал и сквозил на огромном, то золотом, то бело-фиолетовом небосклоне весь сад своими кружевными вершинами, призраками бледно-зеленых берез и тополей.
– На море, на окияне, на острове Буяне… – зашептала она, кидаясь назад и чувствуя, что совсем губит себя колдовскими заклинаниями. – Там лежит сучнища, серая рунища…
И лишь только сказала эти первобытно-грозные слова, как увидала, обернувшись, Юшку, с поднятыми плечами стоявшего в двух шагах от нее. Озарилось лицо его молнией – бледное, с черными кругами глаз. Неслышно подбежал он к ней, быстро обхватил ее длинными руками за талию – и, сдавив, одним махом кинул сперва на колени, потом навзничь, на холодный пол прихожей…
Пришел к ней Юшка и на следующую ночь. Ходил и еще много ночей, – и она, теряя сознание от ужаса и отвращения, покорно отдавалась ему: и думать не смела она ни противиться, ни просить защиты у господ, у дворни, как не смела противиться барышня дьяволу, по ночам наслаждавшемуся ею, как, говорят, не смела противиться даже сама бабушка, властная красавица, своему дворовому Ткачу, отчаянному негодяю и вору, сосланному, в конце концов, в Сибирь, на поселение… Наконец наскучила Наташка Юшке, наскучил и Суходол – и он так же внезапно исчез, как внезапно и явился.
Через месяц после того она почувствовала себя матерью. А в сентябре, на другой день по возвращении молодых господ с войны, загорелся и долго, страшно пылал суходольский дом: исполнилось и второе ее сновидение. Загорелся он в сумерки, в проливной дождь, от молнии, от золотого клубка, который, как говорила Солошка, выскочил из печки в дедушкиной спальне и помчался, подпрыгивая, по всем комнатам. А Наталья, которая, увидав дым и огонь, со всех ног бежала от бани, – от бани, где она проводила целые дни и ночи в слезах, – рассказывала потом, что наткнулась она в саду на кого-то, одетого в красный жупан и высокую казацкую шапку с позументом: он тоже бежал со всех ног по мокрым кустам и лопухам… Было ли все это или только померещилось, Наталья не могла ручаться. Достоверно только то, что ужас, поразивший ее, освободил ее от будущего ребенка.
И с этой осени она поблекла. Жизнь ее вошла в ту будничную колею, из которой она уже не выходила до самого конца своего. Тетю Тоню свозили к мощам угодника в Воронеж. Дьявол после того уже не смел приближаться к ней; и она успокоилась, стала жить как все, – расстройство ума и души ее сказывалось только в блеске диких глаз, в крайней неряшливости, в бешеной раздражительности и тоске при дурной погоде. Была с нею у мощей и Наталья – и тоже обрела в этой поездке спокойствие, разрешение всего, из чего, казалось, уже нет выхода. В какой трепет приводила ее одна мысль о встрече с Петром Петровичем! Как ни приготовлялась она к ней, представить ее себе спокойно она была не в силах. А Юшка, а ее позор, гибель! Но самая исключительность этой гибели, необычная глубина ее страданий, то роковое, что было в ее несчастии, – ведь недаром же почти совпал с ним ужас пожара! – и паломничество к угоднику дали ей право просто и спокойно глядеть в глаза не только всем окружающим, но даже и Петру Петровичу: сам Бог отметил их с барышней губительным перстом своим – им ли было бояться людей! Черничкой, смиренной и простой слугой всех, легкой и чистой, точно после предсмертного причастия, вошла она в суходольский дом, возвратясь из Воронежа, смело подошла к руке Петра Петровича. И только на мгновение дрогнуло ее сердце молодо, нежно, по-девичьи, когда коснулась она губами его маленькой смуглой руки с бирюзовым перстнем.
Буднично стало в Суходоле. Пришли определенные слухи о воле – и вызвали даже тревогу и на дворне, и в деревне: что-то будет впереди, не хуже ли? Легко сказать – начинать жить по-новому! По-новому жить предстояло и господам, а они и по-старому-то не умели. Смерть дедушки, потом война, комета, наводившая ужас на всю страну, потом пожар, потом слухи о воле – все это быстро изменило лица и души господ, лишило их молодости, беззаботности, прежней вспыльчивости и отходчивости, а дало злобу, скуку, тяжелую придирчивость друг к другу: начались «нелады», как говорил отец, дошло до татарок за столом… Нужда стала напоминать о настоятельной необходимости поправить как-нибудь дела, вконец испорченные Крымом, пожаром, долгами. А в хозяйстве братья только мешали друг другу. Один был нелепо жаден, строг и подозрителен, другой – нелепо щедр, добр и доверчив. Столковавшись кое-как, решились они на предприятие, долженствовавшее принести большой доход: заложили имение и скупили около трехсот захудавших лошадей, – собрали их чуть не со всего уезда при помощи какого-то Ильи Самсонова, цыгана. Лошадей они хотели выправить за зиму и с барышом распродать весной. Но, истребив огромное количество муки и соломы, лошади почти все, одна за другою, к весне почему-то поколели…
И все рос раздор между братьями. Доходило иногда до того, что они хватались за ножи и ружья. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы новое несчастие не свалилось на Суходол. Зимой, на четвертый год после возвращения своего из Крыма, Петр Петрович ехал однажды в Лунево, где была у него любовница. Он прожил на хуторе двое суток, все время пил там, хмельной и домой поехал. Было очень снежно; в розвальни, покрытые ковром, была запряжена пара лошадей. Петр Петрович приказал отстегнуть пристяжную, молодую, горячую лошадь, по брюхо тонувшую в рыхлом снегу, и привязать ее к розвальням сзади, а сам лег, – будто бы головой к ней, – спать. Наступали туманные, сизые сумерки. И, засыпая, Петр Петрович крикнул Евсею Бодуле, которого он часто брал с собой вместо кучера Васьки Казака, боясь, что Васька убьет его, сильно озлобившего против себя дворню побоями, – крикнул: «Пошел!» – и ударил Евсея в спину ногой. И сильный гнедой коренник, уже мокрый, дымясь и екая селезенкой, понес их по тяжелой снежной дороге, в туманную муть глухого поля, навстречу все густеющей, хмурой зимней ночи… А в полночь, когда уже мертвым сном спали все в Суходоле, в окно прихожей, где ночевала Наталья, быстро и тревожно застучал кто-то. Она вскочила с лавки, босиком выбежала на крыльцо. У крыльца смутно темнели лошади, розвальни и с кнутом в руках стоявший Евсей.
– Беда, девка, беда, – забормотал он глухо, странно, как во сне, – барина лошадь убила… пристяжная… Набежала, осунулась и – копытом… Все лицо раздавила. Он уж холодеть стал… Не я, не я, вот те Христос, не я!
Молча сойдя с крыльца, утопая в снегу босыми ногами, Наталья подошла к розвальням, перекрестилась, упала на колени, обхватила ледяную окровавленную голову, стала целовать ее и на всю усадьбу кричать дико-радостным криком, задыхаясь от рыданий и хохота…
X
Когда случалось нам отдыхать от городов в тихой и нищей глуши Суходола, снова и снова рассказывала Наталья повесть своей погибшей жизни. И порою глаза ее темнели, останавливались, голос переходил в строгий, ладный полушепот. И все вспоминался мне грубый образ святого, висевший в углу лакейской старого нашего дома. Обезглавленный, пришел святой к согражданам, на руках принес свою мертвую голову – во свидетельство своего повествования…
Уже исчезали и те немногие вещественные следы прошлого, что застали мы когда-то в Суходоле. Ни портретов, ни писем, ни даже простых принадлежностей своего обихода не оставили нам наши отцы и деды. А что и было, погибло в огне. Долго стоял в прихожей какой-то сундук, в клоках задеревеневшей и лысой тюленьей кожи, которой был обшит он чуть не сто лет тому назад, – дедовский сундук с выдвижными ящичками из карельской березы, набитый обгорелыми французскими вокабулами да церковными книгами, донельзя закапанными воском. Потом исчез и он. Изломалась, исчезла и тяжкая мебель, что стояла в зале, гостиной… Дом ветшал, оседал все более. Все те долгие годы, что прошли над ним со времени последних событий, здесь рассказанных, были для него годами медленного умирания… И все легендарнее становилось его прошлое.
Росли суходольцы среди жизни глухой, сумрачной, но все же сложной, имевшей подобие прочного быта и благосостояния. Судя по косности этого быта, судя по приверженности к нему суходольцев, можно было думать, что ему и конца не будет. Но податливы, слабы, «жидки на расправу» были они, потомки степных кочевников! И как под сохой, идущей по полю, один за другим бесследно исчезают холмики над подземными ходами и норами хомяков, так же бесследно и быстро исчезали на наших глазах и гнезда суходольские. И обитатели их гибли, разбегались, те же, что кое-как уцелели, кое-как и коротали остаток дней своих. И мы застали уже не быт, не жизнь, а лишь воспоминания о них, полудикую простоту существования. Все реже навещали мы с годами наш степной край. И все более чужим становился он для нас, все слабее чувствовали мы связь с тем бытом и сословием, из коего вышли. Многие из соплеменников наших, как и мы, знатны и древни родом. Имена наши поминают хроники; предки наши были и стольниками, и воеводами, и «мужами именитыми», ближайшими сподвижниками, даже родичами царей. И называйся они рыцарями, родись мы западнее, как бы твердо говорили мы о них, как долго еще держались бы! Не мог бы потомок рыцарей сказать, что за полвека почти исчезло с лица земли целое сословие, что столько нас выродилось, сошло с ума, наложило руки на себя, спилось, опустилось и просто потерялось где-то! Не мог бы он признаться, как признаюсь я, что не имеем мы ни даже малейшего точного представления о жизни не только предков наших, но и прадедов, что с каждым днем все труднее становится нам воображать даже то, что было полвека тому назад!
То место, где стояла луневская усадьба, было уже давно распахано и засеяно, как распахана, засеяна была земля на местах многих других усадеб. Суходол еще кое-как держался. Но, вырубив последние березы в саду, по частям сбыв почти всю пахотную землю, покинул ее даже сам хозяин ее, сын Петра Петровича, – ушел на службу, поступил кондуктором на железную дорогу. И тяжело доживали свои последние годы старые обитательницы Суходола – Клавдия Марковна, тетя Тоня, Наталья. Сменялась весна летом, лето осенью, осень зимою… Они потеряли счет этим сменам. Они жили воспоминаниями, снами, ссорами, заботами о дневном пропитании. Летом те места, где прежде широко раскидывалась усадьба, тонули в мужицких ржах: далеко стал виден дом, окруженный ими. Кустарник, остаток сада, так одичал, что перепела кричали у самого балкона. Да что лето! «Летом нам рай!» – говорили старухи. Долги, тяжки были дождливые осени, снежные зимы в Суходоле. Холодно, голодно было в пустом разрушающемся доме. Заметали его вьюги, насквозь продувал морозный сарматский ветер. А топить – топили очень редко. По вечерам скудно светила из окон, из горницы старой барыни, – единственной жилой горницы, – жестяная лампочка. Барыня, в очках, в полушубке и валенках, вязала чулок, наклоняясь к ней. Наталья дремала на холодной лежанке. А барышня, похожая на сибирского шамана, сидела в своей избе и курила трубку. Когда не бывала тетя в ссоре с Клавдией Марковной, ставила Клавдия Марковна лампочку свою не на стол, а на подоконник. И сидела тетя Тоня в странном слабом полусвете, доходившем из дома во внутренность ее ледяной избы, заставленной обломками старой мебели, заваленной черепками битой посуды, загроможденной рухнувшим набок фортепиано. Такая ледяная была эта изба, что куры, на заботы о которых направлены были все силы тети Тони, отмораживали себе лапы, ночуя на этих черепках и обломках…
А теперь уже и совсем пуста суходольская усадьба. Умерли все помянутые в этой летописи, все соседи, все сверстники их. И порою думаешь: да полно, жили ли и на свете-то они?
Только на погостах чувствуешь, что было так; чувствуешь даже жуткую близость к ним. Но и для этого надо сделать усилие, посидеть, подумать над родной могилой, – если только найдешь ее. Стыдно сказать, а нельзя скрыть: могил дедушки, бабушки, Петра Петровича мы не знаем. Знаем только то, что место их – возле алтаря старенькой церкви в селе Черкизове. Зимой туда не проберешься: там по пояс сугробы, из которых торчат редкие кресты и верхушки голых кустов, прутья. В летний день проедешь по жаркой, тихой и пустой деревенской улице, привяжешь лошадь у церковной ограды, за которой темно-зеленой стеной стоят, пекутся в зное елки. За откинутой калиткой, за белой церковью с ржавым куполом – целая роща невысоких ветвистых вязов, ясени, лимов, всюду тень и прохлада. Долго бродишь по кустам, буграм и ямам, покрытым тонкой кладбищенской травой, по каменным плитам, почти ушедшим в землю, пористым от дождей, поросшим черным рассыпчатым мохом… Вот два-три железных памятника. Но чьи они? Так зелено-золотисты стали они, что уже не прочесть надписей на них. Под какими же буграми кости бабушки, дедушки? А бог ведает! Знаешь только одно: вот где-то здесь, близко. И сидишь, думаешь, силясь представить себе всеми забытых Хрущевых. И то бесконечно далеким, то таким близким начинает казаться их время. Тогда говоришь себе:
– Это не трудно, не трудно вообразить. Только надо помнить, что вот этот покосившийся золоченый крест в синем летнем небе и при них был тот же… что так же желтела, зрела рожь в полях, пустых и знойных, а здесь была тень, прохлада, кусты… и в кустах этих так же бродила, паслась вот такая же, как эта, старая белая кляча с облезлой зеленоватой холкой и розовыми разбитыми копытами.
Веселый двор
I
Мать Егора Минаева, печника из Пажени, так была суха от голода, что соседи звали ее не Анисьей, а Ухватом. Прозвали и двор ее – окрестили в насмешку веселым…
Егор, как говорили в Пажени, весь выдался в Мирона, покойного отца своего: такой же пустоболт, сквернослов и курильщик, только подобрей характером.
– Сосед он хоть куда, – говорили про него, – и печник хороший, а дурак: ничего нажить не может.
Заработки у Егора всегда были плохи, надел не выходил из сдачи. Изба его, огромная, нескладная, с каждым годом все больше да больше сгнивала, разваливалась без призора. Раз он принес откуда-то и налепил снаружи на ее косой простенок, на трухлявые бревна, большую солдатскую мишень – черной краской напечатанное на белом бумажном листе туловище, с ружьем на плечо, в фуражке набекрень, с вытаращенными глазами. А вот поправить крышу, законопатить пазы, переложить печку, борова почистить – на это у него догадочки не хватало, и зимой в избе волков можно было морозить: по всем углам нарастала снежная опушка. Давным-давно по чурке растаскали бы все это тырло добрые люди. Да мешала Анисья.
Егор был белес, лохмат, не велик, но широк, с высокой грудью. Ходил Егор в облезлом, голубом от времени и тяжелом от пота, гимназическом картузе, в посконной рубахе с обитым, скатавшимся воротом, в обвисших, протертых и вытянутых на коленях портках, в лаптях, обожженных известкой. Всюду много и без толку болтал он, постоянно сосал трубку, до слез надрываясь мучительным кашлем, и откашлявшись, блестя запухшими глазами, долго сипел, носил своей всегда поднятой грудью. Кашлял он от табаку, – курить начал по восьмому году, – а глубоко дышал от расширения легких, и, когда дышал, все раскрывалась, показывалась в продольную прореху ворота бурая полоска загара, резко выделявшаяся на мертвенно-бледном теле. Уродливы были его руки: большой палец правой руки похож на обмороженную култышку, ноготь этого пальца – на звериный коготь, а указательный и средний пальцы – короче безымянного и мизинца: в них было только по одному суставу. Но ловко мял он этими тугими култышками золу в хлюпающей трубке, кашлял надрывисто, но даже с наслаждением как будто: «А-ах, так-то его так!» Глядя на него, не верилось, что бывают матери у таких хрипунов и сквернословов. Не верилось, что Анисья мать его.
Да и нельзя было верить. Он белес, широк, она – суха, узка, темна, как мумия; ветхая понева болтается на тонких и длинных ногах. Он никогда не разувается, она вечно боса. Он весь болен, она за всю жизнь не была больна ни разу. Он пустоболт, порой труслив, порой, с кем можно, смел, нахален, она молчалива, ровна, покорна. Он бродяга, любит народ, беседы, выпивки, – сём, пересём, лишь бы день перешел. А ее жизнь проходит в вечном одиночестве, в сиденье на лавке, в непрестанном ощущении тянущей пустоты в желудке и непрестанной грусти, с которой она уже сроднилась: «Земля забыла меня, грешную!» Единственным оправданием такой забывчивости была, по мнению Анисьи, необходимость стеречь, сохранять для Егора избу: все думала – авось, уж не молоденький, авось, образумится, женится. Нежно и сладко туманили ей голову мечты об этом несбыточном счастье. А он постоянно твердил: «Довеку не женюсь! Теперь я – вольный казак, а женишься – журись о жене. Да пропади она пропадом!..» Он не признавал ни семьи, ни собственности, ни родины.
Наняться куда-нибудь, работать мешала Анисье, помимо избы, еще и та беда, что очень слаба была она, да и крива вдобавок. Много лет ходил по лавке возле нее, по лавке, на которой провела она столько долгих дней, старый черный с золотом петух: она сидит и думает, подпирая тонкой рукой щеку, а он похаживает, клюет мух по мутным, собранным из кусочков стеклам. Раз сунулась она к окошку, – кто-то ехал по деревне с колокольчиками, – а петух как стукнет в левый глаз ее! И глаз вытек, впалые веки стянуло, осталась одна серая щелочка… Прежде сеяла она коноплю на огороде, брала замашки, мяла пеньку: все был доходишко. Но Егор и огород сдал. Прежде на поденщину принимали ее – к мелкому помещику Панаеву, что в версте от Пажени. Да стали обижаться девки, – «старый черт работу отбивает!» – стали наговаривать приказчику, будто все у нее, сослепу, из рук валится, стали тайком всовывать краденые из барского сада яблоки в тот платочек, в который, идя на работу, завязывала она свой завтрак – горбушку черствого хлеба…
Замуж вышла Анисья рано, – рано одна на свете осталась. Любить Анисье в молодости некого было. Но и не любить не могла она. С несознаваемой готовностью отдать кому-нибудь душу выходила она за Мирона, – тоже печника, вольноотпущенного дворового, – и любила его долго, терпеливо, затем, что, скинув вскоре после свадьбы от побоев, долго лишена была возможности на детей перенести свою любовь. Во хмелю Мирон бывал буен. Дело известное: трезвый ребенка не обидит, а напьется – святых вон выноси. Бьет стекла, гоняется за сыном и женой с дубинкой. «Ну, опять у Минаевых крестный ход пошел! – говорили соседи, радуясь такой забаве. – И веселый же двор, ей-богу!» Когда нехотя просил он прощенья, протрезвившись, скоро сдавалась она на ласковое слово, только тихо говорила сквозь слезы: «Что ж, над тобой же будут люди смеяться, если калекой меня сделаешь!»
Все же, после смерти Мирона, даже такое прошлое стало казаться счастьем Анисье. Да, когда-то были и молодость, и семейная жизнь, и хозяйство у нее; был муж, были дети, были радости и горести – все как у людей… Двадцать лет тому назад замерз Мирон, – ни с того ни с сего увязался пьяный за чужим обозом в Ливны, – и много ночей провела она без сна, сидя в темной избе на конике, вспоминая и думая; но никто не узнал ее дум. Всех умерших детей оплакала она горькими слезами, но оплакала тоже тайком, в одиночестве. Нищета, разорившая дотла ее двор, часто заставляла ее кланяться соседям, просить у них помощи ради сироты-сына, пока мал он был; но никогда не насмеливалась она напоминать людям, что в былое время помогала и она им. И вышло так, что в Пажени никому и не верилось, что жила она когда-то по-людски. Чаяла она отдохнуть хоть в старости, за сыном. Мужик он вышел добрый, – на словах только бесстыж и горяч, не то что отец, покойник. Руки у него золотые, говорила она, еще как жили-то бы, не брось он дома!
Нынешней зимой даже Пажень удивил Егор: всего могли ждать от него, но только не того, что вдруг бросит он свое дело, и ни с того ни с чего, – вот как Мирон за чужим обозом, – уйдет, всем на посмешище, в золотари в Москву. Но и в Москве пробыл он без году неделю. Думала порой Анисья, в самое сердце пораженная вестью об его уходе, что, быть может, ради ее вечного голода, ради хорошего заработка, с затаенною целью поправить свою жизнь ушел Егор. Но вот он внезапно вернулся, – оборванный, без копейки денег; ночевал три ночи дома, но и двух слов путных не сказал ни с соседями, ни с матерью, – был какой-то хоть и не скучный, а рассеянный; даже не сумел объяснить толком, зачем шатался в Москву, – сказал только: «Да ай велика беда?» – и опять исчез.
В мае нанялся он караулить Ланско́е, лес помещика Гурьева, что от Пажени верстах в пятнадцати. Положили ему отвесное только да три рубля в месяц. А что такое три рубля? То купи, другое купи… на спички даже не хватает… И, нанявшись, Егор совсем перестал помогать матери.
В Петровки, доев последнюю корку занятого с великим трудом хлеба, решилась она наконец побывать в Ланском, повидаться с сыном, проведать его, а главное, хоть малость подкрепиться. Доедала она хлеб с большой осторожностью – и все слабела, слабела. Не в меру стало клонить в сон, рябить в глазу, звенеть в ушах; стали пухнуть ноги, стала томить неотвязная мечта: поесть чего-нибудь горячего, с солью. Боязно было сказать себе: пойду. Да надоумили, разговорили, настроили прохожие. Зашли они напиться – старушка и молодая; ходили в Гурьево, поминать умершего. Старушке умерший был сыном, молодой – мужем. И вот все трое разгрустились, разговорились о своей женской доле, о мужьях, сыновьях. Молодая – крупная, с большим бледным лицом и большими серыми глазами навыкат, хорошо и нарядно одетая – в новую корсетку из коричневой сермяги со сборками назади, в красную шерстяную юбку и полсапожки, с черной бархаткой, украшенной белыми пуговками, на шее, – та все молчала. Старушка, сухонькая, чистенькая, устало-оживленная, говорила без умолку, а молодая за все время только раз, просто и не спеша, вставила свое слово: когда старушка запнулась, запамятовала город, куда угнали в солдаты ее меньшого сына.
– Три недели тому назад схоронили, сударушка, – ласково говорила старушка Анисье. – Съездил в город, был ужасный веселый, а приехал домой, погнал лошадей в ночное, двух десятин до Щедринского хутора не догнал, – мы через Щедрина, через его поле скотину-то гоняем, – воротился. Пришла я с холстами, вижу, лежит он на печи, полушубком накрылся… «Умираю, говорит, мамаш, заболел я. Погнал вчерась в ночное, двух десятин до Щедринского рубежа не догнал – понесло на меня вроде как холодом, ознобом, насилу назад дошел, ноги подламываются…»
Анисья вздохнула, и на глаз ее навернулась слеза. «Дитя-то хоть криво, а матери родной все мило, – подумала она и вздохнула от грустной нежности к сыну. – Пойду, была не была, авось не чужая…» А старушка продолжала, вытирая углы тонких, сморщенных, стянутых в сборочку губ худыми твердыми пальчиками:
– Что тут, ягодка, делать? Дала я ему две просвирки, одну заздравную, другую за упокой. Съешь, говорю, сынок, може, полегчает. На третий день он и кличет меня: «Мамаш, добре́ нынче день хорош, поводите меня, а то тут, в избе, дух чижелый». Повели мы его на гумно, посадили на солому, сами отлучились на минутку – овцу стричь. Немного годя приходим, а он уж и голову уронил, едва дышит: раньше лицо красная, как сукно, была, а тут уж ото лба белеть стала. Приподняли мы его, а он уж кончился. Не дождался, значит, нас…
И Анисья задумалась. Растроганная беседой, умиленная материнской нежностью, материнскими горестями, стала она советоваться с прохожими, как ей быть: идти или нет? Если уж идти, так не лучше ли с умом идти: не затем только, чтобы проведать, а чтобы на все лето остаться? Вон, говорят, он теперь отвесное получает; а ведь при отвесном и она прокормится, – авось не объест, много ль ей и надо-то…
Старушка сказала:
– Да ведь как сказать? – не угадаешь, как лучше, сударушка. Мой-то Тихон не пример другим. Уж такой степенный был, один в свете разумный и задумчивый! А послышишь кругом, – правда, не те сыновья ноне пошли, не чета моему, вероломные… Ну а все-таки я бы пошла. Мой стад – иди.
– Он не может не кормить матери, – прибавила молодая.
И Анисья повеселела.
– Ну ин, пойду, – сказала она нерешительно. – Ведь он только скучлив у меня, а никто плохого не скажет, – не драчун, не пьяница. Вот только дома не любит сидеть… А мне голодно, да и скука съела. Иной раз думаешь: хоть бы захворал, что ли, все бы дома пожил… Мужик он добрый, да, конечно, рабочий человек, обидчивый. У меня одна душа, у него другая. Придешь, думается, а он ну-ка обидится…
Проводив прохожих, она долго оглядывала пустую избу: нельзя ли продать что? Но все богатство ее состояло в старой укладке, где хранился единственный подарок Егора, – погребальный платок, купленный в монастырской лавке в Задонске, большой белый коленкоровый платок, весь усеянный черными черепами, сложенными крест-накрест черными костями и черными надписями: «Святый Боже, святый крепкий…» Грех продавать такую вещь, да и жалко, правду сказать: принес Егор свой подарок с искренним желанием порадовать мать, выпивши… Ну, да сам же виноват, думала она, – забыл мать, до крайности довел. А Бог милостив, он видит нужду: похоронят и без платка, с бедной старухи на том свете не взыщется… И пошла продавать платок. Тонет в хлебах, в лозняке Пажень. Одна кирпичная изба богача Абакумова далеко видна. Она на фундаменте, под железной крышей, с разноцветными мальвами, с палисадником. В воскресенье пошла Анисья к Абакумову. Абакумов зорко оглядел платок своими татарскими глазками, кликнул мать, сумрачную, толстую, отекшую старуху в ватной кофте и валенках.
– Что ж просишь? – медленно выходя из избы, исподлобья оглядывая крыльцо и горбясь, неприветливо спросила старуха.
Анисья, чувствуя недоброе, стала хвалить платок, показывать товар лицом – накинула его на плечи, прошлась. Абакумов, подумав, положил «два орла» – гривенник; потом, усмехнувшись, прибавил еще пятак – «за манеру». Анисья покачала головой и пошла домой, даже не сняв с себя платка. А дома, сидя в этом трауре, долго разглядывала его концы своим единственным глазом, что-то обдумывая. Потом облокотилась на стол, уже ничего не думая, а только слушая звон в ушах… В пазах стола застряло когда-то порядочно пшена. Она наковыряла с полгорсти, съела. Потом спрятала платок в укладку, легла на большие голые нары возле большой треснувшей печки, когда еще не смерклось путем, говоря себе: надо поскорее заснуть, а то не дойдешь, надо выйти пораньше да, уходя, не забыть запереть укладку, закрыть трубу на случай грозы…
Продумав всю ночь сквозь сон что-то тревожное, неотступное, просучив ногами, – жгли их блохи, жиляли мухи, – заснула она крепко лишь под утро. Проснулась, когда уж ободнялось – и болезненно обрадовалась дню, тому, что она жива, что идет в Лакское, начинает какую-то новую, может, хорошую жизнь… Бог милостив – чувствовать себя на белом свете, видеть утро, любить сына, идти к нему, это – счастье, сладкое счастье… Изнутри приперла она дверь в сенцах однозубым рогачом, воткнув его в землю, нашла в углу палку, испачканную воробьями, перелезла через обвалившуюся стену… По зеленому выгону, возле пруда, к которому ковыляли приказчиковы гуси, длинными серыми полосами лежали белившиеся холсты. Машка Бычок, конопатая, здоровая девка, навалив по свернутому, мокрому, тяжелому холсту на каждый конец коромысла, шла навстречу, вся виляясь, мелко перебирая белыми крепкими ногами по зелени. Анисья подумала: слава богу, с полным навстречу…
Весь май, весь июнь перепадали дожди. Хлеба и травы в нынешнем году чудесные. Путаясь худыми ступнями и поневой по межам, заросшим травой и цветами, меряя палкой стежки среди ржей, овсов и гречи, радовалась, по привычке, Анисья на урожай, хотя уже давно не было ей никакой пользы от урожаев. Ржи были высоки, зыблились, лоснились, только кое-где синели васильки в них. Выметались и тускло серебрились тучные, глянцевитые стеблем овсы. Клины цветущей гречи мелочно розовели. День был облачный, ветер дул мягкий, но сильный, – усыплял пчел, мешал им, путал их, сонно жужжащих, в ее кустистой заросли, обдавал порою запахом гретого меда. И то ли от ветра, то ли от этого запаха томно кружилась голова. Шла Анисья стежками, межами, чтобы сократить дорогу, но, когда миновала панаевские лощины и выбралась на противоположную гору, вышла в чистое поле, откуда далеко видно, – вплоть до станции на горизонте, – сообразила, что дала крюку.
С самого выхода из дому чувствовала она, что надо обдумать главное: дома ли Егор, застанет ли она его? И все отвлекалась, все не могла собраться с мыслями. Теперь две горлинки, шагах в десяти друг от друга, по одной линии, мелко и споро бежали перед нею вдоль аспидной дороги и мешали думать. Она долго, пока не поднялись они, не могла понять, что это такое: горлинки совсем под цвет дороги, только спинки с брусничным отливом. Они женственно, игриво семенили, потом легко взлетели, распустив серые хвосты с белой каемкой, и опять сели, опять побежали. Анисья махнула на горлинок палкой: затрепетал легкий свист крыльев, но не прошло и минуты, как опять увидала она их, бегущих быстро и однообразно. Они мучили, утомляли ее, но и трогали своей красотой, беззаботностью, нежной привязанностью друг к другу. Сколько лет ее черно-зеленой, клетчатой поневе, грязной, истлевшей на высохшем теле рубахе, темному, в желтом горошке платку? Старость, худоба, горе так не идут к красоте горлинок, цветов, плодородной земли, забывшей ее, нищую старуху, – и она болезненно чувствовала это. Она опять неловко и робко махнула на горлинок. Горлинки взлетели – и она постояла, выждала, пока они скрылись…
Она бодрилась, но клонило в сон. Идти по убитому колесами проселку еще легче, чем по мягким стежкам, ступать босыми ногами по теплой земле так сладко. Но махали, махали по горизонту крыльями несуществующие мельницы. А поднимешь глаз на облачное небо – плывет, плывет стеклянный червячок, плывут стеклянные мушки, и никак не поймаешь, не задержишь их на месте: только остановишь взгляд, а червячок уж соскользнул куда-то – и опять плывет кверху, скользит, поднимаясь, и множатся, множатся мушки… Она замедляла шаг и переводила дух: «Ой, не дойду! Потише надо…» И опять шла, и опять, сама того не замечая, начинала спешить…
Теплый ветер, дувший с юга, в бок, нес над простором серо-зеленых равнин песни жаворонков, аромат цветочной пыли. Мягко, густо и нежно синели дальние деревни, перелески. Вон в далекой дали справа, за полями и верхами, видна церковь Знаменья, родного и уж давно забытого села. Вон налево, еще дальше, за Воргольскими лугами – бедные степные деревушки: Каменка, Сухие Броды, Рябинки… Небо загромождали огромные, но легкие и причудливые, лилово-дымчатые облака. Они собирались по горизонтам в синеватые тучки, и туманно-голубыми полосами опускался из них дождь. А невидимые мельницы все махали и махали крыльями даже и в этих полосах… Разве лечь, подремать? Но нет, нельзя: после отдыха еще труднее идти и работать, она хорошо знает это по долгому опыту. Да вон и едет кто-то… Показалась впереди тройка. Она стала разглядывать ее и оживилась. Тройка, вся в медных бляхах, в дорогой наборной сбруе, приближалась медленно, сдерживая игривую силу. Гнедой коренник, высоко задрав голову, шел шагом, темно-ореховые пристяжные, изгибая лоснящиеся шеи и почти касаясь раздутыми ноздрями дороги, плыли. Прищурив глаза, завалившись в задок тарантаса, ленился молодой кучер, в плисовой безрукавке, в соловой рубахе, в городском картузе, в замшевых рукавицах… Какой-то особый вид у этих гладких, барских лошадей, какой-то особый вкусный запах у этих тарантасов: мягкой кожи, лакированных крыльев, теплой колесной мази, перемешанной с пылью… А вот начинается зелено-оловянное гороховое поле, тоже барское. От тройки Анисья перешла на межу, покосилась на горох, проводила глазом приподнятый задок тарантаса… Да нет, горох еще и не наливался. Кабы налился, наелась бы досыта – и не увидал бы никто! И, сморщив лицо, поглядела Анисья на небо, туда, где чувствовалось за более светлыми и теплыми облаками солнце: должно, едет кучер к часовому поезду на станцию, – у людей обеды на дворе…
Она забыла о мельницах – мельницы стали махать тише. Она шла и шла; межа, вся усыпанная белыми цветами, бежала ей под ноги, белые точки цветов дрожали. А где-то разнообразно, весело ругались бабы – перебивали друг друга звонкие бабьи голоса. Она ясно слышала каждый из них, даже с некоторым удовольствием следила за их изменениями, скороговорками, вскрикиваниями. Но внимания на них не обращала, – дело привычное слушать эти несуществующие голоса! – думала свое, что попало, все еще не будучи в силах собраться подумать о Егоре: думала то о муке какой-то, у кого-то занятой да так и не отданной, то о том, что вчера у соседки теленок сжевал весь подол рубахи, висевшей на плетне, то о своей близкой смерти… «Постыдилась бы, постыдилась бы!» – звонко кричали бабы. «Надо сесть», – отвечала им Анисья мысленно и все дожидалась кем-то назначенного для отдыха места. Кем оно назначено? Богом? «Нет, сыном, Егором!» – крикнул кто-то. Она вздрогнула, мотнула головой, прогоняя дремоту…
И по меже, и во рву под межою – всюду пестрели цветы. Чувствуя, что не добиться ей до назначенного места, Анисья села на первое попавшееся. Бабы смолкли. «Хорошо!» – подумала она. И с задумчиво-грустной улыбкой стала рвать цветы; нарвала, набрала в свою темную грубую руку большой пестрый пук, нежный, прекрасный, пахучий, ласково и жалостно глядя то на него, то на эту плодородную, только к ней одной равнодушную землю, на сочный и густой зелено-оловянный горох, перепутанный с алым мышиным горошком. Бабы молчали, мельницы исчезли. Теперь она плыла, плыла, как тот стеклянный червячок по воздуху. Вон вдали, в горохе, шалашик для сторожа, пока еще пустой: залезть бы в него и – спать… Ветер нес над полями убаюкивающие трели жаворонков, убегала в поля зеленая межа. Немало росло на ней ромашки, золотой куриной слепоты, бархатисто-лиловых медвежьих ушек, малинового клевера. Прикрывая глаз, Анисья щипала остинки то из медвежьих ушек, то из клеверных шапочек: тошнило, пекло губы, а в остинках были свежие капельки горького меду. Вдруг сердце замерло, – холодом облила голову, отняла плечи, заныла в них и по всему телу прошла та жуткая, как бы предсмертная, тошная волна, что накатывает на человека, высоко вознесшегося на качелях, вдруг сорвавшегося и летящего вниз. Переломив себя, вскочила Анисья с межи, с примятого во влажной траве места, и почти побежала. До дрожи в руках и ногах захотелось застать сына, что-то сказать ему, перекрестить на прощанье…
За горохом пошли пары. Мужики пахали их. Она слабо крикнула, верно ли, что влево поворот в Гурьево, а направо в Ланское? «В Ланское!» – тоже криком отозвался большой босой старик, расстегнувший под своей первобытно-густой бородищей ворот длинной рубахи, подоплека которой чернела от пыли и пота. «А напиться, родный, нечего?» Он, шатаясь, оступясь в борозде, подошел в это время с сохой к меже и, обивая блестящую палицу о подвои, остановился. «Можно», – сказал он. Она подняла с межи кувшин, заткнутый шапкой, и припала к воде, косясь на ступни старика. Он был страшен, похож на лешего или болотного: огромная голова, зеленовато-желтые кудлы, такая же борода, фиолетовое конопатое лицо и совсем зеленые глаза, свирепо сверкавшие из-под косматых и редких бровей; ступни же его – цвета свеклы – напоминали гашники. Но сразу видно – редкой доброты человек… Она напилась, хотела спросить, нет ли хлебушка, – и не смогла, не сумела…
Теперь она вспомнила места. Оставалось до Ланского версты две, и она не спускала глаза с большого дерева, одиноко белевшего стволом среди моря выколосившейся пшеницы близ лесной опушки, – со старой березы, круглившейся своей вершиной, серебристой от ветра, на облачно-дымчатом небе. За пшеницей, за березой показался шелковистый березовый кустарник, темно-зеленый. Место тут степное, ровное, кажется очень глухим: ничего не видишь, кроме неба и бесконечного кустарника, когда входишь в Ланское. Везде буйно заросла земля, а уж тут прямо непролазная чаща. Травы – по пояс; где кусты – не прокосишь. По пояс и цветы. От цветов – белых, синих, розовых, желтых – рябит в глазах. Целые поляны залиты ими, такими красивыми, что только в березовых лесах растут. Собирались тучи, ветер нес песни жаворонков, но они терялись в непрестанном, бегущем шелесте и шуме. Еле намечалась среди кустов и пней заглохшая дорога. Сладко пахло клубникой, горько – земляникой, березой, полынью. Анисья спешила, спотыкаясь, путаясь в цветах и травах. Вот и караулка. Но висит на ее дверке большой рыжий замок. И, увидав его, Анисья вдруг сморщила лицо и заголосила.
Но голосить на бегу было трудно. Заколотилось сердце, стало жарко, слезы мешали видеть. И она остановилась. Кругом – полынь, лопухи, крапива, в крапиве – избенка без крыши. Из лопухов вылез кобель, черно-седой, сероусый с гноящимися глазами, с обрубленным хвостом и обрубленными, в кровь разъеденными всякой мошкарой ушами. Он поднял эти обрубки и глухо забрехал – каким-то особым, лесным брехом. Она стала и не двигалась с места, глохла от стука собственного сердца. Кобель поглядел на нее – и смолк, отвернулся. И долго оба стояли в нерешительности: он не знал, продолжать ли брехать, она – подходить ли?
– Егорушка! – слабо крикнула она.
Никто не отозвался. Кобель подумал и брехнул еще раз. Потом опустил свои обрубки – и голова его стала круглой, доброй, жалкой. Помахивая толстым, коротким хвостом, он подошел к Анисье, глянул в ее глаз. «Э, да и ты стара! – равнодушно сказал его взгляд. – Ну, нам с тобой делить нечего… А Егора нету…» И, отойдя, кобель рассеянно поднял заднюю ногу на куст мелких ярко-желтых цветов и, не сделав ничего, лег, раскрыл, по привычке, пасть и часто задышал, мотая головой, отбиваясь от липнущей к уху серо-лимонной мухи. И опять стало скучно, тихо и глухо кругом. Бежал по кустам шелковистый шум и шорох, однообразно и хрустально звенела в них овсянка, жалостно цокали и перелетали с места на место, с былинки на былинку серенькие чекканки, точно ища и все не находя чего-то. Караулка была необыкновенно мала и ветха; вместо крыши рос по ее потолку высокий бледно-серебристый бурьян. Шатаясь, плача, шурша по лопухам, Анисья подошла к дверке, пошарила по притолке, – нет ли ключа. Не нашла – и догадалась: отогнула дужку замка, – он, конечно, был не заперт, – и потянула за скобку, перешагнула высокий порог…
Есть – об этом даже думать не хотелось. Все плыло вокруг нее, смутно и горячо разговаривало. Через силу она осмотрелась все-таки – и убедилась, что нигде нет ни единой крохи хлеба. Потом, положив пук увядших цветов на кое-как сбитый из старой доски и свежих березовых кольев столик, косо стоявший в углу на ухабистой синей земле, села на лавку возле столика и без движения просидела до самого вечера. Она тупо ждала чего-то – не то сына, не то смерти, – сонно глядела на гнилые стены, на полуразвалившуюся печку. Слабый свет проникал в окошечко над столиком. Дальше, где было другое, без рамы, заткнутое полушубком, клоками грязной овчины, сгущался сумрак. В сумраке прыгали по земле маленькие лягушки.
«Либо мне мерещится?» – подумала Анисья – и пригляделась: нет, не мерещится, самые настоящие лягушки…
Весь потолок прорастал грибками – часто висели они, – тонкие стеблем, как ниточки, вниз бархатистыми шляпками, – черными, траурными, коралловыми, – легкими, как тряпочки, обращавшимися в слизь при малейшем прикосновении. Разве поесть? Нет, помрешь – и растащут тогда соседушки избу в Пажени по бревнышку… А больше есть нечего. Махоточка стояла на подоконнике, прикрытая дощечкой. Она подняла ее: в махоточке загудела большая страшная муха; поднесла дощечку к глазу, стала разглядывать: так и есть, образок. Греховодник Егор, за то-то и не дает ему Бог счастья! Она перекрестилась, с трудом подняв руку, поцеловала дощечку и положила ее на столик; подумала, вспомнила, что умирает, – и еще раз перекрестилась, заставляя себя выразить во вздохе и особенно медленных, истовых движениях руки всю покорность свою Богу, все свое благоговение перед славой и силой его, все надежды свои на его милосердие… На загнетке раскрытой печки, на куче золы лежала сковородка с присохшими к ней корочками яичницы: видно, Егор из птичьих яиц делал, – скорлупа-то возле сковородки валялась пестрая. Анисья подумала: чем спасается, батюшка, вроде хорька живет! Все сильнее клонило в сон, в бред, бежала под ноги дорога вместе с тройками и горлинками… Анисья откидывала назад голову – и на минуту приходила в себя, прогоняла видения и ту тревожную зыбкость, в которую все глубже погружалась она. Ветер сонно и глухо шуршал вокруг стен, в крапиве, проносился по бурьяну на потолке. В окошечко виднелись сонно качающиеся верхушки кустов – бледные на меловато-свинцовом фоне туч. Темнело, наступал вечер…
Она понимала, что заходит дождь, шумит ветер, доносит однообразно повышающийся и понижающийся звон кустовой овсянки: ти-ти-ти-ти-ти-и… Где-то томно кричали молодые грачи: тоже к дождю, к вечеру… Но, все понимая, она спала, спала – и умирала, и воображение ее, чуждое ей, неудержимо работало. Ах, да ведь Егор идет на ярмарку, – надо догнать его! И она видела ярмарку. Там гомон, говор, скрип телег, ржание лошадей, народ валит валом – и все пьяный, страшный; бьет, гремит оркестрион на каруселях, кругом летят на деревянных конях девки в красных басках и ребята в канареечных рубахах – и от этого тошнит, мутит… Жарко, тяжко, а Мирон, молодой, веселый, со сдвинутой на затылок шапкой, продирается к ней через толпу, несет целый узел гостинцев – рожков, сусликов, жамок – и не дает ей допить бутылку квасу, только что откупоренную квасником, стариком, пахавшим пар; Мирон кричит: «Запрягай скорей, надо Егорку догнать!..» Вот какой ты, Мирон, говорит она ему, никогда-то не жалел ты меня в молодости, а теперь вот и смерть пришла… в поле ветер, тучки, дождь мелкий, девки картошки копают, – нет, Миронушка, видно, надо лечь поскорей… Как лунатик, шатаясь, шепча, поднялась Анисья с лавки, вытянула из окошка полушубок, свернула, кинула на лавку, в изголовье… В тазу ныло и дрожало, сердце так замирало, что, казалось, поминутно виснет она в воздухе, что нет у нее ног, есть только туловище, как у того страшного солдата, что чернеет на избе в Пажени. Поспешно, стараясь не упасть, легла она и закрыла глаз. Лавка плавно полетела в пропасть…
Она спала, умирая во сне. Лицо ее, лицо мумии, было спокойно, бесстрастно. Прошел дождь, вечернее небо очистилось, в лесу, в полях все смолкло. Вечерний мотылек трепетно-беззвучно поплыл в воздухе. Стали видны в сумраке по земле только белые цветы. Сзади караулки мелким красивым узором черно зеленели верхи кустарника – на оранжево-алой мути, переходившей выше в прозрачно-лимонную, легкую пустоту. Против караулки, на бесцветном, пепельном небе стояла полная, ясная, но не яркая луна, еще не дававшая света. И глядела она прямо в окошечко, возле которого лежал не то мертвый, не то еще живой первобытный человек. В другое, без стекла, без рамы, дул теплый ветер…
II
Егор в детстве, в отрочестве был то ленив, то жив, то смешлив, то скучен – и всегда очень лжив, без всякой надобности. Раз он нарочно объелся белены – насилу молоком отпоили. Потом взял манеру болтать, что удавится. Старик-печник Макар, злой, серьезный пьяница, при котором работал он, услыхав однажды эту брехню, дал ему жестокую затрещину, и он опять, как ни в чем не бывало, кинулся месить ногами глину. Но через некоторое время стал болтать о том, что удавится, еще хвастливее. Ничуть не веря тому, что он давится, он однажды-таки выполнил свое намерение: работали они в пустом барском доме, и вот, оставшись один в гулком большом зале с залитыми известкой полом и зеркалами, воровски оглянулся он, в одну минуту захлестнул ремень на отдушнике – и, закричав от страха, повесился. Вынули его из петли без чувств, привели в себя и так отмотали голову, что он ревел, захлебывался, как двухлетний. И с тех пор надолго забыл и думать о петле.
Он рос, входил в силу, становился мужиком, хворал, пьянствовал, работал, болтал, шатался по уезду, только изредка вспоминая о заброшенном дворе и о матери, которую почему-то называл своей обузой; жизнь, как ни бестолково мотал он ее, очень нравилась ему, и если находили на него минуты усталости, разбитости и той душевной мути, когда он говорил: «Белый свет не мил мне!» – то ему и в голову не приходило, что есть тут связь с его мальчишеской болтовней о самоубийстве. И так он дожил до тридцати лет, до той зимы, когда ни с того ни с сего ушел он в Москву, связавшись нечаянно с отправлявшимися туда золотарями.
Из Москвы возвращался он пьяный и возбужденный. Чувствуя всю нелепость своей поездки и как бы приготовляясь к тому отпору, который он даст всякому, кто будет называть его золотарем, он до копейки пропился в дороге, вылезая на каждой станции и нахально проталкиваясь в толпе к буфету. И вот тут-то, сидя в мотающемся, мутном от дыма вагоне, он, чуть ли не впервые после истории в пустом барском доме, стал опять болтать то, что болтал когда-то, стал доказывать соседям по лавке, мужикам-пильщикам, что он должен удавиться. И опять никто не дал веры его словам, и опять, проспавшись, забыл он о своей болтовне.
Дома, в родных местах, после Москвы, после той непривычной жизни, которой жил он там, после пьянства и возбуждения в дороге, все показалось ему так буднично, что у него даже пропала охота отбрехиваться от насмешливых расспросов, зачем это путешествовал он в Москву. Вид своего разрушающегося двора, вид сильно изменившейся, высохшей и странно-тихой, слегка шальной матери не произвел на него никакого впечатления. Нехотя прожив дома трое суток, пошел он в Гурьево, на барский двор, – проситься в караульщики в Ланское. Был солнечный мартовский день, дорога сперва таяла, потом – когда солнце склонилось на безоблачном небе к закату и золотой слюдой заблестели под ним снежные поля, а к юго-востоку позеленела легкая и прозрачная даль, – стала дорога подмерзать, приятно хрустеть под лаптями и приятно, покойно, в лад с этим долгим, ясным и покойным днем, чувствовал себя и Егор. Он поднялся на изрезанную ледяными колеями блестящую гору в селе, вошел на барский двор. Солнце мирно, уже по-весеннему, догорало против него, за рекою; по-весеннему возились и трещали воробьи в золотисто-зелено-серых прутьях, в кустах сирени возле барского дома, четко рисовавшегося белизной стен и бурой железной крышей на зеленоватом небе. На крыльце стояла горничная и вытряхивала самовар. Господ дома нету, сказала она, в город уехали; не то приедут нынче к вечеру, не то нет… И Егор как-то сразу увял, почувствовал тоску; постоял среди розовеющего двора в нерешительности и побрел в людскую. В людской крепко пахло кислыми щами; на лавке возле стола сидел работник Герасим, черный грубый мужик, прикреплял кнут к кнутовищу и бранился со своей женой, Марьей, примостившейся на нарах возле печки, с ребенком на руках. Егор вошел, тряхнул головой и сел. На поклон ему ответили, но браниться не бросили. Ребенок драл ручонками кофту матери, ища грудь; Марья, маленькая, смуглая, не спуская блестящих глаз с мужа и не замечая попыток ребенка, говорила, и Егор скоро понял, что брань началась из-за бритвы, принадлежащей брату Марьи, из-за того, что Герасим кому-то дал эту бритву.
– Свою прежде наживи, – говорила Марья, блестя злыми глазами. – Тогда и давай, когда наживешь. Побирушка, черт!
– Я с тобой никаких делов иметь не хочу и разговаривать не стану, – твердо и размеренно отвечал Герасим, раздувая ноздри. – Скандалу не смей затевать: у людей праздник завтра.
– Рот ты мне не смеешь зажимать, – говорила Марья со смелостью человека, сознающего свою правоту.
– Молчи лучше, – отвечал Герасим, стараясь удержаться на твердом тоне.
– Не форси, авось тебя не боятся!
– Погоди, девка, побоишься! Авось заступников-то немного!
– Что ж, поплачу да спрячу. Пешего сокола и галки дерут. Не новость…
Егор, привыкший шататься по чужим избам и жить чужими жизнями, любивший скандалы, любивший слушать брань, сначала заинтересовался и этой бранью. Но вдруг и от брани стало нудно ему…
– Чтой-то Москва-то скоро прискучила! – сказала Марья, напоминая мужу его поездку в Москву, поездку столь же нелепую, как и поездка Егора, хотя и не столь позорную, так как Герасим ездил искать места на конке. – Чтой-то скоро заявился! Видно, вас таких-то немало там околачивается!
– Ты лучше, сука, за своим делом смотри, – ответил Герасим. – Ты вон какой кулеш-то сварнакала к обеду нонче? Свиньям, что ль, месила? Так ведь тут не свиньи обжорные!
– За мной гаять нечего, – отозвалась Марья. – Ты лучше за своей Гашкой, за своими шкурами, любовницами гляди.
Егор хотел солгать, какая редкая и дорогая была у него бритва, – и поленился, промолчал. Он поднялся с места и подумал: «А бесприменно удавлюсь я! Ну их всех… куда подале!..» Он медленно подошел к Герасиму, закуривавшему цигарку, потянулся к нему с трубкой. Не глядя на него, тот подал почти догоревшую спичку. Егор, обжигая пальцы, закурил и стал у двери.
– Гашка-то небось чуточку поболе твоего работает! – говорил Герасим, не зная, что сказать.
– Авось и мне за тобой, за чертом, не сладко, – отвечала Марья. – Десять лет ворочаю!
– A-а! Ишь актриса какая!
– Одних картох по три чугуна трескаете! Весь живот на чугунах сорвала…
Егор не дослушал и вышел.
Весну и начало лета он провел в Ланском. Определенность положения сперва радовала его. Вечно думать о том, будет ли заработок, вечно шататься, искать этого заработка и, как-никак, гнуть хрип – это уже порядочно надоело. А тут работы никакой, спи сколько угодно, жалованье и отвесное идут да идут… Но и дни шли – и все больше становились похожи друг на друга, делались все длиннее да длиннее; нужно было убивать их, а в лесу, в одиночестве как их убьешь? И, ссылаясь на то, что у него на плечах мать-старуха, больная и голодная, Егор повадился на барский двор выпрашивать жалованье и отвесное вперед, а выпросив, пропивать и то и другое с приятелем, гурьевским кузнецом. Он чувствовал теперь нечто вроде того, что чувствовала последнее время Анисья: зыбкость во всем теле, неопределенную тревогу и особенную беспорядочность в мыслях. В сумерки он стал плохо видеть, стал бояться приближения сумерек – было жутко в этом молчаливом кустарнике: всюду, где реял вечерний сумрак, представлялся еле видный, неуловимый в очертаниях, но оттого еще более страшный, большой сероватый черт. И черт этот не спускал с Егора глаз, поворачивал за Егором голову, куда бы ни шел Егор. И так как казалось, что это он, черт, заставлял вспоминать о петле, о перемете, о толстых сучьях старой березы в пшенице, то стала страшна и давнишняя, прежде бывшая такой простой, мысль о петле. И Егор совсем забросил лес – стал и дневать, и ночевать в Гурьеве. На людях, даже тогда, когда он только что выходил из этих глухих степных мест, буйных хлебов и кустарника на дорогу в село, сразу становилось легче.
Вот и в тот день, когда шла в Ланское Анисья, побрел Егор в Гурьево. От ягод сильно знобило по вечерам, он знал это. Но есть хотелось – и, выйдя из избы, он долго лазил на коленях по кустам, по цветам и травам, долго ел землянику и клубнику, иногда очень спелую, иногда совсем зеленую, твердую… Потом не спеша пошел в село.
«Главная вещь – хлебушка надо разжиться», – думал он, выходя из леса за час до того, как прийти туда Анисье.
Где он будет разживаться, он не знал, да мало и надеялся на разживу. Но ведь надо же было оправдать свой уход из леса. И впрямь, плохи были его дела насчет хлебушка. «Ну да плохи не плохи, авось, не первая волку зима!» – говорил он себе, разлато ступая по дороге лаптями, сося трубку, кашляя и глядя вдаль запухшими, блестящими глазами.
Гурьево – село большое, старинное, с просторными выгонами, с двумя мельницами, – водяной и ветрянкой, – стоит на реке, тонет в целых рощах лозняка, осинника, и грачей в этих рощах – несметные тысячи. «Такого села, – говорил Егор, – ни в одной Америке не найдешь!» Перед вечером, когда он подходил к селу, над селом прошумел недолгий, но сильный ливень, как видно, не первый за день. Ярко чернели дороги среди зеленой муравы по выгону, на котором слева, возле барской усадьбы, стояла старая церковь, обитая жестью, возле церкви – новое кирпичное училище, посредине – мирской хлебный амбар, гамазей, а справа – тяжкий ветряк и уютный двор мельника. Дул ветер, но крылья ветряка неподвижно простирались в облачном небе. Всегда серые, они были теперь темны, сыры. С крыши гамазея падали капли; мальчишки, что стерегли лошадей по зеленой мураве, сидели под гамазеем в мокрых зипунах.
«Чудеса, – думал Егор, направляясь к ветряку и обсуждая, как всегда, то, что случайно попадет в голову. – Бесперечь тут дождь. Место привольное, для огородов, к примеру сказать, – клад чистый…»
Еще рано было, а уже гнали разбегающееся по выгону пестрое стадо. Предвечернее солнце проглянуло на минуту далеко за селом, за речной долиной, как раз против училища, блеснуло на новой, похожей на цинковую крыше его, на золоченом кресте церкви, сделало стадо еще пестрее и опять потухло, скрылось в облаках. Церковь в Гурьеве грубая, скучная, какая-то чуждая всему, училище имеет вид волостного правления, ветряк неуклюж, тяжел, работает редко. Буднично шумели, гамели без толку грачи в лозняке по речке. Бежало, ревело и блеяло стадо, перекрикиваясь, гонялись за овцами бабы с накинутыми на голову подолами… Там, в Ланском, в караулке без крыши, среди глухого кустарника, цветов и бурьяна, умирала замотавшаяся до последнего, смиренная мать Егора. А он стоял зачем-то среди выгона в Гурьеве, думал, что попало, ждал зачем-то, пока прогонят стадо. Стадо прогнали – и он долго глядел на двух спутанных мокрых лошадей, щипавших траву и тяжело перепрыгивавших с места на место спутанными передними ногами. Передвигая трубку из угла в угол рта, тяжело дыша, кашляя и сплевывая, он рассеянно водил глазами по выгону, мысленно ругал дураком церковного старосту, обившего старую каменную церковь жестью, глядел на гамазей. Прижавшись к стене гамазея, сидели на большом белом камне мальчишки в мокрых, рваных зипунах. Возле них стоял жеребенок-третьяк. На него капало с крыши: сверху он был темный, снизу светло-рыжий, сухой… Егор невесело усмехнулся и, скользя, разъезжаясь по грязи лаптями, побрел к избе мельника.
Как всегда, хозяева не обратили на Егора никакого внимания. И, как всегда, это нисколько не смутило его. Он перешагнул порог избы, тряхнул, в знак привета, головой, своим гимназическим картузом, плоско лежавшим на белых кудлах, и сел на нары, стал насыпать трубку едкой махорочной пылью, вывертывая истертый кисет. Старик-мельник гнулся на лавке возле стола, тупо, упершись ладонями в лавку, глядел на руки своей молодой, беременной бабы, Алены, просевавшей над столом муку. Алена слывет в Гурьеве красавицей за свою крепость и белое коровье лицо. А сам мельник мал и лыс, головаст, безобразен. Он богат, а полушубок на нем рваный, засаленный, темный, – резко выделяется новый оранжевый рукав этого полушубка. Нос у него похож на мухомор, большие открытые ноздри стали от нюхательного табаку темно-зелеными и бархатными. Глядя на муку, серой пылью сыплющуюся из-под решета, он равнодушно спросил Егора:
– Что, ай соскучился в лесу-то?
– Что ж мне скучать, – не спеша ответил Егор. – Дело есть в селе…
И, сошмыгнув с нар, подошел к загнетке, открыл заслонку и по пояс залез в темную жаркую глубь печки.
– Нуждишка есть, – глухо крикнул он оттуда, вытаскивая своими култышками раскаленный уголь из золы и забивая его в трубку.
Алена, подсевая, ловко хлопая решетом в ладони и тряся широким задом, через плечо покосилась на Егора. «Всю печку выстудит, родимец!» – подумала она. Но Егор, хорошо знавший такие думы, принял, выбравшись из печки, самый беззаботный вид. И, затягиваясь, растравляя себе ноздри едким запахом и жаром горящего осинового угля и с мучительным наслаждением кашляя, опять спокойно уселся на нарах. «Ай уйтить? – думал он рассеянно. – Да черт с ними, посижу еще маленько… Жрут, жрут, по два раза на неделю хлебы ставят и все не облопаются», – рассеянно думал он, глядя то на хлебную дежу возле печки, прикрытую старым армяком, то на желтоватую атласную муку, что длинной горкой, вроде крышки гроба, росла на столе, то на Алену. Толстые руки ее, засученные по локоть, были запорошены мукою; на пальцах блестели медные и серебряные кольца. Подол шерстяной красной юбки Алена подняла и заткнула за пояс, толстые ноги в мужицких сапогах, черневших под серой рубахой, поставила твердо и, немного отвалясь назад, выставляя свой страшный живот, мерно трясла задом.
– Хлебушка я не наживусь у тебя полкраюшечки? – спросил Егор, сплевывая слюну, постоянно набегавшую на его белесые от голода и трубки губы.
Алена промолчала. Анютка, ее девочка с лихорадкой на губах и веером подстриженными на лбу жесткими волосами, всё лезла, наваливаясь на стол, пальчиком проводя в муке полоски. Промолчав на вопрос Егора, Алена вдруг звонко щелкнула девочку в лоб ладонью. Девочка отвалилась, шлепнулась на лавку и заголосила.
– Сказала, ня налягай на муку! – крикнула Алена своим грубым однодворческим голосом.
– А вот я ее ножиком сейчас зарежу, – сказал, входя в избу, Салтык, молодой работник, в овчинной куртке и белом фартуке, только что приехавший с поля, где он подкашивал опушку обитого градом овса.
И стал вешать на стену, на деревянный костыль, вбитый между бревнами, тяжелый новый хомут с белыми гужами и недоуздок, на блестящих удилах которого зеленела наеденная лошадью травяная пена.
Вид у Салтыка, недавно отбывшего солдатчину, был самодовольный, лицо, в полубачках, загорелое, приятное, грудь широкая, солдатский картуз сдвинут на затылок. На груди фартука были крупно вышиты красные буквы. И Егор, которому Салтык только кивнул слегка, подумал:
«Верно, Аленка и вышивала. Да и девчонка, конечно, его. Недаром же болтали, что он ее еще до солдатчины управился обдергать. Дурак мельник! Я бы с ней шкуру спустил да на пяло растянул!»
Он, сипя, носил грудью, показывая в прореху обитого ворота бурую полоску загара на мертвенно-бледном теле. Бледно было и отекшее лицо его. Он был тяжко болен, но чувствовать себя больным давно вошло в привычку, он не обращал на это ни малейшего внимания. Нисколько не обижало его и то, что на него, больного, голодного, даже и посмотреть внимательно никто не хочет. Не испытывал он и злобы к Алене, когда думал: «Я бы ее шкуру на пяло растянул», – хотя растянуть мог бы. Но глухое раздражение не только против этого богатого и скучного двора, но и против всех гурьевцев, все-таки сидело в нем, томило и заставляло думать что-то такое, что не поддавалось работе ума, досадно вертелось в голове, как стертая гайка. Он уже давно освоился с тем, что часто шли в нем сразу два ряда чувств и мыслей: один обыденный, простой, а другой – тревожный, болезненный. Спокойно, даже самодовольно думая о том, что попадется на глаза, что случайно взбредет на ум, часто томился он в это же самое время и тщетным желанием обдумать что-то другое. Он завидовал порой собакам, птицам, курам: они небось никогда ничего не думают! Теперь ему и хотелось и не хотелось сидеть у мельника. Да что делать-то, если не сидеть, куда идти? В лес, в кустарник, в сумерки, где всюду мерещится этот серый черт?
Алена зажгла над столом висячую лампочку, загоревшуюся бледно-зеленым огнем: еще светло было за окнами. Салтык не спеша достал из кармана порток плисовый кисет, не спеша свернул и загнул крючок, икнул и, пропустив в стекло лампочки соломину, закурил, сел на лавку.
– Подсевай, подсевай, – кинул он Алене, затягиваясь. – Чтой-то пирожка хочется.
– А рожна ня хочется? – спросила Алена, говоря с Салтыком тем особым, как будто грубым тоном, каким говорят при народе только с любовниками.
– Их, пироги-то, надо уметь с умом печь, – сказал Салтык, далеко сплевывая. – Надо тебе каталог выписать. Когда я в Тифлисе служил, так там хозяйкина дочь завсегда выписывала каталог, по какому все можно приготовить. Вот и ты – пошли в Москву письмо, вложи в него марку семь копеек и напиши: так, мол, и так, вышлите мне всех возможных каталогов.
– И то правда, – отозвался старик. – Ты, известно, все знаешь: где какие жители, где какие города…
Егор покосился и подумал: «Какие города! Много он, дурак, знает, окромя своего Тифлису! Вот я бы ему порассказал…» Ему очень захотелось спора, в котором он вышел бы и умнее, и толковее, и бывалее Салтыка. Но намерение попросить хлеба и еще что-то, чего он не мог определить, связывало его, всегда смелого и болтливого, ставило в тупик – и перед кем же! – перед мужиками, которых он даже и сравнивать никогда не хотел с печниками, плотниками, малярами! Он только независимо откашлялся и, насасывая потухшую трубку, притворяясь рассеянным, стал слушать: что-то еще сбрешет Салтык?
– Как же мне не знать! – сказал Салтык. – Да я не то что, я, как осень, беспременно опять туда! Там сейчас самая колбня идет, – сказал он, мельком взглянув на Алену и усмехнувшись. – Да ей-богу: веселье, гулянье – кажный божий день, с восьми утра до двух ночи. Особливо в курсовых, в Пятигорске, в Кисловодске, в Висинтуках…
– Значит, скучать не имеют права, – вставил старик и достал из кармана полушубка тавлинку.
– Ну, только там с деньгами хорошо, – продолжал Салтык, не слушая старика. – Без денег туда лучше и не показывайся. Там только вино ничего не стоит. Там кажный грузин аграмадный виноградник имеет. Везут на базар в бочках – так и плескается.
– Имеют капитал добывать его, вот и плескается, – сказал Егор. – Авось, и это дело знаем не хуже твоего, – пробормотал он, чувствуя, что его опять начинает ломать, знобить, и неотступно думая о полушубке, которым он совершенно напрасно заткнул окно в караулке вместо того, чтобы надеть его, догадаться, что к вечеру после дождя будет прохладно.
Но Салтык не обратил внимания и на это замечание.
– Там, брат, – говорил он, неизвестно к кому обращаясь, – какие бульвары, сады! Сад князя Чалыкова на три кавадратных версты тянется! Только из одного плохо: там, ночь пришла, без бурки ни шагу: стыдь. А в горах завсегда снег, круглый год не переводится…
«Дурак! – подумал Егор. – Без бурки! А спроси его, какая такая бурка – ни елды, кислая шерсть, не знает…»
– Бурка, она, брат, медвежья, иде ты мог ее заметить? – неожиданно для самого себя сказал он вслух.
И закрыл глаза. «Скука теперь в моем блиндаже… И напрасно, едрена мать, не взял я полушубка!» – подумал он, глядя на зеленый огонь лампочки, на лиловеющий воздух за окнами, в которые сек опять набежавший дождь, и вспоминая однообразный звон кустовых овсянок, жалостное цоканье чекканок.
– По горам там везде стёжки проделаны, – говорил Салтык. – Черкес какой-нибудь разнесется… летит, скачет – как только голова цела! А глянешь на́ горы издали – как тучи заходят. Опять же из девок не плохо. Там к девкам пойтить – по таксе, за всход тридцать копеек. Ты вот старый человек, а она тебя может кажная раскипятить.
– Нет, теперь не гожусь, – отвечал старик, двигая плечами, почесывая их ерзающим полушубком. – А раньше я, правда, до девок враг был! Мог с ними хорошо обойтиться.
Егор ухмыльнулся и хотел было рассказать, как один печник бобровым стручем опоил, отуманил, обольстил генеральскую дочь, – рассказать и дать понять, что печник этот был не кто иной, как он сам. Но перебила Алена.
– Будя, бряхучий! – крикнула она тем притворно-злым тоном, которым здоровые бабы, имеющие старого мужа, прикрывают свою любовь к щекотливым разговорам. – Будя, бястыжий! Старый человек, а що бреша! Табе вон на кладбишшу поместье давно готова! Двух жен похоронил!
– А я что? – сказал старик. – Я ничего.
– Народ там красивый, не унижённый, – продолжал Салтык. – Есть старики по сту лет живут…
Егор и на это хотел возразить: живут-то живут, а на кой черт, спрашивается? Но опять его перебили.
– Ну, об этом ты оставь! – сказал старик. – Взять хоть к примеру меня такого-то; живу я семьдесят годов, шашнадцать человек своей крови похоронил, а прожил бы до́ ста лет, от меня опять пошли бы плоды… Где ж тогда жить? И то народу развелось до гибели, а тогда прямо ели бы друг друга, как рыба в море. Вот приходил ко мне старик с того боку – сто пять, говорит. А уронил шапку – поднять не может.
– Это барский-то? Какой табе! – весело крикнула Алена. – За водой еще сам ездит! Скоропостижнай дед!
– Не хуже моей старухи, – сказал Егор. – Животолюбивая старуха! А я ее корми, журись об ней…
– А вот говорят же умные люди, – сказал старик, – можно, говорят, век прожить, а как умрешь, не будешь причинен ни тлению, ни прению. Только, говорят, не надо разгорячительной пищи есть. Я когда у господ жил, так там барчук был, на доктора учился. Был он мне дорогой приятель и, бывало, часто сказывал, будто кажный человек может свое тело захолодить, и, как помрет, тело тлеть не будет, а будет в воздух улетучиваться.
– Ну, это зря брешут, – возразил Салтык.
– Книги, значит, доказывают.
– Книги! – ухмыльнулся Салтык. – Ни ж можно с холодной кровью жить?
Егор, обиженный равнодушием, каким встречено было его замечание о матери, опять вмешался и на этот раз уже совсем смело.
– А рыба? – спросил он. – Может же она с холодной кровью жить и распложаться?
Салтык повернул к нему голову.
– Та-ак! – сказал он насмешливо.
И вдруг решительно заговорил:
– Рыба! Да ты погляди, как она, рыба-то, ныряет, козлекает в воде! Ухитришься ты так-то? Ты вон мелешь – она с холодной кровью, а выложи ее на́ берег: улетучится она ай нет? Никуды она не может улетучиться!
Егор внезапно разгорячился.
– А я так скажу, – крикнул он, – а я тебе скажу, что нашему брату, рабочему человеку, нельзя без горячей пищи! Ты вон мурло наел, тебе хорошо брехать! А я без пищи захворать могу! Я, может, кабы сыт-то был…
– Ну, и вышли оба дураки! – закричал и старик, поднимаясь. – Терпенья у нас не хватает, вот и не можем захолодить! А вы гляньте, как святые-то, угодники-то, какие Богу-то угожали да не ели, не пили, как они-то делали? Как Ларивон-то святой делал? Мог же он три года одной редькой питаться?
– Значит, по-твоему выходит, и моя старуха святая будет? – крикнул и Егор, выхватывая трубку изо рта. – Она вон тоже не ест, не пьет… У нас вон даже и редьки твоей нету…
– Постойте, – сказал Салтык, – погодите лапить-то!
И, обернувшись к старику, неожиданно принял сторону Егора:
– Значит, и мы с тобой могли бы святыми исделаться? Охолодили бы свое тело, налопались редьки, да и вся недолга?
– Да будя вам бряхать-то! – громче всех закричала Алена, бросая решето. – Га́лманы!
– Да и правда! – подхватил старик. – Бога-то попомните! Он, брат, за такия речи не спускает нам, дуракам!
Алена с нахмуренным лицом подошла к нарам и, косясь на утирку, на которой сидел Егор, дернула ее и злобно крикнула:
– Пусти-кася! Уселся на ширинку – и горя мало! Нябось, и домой пора, нечего до ужина досиживать!
– Это не твоя забота, – возразил Егор, – я и сам свою время знаю. Ужин твой мне без надобности, а балакать ты мне не можешь запретить. Вот посижу еще маленько и пойду…
Дождь прошел, вечернее небо очистилось, в селе было тихо, избы темны: до Ильина дня не вздувают огня летом, ужинают перед избами, на камнях, в полусвете зари. Выйдя от мельника, Егор остановился, даже спросил себя: не вернуться ли в Ланское? – и повернул в село, в ту большую улицу, что тянется между дворами по косогору над речкой. В полусвете зари, вокруг камней у порогов сидел народ без шапок, хлебая из деревянных чашек кто тюрю, кто молоко. Но Егор, проходя мимо и косясь, плохо различал лица ужинающих: в глазах рябило, по телу проходил озноб, в мыслях была тревожная беспорядочность. Очень хотелось ему обдумать то, о чем спорили у мельника: все чепуху говорили там, один он мог бы сказать что-нибудь путное, если бы ему не мешали разобраться в мыслях. Очень хотелось решить и еще что-то – неотложное, самое что ни на есть главное… Но что? Голова его усиленно работала. Тифлис мешался в голове с рыбой, Салтык с Анисьей, вопрос о том, можно ли ничего не есть и захолодить свое тело, нельзя было решить потому, что не давала покоя злоба против Алены, ее широкого зада и однодворческого говора. И Егор торопливо шел по улице, боясь, что не застанет кузнеца дома, что кузнец ляжет спать, что опять не удастся ни поговорить всласть, ни доказать, что у мельника все чепуху говорили… Но кузнец был дома.
Кузнец был горький пьяница и тоже полагал, что умней его во всем селе нет, что и пьет-то он по причине своего ума. Разве ему кузнецом бы быть! Он всю жизнь не мог примириться со своей долей, люто презирал село и холодно-зол бывал в трезвом виде, свиреп становился, если ему удавалось попить дня три-четыре подряд. Он ходил тогда с колесным ключом в руке, затевал скандалы с каждым встречным, гоготал под окном лавочника, певшего по праздникам в церкви, вызывая его на состязание в пении. А не то шел в училище экзаменовать мальчишек по закону Божию и грозил учительнице на месте убить ее ключом за единую ошибку. С похмелья он бывал угнетен. В таком положении и застал его Егор.
Он сидел возле кузни, на косогоре над речкой, над плесом, против водяной мельницы. Слабо алел закат за нею, там, где сходился с темной землей прозрачно-зеленоватый небосклон. Еще светло было над плесом, сталью лежавшим по лугу. Но тот берег, где мельница, был уже совсем темен: только по отражениям в плесе можно было догадаться, что там деревья. И, сидя возле кузни, поставив локти на колени, думал кузнец о том, как глупы были наши генералы во время войны с японцами. Вот, например, в такой вечер… что стоило японцам вплотную подойти к нашим войскам? Небось, генералы-то наши, умники-то эти, глядели в свои подзорные трубы за речку, на берег, в темноту, где ничего не видно, когда надо было глядеть вовсе не туда, а в реку, где отражается каждое дерево и все светлые пролеты между деревьями… Мысль эту кузнец немедля высказал Егору, как только тот подошел и сел на косогор рядом с ним. А Егор, обрадовавшись, что у кузнеца есть табак, что кузнец с похмелья и думает, значит, вовсе не о генералах, поглядывал по сторонам, кашлял и ждал, когда наконец додумает кузнец свою думу. Как и у Егора, мертвенно было тело у кузнеца, рубаху которого все заворачивал сзади ветер, рубаху ситцевую, но очень ветхую, прожженную, в мелких дырочках. Был и кузнец лохмат, но не так, как Егор, а так, как бывают лохматы мастеровые, рабочие. Страшно черны и маслянисты были его волосы, его борода, смугло и маслянисто лицо, болезненно перекошены брови и блестящи глаза. Дул ветерок, темневшая река рябилась; кузнеца трясло. Но вдруг он встал и, наступая сапогом на сапог, начал быстро разуваться, раздеваться.
– Ай ты очумел? – крикнул Егор, со страхом глядя на тощее меловое тело, забелевшее в полусвете зари, когда кузнец, взъерошив волосы, сдернул с себя рубаху. – Ай ты очумел? Да у тебя сердце зайдется в воде в этакую стыдь!
– Вона! – крикнул кузнец хриплым басом.
И вдруг загоготал, скинув штаны вместе с подштанниками и разбегаясь, чтобы шаркнуть в воду:
– Бла-го-сло-ви, вла-ды-ко-о!
Он хорошо знал, что ледяная вода мгновенно даст ему решительность, находчивость. В воде, и впрямь, зашлось у него сердце, но он не дал ему поблажки: он фыркал, нырял, плавал… Не попадая зуб на зуб, выскочил он на берег, неловко и торопливо натянул штаны на мокрое тело, влез в рубаху и, влезая, твердо сказал Егору, что околевать он не намерен, что его душа дороже колес. А каких колес – этого Егору не надо было пояснять: он мгновенно сообразил, что лежат у кузнеца чьи-то колеса, присланные в починку, и что надо как ни можно скорее захватить передки и бежать к мельнику, тайком торгующему водкой, чтобы заложить их ему. И не прошло и получаса, как уже сидел Егор с кузнецом в кузне, возле маленькой жестяной лампочки, поставленной на горн, рядом с бутылкой и горшочком холодной пшенной каши, за оживленной беседой о том, можно ли, питаясь одной редькой, попасть во святые, можно ли захолодить свое тело, чтобы не тлело оно после смерти…
А во втором часу ночи, при заходящем за тускло блестящими хлебами месяце, Егор, шатаясь и размахивая руками, быстро входил в Ланское. Точно упругие волны несли теперь его тело. Роса серебрилась по мокрым, пахучим, густым цветам и травам. Сильней всего пахло любимым растением Егора – полынью. Длинно темнели тени от кустарников, блестевших верхушками под опускающимся к югу месяцем. И полосы света и теней среди них создавали что-то сказочное для пьяных глаз, сказочно-светла была далекая даль за кустарниками, за полями, над которыми уже дрожала в серебристой прозрачности большая розово-золотая звезда. Шурша по росистым лопухам и напевая, смело подошел Егор к двери, дернул за скобку – и остановился на пороге своей крохотной, чуть светлой избы. Мертвое молчание стыло во всем мире в этот предрассветный час. Мертвое молчание наполняло и караулку. И в этом молчании, в сонном полусвете, недвижно чернело что-то на лавке под святыми. И, приглядевшись, Егор вдруг закричал таким страшным сиплым голосом, что с шумом выскочила из лопухов старая черно-седая собака…
III
Гурьев подарил на похороны красную бумажку. Все было справлено честь честью – хоть бы и не Анисье впору.
Медленно, с большими промежутками, зачинаясь звонко, жалобно, но все строже, падали звуки с колокольни. Падение это внезапно, нестройно обрывалось терцией баса и альта. И наступало долгое молчание: слышалось только, – из-за ракит по дороге в Ланское, – протяжное, все приближающееся церковное пение: на дороге встретили поп и дьякон телегу, в которой везли Анисью из Ланского. Со двора усадьбы и по улице над косогором бежали на выгон бабы. С ребенком на руках, спотыкаясь, спешила Марья. Стояли на пороге мельник без шапки и мельничиха. Дул западный ветер, а из-за речки опять заходила, опять тускло синела дождевая туча.
Слегка поката дорога между ракитами на въезде в Гурьево. И небольшая толпа, предводительствуемая кузнецом в черной тяжелой поддевке, который нес на голове длинную крышку гроба и на ходу мрачно пел, издали казалась высокой, вырисовываясь на облачном небе. Белел коленкор, что накинут был на крышку, и развевался по ветру. Шли с ноги на ногу, но уже можно было различить, что эти темные фигуры со спутанными от ветра волосами тащат на полотенцах длинный ящик, черный, с оранжевым ободком по краям. Внушительно раздавались голоса попа и дьякона. Как всегда, медлили в пути, останавливались, махали кадилом и, пугая самих себя словами, повторяли одно и то же – то зловеще, то с покорностью. Все делалось так, чтобы выходило торжественно и грозно. А та, для кого это делалось, и теперь была так же смиренна, проста, как и при жизни. Темна и суха была она; маленькой стала ее высохшая головка, покрытая новым черным платочком. На груди ее желтел деревянный образок. Парча покрывала до половины мелкий черный ящик, где она покоилась, – парча, знак царственности. И парча эта была так ветха, так грязна и дырява: Боже, скольких уже покрыла она! Дьякон гурьевский, серо-седой человек, тревожно думающий лишь о пасеке своей, всем своим гнутым станом и коротким, но широким лицом похож на зверя. Желтоволосый поп, слабосильный, слабовольный, всегда выпивши, шепелявит. Ризы, епитрахили их так истрепаны, что серебряное шитье, подолы, калоши – все в полном соответствии с грязными или пыльными дорогами, с телегами и мелкой, навозной соломой в телегах.
И на выгоне, где паслось барское стадо, поп не выдержал торжественности: начал спешить, бормотать, поглядывать на барского быка: бык этот брухается, закатал недавно пастушонка. Поглядывал поп и на сторожку у церковной ограды: на крыльце сторожки стояла плетушка, обвязанная скатертью, а в плетушке той были «поповские харчи»: ситные пироги, жареная курица, бутылка водки – то, что полагается причту за похороны, помимо денег. И торопливо провел поп теснившуюся толпу в церковные ворота. Ветер развевал тонкие русые волосы, шеи несущих гроб были красны, натерты полотенцами, лица озабочены. Больше же всех старался казаться озабоченным Егор, шедший с полотенцем через плечо в возглавии гроба.
А в церкви все немного оробели. Притихли – и слышалось только шарканье, топот: осторожно опускали гроб на пол. Высвобождая из-под рясы мягкие, трясущиеся, маленькие руки, роздал поп короткие, тонкие свечи, дробя ярко и золотисто пылающий пук их. И, раздав, громко и привычно возгласил. И замелькали сложенные в щепотки пальцы, кланяющиеся и встряхивающиеся головы. Крепко крестились старухи, воздевая глаза к иконостасу. Блистали рассеянные по толпе огоньки, возносилось, гремело кадило. Кадили, обходя большими шагами гроб, кланялись Анисье, быстро говорили на торжественном языке, давно забытом ее нищей родиной, нестройно и притворно-смиренно пели, выражая умиление, что равна теперь она царям и владыкам, выражая надежду, что упокоится она со духи праведных. Но уже не слыхала Анисья этих утешений. Ни кровинки не было в ее голубоватом лице. Закрылось лиловое веко ее правого глаза, запеклись, слиплись и подсохли тонкие губы. И ледяной лоб ее уже был увенчан венцом высшей славы – золоченой бумажкой. И в сизо-восковой, прозрачной руке ее, в скрюченных пальцах, под ногтями которых точками темнела мертвая кровь, уже торчал Отпуск…
Егор, глядя в гроб, крестился размашисто и часто. Он играл ту роль, что полагалась ему у гроба матери. Он моргал, будто готовый заплакать, кланялся низко, наклоняя капающую свечку, крепко зажатую в его култышке. Но далеко были его мысли и, как всегда, в два ряда шли они. Смутно думал он о том, что вот жизнь его переломилась – началась какая-то иная, теперь уже совсем свободная. Думал и о том, как будет он обедать на могиле – не спеша и с толком…
Так и сделал он, засыпав мать землею: ел и пил до отвалу. А под вечер, тут же, у могилы, плясал, всем на потеху, – нелепо вывертывал лапти, бросал картуз наземь и хихикал, ломал дурака; напился так жестоко, что чуть не скончался. Пил он и на другой день и на третий… Потом снова наступили в жизни его будни.
Эти будни были уже не те, что прежде. Постарел он и поддался – в один месяц. И много помогло тому чувство какой-то странной свободы и одиночества, вошедшее в него после смерти матери. Пока жива была она, моложе казался он сам себе, чем-то еще связан был, кого-то имел за спиной. Умерла мать – он из сына Анисьи стал просто Егором. И земля – вся земля – как будто опустела. И без слов сказал ему кто-то: ну, так как же, а?
Он не думал об этом вопросе, – только чувствовал его. И ничего особенного не заметили на лице его те мальчишки из Пажени, с которыми ночевал он в ночном под четвертый день августа, верстах в трех от Пажени, у откоса железной дороги. Он только внезапно проснулся на рассвете и вдруг сел, побледнев.
– Что ты, дядя Егор? – испуганно крикнул мальчишка, лежавший с ним рядом.
Егор, бледный, слабо улыбнулся.
– Так… чтой-то померещилось, – пробормотал он.
И опять прилег.
Было еще рано. Шел туманный, предосенний дождь над опустевшими полями. Егор лежал, прикрывшись полушубком, курил и, кашляя, медленно рассказывал проснувшимся мальчишкам, как он, не боясь никаких судов, бросил свое место, ушел из Ланского. Рассказывая, он к каждому слову прибавлял матерное слово. А рассказав, стал прислушиваться к приближающемуся шуму товарного поезда. Шум рос и близился все грознее и поспешней. Егор спокойно слушал. И вдруг сорвался с места, вскочил наверх, по откосу, вскинув рваный полушубок на голову, и плечом метнулся под громаду паровоза. Паровоз толкнул его легонько в щеку. И Егор волчком перевернулся, головой полетел на насыпь, а ногами на рельсы. И, когда потрясши землю, оглушая, пронесся поезд, увидали мальчишки, что барахтается, бьется рядом с рельсами что-то ужасающее. В песке билось то, что было за мгновенье перед тем Егором, билось, поливая песок кровью, вскидывая кверху два толстых обрубка – две ноги, ужасающих своей короткостью. Две других ноги, опутанных окровавленными онучами, в лаптях, лежали на шпалах. А по пустому, осеннему полю, в тумане мелкого дождя, уже тревожно кричал под ветер, к следующей будке, медный рожок выскочившего из ближней будки сторожа…
Так разно кончили свои дни хозяйка и хозяин «веселого» двора в Пажени.
Древний человек
Рано чувствуется осень, ее спокойствие. Начало августа, а похоже на сентябрь, когда жарко лишь в затишье, на припеке.
Учитель Иваницкий, человек молодой, но необыкновенно серьезный, глубоко задумывающийся по самому малейшему поводу, медленно поднимается на пологую гору, прогоном через усадьбу князей Козельских. Заложив одну руку за широкий пояс, которым подпоясана его длинная чесучовая рубаха, а другой пощипывая кончики редких белесых усов, учитель горбит свой истяжной стан и щурит зоркие зеленоватые глаза.
Направо – большой сад за соломенным валом; налево – старая кузня, развалины псарни, пустые сушилки из розовых кирпичей, а между ними – проезд на бесконечное и тоже пустое гумно. В саду, уже поредевшем, тишина, косой солнечный блеск; кое-где золотится паутина; спокойно лежат пятна теней под яблонями; порой с коротким стуком падает в шелковистую, сухую траву спелое яблоко. Дерновая вогнутая крыша кузни вся в наростах мха, бархатно-изумрудных, с коричневым отливом. Раскрытые сушилки тяжелы, грубы, очертаниями своими говорят о чем-то давнишнем. И все это, – мох на кузне, псарня, заросшая лопухами, голые стропила над розовыми стенами, – все так чудесно на ясном голубом небе среди белых круглых облаков. На огромном пустыре гумна воробьи ливнем пересыпаются с одной крапивной чащи на другую. За этими чащами поднимается порозовевший осинник… Учитель идет к Соловьевым, еще раз хочет повидаться с их дедом Таганком. Древен он, как говорят в Козельщине: ему сто восемь, он знаменитость.
За усадьбой учитель поворачивает налево, в ту широкую улицу, что пролегает между валом гумна и старыми избами бывших княжеских крепостных. Конец ее как бы упирается в небосклон – чуть зеленоватый, сентябрьский. Сентябрь и в верхушках лозин, кое-где растущих перед избами и сквозящих мелкой, желтеющей листвой на белых облаках и лазури; сентябрь в золотистом солнечном свете и в прозрачной тени, падающей от изб на улицу, на водовозки, прикрытые пегими попонами и армяками… Учитель идет и косится на избы, на их окошечки и крыльца.
Окошечки крохотные, темные. Крыльца, пороги обросли грязью. Да не лучше и возле них. В крепкой, как чугун, засохшей грязи, в которую вросли тряпки, сгнившие лапти, лежат большие камни, на которых летом обедают и ужинают. Дети кричат, перекликаются, лазят по ним. Много детей в Козельщине, и как сопливы они, в каких болячках их щеки и губы!
– Как тебя зовут? – спрашивает учитель толстого голубоглазого мальчика под лозинкой у двора Фоминых.
Мальчик молчит. Учитель повторяет вопрос. Мальчик пятится к лозинке, поднимает грудь, надувается так, что багровеет, и молчит.
Озабоченно бродят куры, раздирают лапами золу, землю, клюют что-то, кудахтают, приманивая цыплят. У двора Климовых спит под водовозкой старуха. Тень от избы скосилась, передвинулась, солнце падает на водовозку, печет лицо, так густо облепленное мухами, точно на нем черный рой привился, печет худой кострец, голые ноги, блестящие от загара. Мальчик в штанах с помочами и шерстяных красных чулках носится среди цыплят, бегающих и на бегу клюющих по земле и по ногам старухи мух, и все норовит затоптать хоть одного из них; цыплята с писком рассыпаются, и он останавливается, выжидает, когда они соберутся в кучку, а как только соберутся, опять со всех ног летит на них.
Соловьевы разделились. Таганок живет у Глеба. Но учитель идет сперва к двору его другого внука, плотника Григория. Григорий стоит на прогалине между избою и погребом, в проходе на гумна, посреди квадрата из трех ярусов новых, телесного цвета бревен: рубит себе амбаришко. На нем городской картуз, еще не мытая ситцевая рубаха, вздутая розовым измятым пузырем, штаны из чертовой кожи и сапоги: Соловьевы – первые жители в Козельщине. Увидав гостя, он легонько и ловко всекает в бревно блеснувший на солнце топор. Здороваются, садятся на сруб, закуривают.
– К Таганку? – спрашивает Григорий.
– К нему. Давно не видал…
– Что ж, дело хорошее. Пройдите, проведайте. Он это любит.
– А как он? Дряхлеет?
– Нет, скрипит еще помаленьку. А, конечно, не наше с вами дело: ведь сто восемь. Да и житье, конечно, не сладкое.
– А что?
– Да что, надо правду говорить: голодом они его морят, вот главная вещь.
– Все сноха?
– Известно, она. Да я так думаю, всему причина брат Иглеб. Его допущение. Он должен защищать, кому же больше? Сам-то Таганок, вы знаете, какой: за всю жизнь цыпленка не обидел.
– Серьезно, морят?
– Еще как серьезно-то! У них вон шесть пудов одной ветчины висит, – поверите, ребрышка никогда не дадут. Сами, как праздник, за чай, а он чашечки попросить боится. Ничтожности жалеют…
– Нда-а, – задумчиво говорит учитель.
Сипят кузнечики в бурьяне на припеке. Все сохнет, роняет черные зерна: крапива, белена, репьи, подсвекольник. Баба, в красной юбке, в белой рубахе, стоит в чаще конопляников выше ее ростом, берет замашки. За конопляниками сереют риги, желтеют новые скирды.
– Нда-а, – говорит учитель, едко затягиваясь. – Скирды-то ваши?
– Нынешний год дал Господь, – скромно, боясь сглазить, отвечает Григорий.
– А чашки чаю жалеют, – ухмыляется учитель. – Что он, и теперь еще хорошо помнит все?
– На удивление прямо! Все помнит: что когда сделать по дому, что, например, прибрать, купить, где что дешевле, – все первый скажет. Насчет корму, например, разумней его человека нету…
Проходят к Таганку задами. За двором Григория несколько колодок пчел. Учитель гнется, боится их, а Григорий смеется, уверяет, что пчелы чистого человека не трогают. Тут чуть тянет холодком с севера, под солнцем пыльно и сытно пахнут конопляники. Против конопляников приделано к каменной стене варка нечто вроде шалаша, сбитого из кольев и обшитого замашками. Это и есть летнее жилище знаменитого человека.
– Де-ед? – окликает учитель, отворяя дверку.
Никто не отзывается – в шалаше пусто. Верно, Таганок в избе. И Григорий уходит искать его. А гость спешит осмотреть шалаш. Все то же. И все так же трогательно. Чтобы не надоедать снохе своим присутствием, сократиться насколько возможно, перебирается сюда Таганок чуть не с Великого поста. Гнилые розвальни без оглоблей, покрытые соломой, служат ему постелью. На соломе нет даже попонки. В изголовье, вместо подушки, – свернутый рваный чекмень, и по цвету видно, что чекменю этому полвека. У изголовья – столик из дощечки и кольев; на дощечке – подобие шкатулки, а в ней все добро, все хозяйство Таганка: моток ниток, варежки, тавлинка из бересты с нюхательным табаком… Боже мой, боже мой! Драгоценнейшим даром, даром сказочного долголетия одарила судьба своего избранника! А к чему он тут, этот дар?
У шалаша лежит большой обрубок, корень дуба. На нем дед отдыхает, греется, – обрубок отшлифован полушубком. Учитель садится и ждет. Когда же за углом слышатся шаркающие шаги, поднимается, чтобы уступить Таганку привычное место. Таганок показывается из-за угла, – невысокий, с опущенными плечами, – и подвигается неловко, вразвалку, опадая с одной ноги на другую. Ноги толсто опутаны онучами, в больших лаптях. Полушубок, почти голый с исподу, – вытерлась овчина, – стал широк, полы его висят. Большая шапка надета глубоко, немного криво. Увидав гостя, Таганок стаскивает ее обеими руками, как ребенок, кланяется низко. Длинные волосы, уцелевшие вокруг его темного черепа, белы и легки, как ковыль. Легка, бела и косая борода его. Выцветшие, налитые слезами глаза ничего не выражают, кроме не то покорности, не то грусти.
– Здорово, дедушка, – говорит учитель, садясь на землю. – Как поживаешь? Надевай шапку-то…
Таганок колеблется. Он, одолев больше века, невольно и сам считает себя особенным человеком. Но заслужил ли он наконец право быть при господах в шапке, этого он еще не знает. Поколебавшись, обеими руками надевает ее.
– Садись на обрубок-то, тебе покойнее будет…
Таганок, помедлив, садится; поправляет полы, складывает на коленях черные руки и что-то думает.
– Энтих уж нету, – говорит он медленно и так, точно разговаривает не с учителем, а с кем-то другим. – Энтих уж нету, что покоили-то…
– В старину лучше было? – спрашивает учитель.
– Гм! – слабо улыбается Таганок. – В два раза лучше было…
Все старики играют, притворяются чересчур старыми. Таганок не играет. Он нечеловечески прост. Учитель, как всегда, не спускает с него глаз; его волнуют странные мысли: подумать только – при Таганке прошел один из самых замечательных веков! Сколько было за этот век переворотов, открытий, войн, революций, сколько жило, славилось и умерло великих людей! А он даже малейшего понятия не имел никогда обо всем этом. Целых сто лет видел он только вот эти конопляники да думал о корме для скотины! И сидит он так смиренно, так неподвижно. Опустил плечи, сложил на худых коленях черные, спеченные столетием руки, перекрестил искривленные работой и простудой пальцы, а мухи ползают по ним, сучат ножками. Белый мотылек спокойно, как на дереве, замер на его детски худой и черной шее, окаймленной воротом серой рубахи. Шапка надвинута глубоко; из-под шапки видны концы редких, длинных, зеленовато-белых бровей, устало приподнятых. Нижнее веко левого глаза немного разорвано и оттянуто книзу; этот глаз, полный слезою, совсем безжизнен. В правом – слабая мысль, слабая жизнь, чуждая всему нашему миру. Он, этот столетний человек, еще слышит, видит, разумно толкует с внуками о хозяйстве, помнит все, что нужно нынче или завтра сделать по дому, знает, где что лежит, что требует поправки, присмотра… И все же весь он в забытьи, в мире своих далеких воспоминаний. Что же это за воспоминания? Часто охватывает страх и боль, что вот-вот разобьет смерть этот драгоценный сосуд огромного прошлого. Хочется поглубже заглянуть в этот сосуд, узнать все его тайны, сокровища. Но он пуст, пуст! Мысли, воспоминания Таганка так поразительно просты, так несложны, что порою теряешься: человек ли перед тобою? Он разумный, милый, добрый. Следовало бы с благодарностью поцеловать его руку за то, что явил он нам, воплотив в себе редкое благословение неба. Но – человек ли он?
Говорит Таганок очень медленно, но не путаясь; выражает мысли с трудом, но точно. Он знает, что, волею судьбы, возложена на него обязанность толковать с гостями прежде всего о старине. И сам спешит дать повод к расспросам.
– Тепло, – говорит он, поводя плечом, что пригрето опускающимся солнцем. – Кровь-то моя уж холодеет… Студился, бывало, часто… А все отчего? В старину ведь в извозы ходили…
Учитель начинает расспрашивать его. И опять, опять слышит только давным-давно знакомое. Был дед два раза у хохлов, за Воронежем; был два раза в Москве, раз пять в Калуге; и много, много раз в Белеве…
– Что же? – спрашивает учитель, домогаясь обобщений. – Нравились тебе хохлы?
– Хохлы-то? – отвечает Таганок. – Ничего…
И, уже покончив с общим, переходит к частному:
– Мы туда под Сретенье поехали… У меня тогда четыре лошади было… Прокорми-ка их!.. Ну, поехали туда порожняком… Оттуда пшеницу наклали… Доправили все честь честью, стали барыши считать… ан только себя самих да лошадей оправдали…
– А француза помнишь?
Таганок думает.
– Француза-то? – спокойно говорит он. – Это какой в Москву приходил? Нет, не помню…
– А Москва при тебе велика, хороша была?
– Большая… Приедем, бывало, в нее… Поставят нас на Болоте в ряд… Мы и стоим… Как хлаг спустят, может, значит, купец, какой купил что, подойтить, взять свой товар… Ну, подойдет, глянет и отправит его: либо на Воробьиные горы, либо еще куда…
Учитель нервно курит, хмурится: нет, ничего путного не выходит из его расспросов!
Он щиплет концы усов, собирается с мыслями, стараясь представить себе невозможное, – картину одной из самых долгих человеческих жизней, картину целого столетия; он силится войти в душу и тело этого необыкновенного человека – и никак не может примириться с тем, что говорит необыкновенный человек очень обыкновенно, даже чересчур обыкновенно, рассказывает же только пустяки. «Систематически надо, систематически, – думает учитель, – с самого начала надо начать…» Но краткие, трогательные и пустяковые ответы Таганка сбивают с толку, вызывают беспокойство, лишают охоты расспрашивать. «Рано ты начал помнить себя?» – «А бог его знает, не знаю… Ведь мы, – слабо улыбается дед, – народ темный, в лесу живем, пням молимся… Допрежь тут везде леса были…» – «Какие леса?» – «А всякие. Дуб, например, сосна… Разбойники водились…» – «Разбойники? Ты историю какую-нибудь о них помнишь?» – «Нет, истории, слава богу, никакой не было…» – «Ну, а село какое было? Меньше теперешнего?» – «Все такая же… Церковь только на старом кладбище стояла, а не возле училища… Я четырех попов пережил…» Но каковы были эти попы, похожи ли на теперешних, этого Таганок не умеет рассказать. Но, может быть, он хорошо помнит господ, князей Козельских, и о них расскажет что-нибудь путное? – Помнить-то помнит… Но узнаёт учитель только то, что было три генерала: Семен Милыч, Мил Семеныч и Григорий Милыч; что господа они были хорошие, что особенно «лихим» нравом отличался Мил Семеныч…
– Тебя пороли? – спрашивает учитель.
– Нет, Бог не привел, – отвечает Таганок. – Однова только. Да еще раз в шею дал мне Мил Семеныч… На постройке… Я бревно не тое ухватил… Вот продавать – продавали… Возили… Осерчал барин на нас, на ребят… Ну, и отправил одинцать голов… В энтот, в Белев-то… Ну, привезли нас на базар, постановили друг с дружкой… Подошел бурмистр селезневский… Мы было дюже оробели, да не сошлось чтой-то дело… А за меня хорошо – полтораста пять давали…
Солнце уже скрылось за далеким полем; гуще и свежее пахнут конопляники в вечерней тени, роса пала на огороды. Почти черное, гробовое лицо Таганка стало еще безжизненнее, глаза совсем остекленели. Ему холодно, он кутается в полушубок, оправляет полы, глубже надвигает шапку и засовывает руки в рукава.
– Покойник Семен Милыч был крут! А помер он, заступил его место Мил Семеныч, – стало и совсем никуда… Молили мужики, чтобы ему Бог смерти дал… А я, бывало, скажу: «Напрасно вы его сбываете. Не сбывайте, – хуже будет…» Так оно и вышло… Да…
Таганок отдыхает; потом опять заводит медленную речь:
– Да… А как помер Мил Семеныч, привезли гроб в засмоленном рундуке… Скрозь рундук дрянь, кровь пролила… Нехорошо помер, без болезни, тело не выболело… Как, значит, кому назначено…
Учитель с трудом дослушивает этот тяжкий рассказ и поднимается.
– Ну, прощай, до свидания, дед, – говорит он. – Дай Бог тебе еще пожить.
Таганок кротко поднимает брови.
– Пожить-то? – отвечает он. – Да ведь и так уж сто с восьмеркой…
И, помолчав, опускает голову.
– Но ведь хочется небось?
– А бог ее знает…
– Но позволь, ты-то сам как чувствуешь?
– Да что ж чуствовать? Тут чуствовать нечего… Чуствуй, не чуствуй…
– Позволь: ну а если бы тебе, например, предложили пять лет прожить или год, – что ты выбрал?
Таганок слабо улыбается, глядя в землю:
– А господь ее знает…
И учитель тупо, долго глядит на него. Потом решительно пожимает его твердую ледяную руку и уходит.
Он уходит за деревню, в поле, и долго шагает в полутьме по мягкой пыльной дороге.
Возвращается уже в сумерки. Не спеша идет по улице. Огней нет, избы темны и тихи. Все спят. Пахнет жильем – как-то особенно, тепло, по-ночному. Сухо трюкают осторожные сверчки. Вот опять изба Глеба. Она вымазана известкой, слабо белеет. Стекла ее сини от вечера, в них еще слабо отражается небо. Внизу, по земле, реет какой-то еле заметный отсвет, отчего изба и полушубок кого-то сидящего на голыше возле нее странно выделяются. Кто это? Неужели Таганок?
– Дедушка, еще здравствуй, – негромко говорит учитель, очень тронутый видом этого одинокого, чужого всему миру человека, пережившего и всех сверстников своих и всех детей их.
– Кто это? – тихо откликается Таганок.
– Да я, учитель… Что же ты не спишь?
Таганок думает. Отвечает он теперь еще медленнее:
– Да какой наш сон… Древен я… А ночь эта – как медведь идет она на меня…
«Это не ночь, а смерть», – думает учитель; и, помолчав, спрашивает:
– Ну а как же? Пожил бы еще?
Тихо. Трюкают сверчки. На порог избы вышла дымчатая кошка, сбежала на землю – и стала невидима. Слабо белеет борода Таганка. Темного, гробового лица его не видно. Жив ли он?
Жив. Долго спустя он отзывается:
– Пожил бы… И пять годов одолел бы еще… Да за пять-то годов…
Он, видно, вспоминает сноху, свой шалаш, свою беспризорность, беспомощность. И легонько вздыхает:
– За пять-то годов вошь съест. А то пожил бы.
Ночной разговор
I
Небо было серебристо-звездно, поле за садом и гумном темнело ровно, на чистом горизонте четко чернела мельница с двумя рогами крыльев. Но звезды искрились, трепетали, часто прорезывали небо зеленоватыми полосками, сад шумел порывисто и уже по-осеннему, холодно. От мельницы, с пологой равнины, с опустевшего жнивья дул сильный ветер. Работники сытно поужинали, – был праздник, Успение, – и жадно накурились по дороге через сад на гумно. Накинув армяки сверх полушубков, они шли туда спать, стеречь хлебные вороха. За работниками, таща подушку, шел высокий гимназист и бежали три борзых белых собаки. На гумне, на свежем ветру, хорошо пахло мякиной, новой ржаной соломой. Все уютно улеглись в ней, в самом большом омете, поближе к ворохам и риге. Собаки повозились, пошуршали у ног и тоже успокоились.
Над головами лежавших слабо белел широкий, раздваивающийся дымно-прозрачными рукавами Млечный Путь, наполненный висящей в них мелкой звездной россыпью. В соломе было тепло и тихо. Но по лозняку, что темнел вдоль вала слева, то и дело тревожно шел и, разрастаясь, приближался глухим неприязненным шумом северо-восточный ветер. Тогда до лиц, до рук доходило прохладное дуновение вместе с дурным запахом из проходов между ометами. А по небосклону, за неправильными черными пятнами волновавшегося лозняка, остро мелькали, вспыхивали льдистые алмазы, разноцветными огнями загоралась Капелла.
Улегшись, позевали и закрыли глаза. Ветер дремотно шелестел торчавшей над головами колючей соломой. Но дошла до лиц прохлада – и все почувствовали, что спать еще не хочется, – выспались после обеда. Только один гимназист изнемогал от сладкой жажды сна. Но ему заснуть не давали блохи. Он стал чесаться, раздумался о девках, о вдове, с которой он, при помощи работника Пашки, потерял в это лето невинность, и тоже разгулялся.
Это был худой, неуклюжий подросток с нежным цветом лица, такого белого, что даже загар не брал его, с синими глазами, с большим кадыком. Он все лето не разлучался с работниками, – возил сперва навоз, потом снопы, оправлял ометы, курил махорку, подражал мужикам в говоре и в грубости с девками, которые дружески поднимали его на смех, встречали криками: «Веретёнкин, Веретёнкин!» – дурацким прозвищем, придуманным подавальщиком в молотилку Иваном. Он ночевал то на гумне, то в конюшне, по неделям не менял белья и парусиновой одежды, не снимал дегтярных сапог, сбил в кровь ноги с непривычки к портянкам, оборвал все пуговицы на летней шинели, испачканной колесами и навозом…
– Совсем отбился от дому! – с ласковой грустью говорила о нем мать, восхищаясь даже его недостатками. – Конечно, поправится, окрепнет, но посмотрите, какая лохматая чушка, даже шеи не моет! – улыбаясь, говорила она гостям и теребила его мягкие каштановые лохмы, стараясь добраться до нежного завитка, кудрявившегося, как у девочки, на его затылке, на темной шее, отделявшейся от видного под косовороткой по-детски белого тела, от больших позвонков под тонкой гладкой кожей. А он угрюмо вывертывал голову из-под ее ласковой руки, хмурился, краснел. Он рос не по дням, а по часам и на ходу гнулся, задумчиво свистал, угловато вилял из стороны в сторону. Он еще ел липовый цвет и вишневый клей, носил, хотя уже тайком, в кармане парусиновых панталон рогульку для стрельбы по воробьям, но сгорел бы от стыда, если б это обнаружилось, и не выпускал рук из карманов. Еще зимой он играл с Лилей в краснокожих. Но весной, когда по всем улицам города текли и дрожали ослепительным блеском ручьи, когда в классах горели от солнца белые подоконники, солнцем был пронизан голубой дым в учительской и директорская кошка подстерегала первых зябликов в гимназическом саду, еще полном серебряного снега, – весной он вообразил, что влюбился в худенькую, маленькую, начитанную и серьезную гимназистку Юшкову, подружился с шестиклассником в очках Симашко и решил посвятить все каникулы самообразованию. А летом мечты о самообразовании были уже забыты, было принято новое решение – изучить народ, вскоре перешедшее в страстное увлечение мужиками.
Вечером на Успение гимназист был налит сном еще за ужином. К концу каждого дня, когда туманилась и на грудь падала голова, – от усталости, от разговоров с работниками, от роли взрослого, – возвращалось детство: хотелось поиграть с Лилей, помечтать перед сном о каких-нибудь дальних и неведомых странах, о необыкновенных проявлениях страсти и самопожертвования, о жизни Ливингстона, Беккера, а не мужиков Наумова и Нефедова, прочитать которых дано было Симашке честное слово; хотелось хоть одну ночь переночевать дома и не вскакивать до солнца, на холодной утренней заре, когда даже собаки так томно зевают и тянутся… Но вошла горничная, сказала, что работники уже пошли на гумно. Не слушая криков матери, гимназист накинул на плечи шинель с мотающимся хлястиком и картуз на голову, схватил из рук горничной подушку и в аллее нагнал работников. Он шел, шатаясь от дремоты, таща за угол подушку, и, как только довалился до омета, подлез под старую енотовую шубу, лежавшую там, так сейчас же и поплыл, понесся в сладкую черную тьму. Но огнем стали жечь мелкие собачьи блохи, стали переговариваться работники…
Их было пятеро: добрый лохматый старик Хомут, Кирюшка, хромой, белоглазый, безответный малый, предававшийся мальчишескому пороку, о чем все знали и что заставляло Кирюшку быть еще безответнее, молча сносить всяческие насмешки над его короткой, согнутой в колене ногой, Пашка, красивый двадцатичетырехлетний мужик, недавно женившийся, Федот, мужик пожилой, дальний, откуда-то из-под Лебедяни, прозванный Постным, и очень глупый, но считавший себя изумительно умным, хитрым и беспощадно-насмешливым человеком, Иван. Этот презирал всякую работу, кроме работ на земледельческих машинах, носил синюю блузу и всем внушил, что он прирожденный машинист, хотя все знали, что он ни бельмеса не смыслит в устройстве даже простой веялки. Этот все суживал свои сумрачно-иронические глазки и стягивал тонкие губы, не выпуская трубки из зубов, значительно молчал, когда же говорил, то только затем, чтобы убить кого-нибудь или что-нибудь замечанием или прозвищем: он решительно надо всем глумился – над умом и глупостью, над простотой и лукавством, над унынием и смехом, над Богом и собственной матерью, над господами и над мужиками; он давал прозвища нелепые и непонятные, но произносил их с таким загадочным видом, что всем казалось, будто есть в них и смысл, и едкая меткость. Он и себя не щадил, и себя прозвал: «Рогожкин», – сказал он однажды про себя, так веско, так зло на что-то намекая, что все покатились со смеху, а потом уже и не звали его иначе, как Рогожкин. Окрестил он и гимназиста, сказал чепуху и про него: Веретёнкин.
Всех этих людей гимназист, как он думал, хорошо узнал за лето, ко всем по-разному привязался, – даже и к Ивану, издевавшемуся над ним, – у всех тому или другому учился, воспринимая их говор, совершенно, как оказалось, не похожий на говор мужиков книжных, их неожиданные, нелепые, но твердые умозаключения, однообразие их готовой мудрости, их грубость и добродушие, их работоспособность и нелюбовь к работе. И, уехавши после каникул в город и на другое лето уже не вернувшись к увлечению мужицкой жизнью, он весь свой век думал бы, что отлично изучил русский народ, – если бы случайно не завязался между работниками в эту ночь длинный откровенный разговор.
Начал старик, лежавший рядом с гимназистом и чесавшийся крепче всех.
– Ай, барчук, донимают? – спросил он. – Чистая беда эти блохи, хомут! – сказал он, употребляя слово, которым постоянно определял и всю жизнь свою, и всю тяготу ее, все неприятности.
– Мочи нет, – отозвался гимназист. – Вот баб, девок, тех не трогают. А уж кого бы, кажись, жилять, как не их.
– Главная вещь, порток на них не полагается, – равнодушно подтвердил старик, ворочаясь и издавая крепкий запах давно не мытого тела и вытертого зипуна, прокопченного курной избой.
Прочие молчали. Обычно шутили перед сном, расспрашивали Пашку о его супружеской жизни, а он отвечал с таким спокойным и веселым бесстыдством, что даже гимназист, постоянно восхищавшийся им, не сводивший глаз с его умного и живого лица, досадовал – как это можно говорить так о своей молодой жене. Теперь никто не начинал расспросов, и гимназист уже хотел было сам начать их, чтобы еще более взволновать свое воображение, навеки отравленное вдовой, и послушать уверенный голос Пашки, как Пашка потянулся, сел и стал завертывать цигарку. Старик поднял голову в шапке и покачал ею.
– Ой, спалишь ты, малый, гумно! – сказал он.
– А я на барчука солгусь, – отвечал Пашка, немного хрипя от простуды, и, откашлявшись, засмеялся. – Он сам постоянно курит. Чудная ночь, барчук, сегодня, – сказал он, меняя тон на серьезный и оборачиваясь к гимназисту. – К этой ночи что недостает? Луну.
Чувствовалось, что он хочет рассказать что-то. И, правда, помолчав и не получив ответа, он вдруг спросил:
– Барчук, вы спите? Который теперь час будет? Гимназист поднялся, вытащил из кармана панталон серебряные часы и при свете звезд стал разглядывать их.
– Половина одиннадцатого, – сказал он, горбясь.
– Ну вот, так я и знал, – весело и уверенно подтвердил Пашка, затиснув набок зубами крючок и закуривая от вонючего серника, загоревшегося в его сложенных ковшиком руках. – В аккурат в это самое время я человека прошлый год убил.
И гимназист сразу разогнулся, опустил руки – и точно окаменел на все время разговора. Он изредка подавал голос, но так, точно другой кто говорил за него. Потом все внутри у него стало дрожать мелкой ледяной дрожью, позывая на отрывистый, нелепый смех, и огнем стало гореть лицо.
II
Иван, как всегда, значительно молчал. Кирюшка совсем не интересовался тем, что говорили, лежал и думал свое – о гармонии, купить которую было его самой заветной мечтой. Долго молчал, лежа на локте, и Федот, сильный, плоский мужик, в начале лета казавшийся работникам чужим человеком по той причине, что носил он полушубок без талии, без сборок, вроде тех, что носят казанские татары. Чужим казался он и гимназисту. Насколько нравилось ему веселое спокойствие, ладность ухваток, загорелое лицо Пашки, настолько же не располагало его к близости лицо Федота, тоже спокойное, но ничего не выражающее, большое, пепельно-серое, морщинистое, с жидкими и всегда мокрыми от слюней, от трубки усами, с крупными отворотами белесых обветренных губ. Федот слушал внимательно, но не вставил в рассказ Пашки ни слова, – только чахоточно покашливал и поплевывал в солому. И сперва поддерживали разговор только пораженный гимназист да старик.
– Что брешешь пустое, – равнодушно сказал старик, услыхав хвастливое заявление Пашки. – Какого такого человека мог ты убить? Где?
– Глаза лопни, не брешу! – горячо отозвался Пашка, поворачиваясь к старику. – Прошлый год убил, на Успение. Об этом даже во всех газетах писали, в приказе по полку и то было.
– Да где убил-то?
– Да на Кавказе, в Зухденах. Ей-богу! Конечно, брехать не стану, не я один убил, и Козлов стрелял, – наш же, елецкий, – эта благодарность не одному мне была, дивизии начальник, конечно, и ему спасибо сказал при всем фронте и прямо же нам по рублю наградил, но только я подлинно знаю, что это я его срезал.
– Кого его? – спросил гимназист.
– Да арестанта, грузинта этого.
– Стой, – перебил старик, – ты толком расскажи. Где вы стояли?
– Опять двадцать пять! – притворно-досадливо сказал Пашка. – Вот чудак, не верит ничему. Стояли мы в этих, в Новых Сеняках…
– Знаю, – сказал старик. – И мы там стояли восемнадцать дён.