Подснежники Великой Отечественной бесплатное чтение
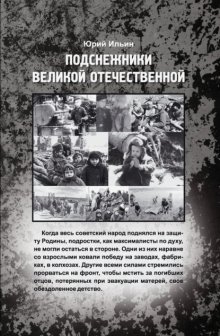
© Ю. С. Ильин, 2025
© Оформление ООО «КнигИздат», 2025
Владимир Костров. 1990 г.
- Мы – подснежники этого века.
- Мы великой надеждой больны.
- Мы – подснежники.
- Мы из-под снега.
- Сумасшедшего снега войны.
Часть 1.
О детстве и юношестве автора
Введение
По известным данным, Великая Отечественная война унесла около 27 млн жизней граждан Советского Союза. Из них около 10 млн – солдаты, остальные – старики, женщины, дети. Сколько детских жизней конкретно она унесла, статистикой не зарегистрировано. Зато известно, сколько детей принимали в ней участие.
Самыми первыми на защиту родной земли встали подростки и юноши Бреста, среди которых особым мужеством проявили себя воспитанники музыкального взвода Брестского гарнизона. На следующий день сразу после объявления мобилизации тысячи их сверстников, приписав к дню рождения год-два, встали в очередь у призывных пунктов военкоматов. На оккупированных немцами западных территориях СССР росло и ширилось массовое партизанское и подпольное движение, в которых участвовали десятки тысяч детей. В лесных районах Белоруссии детей на партизанских базах было так много, что для них было организовано несколько школ.
Когда советская армия стала освобождать оккупированные районы страны, участниками войны становились подростки, оставшиеся на этих территориях без родителей. Им реально грозила голодная смерть, и их забирали с собой наши воинские части, освобождавшие эти земли. Таких «сынов и дочерей полков», у которых жизненный путь совпадал с боевым путем этих частей, только по официальным данным, было более трех тысяч.
Отечественные исследователи отмечали: когда весь советский народ поднялся на защиту Родины, подростки, как максималисты по духу, не могли остаться в стороне. Одни из них, взвалив на себя непосильный труд, встали к станкам и наравне со взрослыми ковали победу в тылу. Другие всеми силами стремились прорваться на фронт, чтобы мстить за погибших отцов, потерянных при эвакуации матерей, свое обездоленное детство.
Силы им придавала не только всенародная ненависть к напавшему на страну врагу, но и советская система образования. Советские школьники воспитывались на примерах сильных духом людей, не сломленных жизненными трудностями.
Один из самых юных участников войны – 12-летний Александр Колесников осенью 1943 года отправился к воевавшему на фронте отцу в вагоне, перевозившем спрессованное сено. Беглеца обнаружили, отправили домой, но на одной из станций он, придумав жалостливую историю о гибели отца-танкиста и потере матери, сумел убедить следовавших на фронт танкистов в правдивости своей истории и стать воспитанником (сыном) их полка. Набравшись знаний и опыта, он стал разведчиком и закончил войну с двумя медалями «За отвагу», медалями «За взятие Варшавы» и «За взятие Берлина».
В таком же возрасте, с твердым желанием мстить за убитого на войне отца и потерянную во время эвакуации мать, сбежал на фронт детдомовец Ваня Солнцев – герой повести Валентина Катаева «Сын полка». Повесть была издана в 1945 году, на следующий год вышел на экраны одноименный фильм. По признанию писателя, ему ежедневно приходили письма от узнавших себя в «сыне полка» ребят, что свидетельствовало о массовости подобных историй.
Автору данной книги в конце войны было всего шесть лет, мой брат был им ровесник в начале 1945 года. Когда в боях за Будапешт наш Отец был ранен, он был близок к тому, чтобы отправиться вместо него «добивать фашистов в их логове».
Такой возможности ему не представилось, но и без этого подвига война, несомненно, отразилась на формировании нашего характера и мировоззрения. Эту мысль и пытался автор изложить в своей книге воспоминаний. Решение издать ее было связано с начавшейся 24 февраля 2022 года специальной военной операцией на Украине.
Более полугода в операции были задействованы только контрактники Министерства обороны. Но 21 сентября 2022 года была объявлена частичная мобилизация, и, по сообщениям СМИ, только за первую неделю страну покинуло около 200 тысяч мужчин призывного возраста. Сравнительно быстро эксперты определили одну из главных причин бегства от призыва в армию – серьезные упущения в системе воспитания детей.
В российском обществе заговорили о возможном возврате к советской системе образования. Тогда в школах педагоги были не только учителями, но и воспитателями. Они прививали ученикам чувство гражданского долга, любви к родине, воспитывали в детях стремление к добру, взаимопомощи и к выработке в себе необходимых качеств защитников Отечества.
На волне такого восприятия у автора появилась мысль о том, что его воспоминания об учебе и жизни в СССР могут иметь определенную общественную значимость. Хотя повествование в ней ведется от первого лица, в некоторых ее разделах используется местоимение МЫ. В этих случаях автор выдвигает на главную роль старшего брата Виталия – своего ведущего, наставника, защитника.
Он помогал мне преодолевать трудности детского периода и ориентироваться в жизни в последующие годы – вплоть до его, к сожалению, раннего ухода из жизни. В нашей братской связке он навсегда остался для меня примером для подражания. Публикацией этой книги я в том числе отдаю и дань уважения его памяти.
2. Малая родина и Монголия
С подмосковной деревней Натальино Загорского района Московской области меня и моего брата Виталия связывает многое, но рассказ о первых годах нашего с ним детства следует начать с Монголии. Весной 1939 года, когда брату было 4 года, а до моего рождения оставалось несколько месяцев, нашего Отца как кадрового танкиста в числе нескольких других выпускников Горьковского военно-политического училища срочно отправили в дружественную нам Монголию. На ее территорию в районе реки Халхин-Гол вторглись японские войска и, по договорным обязательствам с Монголией, СССР выступил на ее стороне.
Военные действия продолжались с мая до середины сентября 1939 года и закончились разгромом японских войск. Но опасность новых нападений японцев оставалась, поэтому подразделения Забайкальского военного округа, принимавшие участие в боевых действиях, остались в Монголии и офицерам разрешили перевозить семьи в места новой службы. Бригада, в которой служил Отец, дислоцировалась в городе Ундерхан, куда – то ли Отец попросил, то ли попутно кто-то из его сослуживцев – нас перевезли.
(Этот город для монголов знаковый: по легенде, недалеко от него родился Чингисхан, и в честь своего великого предка они в 2013 году переименовали Ундерхан в город Чингис).
Следует отметить, что все события монгольского периода не наши с братом воспоминания, а то немногое, что осталось в моей памяти из рассказов родителей. Я не могу точно назвать время, когда мы оказались в Монголии, но, если судить по двум произошедшим там событиям, было мне тогда не больше года.
… Момент, когда я летом 1940 года выполз из дома на улицу, Мама не заметила. Возможно, она на время ушла, а дверь на улицу не закрыла. Как бы там ни было, мой первый самостоятельный «выполз» в «пустыню Гоби» закончился тем, чем и должен был закончиться – солнечным ударом (это зафиксировал военврач гарнизона).
Второй случай произошел со мной немного позже: ходить я еще не мог, но стал вставать на ноги и делать первые шаги. В тот день Мама вскипятила чайник, поставила его на покрытый клеенкой стол и на время отвлеклась. В это время я заполз под стол и, когда выползал оттуда, ухватился за клеенку – чайник с кипятком опрокинулся на меня. И в первом, и во втором случае тот же военврач снабдил маму какими-то лекарствами для меня…
… Дальнейшие события родители называли срочной эвакуацией, и связаны они были с угрозой нового нападения Японии. В царившей во время сборов суете Мама, возможно, отвлеклась на детей, и ее сбил подъезжавший к дому задним ходом автомобиль. Удар пришелся в голову углом заднего борта, и, как позже было установлено, Мама получила тяжелое сотрясение мозга.
В горячке она не сразу это ощутила, первый припадок эпилепсии у нее случился в поселке Партизанское на юге Красноярского края, где разместились эвакуированные семьи офицеров. Отец остался в Монголии, и всю тяжесть случившегося испытал на себе Виталик.
*Потом припадки у Мамы хотя и не часто, но повторялись на протяжении всей ее жизни. Она родилась в 1908 году в крестьянской семье, закончила четыре класса церковно-приходской школы. После замужества стойко переносила тяготы скитаний по гарнизонным городкам. Малограмотность не сказывалась на ее способности прививать нам – двум своим непоседливым мальчишкам – самые нужные человеческие ценности. Ей не требовались для этого учебники: все эти ценности были в ней самой, она просто естественным образом передавала их своим детям.
По воспоминаниям ее сестер, в молодости Мама была бойкой, веселой, активно участвовала в художественной самодеятельности одной московской фабрики, где она работала до замужества. Но после Монголии изменились и ее поведение, и даже внешний вид: она стала тихой и какой-то беззащитной. Это ощущали и мы с братом и в еще большей степени наш Отец. Так уж в их жизни получилось, что он (хотя и не так длительно) был участником двух войн, получил на фронте легкое ранение, а жена – травму, сделавшую ее инвалидом на всю жизнь.
Ощущая это, Отец никогда не повышал на жену голос и беспрекословно выполнял ее просьбы. Она была верующей, ходила в церковь, соблюдала православные традиции. Отец, будучи коммунистом, политработником, никогда в этом ее не упрекал.
Знакомство с деревней, в которой родился
Отца весной 1943 года из Монголии направили на переквалификацию в Ленинградское высшее бронетанковое училище, эвакуированное в Нижний Тагил. Воспользовавшись предоставленной возможностью, он перевез нас на нашу малую родину – в подмосковную деревню Натальино, которая уже тогда выглядела угасающей. В ней было около десятка стареньких изб, расположенных в один ряд вдоль грунтовой дороги, проложенной между Загорском и Дмитровом. Хотя жилых домов в Натальино было мало, семьи тогда были многодетными, и скучать нам с братом не пришлось.
У некоторых наших сверстников отцы погибли или пропали без вести. Матери весь день работают на колхозных полях, фермах или заняты домашним хозяйством. За детьми присматривают престарелые бабушки или старшие из детей. В начальную школу, расположенную примерно в полутора километрах за лесистой горкой, дети ходили в сопровождении учительницы, проживающей в Натальино. Дети ходили в школу и обратно по тропе, проложенной через лес. В сильные морозы и снегопады поход в школу отменялся, и деревенская детвора, забросив подальше свои самодельные школьные сумки, могла заняться чем-то для души.
Ни подходящих горок для катания на санках, ни ледового катка в Натальино, разумеется, не было, поэтому эти традиционно любимые детские увлечения имели там свои особенности. Те деревенские мальчишки, кто перерос увлечение санками, подвязывали к валенкам коньки-снегурки и катались по дороге, ожидая, когда по ней будет проезжать грузовая машина. Руками или печной кочергой они цеплялись за задний борт и катились, пока не надоест или не разгонит шофер. Цеплялись за борт и те, у кого не было коньков, – эти катились на валенках, рискуя протереть их до дыр и получить в итоге нагоняй от мам.
Дети возрастом поменьше завидовали «автозацепщикам» и ждали своего часа, когда мимо деревни проедет тракторная сцепка с санями. Так зимой в колхозах возили сено и солому с полей на животноводческие фермы. Ехало это неповоротливое транспортное средство с черепашьей скоростью и, пока оно ехало по улице, самый проворный из детей цеплял поводок своих санок за задний бортик тракторных саней, и уже за его санки гирляндой цеплялись другие.
Я по возрасту не подходил даже к категории «тракторозацепщиков», но однажды решил показать деревне, что я уже «не маленький». В тот день по улице проезжала сцепка из двух саней, и на металлической связке между ними, весело размахивая ногами, сидел соседский мальчик. Наверное, он и предложил мне сесть рядом с ним. Помню, как стало темно, потом – светло, и только тогда я стал понимать, что со мной произошло.
Спасло то, что упал я плашмя на живот, а днище у тракторных саней было высоким. Из того, что было потом, помню только жесткость отцовского ремня, которым как-то неумело пыталась «проучить» меня Мама.
Тетя Нюра и дядя Ганя: испытание приемным сыном
В деревне мы поселились в избе бабушки Акулины. Дедушка умер в суровую зиму 1942 года. Земля была мерзлая, здоровых мужчин в деревне не было, и хоронили его дважды: зимой просто прикопали, а в могилу переложили, когда оттаяла земля. Кроме нашей семьи в доме бабушки жили еще две ее дочери с детьми. К тесноте тогда люди были привычны, но нашей Маме из-за травмы головы, полученной в Монголии, трудно было справляться с двумя своими мальчишками, особенно со мной.
Рядом жила еще одна мамина сестра – тетя Нюра. Она и ее муж Гавриил Михеевич решили помочь нашей Маме и взяли меня в свой дом на полное содержание. Дядя от воинской службы по болезни был освобожден, работал лесником и, в отличие от крестьян, получал зарплату. Во дворе имелась скотина, был большой огород с садом и пасекой. Своих детей у них не было, и они стали для меня вроде приемных родителей.
В сравнении с моими родным и двоюродными братьями, ютившимися в стареньком доме бабушки и редко бывавшими сытыми, я жил «как у Христа за пазухой». Такое определение я слышал от моей Мамы, а вот от братьев получил прозвище «Пузан», обидное во все времена, а в войну – тем более.
«От пуза» кормила меня тетя Нюра, но я больше тяготел к дяде Гане. В нем мне нравилось все: форма лесника, полевая сумка и особенно – ружье, с которым он часто ходил на работу. В такие дни я иногда встречал его после работы на улице и с высоко поднятой головой шагал с ним по деревне. Иногда он возвращался ночью, и в таких случаях я слышал, как тетя Нюра встречала его стандартным набором слов – «опять нажрался винища»…
Дядя Ганя молча снимал с себя амуницию лесника и ложился спать. Иногда, как бы в оправдание, называл какие-то имена, которые, по его мнению, должны были означать, что «нажрался» он по делу. Тетя Нюра, зная особенности его службы, это понимала и, несмотря на частые повторы таких ситуаций, обиды на мужа долго не держала.
Но однажды моему любимому дяде могло бы достаться сверх положенной меры, если бы это произошло не в день, который с нетерпением ждала тогда вся страна.
9 мая 1945 года. Опьянение Победой
День Победы в Натальино отмечался шумно – с песнями, танцами, вперемешку с рыданиями и причитаниями женщин. Не помню, с кем дядя Ганя отмечал это событие и сидел ли я за праздничным столом. Запомнились лишь едкий табачный дым, шумный разговор и упоминание о медовухе. (Из нее в преддверии больших праздников дядя Ганя гнал самогон). Сам он медовуху считал чем-то вроде бодрящего кваса и употреблял ее только «для поправки головы».
Все началось с того, что в самый разгар празднования мой приемный отец предложил выпить за моего реального Отца. От него накануне пришло письмо, в котором он сообщал, что после ранения находится в госпитале под Будапештом. Поскольку Отца за столом не было, все внимание гостей переключилось на меня. После короткого, но шумного обсуждения, несмотря на возражение тети Нюры, у меня в руках оказалась рюмка с медовухой.
Помню ее сладковато-приторный вкус и прилив крови к лицу. Потом у меня закружилась голова, шум за столом стих, и я очнулся лежа на крыльце дома, где меня приводила в чувство тетя Нюра. Советы ей давал находившийся рядом дядя Ганя – он лучше кого-либо знал, как облегчить состояние после «перепоя».
Так, общими усилиями мои «деревенские» родители «откачали» своего приемного сынка. Но на этом мое знакомство с продукцией дядиной пасеки не закончилось.
Медовый Спас по-детски
После окончания войны в Натальино стали ждать возвращения с фронтов своих близких: старшее поколение – ждали мужей, братьев; дети – отцов. Не теряли надежды даже те ребята, чьи отцы числились погибшими или пропавшими без вести. От Мамы мы узнали, что наш Отец жив, находится в Венгрии, но, когда приедет к нам, пока не знает.
В августе 1945 года так же шумно, как и в День Победы, в Натальино отмечали возвращение в деревню одного из односельчан. «Гулянку» по такому случаю приурочили к церковному празднику Медового Спаса. Ушли на общий праздник и мои приемные родители, захватив с собой в качестве угощения большую бутыль медовухи.
Дети, оставшиеся без присмотра, слонялись по деревне, и, видимо, кто-то из них подал идею устроить свой, детский, Медовый Спас. Повод для этого был – незадолго до этого дядя Ганя накачал большой бидон меда. Об этом детям было нетрудно догадаться и по снующим вокруг дома пчелам, и по запаху, исходящему через открытое окно спальни, в которой этот бидон стоял.
Сам я этой сладостью был, образно говоря, перекормлен, и мне было трудно отказать своим друзьям, для которых мед был роскошью. Как должно выглядеть наше медовое пиршество, никто из нас толком не знал. В итоге то, что происходило в месте проведения нашего праздника, по современным понятиям можно назвать медовым баром, а меня, шестилетнего мальчика, – барменом, «разливавшим» мед таким же малолетним посетителям.
В дом я их впустить не мог, и первая проблема возникла с емкостью, в которой я буду подавать им мед в раскрытое окно спальни. Увидев растущие недалеко от дома лопухи, я прошепелявил команду рвать и подавать листья в окно. Дальше начиналась моя работа: деревянной ложкой я вычерпывал мед из бидона и каким-то образом перекладывал его в свернутый в подобие воронки лист лопуха. Поскольку окно было довольно высоко от земли, подавать разваливающийся в руках сверток с вытекающим из него медом мне приходилось сверху вниз.
Кто знает, что такое жидкий мед, сам может представить картину этого процесса во всех деталях. Часть меда вытекала еще на пути к окну, остатки – на хозяина лопуха в момент передачи. Кто-то из друзей пытался подавать мне новый лист, но мне уже было не до этого – я, образно говоря, весь с ног до головы стал липким. Претензий со стороны улицы я не слышал – там от души веселились перепачканные медом дети. Как говорится, праздник удался.
Не до праздника было бы мне после возвращения хозяев спальни и вида, который я ей придал. Но, как оказалось, о нашем детском медовом празднике они уже знали и не стали выяснять детали – все и так было видно. Еле стоящий на ногах дядя Ганя помахал мне приветливо рукой и лег спать на диван в гостиной.
Как всегда, большую часть последствий от моих шалостей пришлось устранять тете Нюре; медом я ухитрился испачкать не только себя и пол, но и все, что находилось между бидоном и окном, – покрывало на кровати, шторы на окне, которыми я вытирал липкие от меда руки.
Прощальный забег к «поганому» пруду
Летом 1946 года от Отца пришло сообщение, что ему, возможно, скоро дадут отпуск. Мы жили ожиданием встречи и по максимуму наслаждались деревенскими увлечениями. Лето было жарким, и в такое время самым желанным для детей было купание в пруду. Их в деревне было два – чистый ближний (в нем купаться и стирать белье было запрещено) и дальний – «поганый», в котором женщины периодически устраивали большие стирки с длинного дощатого мостика. В определенные дни вместе с ними в пруду купались и мылись девочки. Когда они возвращались в деревню, наступало святое время натальинских мальчишек.
В отличие от Виталика, который уже не первое лето купался в пруду, единственным моим «водоемом» продолжало оставаться корыто, в котором мыла меня Мама. Но накануне нашего возможного отъезда из деревни Виталик, под свою ответственность, уговорил Маму отпустить меня с ним на пруд. Так мне удалось поучаствовать в мероприятии, которое запечатлелось в моей памяти на всю жизнь.
… Жаркий день лета 1946 года. По гужевой узкой дороге, проложенной меж созревающей ржи, быстро идет сплоченная единой целью мальчишеская толпа. Старшие раздеты до трусов, кто-то из малышни голышом. Миновав вершину пригорка, мальчишеская ватага разгоняется и, поднимая босыми ногами дорожную пыль, с радостным визгом мчится вниз к пруду. Те, кто умеет плавать, с разбега ныряют в зеленоватую воду с мостика; остальные, распугивая лягушек и головастиков, бултыхаются на мелководье, меся ногами глинистое дно и отряхиваясь от прилипших к ногам пиявок. По всей округе разносится разноголосый шум-гам веселящейся детворы от мала до велика.
В сентябре 1946 года я пошел в первый класс. Но, как и чему меня учили, не помню – видимо, мешало сосредоточиться пришедшее от Отца письмо о скорой нашей встрече. Виталик же, окончив начальную школу в Соснино, в пятый класс стал ходить в другую деревню, в которой была семилетка. До школы было километра четыре по лесу, и, когда снега было много, школьники ходили туда и обратно на лыжах. Он считал себя уже взрослым и по примеру деревенских ребят старался помогать Маме.
Он ловил в пруду и на речке рыбу, летом собирал грибы, ягоды, орехи – все это шло на общий стол в доме бабушки. Ставил в лесу капканы на кротов, снимал с них шкурки, высушивал и сдавал в приемный пункт. Хорошо помню, как они с Мамой на полученные за шкурки деньги поехали в город и брат вернулся оттуда в новых брюках, купленных на заработанные им деньги.
3. Румыния
Во Второй мировой войне Румыния выступила на стороне Германии и одновременно с ней 22 июня 1941 г. атаковала СССР с целью вернуть Бессарабию и Буковину, отобранные у нее в июне 1940 года.
Хотя первоначальная цель Румынией была достигнута в конце июля 41-го года, румынские войска, уже совместно с немецкими, продолжили захватывать новые территории Советского Союза – северное Приазовье, а затем и Крым. По статистическим данным, только в Крыму оккупантами были расстреляны, замучены или угнаны в рабство 219 625 советских граждан.
С наступлением советской армии в 1944 году политическая ситуация в Румынии стала меняться. 31 августа 1944 года советские войска вошли в румынскую столицу – Бухарест. Это было первое европейское государство, куда вступила Красная Армия с освободительной миссией. Советская военная администрация издала директиву: румынские органы власти не ломать, церкви и молитвенные дома не трогать, собственность граждан охранять. Эти указания не относились, однако, к трансильванским саксам – немецкоязычным колонистам, поселившимся здесь еще в средние века. Большая часть их проживала в городе Сибиу (до недавнего времени называвшемся Германштадт).
Именно в этот город должен был доставить нас из деревни присланный за нами посланник Отца (сам он приехать не мог и в письме сообщил Маме, что послал за нами своего ротного старшину).
Когда мы с Виталиком об этом узнали, поначалу расстроились. Но перед нами предстал бывалый фронтовик: высокий, стройный, в ладно сидящей форме танковых войск, с мужественным лицом, украшенным пышными усами. О его боевых заслугах свидетельствовали несколько медалей и две нашивки за ранения. От него мы узнали, что войну наш Отец закончил в Венгрии, позже их танковый полк перебросили в Румынию, в город Сибиу.
И потом всю долгую дорогу в Румынию восхищались способностью посланника Отца быстро находить выход из нелегких дорожных и жизненных ситуаций. Хотя война закончилась полтора года назад, железнодорожные вокзалы были забиты массой людей – военных, гражданских. В билетные кассы – огромные очереди, в которых люди стояли часами и зачастую не один день. Наш Котов, прежде чем отправиться оформлять проездные документы, находил для нас удобное место в зале ожидания, давал нам четкие указания и только после этого уходил решать свои задачи. Так, благодаря полюбившемуся нам посланнику Отца, мы из глухой русской деревушки, в которой не было ни электричества, ни радио, прибыли в большой румынский город Сибиу.
Больше всего мы обрадовались тому, что прерванную учебу продолжать не придется: в Сибиу нет русской школы. От отца узнали, что пробудем мы в Румынии всего несколько месяцев, после чего уже вместе с ним отправимся в советскую Армению.
Сводим счеты с немецко-румынскими фашистами
От резкой смены окружающей действительности у нас с братом, как говорится, «съехала крыша». Первые два наших «выступления» в Румынии можно списать на наше общекультурное отставание от европейцев. Не успели родители распаковать вещи в квартире, где мы поселились, как мы устроили в ней короткое замыкание (от полного незнания того, что такое электрическая розетка). Второе было связано с деревенской привычкой ловить рыбу там, где она водится. В итоге оказалось, что ловили мы ее рядом с большим указателем, что ловить рыбу здесь строго запрещено.
…Все указатели в Сибиу были на немецком языке. И это была первая из причин, повлиявших на наше дальнейшее поведение. Но, скорее всего, оно было следствием рассказов Котова о немцах в Сибиу, своеобразно истолкованных Виталиком. Так или иначе, два следующих наших «выступления» в этом городе, по современной классификации, могли быть причислены к детскому терроризму.
… Жили мы в красивом большом доме в центре города, в квартире вдовы погибшего на восточном фронте офицера румынской армии. Когда через какое-то время мы узнали, что он – румынский фашист, воевавший против Советского Союза, эта информация как-то напрягла Виталика. Перенеся все возможные злодеяния мужа хозяйки на его жену, он стал разрабатывать план «мести» недобитым фашистам. В качестве консультанта привлек нашего общего знакомого. Звали его, кажется, Коля, а в Сибиу оказался здесь по той же причине, что и мы, но раньше.
Жил Коля вместе с отцом непосредственно в части и там научился всяким военным премудростям – на этой основе Виталик с ним и подружился. Узнав о нашем желании насолить хозяйке квартиры, он передал Виталику горсть артиллерийского пороха, внешне наминавшего макароны, и объяснил Виталику, как его использовать.
Каждый день наша «фашистка» варила на кухне кашу из кукурузы. Выбрав подходящий случай, когда в квартире не было родителей, а хозяйка начала готовить завтрак, мы, хлопнув дверью своей комнаты, продемонстрировали, что пошли на улицу. Сами же затаились в комнате и в щелку наблюдали за происходящим на кухне.
Дождавшись момента, когда хозяйка вышла из кухни, мы тихо выскользнули из комнаты, брат приоткрыл крышку кастрюли с варившейся кашей, бросил в нее подожженные макаронины пороха и быстро закрыл крышку. Раздалось шипение, потом хлопок, и одновременно со звоном выброшенной на пол крышки кастрюли мы быстро вышли из квартиры. Довольные проведенной «операцией» мы спокойно пошли заниматься традиционным занятием всех детей в Сибиу – кататься на заднем буфере или подножке трамвая.
Когда возвратились в квартиру, боялись, что хозяйка обо всем расскажет Отцу, но она, видимо, боялась больше нас – понимала, за что ее наказали дети офицера Красной Армии. К тому же все в Сибиу уже знали, что воинская часть готовится к отправке в СССР. Но перед отъездом Виталик решил провернуть еще одну антифашистскую операцию.
Через того же Колю достал несколько винтовочных патронов, и однажды вечером мы отправились на «боевое задание». Я, как всегда в подобных его затеях, стоял «на шухере» – из придорожных кустов вел наблюдение за общей обстановкой.
По моему сигналу Виталик рядком разложил патроны в выемки рельсов, и мы вместе стали ждать появления трамвая. Он почему-то долго не подъезжал, а, когда проехал по нашей закладке, вместо ожидаемых нами выстрелов и свиста пуль мы услышали лишь слабенькие хлопки и металлический скрежет колес трамвая. Возможно, мы бы продолжили свои мелкие пакости румыно-немецкому городу, пребывание в котором не приносило нам никакого удовлетворения. Но вскоре была объявлена погрузка воинской части в эшелоны. Переводя все сказанное выше в шутливый формат, можно сказать, что после нашего отбытия из Сибиу этот город мог спать спокойно.
Бери ложку, бери бак…
На долгом пути из Румынии в Армению у нас появилась возможность наслаждаться детскими ощущениями непосредственно внутри воинских будней. Их было немало, более ярких – два. Первое – сигнал солдатской трубы, оповещающей о раздаче обедов. Не помню, тогда или позже эта мелодия навсегда запечатлелась в моей памяти с похожим сигналом пионерского горна и словами типа: «Бери ложку, бери бак, нету ложки – беги так».