Лют бесплатное чтение
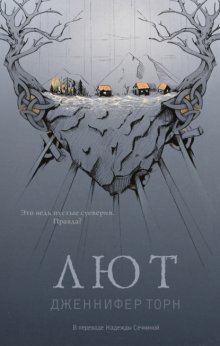
Моему Джорджу, самому храброму из всех нас
За три дня
Морская гладь слепит белизной, так что с порога задней двери ничего не разглядеть, хоть я и приложила ладонь ко лбу козырьком. Остается только кричать, и погромче, чтобы было слышно на другом конце лужайки.
– Чарли!
Меня, наверное, на всем острове услыхали.
Как неприлично. Как по-американски.
Эмма верещит, передразнивая:
– Ча-а-ав-ли-и!
Ее голосок – милый, прелестный – в эту минуту режет мне слух. Он до того пронзительный, что у меня, кажется, сейчас взорвется мозг. Щурясь, приседаю на корточки и легонько щекочу Эмму, чтобы унять, но и между приступами хохота она все равно пытается вопить. Я притягиваю ее к себе, чмокаю в липкую щечку и гляжу поверх копны кудряшек, снедаемая тревогой.
Набежавшее облачко чуть затеняет слепящий блеск, однако я по-прежнему не вижу Чарли. Будь он в порядке и где-нибудь поблизости, непременно бы отозвался. Да, он любит бродить по окрестностям, но далеко не уходит и всегда возвращается. Держится на орбите.
Когда я вхожу, Салли уже задергивает в гостиной огромные парчовые портьеры, как будто мы уезжаем не на неделю, а на полгода. В комнату вбегает Эмма – Салли от неожиданности вздрагивает и крепче вцепляется в трехфутовую палку для штор, которую держит в поднятых руках. Я прячу усмешку, представив нашу экономку в роли лайнбекера. А что, из нее вышла бы неплохая защитница.
– Прибыл Джон Эшфорд, миледи. – Салли игнорирует попытки Эммы взобраться по ее ноге. – Предлагает подвезти вас до пристани на своем легковом грузовике. – Она всегда именует пикап легковым грузовиком, точно это заморская диковина.
– Чудесно, – улыбаюсь я. – Это весьма кстати.
На этот раз обращение «миледи» меня не коробит. Салли уже почти перестала так меня называть, словечко проскакивает у нее, только если она поглощена хлопотами. Мне слышится
в нем шуточный оттенок: это все равно что звать Чарли эсквайром или Эмму – доктором Тредуэй, когда она играет с куклами в больничку. Ну какая из меня миледи? Какие вообще миледи в наши дни?
– Вы не видели Чарли? – спрашиваю я. Салли напряженно хмурит лоб.
– Кажется, он отправился на пристань вместе с лордом Тредуэем.
– Точно?
– Да, я видела, как они уходили. – Салли вытирает ладони о штаны. – Хотите, чтобы я их поискала?
– Нет-нет, вы и без того заняты. – Еще раз улыбаюсь на прощанье, но сердце все равно гулко стучит, будто чует неладное.
Все в порядке, Нина, с ним все в порядке, он с отцом, успокойся уже, черт возьми.
На подъездной дорожке тарахтит мотором зеленый пикап Джона Эшфорда, самого водителя нигде не видно. «Джон Эшфорд», а не просто «Джон». Салли называет его по имени и фамилии, потому что на острове с населением меньше двухсот человек Джонов аж семеро. В последние четыре года пятеро отсутствуют – ушли на войну, – но Джон Эшфорд все равно остается Джоном Эшфордом, а старый Джон Джонс – Джоном Джонсом. Казалось бы, новоиспеченные родители вполне могли договориться между собой давать младенцам разные имена, однако здесь так не заведено, и если за семь лет, проведенных на Люте, я что и усвоила, так это то, что установленный порядок вещей нарушать не принято. Даже в войну. Повсюду вокруг нас жизнь переменилась в корне, а тут лишь самую малость выбилась из привычной колеи.
Интересно, во Флориде все как раньше? Торговые ряды захватывают улицы, точно лианы бетонного кудзу, в парках крутятся аттракционы, летнее солнце раскаляет воздух над игровыми площадками. В памяти всплывает дом моего детства, от этой картинки, яркой и резкой, за глазницей начинает покалывать, но я смаргиваю боль и тянусь к дочке. Мягко удерживаю Эмму рядом с собой, подальше от рычащего мотора, и тут из-за капота выныривает голова Джона Эшфорда.
– Видели когда-нибудь такого? – Вытянув руку, он осторожно разжимает ладонь, потом глядит на Эмму и подмигивает. – Вот зверюга так зверюга. Хочешь поздороваться?
Не успеваю опомниться, как дочь ловко прошмыгивает мимо меня. При виде находки Джона Эмма замирает, с ее губ слетает почти беззвучный вздох изумления. Моя рассеянновежливая улыбка, означающая: «Простите, сейчас я с ней управлюсь», – теплеет, когда я тоже склоняюсь над раскрытой ладонью Джона и вижу блестящего зеленого жука с головкой, выпачканной красным. Тихонько спрашиваю:
– Он не кусается?
– Не-е, вряд ли. Вроде как это тимарха чернотелкообразная, жук-кровонос, на Люте их пруд пруди. – Джон широко улыбается, по его лицу разбегаются морщинки. – Не подумайте, что я при вашей дочке выражаюсь, леди Тредуэй, его вправду так называют. Вот сфотографирую и выясню точно. В конце концов, за то мне и платят.
– В самом деле? – смеюсь в ответ я. – А разве не за бумажную работу, починку, составление каталогов, охрану редких птиц и…
– А, бросьте, есть работенка куда хуже. – Блеск в его глазах слегка тускнеет.
Так мы упоминаем войну – вскользь. Она проступает в нашей безмолвной благодарности и смирении, в том, как мы делимся друг с другом открытками и письмами с фронта, как тщательно ухаживаем за грядками и бережем продуктовые карточки. Говорим обиняками, никогда напрямую. Но, возможно, люди держатся так только со мной из-за моего американского – вражеского – акцента. Ни слова о войне.
Или, скорее, дело в том, что мы не готовы взглянуть правде в глаза, принять все, о чем сообщают в новостях: оккупация целых стран; города, погруженные во мрак из-за затемнения или полностью стертые с лица земли; раздутые от воды трупы у берегов практически всех континентов, лагеря беженцев – стихийные поселения, которые разрастаются, горят и возникают вновь; накрытые простынями тела убитых солдат – бесконечные ряды трупов, подготовленных к сортировке и отправке домой. В то время как у нас на Люте царит идиллия.
Я ободряюще похлопываю Джона Эшфорда по широкому плечу, отчасти желая ободрить и себя, и беру дочь на руки. Ее взгляд уже привлекла какая-то морская птица на дорожке – Джон наверняка определил бы вид, – и если не перехватить Эмму прямо сейчас, то она погонится за птицей, а мне придется бежать за дочкой до самой пристани.
– Дамы, ваши вещи я погрузил, так что можете усаживаться. – Джон жестом указывает на кузов пикапа. А я и не заметила выстроившиеся в нем чемоданы.
– Ну что вы! – Внутри у меня екает, как обычно бывает, когда кто-то старается проявить любезность. – Благодарю. Не стоило…
Да мне только в радость. Для того ведь колеса и нужны, а? – Он любовно поглаживает крышу автомобиля. Учитывая, что на нашем острове, который легко можно обойти пешком, имеется ровно два механических транспортных средства, причем второе – мотоцикл, грузовая платформа есть только у пикапа. Джон гордится своей машиной, пускай на борту кузова и выведено «Национальный фонд», а не «Джон Эшфорд, генеральный смотритель».
Со стороны дома доносится глухое «рр-вуфф», секундой позже к нам пулей летит наш полудикий лабрадор, и я ругаю себя за незакрытую дверь. Обычно Макс со всех ног уносится прочь и оказывается на другом конце острова, не успеешь позвать (хотя он все равно не слушается), но сегодня все внимание пса поглощено автомобилем. Когда Макс, весь в слюнях от радости, пытается присоседиться к чемоданам, я пользуюсь возможностью, аккуратно беру его за ошейник и отвожу обратно в дом к Салли.
– Вот балбес. – Она укоризненно качает головой. – Ну, идем, Макс. На этой неделе останешься со мной, но зато я побалую тебя вкусненьким.
– В тот момент, когда я наконец закрываю за собой дверь, Эмма решает повторить собачий трюк и безуспешно пробует забраться в кузов с криками: «Туда! Туда!» Мой милый дикий зверек. Огибаю пикап и целую дочурку в лоб, вдыхая аромат земляничного шампуня, затем беру ее на руки и занимаю пассажирское сиденье. Миледи. Юная леди. – Шотландский акцент Джона Эшфорда заметнее всякий раз, когда он изъясняется высокопарно, что бывает часто.
Сама галантность, он захлопывает за нами дверцу. Все обитатели Люта постоянно стремятся нам угодить, и я каждый раз смущаюсь. Мы, Тредуэи, живем на острове как вечные постояльцы курортного пансионата, при том что большинство из тех, кто нам помогает, отнюдь не получают в Олдер-хаусе жалованья. Прожив здесь почти семь лет, я до сих пор не могу уразуметь, чем мы заслужили столь доброе отношение.
Тряский пикап Джона Эшфорда увозит нас с подъездной аллеи, обрамленной северными вязами, и я снова щурюсь от ярких солнечных бликов на воде. Эмма по пояс высунулась в открытое окошко, раскинув руки так, словно хочет поймать поток воздуха и улететь.
– Я слышу лошадку! – кричит она.
Аккуратно усаживаю ее к себе на колени и в ответ на вопросительную улыбку Джона пожимаю плечами.
– Она мечтает о лошади.
Джон усмехается. На Люте лошадей нет и никогда не было. Здесь не принято их держать – видимо, на острове они дичают, – и я не намерена становиться первой леди Тредуэй, нарушившей традицию исключительно по прихоти ребенка. Завтра, когда мы приедем в Суррей, Эмма сможет покататься верхом с тетей и кузенами.
Фырча, пикап проезжает мимо школы и движется к пристани. По пути я прочесываю взглядом каждый дюйм горизонта, но не вижу ни Чарли, ни кого-то похожего по росту – возможно, потому, что прочие дети уже покинули остров.
Слава богу, море сегодня спокойное – по крайней мере, наш катер не будет валять на волнах всю дорогу через Бристольский залив, как в прошлый раз, когда мы направлялись на большую землю, почти год назад. Говорят, сейчас в этих водах безопасно: они регулярно патрулируются, да и боевые действия идут далеко отсюда, – и я склонна этому верить. Военные корабли размещены весьма продуманно, и не только ради безопасности нашего крошечного архипелага, ведь через незащищенный Бристольский залив враг может проникнуть в самое сердце Британии.
Я крепче прижимаю к себе Эмму. За четыре года войны с нами не стряслось никакой беды. Режим прекращения огня, объявленный на прошлой неделе, соблюдается. И сегодня все будет хорошо.
Причала, у которого нас ждет катер, пока не видно, зато я вижу куда более внушительную
«Гордость Люта» – она плавно скользит по волнам, палуба до отказа заполнена пассажирами. Зрелище вызывает у меня в памяти фото поездов, битком набитых детьми, которых вывозили в эвакуацию во время «Лондонского блица». Боже, нет. Стоп. Если «Гордость» что и напоминает, то скорее прогулочную яхту со школьниками, отплывающую в увеселительную поездку на весенних каникулах.
Тесновато им там, наверное, – набились как сельди в бочку, – но, с другой стороны, и путешествие их короче нашего: до острова Суннан максимум двадцать минут хода, тогда как путь до большой земли займет у нас несколько часов. Скромные условия в этот уик-энд ждут всех пассажиров «Гордости», даже тех, кто успел занять ветхие летние домики. Остальным придется довольствоваться палатками и кострами, однако бытовые неудобства – небольшая цена за то, чтобы в очередной раз подкрепить традиционное суеверие Люта.
– Глядя им вслед, я немного сникаю, как ребенок, которого не пригласили на праздник, хотя в действительности все не совсем так. Буквально позавчера две «мамочки», Венди и Дженни, поинтересовались, поеду ли и я на Суннан, раз уж принято решение отправить туда всех детей. Когда я сообщила, что мы уезжаем отмечать годовщину свадьбы, их лица вытянулись сильнее, чем можно было ожидать. Если еще не уедете, приходите нас проводить, – сказала Венди, только сильнее меня смутив: я и понятия не имела, что так полагается.
В итоге сегодня утром я осталась дома, хотя вряд ли на пристани кто-то заметил, что меня нет. По правде говоря, я на самом деле подумывала туда сходить – Салли небрежно, как бы между прочим осведомилась, собираюсь ли я на проводы, – но ведь никто впрямую не объяснил мне, что это часть моих обязанностей. Никто, и, уж конечно, не Хью, с головой ушедший в подготовку к нашему отъезду. Чемоданы мы упаковали меньше часа назад, Чарли все утро егозил, Эмма сперва хныкала, потом расшалилась, а я сама убей не понимала смысла этой затеи. Кому нужно, чтобы Нина Тредуэй пришла на берег помахать рукой вслед уплывающему кораблю?
Нельзя сказать, что я близко общаюсь с родителями островной ребятни. Наши дети немного разнятся по возрасту, поэтому на игровой площадке дружбы с мамочками завязать не получилось, к тому же большинство из них знают друг друга еще с тех пор, когда сами были детьми. Их семьи – основа местного сообщества. Непросто вклиниться в него, перенять негласные коды, соблюдать социальные ритуалы. И все же: «Приходи нас проводить». Во всяком случае, я знаю, что отправка детей на Суннан не относится к традициям Люта, потому что раньше этого не делали. Согласно вековому обычаю, все жители острова независимо от возраста и состояния в День «Д» обязаны находиться на Люте. Но не в этом году. На острове провели всеобщее голосование и решили иначе. В связи с войной, с тем, что нас стало меньше и т. д. и т. п., остров временно покинут дети и несколько взрослых, которые будут за ними присматривать, в том числе преподобный Уоррен. Обычно он остается на Люте, что лично мне кажется странным, учитывая откровенно языческий характер действа.
Поразительно, что островитяне умудряются поддерживать традицию даже в военное время. В других местах говорят, что это День середины лета или Альбан Хеффин, а мы здесь называем его просто солнцестоянием и пьем в саду у соседей чай со сливками. Но не в этом году. Близится седьмое по счету летнее солнцестояние, а значит, День «Д».
При всей жути этого обычая люди относятся к нему очень искренне, но можно ли ставить им в вину игру воображения? Прямо скажем, сейчас, когда их близкие воюют где-то далеко, это событие наверняка поможет отвлечься. Надеюсь, в наше отсутствие погода на острове не подведет. Мы трясемся на ухабистой грунтовке, Джон Эшфорд за рулем вдохновенно насвистывает, а я замечаю в окне Мэтью Клера, смотрителя маяка. Он идет вдоль обрыва на север – черные космы развеваются на ветру, плечи вздернуты, словно ему градусов на десять холоднее, чем остальным, но надеть куртку или хотя бы опустить закатанные рукава он все равно не намерен. Как будто наказывает себя. Сегодня он без мотоцикла. Должно быть, ходил на пристань, помогал сажать детишек на пароход. Значит, Мэтью остается на острове.
Когда мы проезжаем мимо, Мэтью механически взмахивает рукой – видимо, думает, что Джон в машине один. Я бы помахала в ответ, если бы не опасалась, что он как-нибудь извратит мой жест и сочтет его оскорбительным.
Хотелось бы мне сказать, что я бросила перебирать причины, по которым Мэтью исполнился ко мне презрением с того дня, как Хью привез меня на остров, но неприятная, раздражающая загвоздка тут вот в чем: может, Мэтью и не ангел, но он милый, добрый, отзывчивый человек, и все здесь его обожают. Это он вешает на место птичьи кормушки, сорванные в грозу, привозит старикам продукты, наклоняется погладить кошку и присматривает за козами. Он славный по всем статьям. И ненавидит меня. Я стараюсь о нем не думать. Казалось бы, когда его нет поблизости, это не должно составлять труда, однако в моей памяти то и дело всплывает – ярко, словно я вновь переношусь в ту церковь, – взгляд, которым он прожег меня, когда Хью представил нас друг другу, и я промямлила соболезнования: Мэтью посмотрел на меня так, будто я на него плюнула. С годами этот взгляд менялся, но нисколько не утратил пронзительности.
Вообще-то не стоило бы так сильно из-за этого переживать. Мне ведь не впервой. Я никогда не была похожа на Бекку, мою блистательную сестру, магнитом притягивающую друзей. Мама регулярно напоминала мне, до чего я необаятельная – противная, тяжелая в общении, – и я научилась уходить в тень, не спорить, делаться незаметной. Даже здесь, на уединенном острове, я веду себя так же. И тем не менее ухитрилась обидеть того, кого все считают идеалом. Господи, как же меня это мучит.
Дорога сужается, сворачивает к побережью. Я перегибаюсь через Эмму, высматриваю Хью и Чарли, но вижу только мужа: он стоит ко мне спиной, красивые руки то хватаются за тронутые сединой волосы, то жестикулируют, то снова погружаются в шевелюру. Рукава закатаны – к отпуску готов. Возможно, Чарли уже на борту, щелкает тумблерами, трогать которые ему запрещено.
– Ды-ы-мок, – выдает Эмма.
– И верно, – добродушно фыркает Джон, радуясь ее растущему словарному запасу, но глаза его не смеются.
Я тяну шею, стараясь разглядеть, что привлекло их внимание. Над кормой нашего катера поднимается зловещее серое облачко. Теперь я вижу, что рукава у моего мужа закатаны не просто как у человека на отдыхе. Льняная рубашка испачкана машинным маслом, и на Хью это совсем не похоже. Он пытается что-то отремонтировать. За все семь лет, что я его знаю, это ни разу не заканчивалось хорошо. Он принимается возбужденно мерить шагами причал, негодующе тыча пальцем в сторону какого-то крепко сбитого мужчины с бородой, а тот лишь пожимает плечами. Только когда Джон подъезжает к пристани и глушит мотор, я узнаю здоровяка: это механик, который несколько раз приезжал из самого Девона, чтобы проверить работу маленькой островной электростанции.
– Я в этом не разбираюсь, – говорит он, и по его интонации я понимаю, что в ответ на крики Хью он повторяет фразу не первый и даже не в пятый раз.
А я вам говорю, что разбираетесь! Кроме вас, тут больше никого не осталось. Вы разбираетесь в моторах и свой катер тоже чините. Неужели нельзя еще разок взглянуть на этот?
Хью никак не может унять беспокойные руки – запускает их в шапку волос, сует в карманы, сжимает в кулаки, сцепляет и расцепляет пальцы. Неудивительно, что механик застыл на месте, точно кролик в поле, прикидывающий, в какую сторону лучше удрать.
– На улицу, хочу на улицу! – Эмма выбирается наружу через открытое окошко, да так шустро, что я не успеваю ее удержать.
Чьи-то руки, появившись словно бы из ниоткуда, вовремя подхватывают мою дочь на парковке. Она заливисто хохочет.
– Э, нет, принцесса, летать ты пока не научилась – крылышки еще не отросли!
– Боже. – От облегчения я едва не вываливаюсь в дверцу, которую открыла передо мной Джоанна. – Этот ребенок в гроб меня загонит.
Джо улыбается, поудобнее устраивая Эмму на бедре.
– Я с ней побуду. Иди поговори с Хью. Колеблюсь.
– Не знаешь, в чем дело?
– Что-то с двигателем.
Меня охватывает беспокойство, однако его заглушает волнение другого рода. По правде говоря, когда Хью предложил уехать на эту неделю, я не обрадовалась. Меня давно интересовали местные традиции, я проявляла чудеса терпения – почти семь лет ждала, когда же наступит таинственный День «Д», но Хью рвался с острова.
Почему – я поняла довольно быстро. Отец Хью скончался семь лет назад, по несчастливому совпадению, в День «Д», и сын не смог с ним попрощаться. Хью тогда находился посреди Атлантики, на борту океанского лайнера. Он только-только познакомился со мной и влюбился – как раз когда умер его отец. И если в этом году ему предстоит справиться с очередной волной воспоминаний и сожалений, то, уверена, на это время он предпочтет оказаться подальше от дома. Я его понимаю, однако задумываюсь: не легче ли Хью было бы скорбеть здесь, среди людей, которых он знает с рождения? По-моему, в том и заключается смысл этого странного обряда – вспомнить всех жителей Люта, ушедших в мир иной, поколение за поколением, от неолита до наших дней.
– Ну, вот и отметили годовщину, – вздыхаю я.
– Надеюсь, Хью догадался оформить поездку по возвратному тарифу. – На лице Джо мелькает усмешка, расшифровать которую я не успеваю.
Эмма обеими ручками тянется к пышной афроприческе Джо, нимбом обрамляющей ее голову. Знаю, дочка меня любит, и все же у примитивных фигурок королев и фей, которые она рисует, непременно темная кожа и облако кудряшек, а иногда и чашка чая – отсылка к кафе-чайной Джо в западной части острова.
– Осторожно, милая, не упади. – Джо со смехом аккуратно ставит Эмму на землю.
Она всегда без лишних слов помогала мне с детьми, вот как сейчас, когда Эмма семенит прочь, намереваясь залезть на низкую причальную стенку, а Джо следует за ней, не теряя времени на вопрос, нужна ли мне лишняя пара рук. Да, здесь так принято, и все же помощь Джо я ощущаю иначе, нежели любезность всех остальных, кто из кожи вон лезет, чтобы услужить лорду и леди Лют. Я всегда воспринимала Джо как члена семьи, новую старшую сестру взамен настоящей.
– Может, еще починят, – вполголоса говорю я. Джо глядит на меня почти с жалостью.
Набрав полную грудь воздуха, я иду на пирс и на выдохе излучаю спокойствие, доброту, поддержку – классическая милая женушка. К тому времени, как я поднимаюсь на борт катера, этот образ меня уже утомляет.
– Черт побери, топливо то же самое, что и всегда, – сокрушается Хью.
Я мягко касаюсь его плеча, он, кажется, даже не замечает моего умиротворяющего жеста. Механик почтительно мне кивает, потом кривится, будто от внезапного приступа головной боли, когда Хью вновь заводит свое:
– В чем же дело…
– Мотор перегревается, вот и все. Бог его знает отчего. – Механик утирает взмокший лоб. – Сами понимаете, может, это… – Он заливается краской, качает головой.
– Что, что это может быть? – вытаращивает глаза Хью, потом смотрит на меня, словно вообще впервые заметил.
– Может, это остров шутки шутит? Столько народу на Суннан уехало, вот он больше никого и не пускает…
Хью удаляется, недовольно бурча. Механик все так же качает головой, уткнув взгляд в палубу, и что-то бормочет под нос, как будто сам себя ругает.
Я гляжу на бородача, удивленная мрачной искренностью его хмурого лица. Он говорит всерьез. Остров шутки шутит. Механик приехал с большой земли, из Девона, но и там наслышаны о суевериях, распространенных на Люте. Очевидно, в Девоне в них тоже верят.
Нет, скажем так: он верит. Не вполне достаточный объем выборки для полноценного исследования. Интересно, какие еще местные легенды он считает правдивыми?
Погодите-ка. – Хью рывком разворачивается и показывает за спину механика, на его собственную небольшую моторку, привязанную рядом с катером. – Есть же ваша лодка.
Механик бледнеет, это видно даже под зарослями бороды.
– Сколько? – Хью начинает рыться в карманах – можно подумать, он когда-либо носил бумажник. Смотрит на меня безумным взором. – Нина, сколько у нас с собой наличных?
– Я… то есть мы… можем выписать чек, – поспешно предлагаю я.
– Мы выпишем чек, вот как мы поступим.
Назовите цену.
Механик берется за подбородок.
– Даже не знаю. Три лишних пассажира – это многовато.
– Ай, да перестаньте!
– Ладно. – Механик бросает взгляд на свою лодку. – Только мешкать нельзя. Не хочу рисковать… – Он сглатывает. – Мне нужно вернуться, поэтому отходим прямо сейчас.
– Четыре, – говорю я, мысленно корректируя подсчет голов, произведенный механиком. – Четыре пассажира… Стоп, а где Чарли?
Хью часто-часто моргает.
– С какой стати я должен знать? – раздраженно спрашивает он.
Я улыбаюсь, хотя внутри у меня все кипит.
Может, с той, что он твой сын?
– Я думала, он с тобой. Дома его нет. Значит, приведи его. Мы уже отплываем. – Хью протягивает руку механику, его лицо наконец-то озаряет улыбка – луч солнца, прорезавший тучи. Я хорошо знаю эту улыбку, знаю, какие чудеса она способна творить. – Спасибо, приятель. Я выпишу чек на любую сумму, как только мы выйдем в море, а когда будем на месте, поставлю всем в «Орле» по три порции выпивки, идет?
Ха-ха-ха, смеются оба, ну прямо закадычные друзья. Стиснув зубы, я разворачиваюсь, взбешенная настолько, что не могу говорить. Мы с Хью ругаемся редко. Ирония нашего положения как статусной четы на крохотном клочке суши в том, что ссоры мы можем позволить себе только дома, а скандалить дома просто не из-за чего – муж бесит меня исключительно на людях. Но сейчас меня вновь охватывает страх, под напором которого развеивается вся злость. Чарли шесть лет. Чарли пропал. Как мы допустили такое?
Истекая потом, я взбираюсь по камням к пикапу Джона и с досадой вижу, что наши чемоданы рядком выстроены на пристани, а автомобиль удаляется прочь. Я припускаю следом, как будто на самом деле рассчитываю догнать.
Далеко впереди, на обочине грунтовки, Джо, присев на корточки рядом с Эммой, срывает для нее полевой цветок. Выпрямляется, замечает, как я в панике бегу за пикапом, и машет рукой Джону. Проехав еще немного, тот тормозит. Я продолжаю бежать в своих дурацких туфлях, надетых специально для морского путешествия, загребая ими острые камушки, которые впиваются в подошвы.
Останавливаюсь перед Джо: я слишком запыхалась и не докричусь до Джона, выглядывающего из водительского окошка.
– Чарли. Никто его не видел. – Шумно выдыхаю. – Господи.
Джо уже трусит к Джону.
– Чарли потерялся! – кричит она.
Джон хлопает по дверце пикапа и обращается ко мне:
– Садитесь в машину. Ничего, далеко он уйти не мог.
Он смеется, и мне становится чуточку легче – ну, насколько это возможно. В самом деле, остров сам по себе маленький, однако его окружают бурные воды Бристольского залива, а Чарли не назовешь хорошим пловцом, и… даже думать не хочу. Как же это произошло? В отличие от Эммы, Чарли никогда не убегает. Между нами существует постоянная связь, но сегодня что-то ее нарушило.
– Присмотришь за Эммой? – кричу я Джо.
– Конечно! – Она берет Эмму на руки, чтобы та поглядела, как мы отъезжаем. Далеко он уйти не мог, – повторяет Джон Эшфорд, на этот раз скорее для себя.
Оставив наш дом позади, мы движемся по узкой мощеной дороге через небольшую деревушку. Вывернув шею, я прочесываю глазами широкую лужайку за домом в надежде, что Чарли каким-то образом перенесся туда, но вижу лишь чаек: они садятся и взлетают рыхлым облаком.
– Я поспрашиваю, – говорит Джон.
Коротко киваю. Он высовывает голову в окошко и обращается к миссис Тавиш, которая прижимает к груди серебристого йоркширского терьера:
– Чарли не видали?
– Что? – Она опускает взгляд на мостовую, намереваясь перейти на другую сторону.
– Чарли Тредуэя не видали?
Миссис Тавиш, кряхтя, пристраивает песика на одну руку, ладонь другой прикладывает к уху. Джон широко улыбается, машет старушке на прощанье, после оборачивается ко мне:
– Она бы сказала, если б видела.
– Мое окно застилает синим, от неожиданности я шарахаюсь вбок, но это всего лишь Брайан Роуи в форменном полицейском жилете. А, мы притормозили у таможни? Пожалуй, к Брайану стоило обратиться в первую очередь. Что случилось? – Констебль Роуи сгибается пополам, хмуря лоб. Чашку с дымящимся чаем он держит как решающую улику.
– Чарли пропал, – выпаливаю я.
– Далеко не уйдет. – Он фыркает, довольный собственной шуткой.
Я растягиваю губы в вымученной улыбке, хотя мысленно кричу во весь голос. Я давно здесь живу и знаю, что Брайан хохмит в режиме по умолчанию и это вовсе не означает, что он относится к ситуации несерьезно.
– Понял, передам. Рацию задействовать не стоит, но несколько звонков не помешают… – Он промокает лоб. – Пойду прогуляюсь по окрестностям. Хотя, уверен, Нина, вы найдете его раньше. Не переживайте.
До чего они здесь беспечны. Всем известно: на Люте не может стрястись никакой беды, разве что в этот, один-единственный день. Где логика? Но я, как обычно, подыгрываю, благодарно киваю Брайану, и мы уезжаем.
Чарли не неуязвим. Он хрупкий, мягкий по натуре, очень чувствительный. Не в его характере вот так исчезать. Эта мысль все время крутится у меня в голове. Что-то тут неладно. И если Эмма – непослушный чертенок, то Чарли – мой постоянный спутник, не покидающий орбиты. Даже не припомню, где и когда я в последний раз видела его этим утром. Вроде бы на лужайке сразу после завтрака… Что же я за мать?
Голос, который я слышу, кляня себя, в последнее время все больше напоминает голос моей собственной родительницы – шипение из растянутого в улыбке рта, шепот сквозь зубы, не слышный остальным. Какой бы матерью я ни была, я все равно в тысячу раз лучше моей. Она не заслуживает места в моем сознании.
Джон насвистывает старую, смутно знакомую песню.
– Он ведь никак не мог попасть на яхту, которая ушла на Суннан? – спрашиваю я. При одной мысли об этом у меня начинает колотиться сердце.
– Нет, – отвечает Джон. – Даже если бы ему вздумалось отправиться с другими детьми, викарий не пустил бы его на борт. Все знали, что Чарли остается.
Мы не остаемся, через час мы отплываем на лодке механика. Но я понимаю, о чем он.
Миновав последний каменный коттедж, расположенную на отшибе чайную Джо и сельскую лавку, мы съезжаем на грунтовую дорогу и движемся через вересковую пустошь. Справляться о Чарли не у кого, вокруг ни души – одни на Суннане, другие на войне.
Боже, тут вообще хоть кто-нибудь остался? Я обвожу взглядом горизонт, и остров сильнее чем когда-либо кажется мне необитаемым, словно нас высадили на него в наказание. Большую часть времени мне нравится это чувство – ощущение, что ты сбежал от хаоса и жестокости огромного мира, но сегодня у меня стынет кровь в жилах, как будто я отдалась на волю глубоководного течения.
Разум невольно составляет список всевозможных опасностей – куда ни посмотри, они повсюду. Скалы в восточной части острова, грозящие осыпью. Каменистое побережье на юге, где гнездятся тупики и где во время отлива можно по самые лодыжки увязнуть в песке, так что без посторонней помощи не выберешься. Проще всего вообразить утопление. Я столько лет представляла, как выглядела моя сестра, когда ее тело подняли из бассейна, что мозг с готовностью преподносит картинку. Отгоняю ее прочь и думаю о северной оконечности острова, сотовой вышке и кургане. Там не то чтобы опасно, просто жутковато.
Когда я только перебралась на Лют, вокруг кургана кипела жизнь, толпы археологов и жизнерадостных студентов вели раскопки, составляли каталоги, публиковали статьи, но с началом войны все они уехали, и теперь, если не считать пасущихся на склонах коз, одичавших и расплодившихся сверх меры, курган опять выглядит как древний могильник, каким был всегда, безмолвный и наполовину разрытый. Сейчас он напоминает зияющую рану. Он осквернен. Сильное слово, но очень подходящее.
Несколько лет назад в одну из утренних прогулок я отправилась туда, но у подножия кургана мне стало не по себе, я ушла и с тех пор в этом уголке острова не бывала. Всей душой надеюсь, что Чарли не вздумалось залезть на курган.
Щурясь, я смотрю поверх головы Джона и замечаю троих ярко одетых людей, которые шагают в сторону берега и, к моей вящей радости, выглядят совершенно обычно.
– Туристы? – Указываю пальцем. Джон озадаченно хлопает глазами.
– А, да, приехали на отдых. Скандинавы.
Из какой страны, не знаю.
Откуда – это важно. Финляндия капитулировала перед русско-американской армией спустя месяц после начала войны, став первой крупной костяшкой домино, чье падение потянуло за собой остальные.
– Может, узнаем у них…
– Да, давайте спросим, – соглашается Джон и жмет на клаксон.
От неожиданности туристы смешно подпрыгивают, словно три неоновые марионетки. Джон прыскает. Даже я изображаю подобие улыбки, хотя в основном из-за Джона. Джон Эшфорд любит свой игрушечный грузовик. Любит жизнь, которую ведет, свою работу смотрителем острова, приглядывающим за растениями, животными, памятниками старины и всем прочим, что находится в ведении Национального фонда. «Все лучше, чем сидеть на пенсии», – часто повторяет он, и я ему верю. Даже не будь войны, которая опустошает природные заповедники и уничтожает исторические ценности по всему миру, для такого человека, как он, Лют все равно оставался бы прекраснейшим местом на земле.
Отдыхающие неторопливо приближаются к нам, а до меня с запозданием доходит, что, вообще-то, их тут быть не должно. Не то чтобы туристы никогда не забредали сюда, просто Джо говорила, что за неделю до Дня «Д» мы прекращаем сдавать жилье и выписывать разрешения на туристические стоянки. Это время исключительно для местных. Возможно, именно поэтому к нам приближается только один член группы, высокий мужчина, тогда как его товарищ уходит, а женщина в брюках карго останавливается чуть поодаль и увлеченно разглядывает кустик вереска.
– У незнакомца волосы оттенка «холодный блонд» и белоснежные зубы. Еще до того, как он открывает рот, я принимаюсь гадать, откуда он. Отличная погодка! – В подтверждение своих слов блондин смотрит на небо.
Переигрывает. Так и есть, они расположились тут без разрешения. Джон не станет сдавать их полиции за самовольно разбитый лагерь, не такой он человек. И действительно, Джон лишь улыбается.
– Леди Тредуэй разыскивает сынишку. Никто из вас не видел поблизости семилетнего сорванца?
– Шестилетнего, – поправляю я, и сердце опять начинает частить. – Простите, ему шесть. Темноволосый, как я, ростом примерно три фута и… гм, три с половиной фута, может, чуть больше.
– А в метрах? – с ехидцей интересуется блондин, заметив мой акцент. Проверяет.
Я растерянно умолкаю. До сих пор не разбираюсь в метрической системе. Тест на британку провален.
Турист со смехом машет рукой.
– Ладно-ладно, мы его видели.
В груди у меня екает. Он оборачивается, показывает:
– Мальчик пошел вон по той тропинке. – Носком пинает камушек в соответствующем направлении. – Прямиком в лес. Там небольшой такой лесок.
Да, роща. – Я отчаянно напрягаю зрение, как будто, прищурившись посильнее, смогу пробурить взглядом поросший клочковатым кустарником холм, пробраться между толстыми дубами и вызволить Чарли, целого и невредимого.
Господи, опять этот дикий страх. Он всегда со мной; малейший повод, и ужас захлестывает меня с головой. С того дня, как Чарли появился на свет, я обзавелась полным набором страхов – мало ли что случится, – а с рождением второго ребенка их стало вчетверо больше.
– Ясно. – Джон хлопает ладонью по дверце пикапа, и блондин вежливо отступает назад. – А вы, ребята… – Улыбка скандинава делается немного напряженной. – В общем, берегите себя.
Джон кивком прощается, мы уезжаем. Оглянувшись, я вижу, что смутное замешательство на лице блондина рассеивается. Женщина машет нам вслед. И хотя в ее жесте мне чудится насмешка, я тоже ей машу. В данном случае приходится. Во-первых, титул обязывает, а вовторых, каждый встречный может оказаться репортером. Британская пресса плюется ядом даже в военное время.
И все-таки странно видеть здесь эту компанию. В нынешнем году туристов у нас почти не было, а то, что они задержались на острове сейчас, на этой неделе, а не какой-нибудь другой, и вовсе подозрительно. Как только я вновь нахожу взглядом деревья, к облегчению от полученной зацепки примешивается жгучая злость:
– С чего вдруг он убежал? Да еще сюда, в рощу?
– Эта область представляет значительный культурный интерес. – В глазах Джона поблескивает лукавый огонек.
– Не для шестилетки. И на Чарли это непохоже.
– Согласен, непохоже, – понизив голос, произносит Джон, когда мы подъезжаем к опушке и останавливаемся перед полосой из расколотых бревен и щепок, обозначающей границу здешней парковки.
Молча вылезаем из машины и бок о бок входим в рощу. Дубы тесно обступают нас со всех сторон. От внезапной темноты перехватывает дух, я, по обыкновению, чувствую, будто что-то изменилось, будто здесь другой воздух, другой, более древний кислород. Не помню, испытывала ли я подобное ощущение до того, как узнала, что это за место, услышала Иэна Пайка, который пересказывал старинные легенды за барной стойкой в «Голове датчанина». О призраках, что в сочельник покидают рощу и устраивают праздник. О вековых дубах, творениях кельтских богов, что по сию пору все видят и слышат, ожидая возвращения своих садовников. О камне. О смертях – сотнях, тысячах, бессчетном количестве человеческих жертв. Возможно, дрожь охватывала меня здесь всегда, возможно, нет, но теперь мое восприятие обострилось.
Рощу, единственное на Люте скопление дикорастущих деревьев, из-за невеликих размеров и лесом-то не назовешь, однако, оказавшись внутри, чувствуешь себя как в настоящем лесу. Когда в пышных зеленых кронах над нашими головами скользит ветер, я поплотнее запахиваю парусиновую куртку. Я могу пройти по этой тропе даже с закрытыми глазами. По запаху могу определить время года – я чую этот терпкий запах набирающих силу древесных соков, тягучую живость лета. Тропинка сужается, я пропускаю Джона вперед, а сама украдкой оглядываюсь на склоненную ветвь дуба, под которой сидела всего несколько часов назад. Шепот дубов становится громче, отчетливее, словно они хотят наябедничать, чем я тут занимаюсь. Джон бы этого не одобрил. А потом сквозь назойливый шелест я различаю голоса, и пульс начинает стучать в горле. Джон радостно кивает и направляется на звук.
– Ну, что я вам говорил? Юный историк.
Нашел то самое место, которое представляет… – Порыв ветра уносит его слова.
Сперва я вижу спину Чарли, его свитер в широкую красную и синюю полоску. Мой малыш сидит в куче листьев и чешет затылок. Его волосы уже потемнели и стали каштановыми, но в лучах солнца, проникающего сквозь тенистый лесной полог, они снова кажутся светлыми, как в младенчестве. Он смотрит перед собой и с кем-то разговаривает, но там никого нет. Чарли беседует с пустотой.
– Чарли! – Я ускоряю шаг.
Только теперь я замечаю рядом с ним какого-то человека, и с моих губ слетает неслышный полувздох-полувсхлип. А я что себе вообразила – привидение? Мужчина похлопывает Чарли по плечу, затем поворачивается ко мне. Я уже готова кричать «спасибо», но в этот момент понимаю, что передо мной Мэтью Клер. Несмотря на холодную погоду, он без куртки, видавшие виды штаны заправлены в сапоги, заляпанные грязью, обветренное лицо обрамляет щетина. В серых глазах светится доброта, печаль, обида… как знать. Просто человек, усталый мужчина среднего возраста, но здесь и сейчас есть в нем что-то причудливое. Он как будто находится в своих владениях. Король леса.
Леди Тредуэй. – Приветствие возвращает меня к реальности. Мэтью, как обычно, цедит слова, точно произносить их ему невыносимо трудно. Мать его, мог бы обратиться ко мне просто по имени – миллион раз же просила! Когда я бросаюсь к сыну, Мэтью на меня даже не смотрит, но мне плевать. Мир превращается в узкий туннель, пока наконец сын не оказывается в моих объятьях. Я целую его в макушку и шепотом кричу ему на ухо:
– Что ты тут делаешь? О чем ты только думал! Господи, как же ты меня напугал, маленький мой!
Я отстраняюсь, чтобы разглядеть его как следует, он ошеломленно моргает, словно очнулся ото сна.
– Почему ты испугалась? – спрашивает он. Выражение его лица мне совсем не нравится. С нервным смехом восклицаю:
– Я не знала, где ты!
– Я хотел увидеть камень. Я тебе говорил.
– Что-что ты хотел увидеть?
– Мне приснился сон про камень, и я захотел на него посмотреть. Сегодня.
– Ты… – В изумлении я качаю головой.
– Жертвенный камень, – подсказывает Мэтью.
Ему всего сорок два, как и Хью, однако он почему-то выглядит невероятно старым, и в эту минуту – особенно. Несмотря на все уважение к островным традициям, Хью – человек современный. Он смотрит телевизор, интересуется биржевыми индексами, а во время трансляций футбольных матчей обменивается текстовыми сообщениями с друзьями. Едва ли Мэтью Клер делает что-то подобное. Порой, когда Иэн Пайк рассказывает о вторжениях римлян, саксов или норманнов на Лют, я представляю Мэтью Клера среди зевак, собравшихся на берегу. Его даже переодевать особо не надо.
Оборачиваюсь и вижу, что он сосредоточенно разглядывает покрытый мхом длинный плоский камень на краю опушки; маленькая позеленевшая табличка указывает место, обозначенное на туристической карте острова.
– Когда я пришел в рощу вслед за ним, он стоял, прижав ладони к камню, – сообщает Мэтью.
– Пришли вслед за ним? – Я не собиралась никого обвинять, просто в голосе звенит напряжение. Я вся напряжена.
От моих слов Мэтью коробит, он вновь быстро отводит взгляд в сторону. Джон неловко мнется на тропинке чуть позади. Выдавливаю улыбку:
– Нет-нет, слава богу, что вы так поступили, но…
– Ребенок брел по дороге совсем один. И явно нуждался в помощи. – Теперь уже в его голосе слышится укоризна. Что ж, понятно.
Я выпрямляюсь, стряхиваю с себя пыль.
То есть вы пришли и… Почему не увели Чарли отсюда? Мэтью почесывает щетину на подбородке.
– Говорю же, он стоял перед жертвенным камнем. А я оказался здесь буквально минуту, максимум две минуты назад.
Я в замешательстве моргаю. Как такое возможно? По моим ощущениям, я полдня пробегала в поисках Чарли, хотя, конечно, добираясь сюда пешком, Мэтью затратил больше времени. И все равно как-то все искривлено, будто время движется сразу и слишком быстро, и слишком медленно.
– Когда мы уже пойдем домой? – звонко спрашивает Чарли со своего места, и я, слава богу, осознаю, что нахожусь в настоящем. – Я хочу апельсинового сока.
Джон раскатисто хохочет.
– Вот вам пожалуйста: сперва он хотел увидеть камень, теперь хочет сока. Тайна раскрыта.
Набираю побольше воздуха – заставляю себя не повышать голос.
– Чарли, нельзя просто так уходить неизвестно куда. – Тянусь к нему, чтобы помочь подняться. Он обхватывает меня за пояс худенькими ручонками, прижимается всем телом, и мой гнев бесследно рассеивается. – И домой мы не пойдем – папа нанял для нас лодку.
Чарли вскидывает голову.
– Зачем нам лодка?
– Спокойно, спокойно, ему всего шесть. Чарли, ты же помнишь, мы отправляемся на каникулы, и сейчас мы всех задерживаем, поэтому…
– Я могу вас отвезти, – предлагает Джон, бросив взгляд на часы.
– Мы поедем на пикапе? – мгновенно оживляется Чарли. Он снова стал самим собой, глазенки горят.
Я оборачиваюсь к Мэтью, чтобы коротко и вежливо поблагодарить за заботу о Чарли, однако того уже нет, он удаляется из рощи другой, северной тропинкой. Провожая его глазами, я замечаю, как он на ходу погладил ствол дуба, точно поприветствовал друга. И только когда он полностью скрывается из виду, я позволяю себе выдохнуть.
В пикапе Чарли брыкается, не желая сидеть у меня на коленях, поэтому мы вдвоем втискиваемся на пассажирское место и старательно улыбаемся всякий раз, когда Джон притормаживает, чтобы поздороваться с жителями острова, которых встречаем по пути. Кажется, что мы уже в отпуске, едем к солнышку, оставив все плохое позади. С каждой новой кочкой мои плечи все больше расслабляются.
Чарли поворачивается ко мне, прижимается щекой к щеке.
– А дома можно выпить апельсинового сока? Ох, батюшки. Чарли, я же объяснила, мы не едем домой. Наши чемоданы уже на пристани. Мы сразу отплываем на…
– А вот и нет.
Я склоняюсь над ним, всматриваюсь в глаза. Сонное выражение в них сменилось железной уверенностью. Неужели и он заразился главным местным суеверием? Очевидно, кто-то забил ему голову этими глупостями. Наверняка Мэтью или деревенские ребята.
– С чего ты взял?
– Просто я знаю, что мы никуда не поедем. – Чарли пожимает плечами, но перспектива остаться не слишком его расстраивает. В отличие от прочих детей, которые сегодня с утра чуть не галопом неслись мимо нашего дома на пристань. И не похоже было, что они торопятся в предвкушении турпохода, нет, они будто от кого-то убегали.
– Глядите-ка, кто это там, – говорит Джон, когда мы выезжаем из деревушки.
На дороге стоит Хью. Он не идет нам навстречу, просто стоит у обочины и ждет, руки в боки. Джо и Эммы не видно. Джон останавливает машину, я протискиваюсь мимо Чарли наружу.
Побудь пока тут, – говорю я ему, по выражению лица Хью чуя неприятности. Даже не по выражению, а по его отсутствию. Лицо мужа – гладкая стена: ни щелочки, ни выступа, ни единого шанса проникнуть за нее.
– Он уплыл, – сообщает Хью, как только я подхожу ближе. – Ну, и где был Чарли? – Вопрос он задает так же равнодушно, как если бы читал надпись на дорожном указателе.
– Он был… – За спиной Хью моторная лодка прочерчивает в море белую полосу, удаляется от Люта, и весьма быстро. – Он был в роще. Как это – уплыл? Что случилось?
– Не хотел задерживаться. Предпочел не рисковать.
– Да час назад был самый высокий прилив! Времени еще уйма! И солнце сядет только через… – Я умолкаю, понимая, что меня никто не слушает. Хью устремляет взор на деревню, в его карих глазах не прочесть ничего. А потом он уходит – сворачивает на вересковую пустошь, в противоположную сторону от дома.
– Хью? Зову его мысленно, не вслух. Пусть хорошенько прогуляется, если он в таком настроении. Чарли дергает дверцу, пытаясь выбраться из машины, однако Хью на него даже не оглядывается и шагает прочь, руки в карманах. Я напрягаю зрение и различаю впереди выстроившиеся в ряд цветные прямоугольники. Хью бросил чертовы чемоданы прямо посреди дороги. Хотите, заброшу ваши вещи домой? – Джон Эшфорд с готовностью ставит ногу на подножку пикапа.
– Нет, – быстро отвечаю я. – Мы сами справимся. Вы и так нам сегодня помогли. Спасибо большое. Не стану вас задерживать.
Он кивает.
– Мне нужно ненадолго заглянуть на северную станцию. Если чемоданы слишком тяжелые, оставьте их тут, буду ехать назад и подхвачу.
– Нет-нет, не беспокойтесь. Вы и так…
– Я вечером в паб собираюсь, – смеется Джон, – награжу себя лишней пинтой пива за доброе дело.
Я изображаю улыбку, он уезжает, а мы с Чарли идем обратно на пристань, и мой сын развлекается тем, что бросает, ловит и роняет подобранные на дороге камушки.
– Так. – Уперев руки в бока, я обвожу взглядом нелепую гору багажа, который мы намеревались тащить с собой в недельную поездку. Раньше я путешествовала налегке. И где бы ни находилась, всегда была готова сорваться с места. – Ты бери свой чемоданчик, а я возьму вот этот. Потом найдем папу и попросим его забрать остальное. Как тебе такой план?
– Чарли с серьезным видом кивает, подхватывает свою кладь и уходит. Чарли! – окликаю я сына, не сходя с места. – Что ты видел во сне? Почему тебе захотелось посмотреть на камень?
Не оборачиваясь, он пожимает плечами.
На пристани никого. Морские волны вздымаются и опадают. «Гордость Люта» уже добралась до Суннана. На западе в лучах предвечернего солнца золотится малый остров Элдинг – там вообще нет людей, и только пасущиеся овцы белеют на склонах крохотными облачками. За моей спиной одиноко и стойко высится скала Иосифа, пенные волны разбиваются о камень. А здесь, на главном острове архипелага, все спокойно.
Будь я суеверна, как все местные жители, я бы сказала, что Лют притих в ожидании. Но я не местная, поэтому скажу, что вокруг царит тишина и покой. Лют такой же, как обычно.
За два дня
– Я знала, что так и будет. – Джо скользящим движением отправляет мне через стол горячую кружку; из всей пестрой коллекции она выбрала мою любимую – тонкую, изящную, с изображением валлийского дракона, обвивающего донышко.
Я провожу пальцем по острому ободку.
– Ты у нас теперь ясновидящая?
– К моему глубочайшему прискорбию, нет. – Джо с улыбкой смотрит на деревенскую улочку за окном чайной, но ее мысленный взор устремлен куда-то вдаль. – Просто здесь всегда так. Слава богу, Хью в прошлый раз уехал. Во второй раз повезти не могло.
Он все еще рассчитывает, что мы выберемся с острова. На лице Джо написано удивление – впервые за утро.
– Сюда ни одна лодка в ближайшее время не подойдет.
– Да это понятно. – Пригубливаю чай. Слишком горячо. Опускаю кружку на стол. – Он сейчас вызванивает старых школьных друзей. Жена Гарри Энстона – член парламента, и Хью надеется, что она сможет прислать за нами вертолет – по официальному ходатайству или как-то еще. Раз уж наш мы передали в пользование ВВС.
– Ему видней, – вполголоса произносит Джо, подперев подбородок рукой.
– Стыдно, конечно, обращаться с такой просьбой. Война же кругом.
Я выглядываю в окошко – будто в подтверждение моих слов, на запад с ревом пролетают три истребителя. Мы напряженно прислушиваемся. Узнав по звуку «своих», выдыхаем и откидываемся на спинки скрипучих деревянных стульев. Надеюсь, это патрульный, а не боевой вылет. Режим тишины длится уже больше недели. Если прекращение огня приведет к переговорам, дело может закончиться мирным соглашением, но все крайне неопределенно и шатко. Четырехлетний глобальный конфликт пресса окрестила Водной войной, а не Третьей мировой, как будто это название припасают для следующего, более страшного противостояния. Хорошо бы перед этим был перерыв подольше. Чтобы все вернулись домой и успели забыть о войне.
Острым кончиком ногтя царапаю нарисованного дракона – угасшее было раздражение вспыхивает вновь.
– Все эти попытки – напрасная трата времени. Если вертолеты на острове запретили еще в начале войны, то сейчас и подавно не разрешат их использовать. Даже несмотря на перемирие. Даже если ты ездишь на охоту вместе с депутатом парламента. – Я перехожу на густой бас, передразнивая Хью. Джо делает вид, будто не замечает.
Она, как и я, презирает снобизм, клановость и убежденность в собственном превосходстве, характерные для высших слоев Британии. Классовая принадлежность здесь проявляется очень тонко, ею никогда не тычут в лицо, но порой именно эта неуловимость бесит меня больше всего – ощущение, будто они считают свою элитарность настолько само собой разумеющейся, что подчеркивать ее нет нужды. «Старые деньги» острова легко узнать по древней обшарпанной мебели, заляпанным грязью сапогам, неимоверному количеству домашних питомцев. По коротким взглядам, которыми эти люди обмениваются между собой. По тому, с кем они общаются и кого словно не видят.
Хью, по счастью, совсем не «барин», иначе я бы за него не вышла. Аристократический лоск в нем сочетается с прагматичностью землевладельца, но холодная надменность, которую я замечаю во многих его друзьях, для него не характерна. Ему не все равно, что о нем думают. Он не использует свой титул в качестве щита; на самом деле о том, что Хью принадлежит к поместному дворянству, я узнала, только прочитав некролог на смерть его отца. Возможно, он немного человечнее других, потому что вырос здесь, в этом тесно сплоченном сообществе на маленьком клочке суши посреди океана. Но все-таки порой и у Хью проскальзывают легкие нотки снобизма, особенно когда мы навещаем его сестру в Суррее или гостим у его приятелей в их загородных поместьях или лондонских особняках.
Я боюсь ехать на большую землю, это правда.
Меня поддразнивают, полагая, что я, деревенщина и американка, не замечу, а мне остается лишь вежливо улыбаться и подыгрывать – иное только докажет их правоту.
Я никогда не жалуюсь Джо в открытую, лишь изредка позволяю себе обронить пару фраз – мой способ чуточку разрядиться. Она тоже никогда не критикует Хью и впрямую не высказывает недовольства высшими классами. Джо говорит о британскости и о том, до чего все это нелепо, – говорит извиняющимся тоном, словно и она, и прочие представители среднего класса непосредственно к этому причастны, что само по себе очень по-британски.
– Джо, как и ее родители, появилась на свет в Бристоле, тогда как обе ее бабушки и оба дедушки были выходцами с Ямайки. Интересно, чувствует ли она себя отчасти иностранкой изза происхождения? Подозреваю, что нравлюсь ей именно тем, что я американка, хотя лично меня это дико напрягает, особенно сейчас, когда в глобальной войне нам противостоит весь мир. Из какого-то непонятного упрямства я цепляюсь за свой американский английский, акцент и вокабуляр, но, честно признаться, в Британии мне гораздо лучше. Досадные пустяки – вот и все, что иногда раздражает. Продуктовые упаковки, которые так просто не вскрыть. Цитаты из ситкомов, которых я не видела. Трудности в толковании этикета – она действительно приглашает меня на чай или это просто формальная вежливость? Внутренние сомнения: не слишком ли я несдержанна, не слишком ли порывиста, не слишком ли я – это я? Шуточки, понятные только Хью и его друзьям. Старинные традиции, смысла которых мне никак не уразуметь. Надеюсь, никто не попытается нагрянуть на остров в День «Д», – Джо хмурит лоб, – это может плохо закончиться.
Она серьезно? Не успеваю я задать вопрос, как звякает дверной колокольчик и миссис Уикетт, шаркая, входит в кафе за своей полуденной чашечкой чая. Джо вскакивает, чтобы поздороваться с посетительницей, и помогает сухонькой старушке сесть за столик. Я приветственно машу миссис Уикетт и удостаиваюсь сдержанного кивка.
Джо отправляется на кухню вскипятить чайник, а я оглядываю ее уютное заведение: кремовые кружевные занавески, низкий потолок с белыми крашеными балками, чуть покосившиеся стены, зигзаги трещин, проделанных влагой, – и вспоминаю выражение лица моей подруги за миг до того, как тренькнул дверной колокольчик. Я всегда считала, что Джо подстраивается под собеседника. Она эмпатична. Если бы меня попросили описать Джо одним словом, именно так я бы и сказала. Ей всего-то немного за пятьдесят, и, в отличие от большинства местных, выросла она не здесь. Однако по мере приближения Дня «Д» я все сильнее жду, что она моргнет, сдастся, заявит, что это лишь традиция, не более. До сих пор этого не произошло. Джо встревожена. Энергична, как всегда, но чувствуется в ней какое-то беспокойство, чем-то схожее с той уверенностью, что вчера читалась в лице Чарли.
Я делаю глоток чая. Опять поторопилась. Не так долго живу на острове, чтобы привыкнуть к обжигающей температуре местных напитков. Неуклюже опускаю кружку с драконом на стол, и выплеснувшаяся через край капля пачкает белую кружевную скатерть. Я промокаю ее салфеткой, а Джо, поставив перед миссис Уикетт чайник и чашку, снова плюхается на стул напротив меня.
– Мы привезли твое печенье, перед тем как на неделю остановили заказ продуктов. Забыла тебе сказать, но оно у нас есть. – Джо кивает подбородком на витрину.
– О, замечательно! – старательно вторю я ее непринужденному тону. – Чарли и моя выпечка устраивает, а вот Хью по диетическому печенью соскучился.
Не знаю, с чего я брякнула «моя выпечка». Готовит у нас только Салли. Может, что-то подобное сказала бы любая мамочка. Иногда я ловлю себя на ошибках – пытаюсь сойти за свою и промахиваюсь. Джо и на этот раз притворяется, будто ничего не заметила.
Делаю два осторожных глоточка, потом решаюсь:
– Так что ты там говорила о тех, кто попробует попасть на остров в День «Д»? Вряд ли такое случится, – быстро отвечает Джо, словно торопится меня успокоить. – Всем известно, что на этой неделе летать на остров нельзя, даже если небо не закрыто, как сейчас. Просто мне страшно не хочется, чтобы сюда угодили ни о чем не подозревающие бедолаги. Несправедливо получится.
– А так, выходит, справедливо?
Улыбаюсь во весь рот, чуть не подмигиваю – всем своим видом показываю, что не купилась на игру. Легкая беседа, развлечения ради. У меня не сводит желудок, нога под столиком не выбивает нервную дробь.
Джо обдумывает мой вопрос.
– По-своему, да. Это сделка, заключенная давным-давно, и мы видим ее реальные выгоды. Особенно в такие трудные времена. Нигде я не жила в таком покое и безопасности, как здесь. А пейзажи какие!
Миссис Уикетт бормочет что-то неразборчивое, Джо смеется.
– Может, надо составить ей компанию? – шепотом спрашиваю я.
Джо, продолжая улыбаться, качает головой.
– Она любит посидеть одна, как раньше сидела за чаем вдвоем с Фредом. У нее свой ритуал.
А у меня свой: сбежать из дома, пока дети заняты, выпить чаю с подругой, а после побыть наедине с собой. Джо, будь она телепатом или нет, читает мои мысли и протягивает через стол свернутую салфетку; в глазах – заговорщицкий блеск, точно нам по тринадцать. Насвистывает с такой деланой беспечностью, что я шлепаю ее по руке. Как только миссис Уикетт отворачивается полюбоваться декоративной фарфоровой тарелкой на стене, я достаю из салфетки переданную контрабанду и прячу ее в карман.
Одна сигаретка в день. На порок не тянет, но Джо – единственная, кому об этом известно. Я могла бы купить и припрятать целую пачку, однако это уже больше походило бы на реальную зависимость, особенно если поглядеть на жуткие фото, которыми тут снабжают каждую упаковку: черные от гангрены пальцы ног, гниющие десны… Я даже не докуриваю до конца – раздавливаю «бычок» и прячу в дупле дерева в роще, в моем тайнике. Пустяковая привычка.
– И все-таки не хотелось бы, чтобы о ней узнали дети. Или Хью. Он немедленно примется читать мне нотации: «Как родители, мы обязаны серьезно относиться к своему здоровью». Ну хоть материнством – вершиной женского самоотречения – не тычет, и то ладно. Мы с ним несем ответственность в равной мере. Он – хороший родитель, а значит, и я обязана быть такой же. Сама понимаю, что обязана. Просто еще не созрела. Спасибо, – одними губами выговариваю я, потом произношу вслух: – Так я заберу печенье?
Джо направляется к стеклянной двери, ведущей в лавку. Я встаю из-за столика и следую за ней.
– Дети наверняка обрадуются не меньше Хью, – замечаю я. – Непросто будет урезать им паек.
– Не ограничивай их слишком сильно, – выпаливает вдруг Джо, как будто хотела промолчать, но потом решила высказаться. – На этой неделе не надо. Пускай едят вволю.
До меня доходит, о чем она, и я болезненно сглатываю, заталкивая обратно готовую сорваться с губ фразу: «Ты же во все это не веришь». Ляпнуть такое в присутствии миссис Уикетт было бы грубостью. Элси Уикетт далеко за восемьдесят, она уроженка Люта. В сравнении со всеми остальными я здесь, в сущности, гостья. Меньше всего мне хочется проявить неуважение к ее взглядам. И все-таки нужно придумать способ слегка надавить на Джо. Я не понимаю ее настроя, и от этого меня мутит. Я словно бы на плоту, совсем одна, и меня все дальше уносит в открытое море, прочь от оставшихся на берегу.
Стеклянная дверь со змеиным шипением закрывается, и мы остаемся в лавке одни. Пока я собираюсь с духом, чтобы заговорить, Джо достает из-под прилавка пачку диетического печенья и вполголоса спрашивает:
– Что ты рассказывала детям о Дне «Д»?
– Детям? – удивленно переспрашиваю я. – Ничего. – Не стоило бы оправдываться, но я почему-то ищу отговорку. – Мне кажется, это история Хью.
Вытаскиваю из кармана продуктовую книжку, кладу на прилавок. Не сводя с меня глаз, Джо раскрывает ее и делает в ней отметку.
– Значит, он рассказывал?
– Он… ну, он не любит эту тему. Вполне понятно. – Такое ощущение, будто я защищаю нас обоих перед сыщиком. – Мы просто сказали, что для жителей острова это особенный день, поэтому мы уедем праздновать наш собственный праздник.
Джо коротко хмыкает, раздув ноздри.
– Но вы не уехали.
Отвожу взгляд, чтобы убрать продуктовую книжку в карман. Она отправляется в компанию к сигарете, но я делаю вид, что укладываю ее поудобнее, – повод не поднимать глаз.
– Я сказала, что мы отметим праздник здесь.
– Если Хью ничего не объяснит детям, тогда придется тебе.
Что мы должны объяснить? – истерично выкрикиваю я. – Эмме всего три года. Она даже не понимает, что значит «мертвый». Джо отступает на полшага.
– Может, ты и права.
– Прости. – До меня доходит, что я только что сказала, и кожу начинает покалывать. Я порой забываю, что Джо – вдова. Ее муж умер от удара задолго до моего приезда на остров, но это не означает, что умерло ее горе. – Зря я…
– Нет, ты в самом деле права. С Чарли можно побеседовать и после Дня – у него наверняка появятся вопросы, – а разговор с Эммой подождет до тех пор, пока она не станет старше. Все равно она узнает от других детей.
У меня вырывается горький смешок.
– Не хочу показаться пуританкой, но, должна заметить, праздновать такое вместе с детьми не слишком-то прилично!
Джо роняет челюсть и отворачивается. Прикусывает губу.
– Нина, ты, конечно, извини – сама знаешь, я тебя люблю, – но, пожалуйста, прекрати называть это словом «праздновать».
– Она резко умолкает, шумно дышит, и я вижу, как она втягивает вырвавшиеся эмоции, точно сматывает леску спиннинга с рыбой на крючке. Джо в ярости, по-настоящему в ярости, и причиной тому я. Не знаю, что сказать, чтобы не взбесить ее еще сильнее. За все годы я впервые так близка к ссоре; боже, как колотится сердце. Прости, – повторяю я. Пауза. Набираю воздуха. – Жестко ты меня одернула.
– Потому что ты не веришь. – Джо отворачивается и начинает переставлять банки с консервированными фруктами и фасолью. – И с чего бы тебе верить? Я постоянно напоминаю себе, что тоже не верила, когда только переехала сюда. А когда поняла, что все это правда, страшно разозлилась на Питера. Подумать только, он женился на мне, привез сюда, заставил полюбить это место, а потом… – Джо горестно качает головой. – Скоро ты прозреешь и, когда станешь одной из нас, научишься ценить все это так же, как мы. Это честная сделка.
Когда я стану одной из них…
– Честная сделка… – отваживаюсь тихо повторить я, потому что лицо Джо, к счастью, просветлело.
– Погляди вокруг! – Она сияет улыбкой. Как и я, Джо рада хоть частично сменить тему. – Взять хотя бы погоду. Роскошная, правда? Дожди перед рассветом, солнечных дней больше, чем в среднем по Британии.
– Удачное географическое расположение, – улыбаюсь в ответ я. – Так утверждает Джон Эшфорд.
Он до сих пор в этом убежден? – задумчиво произносит Джо, облокачиваясь на прилавок. Выражение ее лица меняется. – Ты ведь знаешь про Кладбище.
Знаю. Это одно из моих любимых мест на острове. Кладбищем называется отрезок моря за северо-западной оконечностью острова, где волны бурлят, формируя длинную белую полосу. Когда я только приехала на Лют, то по ошибке приняла этот участок за естественную отмель, но Хью меня поправил: в действительности это большой риф, образованный обломками кораблей, на которых чужаки, от викингов до нацистов, в течение многих тысячелетий пытались завоевать Лют. Наш паб, «Голова датчанина», получил свое название в память об одном невезучем викинге: во время очередного набега на остров он преодолел риф и вплавь добрался до берега, где ему быстренько отрубили голову, насадили ее на пику и сделали мишенью, в которую ребятня кидалась гнилыми овощами. Пику воткнули в землю приблизительно на том месте, где сейчас стоит паб.
Никому не удавалось захватить нас, даже норманнам. Они прислали на Лют первого лорда Тредуэя, тот моментально влюбился в остров, взял в жены местную девушку, отказался платить налоги короне, и это каким-то образом сошло ему с рук.
Фокусы истории и географии, вот и все. Узор из лоскутков, который ничего не доказывает. В богатой истории Люта много чего можно надергать. Течения вокруг здешних островов коварны. И все-таки, надо признать, мы всегда благополучно добирались и до большой земли, и до Суннана с Элдингом, и даже до скалы Иосифа, если нам хотелось устроить однодневное путешествие. Единственный раз за все время, когда наши планы сорвались, был вчера.
Джо внимательно смотрит на меня.
– У нас нет проблем с деньгами, верно? Мировые кризисы нас практически не касаются.
Об этом мне известно не понаслышке, так как благосостояние Люта тесно связано с богатством семьи, в которую я вошла. На стеллажах в кабинете Хью стоят книги, посвященные истории рода Тредуэев, старинные тома в кожаном переплете, привлекшие мой интерес, когда я была беременна Чарли и из-за постоянной усталости ничем не занималась, а лишь бродила по дому. Издание показалось мне нелепым образцом тщеславия, однако, начав читать, я уже не могла остановиться. История невероятно меня увлекла; поражало, что я нигде не читала об этом прежде.
Легенда о заговоренных островитянах прославила Лют в веках по всей Британии и, что занятно, принесла острову прибыль. С того времени, как корабли стали бороздить Атлантику или отправляться к северу на рыбный или китобойный промысел, удачливые моряки с Люта были желанными членами любой судовой команды. В бристольских портах верили, что корабль, на котором плывет уроженец Люта, непотопляем, поэтому жалованье островитянам платили гораздо щедрее, чем остальным, не обижали их и при дележке добычи; правда или выдумка, не знаю, но говорят, что «счастливые» корабли с жителями Люта на борту всегда возвращались с хорошей поживой. Заправляли всем Тредуэи, основав на острове что-то вроде собственной Ост-Индской компании в миниатюре. Получая от населения долю выручки, они делали удивительно толковые вложения и за последние два века ни разу сколь-нибудь заметно не страдали от экономических рецессий и депрессий. Вот почему наряду со всей юридической работой, связанной с владением четырьмя островами: учетом договоров с арендаторами, контролем за соблюдением природоохранных законов, надзором за ремонтом ветхих построек, выдачей разрешений на выпас овец на Суннане и заходами в гавань чужих рыболовных судов, – по будням Хью в основном занят тем, что перемещает деньги туда-сюда и наблюдает, как растет доход. Реинвестирование, пожертвования, все такое. Каждое утро он посвящает этому порядка двух часов, после чего приступает к реальным делам: обходит соседей, справляется об их нуждах, жалобах или пожеланиях, которые он передаст чиновникам на большой земле. В общем и целом от него требуется просто быть, относиться к людям по-человечески и следить, чтобы все были счастливы.
И все действительно счастливы. Все живут в покое и довольстве, но лучше всех живется Тредуэям, а я – леди Тредуэй, хозяйка Олдер-хауса, и по утрам у меня ни единой заботы. Что бы я сейчас ни ответила, это прозвучит хвастливо. Джо, слава тебе господи, переходит к следующему аргументу:
– Ничего странного не замечала в нашем военном мемориале?
Так. Что-то я не соображу. Признаюсь, в детстве и юности я не видела военных памятников, кроме тех огромных мемориалов, к которым нас привозили на школьных экскурсиях в Вашингтон. Когда же я узнала, что в Британии свой мемориал есть практически в каждой деревушке, Хью объяснил мне, что в Европе мировые войны унесли гораздо больше жизней, чем в Штатах. Я вдруг осознала, насколько далека была от понятия войны там, у себя дома. Американцы быстро оправляются от трагедий. Мы считаем это своей сильной стороной, а возможно, следовало бы расценивать как признак незрелости, неумения проживать тяжелые эмоции. Вспоминаю небольшую площадь между школой и церковью, где установлен памятник, и меня впервые осеняет:
– На нем нет имен, только даты войн.
Джо коротко хлопает ладонью по прилавку.
– Потому что ни один человек с Люта не погиб на войне. Ни на какой.
«Не может быть!» – проносится у меня в голове, а вслух я восклицаю:
– Так это же замечательно!
Джо смеется, соглашаясь со мной, потом отклеивается от прилавка, подходит к двери и высовывается в зал.
– Все хорошо, миссис Уикетт?
– Я готова уйти, – едва слышно произносит старушка.
У меня сжимается сердце. Вероятно, миссис Уикетт имеет в виду, что намерена расплатиться за чай, но в последнее время она все чаще поминает смерть, говорит, что молит Господа поскорей ее забрать. С недавних пор на Люте крайне болезненная атмосфера.
Джо склоняется к миссис Уикетт и что-то шепчет ей на ухо, затем помогает подняться и выйти на улицу. Пожилая женщина идет домой. Проходя мимо витрины, дрожащими пальцами поправляет воротник; в белесых глазах – неотступная скорбь. Вот чувство, с которым она каждое утро просыпается и каждый вечер ложится в постель. Как это, наверное, тяжело.
– Так вот! – Джо шумно возвращается в лавку. – К концу Дня ты все поймешь.
– К концу дня… – Я пристально смотрю на Джо. – То есть мне не стоит волноваться?
– Это не я решаю, – отшучивается она, хотя в ее взгляде сквозит печаль. Выражение лица Джо отчего-то заставляет меня усомниться в правдивости ее слов. Она вздыхает. – Только не злись на Хью. В конце концов, он на самом деле пытался тебя увезти, дурачок.
По идее, я должна оскорбиться тем, что ктото назвал моего мужа дурачком, но я знаю, что в устах Джо это звучит ласкательно. Детей у нее нет, поэтому она проявляет материнскую заботу по отношению ко всем жителям острова, даже к тем, кто намного старше, и даже ко мне – теперь, когда оборвалась последняя ниточка, связывающая меня с моей американской семьей.
Моя любящая бабушка, которая в детстве вставала на мою защиту, тайком дарила мне подарки, книги, комплименты и шутки, которая приняла меня взрослую и предоставила мне убежище, тихую гавань. Вместе с которой я оказалась на том самом трансатлантическом лайнере, где встретила Хью. До сих пор с трудом верится, что последний образ, запечатлевшийся в моей памяти, таков: нас с ней разделяет стеклянная перегородка в международном аэропорту имени Джона Кеннеди, я смотрю, как бабуля уходит одна, растерянная, с разбитым сердцем, но все-таки машет мне на прощанье. Теплая рука Хью обвивает мои плечи, направляет меня к международному терминалу.
Дверь в лавку со скрипом открывается. Колокольчик на секунду прилипает к отсыревшей стене, потом вновь обретает свободу и звенит. При виде Мэтью Клера меня охватывает то же чувство, которое я всегда испытываю в его присутствии: жгучий стыд. Он тоже «рад» встрече со мной:
– А… Я, наверное, попозже загляну. Джо смеется.
– Что с тобой? Можно подумать, ты нас тут голышом застал.
Он бледнеет как мел, и даже я прячу улыбку.
– Я хотел спросить у вас насчет радио, – выпаливает он.
Для меня его слова – загадка, однако Джо выпрямляется, очевидно, поняв, о чем он. Я застегиваю молнию на кофте, похлопываю ладонью по карману с сигаретой и печеньем и бочком пробираюсь к двери, выдав вежливый предлог:
– Я пойду, а то дети скоро раскапризничаются. Удачной оздоровительной прогулки. – Джо подмигивает мне.
– Спасибо, – я киваю, потом смущенно бормочу, глядя на Мэтью: – До свиданья.
Он не оборачивается в мою сторону. Собственный голос кажется мне тоненьким, и в нем слышится такая отчаянная жажда поддержки, что, выйдя на мощеную улочку, я еле удерживаюсь, чтобы не пуститься бегом.
День сегодня туманный, в воздухе висит густая сырая хмарь; ничуть не похоже на волшебную погоду, которую только что расхваливала Джо. Я миную вереницу стандартных домиков с террасами на окраине деревни, и вот уже вымощенная камнем дорога сменяется грунтовкой, ведущей на север, в рощу.
Мистер и миссис Тавиш возвращаются с прогулки со своим йоркширским терьером Пикси, таким же дряхлым, как они, и чопорно кивают в ответ на мой взмах рукой.
– А почему вы без Макса? – интересуется мистер Тавиш. Он слышит лучше жены. Иногда супруги ужинают в пабе и так громко разговаривают, что перекрикивают весь зал.
– Он дома! – отвечаю я. – Позже его выгуляю!
Еще раз машу рукой и продолжаю путь, гадая, что они подумают, глядя, как я удаляюсь от дома, выгуливаю себя. Потом чертыхаюсь. Если бы я плевала на чужое мнение, люди уважали бы меня больше, знаю. Однако мне и не нужно их уважение. Я ведь его не заслужила. Мне хочется нравиться им, а это выглядит куда более жалко.
Когда-то за бокалом вина я проговорилась Джо, что знаю о неприязни Мэтью ко мне. Она называла его Мэтти, со смехом описывая, в какого отшельника он превратился на этом своем маяке, и я возьми и брякни: «Он меня ненавидит». Джо смутилась, но не стала меня разуверять, и я поняла, что вслух обсуждать подобное не принято и что это было по-детски. Больше я ничего такого не говорила.
Муж тоже определенно не помогает повысить мою самооценку: Хью только и рассказывает, что думают о нем окружающие, как его постоянно сравнивают с отцом и дедом, и так до бесконечности. Я внимательно слушаю, сочувствую, впитываю каплю за каплей. Я вообще-то тоже ношу фамилию Тредуэй.
На портретах, заполонивших стены Олдерхауса, можно видеть и леди Тредуэй разных поколений – одна в корсаже эпохи Тюдоров, другая в кружевах и оборках, третья – мой любимый портрет маслом на лестничной площадке второго этажа – в элегантном твидовом костюме военной поры. Упоминания о предках Тредуэев вплетены в каждую историю, каждую байку, с этим именем связана каждая точка на острове. Вот скамейка, которую отец Хью поставил, дабы старики могли присесть и отдохнуть во время прогулок. Вот причал, выстроенный из камня, который лорд Тредуэй добывал на отмелях в девятнадцатом столетии вместе с простыми работягами. Я даже слыхала легенду о том, как в тридцатых годах двадцатого века тогдашняя леди Тредуэй прогнала с пляжа здоровенного тюленя, чтобы тот не разорял гнезда тупиков.
У островитян большие ожидания касательно меня и Хью, но я все еще не понимаю какие. Всё здесь словно завязано на этом Дне «Д», что бы он собой ни представлял. Может, я просто воображаю лишнее, накручиваю себя на ровном месте, а может, и нет.
Теперь я бреду, не глядя по сторонам, и к тому времени, как приближаюсь к роще, нервы мои на пределе. Пикапа Джона Эшфорда поблизости нет. На этой неделе остров почти опустел, и мне не нужно прятаться. Но я крадусь меж дубов, слушаю их приветственные летние шепотки и наконец добираюсь до заветного места, достаточно удаленного от тропинки, чтобы не бросаться в глаза. Затаив дыхание, торопливо оглядываюсь, напрягаю слух, после чего достаю из тайника в дупле низко склонившегося дуба зажигалку. Я настолько хорошо знакома с этими деревьями, что в такие дни, как сегодня, без труда представляю, что они обладают неким сознанием. Ждут. Наблюдают. Составляют свое мнение.
Дупло набито окурками. Снова пора его вычистить. Я опускаюсь на корточки, чувствуя, как горят мышцы бедер, щелкаю зажигалкой и медленно затягиваюсь своей единственной драгоценной сигаретой.
Полный идиотизм, по-другому не скажешь. До замужества я практически не курила – только в компании, и то крайне редко, потому что, признаем честно, я почти ни с кем и не общалась. Пристрастия к табаку у меня не было, но мысли о том, что нужно будет выходить замуж, заводить детей, навсегда отказаться от курения, постоянно меня грызли.
Я ощущаю эти мгновения как маленький кармашек времени, не принадлежащего моей семье. Это время только мое, и если я хочу потихонечку убивать себя по пять минут в день, то, черт побери, имею на это право.
Я размышляю о камне. О естественном переходе. Обо всех тех людях, которые добровольно решили умереть всего в нескольких шагах отсюда. И если они сами пожелали себя убить, то остальные жители Люта помогали им в этом с большой охотой.
Во рту появляется затхлый вкус: сегодня сигарета что-то не пошла. Я быстро тушу окурок и иду через лес на север, к сердцу рощи, туда, где лишь вчера обнаружила Чарли.
Страх все глубже и глубже проникает в мои кости, но, когда я достигаю небольшой опушки, рассеивается, точно случайно вырвавшийся чих. Сколько раз я уже тут бывала. Не считая раскопа, на Люте не осталось мест, которые я бы не посещала по многу раз, и все же сюда меня влечет чаще всего. Вот дуб с низко склоненным, будто в знак почтения, суком; вот тусклый солнечный свет просачивается между ветвями деревьев, перескакивая из одной прогалины в другую; вот ствол, обвязанный бордовой веревочкой, которую никто не потрудился снять; а вот и камень. Жертвенный камень.
На вид ничем не примечательный. Если бы не табличка, вполне можно было бы подумать, что его положили здесь неделю назад: длинный, плоский, глубоко вдавленный в небольшой холм, импровизированный столик для пикника. Углубление в центре выглядит так, будто сформировалось естественным путем. Возможно, его проделала вода, на протяжении тысячелетий лившаяся сверху тонкой струйкой. Если бы все это время в нишу капала кровь, то наверняка осталась бы, не знаю, какая-нибудь рыжина.
Я дотрагиваюсь до углубления. Впервые. Никаких мурашек по коже. Никаких свидетельств, что на этом месте люди расставались с жизнью в варварском ритуале, что именно здесь священный булыжник раз за разом опускался на человеческую голову, пробивая скальп, череп, мозг, скуловую кость, в итоге ударяясь о плиту жертвенного камня. Какому богу приносили жертву? Неизвестно.
После переезда на Лют я прочла все существующие книги о древних кельтских божествах – мною овладел старый академический инстинкт максимально углубиться в предмет, и, по иронии, теперь я знаю об этом больше любого аборигена. Тема, однако, меня увлекла: имена, связь с другими богами – ирландскими, древнеримскими. Все они канули в забвение, когда им перестали поклоняться, всех их смыло волной христианства, прокатившейся по британским островам. А ведь некогда был и громовержец Таранис, отвечавший за погоду, и трехликий Луг – бог торговли, и рогатый Кернунн, которому молились о здоровье, и Туата де Дананн, Сияющие, – захороненные в земле, они спят, они ждут.
При мысли о них во мне что-то всколыхивается, какое-то мучительно неясное воспоминание. Щекочущее прикосновение, похожее на забытый сон. Закрываю глаза, прижимаю ладонь к углублению, идиотка, но и это не помогает встряхнуть память. Не вижу, не слышу, не чувствую ничего, что указывало бы на присутствие некой сущности, более значительной или странной, чем я сама.
Пальцы другой руки все еще сжимают бычок наполовину выкуренной сигареты, и я вдруг начинаю безотчетно давить его о камень, до боли стиснув зубы в необъяснимом приступе злости. Жду, когда же отзовутся духи. Когда мне откроется истина. Жду хоть чего-нибудь.
Ребром ладони смахиваю пепел; скрестив ноги, усаживаюсь на гравий. Голова и тело налились свинцовой тяжестью.
За завтраком я спросила Чарли, зачем он ходил в рощу. Он пожал плечами и отмолчался, у него такое бывает. Я решила не приставать, поскольку в доме и без того напряжение растет, но, возможно, мне следовало быть понастойчивей, ведь единственный ответ, который приходит мне в голову, – тот, что час назад за чаем озвучила Джо. Чарли пришел сюда, чтобы удержать нас на острове.
Неприятный холодок растекается сперва по рукам, потом по спине. Поднимается ветер – нет, это не дурной знак, на Люте всегда ветрено, но я встаю и, не оглядываясь, покидаю это якобы священное место. «Мое время» закончилось.
Когда я прихожу домой, дети не спят, а весело бегают по нижнему этажу под присмотром Салли. Здороваюсь взмахом руки, ставлю сумку, глотаю последние крошки мятного леденца, припасенного заранее.
– Где Хью? – спрашиваю я, крутя головой по сторонам.
Салли не должна заниматься детьми. Не то что я не доверяю ей такую ответственность, просто у нее других дел хватает.
– Наверху, – отвечает Салли. Бодрость в ее голосе меня тревожит. – Я хотела поговорить насчет меню на эту неделю. Продуктов маловато.
– А, ну да, предполагалось же, что мы уедем, так? Господи, что я говорю! Пожалуйста, за нас не волнуйтесь. Если хотите, возьмите несколько дней отпуска. В кои-то веки мы сами о себе позаботимся.
Салли ошеломлена, как будто я ее уволила.
– Всего несколько дней, – повторяю я.
Чарли врезается мне в ногу и повисает на ней, с радостной улыбкой взирая на меня снизу вверх. Я глажу сына по голове. К нам присоединяется Макс. Глажу и его тоже.
– Я лучше… Думаю, я лучше останусь на хозяйстве, если вы не против. – Щеки Салли пунцовеют. – Знаете, помогает отвлечься.
Она поджимает губы, быстрым взглядом окидывает площадку второго этажа. Чувствует, должно быть, что Хью избегает обсуждать эту тему, и не желает пересекать опасную черту, но уголки побелевших губ выдают то, что не дает покоя Салли уже какое-то время. Она верит в День «Д».
– Конечно, не против, делайте, как вам удобно, – весело говорю я. – Честно признаться, дети будут только рады, если им не придется есть мою стряпню.
– Ты собираешься готовить? – в ужасе спрашивает Чарли, отпускает мою ногу и пятится. – Не-е-ет!
Я выразительно пожимаю плечами. Подобный цирк разыгрывается у нас регулярно. Салли моргает, ее лицо приобретает нормальный цвет.
– Тогда я займусь кухней. Эйвери скоро придет, она приглядит за малышами, а я пороюсь в кладовой, посмотрю, что можно сочинить.
– Я и сама пригляжу за детьми, – со смехом говорю я.
В конце концов, я их мать. Но Эмма уже пытается забраться на шкаф, Чарли толкает меня к стене, Макс пускает слюни прямо на мои ботинки, и я, не пробыв дома и пяти минут, уже дико утомилась. В уголках глаз Салли разбегаются морщинки.
– Эйвери сделает это с удовольствием. И ей тоже хочется отвлечься.
Они, насколько мне известно, не родственницы, однако Салли души не чает в Эйвери, заменяя той бабушку. Здесь так принято. Если есть пустота, мы ее заполняем.
Поворачиваюсь к высоким окнам на западной стороне и вижу, как Эйвери в сарафане с пышной юбкой и цветочным рисунком пересекает вытянутую лужайку. Из-за переросшей травы ее изящная походка превращается в неуклюжее марширование типичного подростка.
Еще пару лет назад она подавала большие надежды как балерина. Помню ее стройной, как тростник, девочкой, занятой упражнениями на растяжку у школьной изгороди: взмах вытянутой ногой до самого уха, разинутые рты зрителей. Она уехала учиться в престижную балетную школу в Кардиффе, не закрывшуюся, несмотря на войну, но каких-то две недели спустя партнер уронил ее, и она получила перелом голеностопа, полностью залечить который оказалось невозможно.
После возвращения на Лют бедняжка Эйвери никак не найдет себе места. Ее ухажер, здешний паренек, с которым она то встречалась, то расставалась, ушел на войну и не всегда может отвечать на электронные письма, и будущее ее представляется туманным. Она подрабатывает на полставки в сельской школе, но сейчас на острове не осталось других детей, кроме моих.
Кроме моих. У меня екает сердце. Эйвери пробирается сквозь траву к каменному крыльцу, ее светлые волосы развеваются за спиной, точно ленты. Я впервые по-настоящему осознала: вот почему сегодня так тихо. Все остальные отослали своих детей на Суннан, только мои до сих пор здесь. Они да Эйвери, в свои восемнадцать совсем еще ребенок. В этом есть что-то неправильное. Не надо бы им тут находиться.
Или же, наоборот, все так, как дóлжно, все в некоем уродливом смысле правильно. Джон сказал, что преподобный Уоррен все равно не пустил бы Чарли на корабль. Ему полагается быть здесь, вот он и здесь.
– У вас есть какие-нибудь соображения насчет Дня «Д»? – раздается за моим плечом голос Салли, и я вздрагиваю. Едва не признаю, что все больше склоняюсь к мысли о сомнительности этого празднества, но Салли робко продолжает: – Не думали устроить званый ужин или что-то в этом роде?
– Ох… – Я растерянно моргаю, видя, что Эмма взгромоздилась на спинку кресла. – Эмма, живо слезай! – Поворачиваюсь лицом к Салли. – Это островная традиция?
– Некогда так было.
Интересно, «некогда» – это сколько лет назад? Время на Люте – странная штука: и ландшафт, и история здесь пропитаны смесью всех веков сразу. Эмма по-прежнему балансирует на спинке кресла. Подхожу и опускаю ее на пол, киваю Салли.
– Да, я определенно «за», но сперва поговорю с Хью и после дам вам знать.
Тихонько напевая себе под нос, Салли скрывается в коридоре. От одного упоминания званого ужина ее походка делается легкой. Значит, так и поступим. Поддержим традицию.
– Э-эй, кто-нибудь дома? – эхом, будто звук гонга, отдается голос Эйвери, как только она распахивает дверь оранжереи со стороны западной лужайки.
Макс у моих ног застывает и резко басовито гавкает. Я улыбаюсь, довольная, что Эйвери наконец уступила моим настояниям заходить в дом и располагаться по-свойски. Пару лет назад я обнаружила ее на крыльце, промокшую под дождем и дрожащую от холода, но терпеливо дожидавшуюся, пока кто-нибудь услышит ее слабый стук. Это было уже после начала войны, когда большая часть нашей прислуги, все те, кто открывал двери гостям, уволились с работы и отправились на фронт.
Забавно, какими беспомощными мы чувствуем себя даже сейчас, через четыре года войны, учитывая, что, переехав в этот дом, я сочла число персонала абсурдно большим. Внутри: экономка, две горничные, лакей, повар. Снаружи: смотритель, три садовника. В те первые дни мной владело ощущение, будто я попала на съемочную площадку «Аббатства Даунтон» и, если срочно не выучу сценарий, меня снимут с роли и отправят домой.
Сам же Олдер-хаус, странный, беспорядочно-огромный, словно бы выстроенный кое-как, полностью оправдывал количество прислуги, и я влюбилась в этот дом с первого взгляда. Просторный холл с массивной изогнутой лестницей; кухня и комнаты слуг в приземистом восточном крыле, возведенном на развалинах древнего норманнского замка с его арочными проемами в романском стиле и каменными лицами, выглядывающими из самых неожиданных углов. Столовая таких колоссальных размеров, что, впервые увидев обеденный стол на тридцать две персоны, я рассмеялась. Причем, вопреки ожиданиям, это вовсе не отполированный до блеска дворцовый антиквариат: столешница представляет собой твердь из страшно корявого свилеватого дуба, натертого воском, такого древнего, что он вполне может быть старше некоторых частей дома. И, собственно, сами эти части, пристроенные в разные времена: тесные комнатки в стиле Тюдоров, более элегантные – георгианские, комнаты эдвардианской эпохи – сплошь стекло и свет. А вокруг дома там и сям можно видеть унылые каменные руины – как я слыхала, остатки парапетной стены замка.
При всей своей странности Олдер-хаус меня принял. Наверное, будь я горничной, вписалась бы в обстановку еще лучше. Подобные ощущения я испытывала не впервые. На втором курсе колледжа соседка по комнате пригласила меня провести весенние каникулы в ее доме на Внешних отмелях. Она не предупредила, что вместе с хозяевами в особняке постоянно проживает экономка и целый штат персонала, в чьи обязанности входила чистка бассейна, стрижка газона, уход за рыбой в гигантском аквариуме с морской водой… Проходя мимо слуг, Кейт не удостаивала их даже взглядом, как будто они были не людьми, а бытовыми приборами, однако индивидуальность каждого из них жаркой волной окатывала меня всякий раз, когда они оказывались в моем поле зрения. Я обнаружила, что по утрам спешу заправить кровать, полотенца складываю треугольником, в точности как экономка, чтобы ей не пришлось это делать за меня, подбираю за Кейт пустые банки из-под газировки и отправляю их на переработку.
Так же я вела себя, оказавшись в Олдер-хаусе, – чувствовала подавленность, суетливое беспокойство, вину. По прошествии времени не изменилось ничего, кроме меня самой, и свежая атмосфера дома внезапно сделалась удивительно бодрящей, напомнив мне те годы, когда я вместе с бабулей жила в ее кооперативной квартире и ее подруги или медсестры из поликлиники могли зайти к нам в любое время. Ну и наконец, иметь прислугу на Люте просто было в порядке вещей. Было, а потом, после новостного сообщения на канале Би-би-си, перестало быть.
Большинство островитян ушли на фронт добровольцами еще до объявления мобилизации, так что защищать Лют как стратегический форпост, расположенный в зияющем устье Северна, осталась буквально горстка народу призывного возраста. Среди последних и Мэтью Клер, выполняющий какую-то сверхсекретную информационно-пропагандистскую работу, о которой никто ничего не знает и не спрашивает. Хью, почти достигший предельного возраста, метался в сомнениях, вставать ли на учет, но после того, как я забеременела Эммой, воспользовался этой лазейкой, освобождавшей его от военной службы. Два года назад, когда объявили призыв в том числе и для женщин, я была готова просить об отсрочке по праву матери двоих малолетних детей, однако выяснилось, что меня как иммигрантку вообще призывать не собираются. И кто бы стал доверять американке в рядах европейской армии? Время от времени мы получаем письма с фронта от наших слуг и соседей, иногда, когда есть возможность, они шлют весточки и по электронной почте, давая знать, что у них все в порядке. Если с кем-то случается несчастье, нам сообщают об этом в первую очередь. Пока что дело обошлось только одним раненым – это садовник, которого я знаю не очень хорошо. Я пришла в ужас: его ранило при взрыве самодельной бомбы, убившей еще четверых, однако Хью, ходивший в деревню известить сестру садовника, вернулся оттуда с совершенно невозмутимым видом. Наверное, ранение было не слишком серьезным, а кроме того, все верят в то, что утверждает Джо: никто из жителей Люта не гибнет на войне.
Однако это не означает, что они неуязвимы. Островитяне лишаются рук и ног, теряют друзей. Наш садовник возвратится домой с рубцами от шрапнели и ПТСР[1], но все вокруг относятся к этому с полным безразличием, как будто нас защищает некое силовое поле и вклад в общее военное дело – лишь бодрая демонстрация патриотизма. Не знаю, почему до меня только сейчас дошло, как это странно.
Гулкие шаги Эйвери, пересекающей холл, все ближе, и я вновь облегченно вздыхаю оттого, что травма помешала ей уйти на фронт вместе с другими девушками по достижении восемнадцатилетия. Я рада, что она дома, жива-здорова.
Эмма молнией исчезает за углом и возвращается, за руку таща за собой Эйвери.
– Эйвейи, ты видела лошадку?
Эйвери озадаченно смеется и бросает взгляд на меня.
– Э-э…
Я пожимаю плечами в аналогичном недоумении.
– Она на них помешалась.
К счастью, разум Эммы быстро переключается с одной волны на другую. Она тянет Эйвери к платяному шкафу, Макс по пятам следует за обеими, виляя не только хвостом, но и всем туловищем. Чарли устремляется следом, но я успеваю задержать его и шепотом спросить:
– Не знаешь, где папа?
– В кабинете, – тоже шепотом отвечает Чарли. – Он злится.
– И что же его разозлило?
– Техника.
Чарли выворачивается из моих рук, и, хмыкнув, я его отпускаю. Техника. Как обычно. И все же, поднимаясь по лестнице, я улавливаю в рокоте, доносящемся со стороны кабинета, нехарактерные ноты. Я уже почти наверху, но из-за странных звуков медлю в нерешительности. Даже через толстую дубовую дверь слышно, как Хью сердито бормочет себе под нос, ругается, швыряется предметами. Берусь за дверную ручку, выжидаю еще мгновение, прежде чем ее повернуть.
Хью смертельно бледен, лоб в каплях пота, пряди каштановых волос прилипли к влажной коже. На столе грудой свалены электронные детали. Кругом разбросаны провода, старые переходники и всякое-разное: толстые книги в кожаных переплетах, снятые с полок, деревянная шкатулка с откинутой крышкой, похожая на затейливый ящичек для мелочей. Чем он занят?
Хью поднимает взор и в первую секунду словно бы не узнает меня, а потом в его глазах вспыхивает гнев.
– Не пойму, в этой штуке дело или в чертовом роутере!
– Может, сегодня просто сигнал слабый. – Я перевожу взгляд на деревянную шкатулку. – Он весь месяц то пропадал, то появлялся. Даже не месяц, а весь год.
Война причинила сильный ущерб всему местному инженерному оборудованию, которое, честно скажем, и раньше работало не слишком стабильно. Сейчас почти ничего не ремонтируют, все силы брошены на нужды фронта, обычные потребители вынуждены перебиваться кое-как. Что ж, вполне понятно. Разумеется, нечего и сравнивать с тем, что людям пришлось пережить в любой из мировых войн, но, если режим прекращения огня будет нарушен и все это затянется надолго, плохим интернетом и перебоями в сотовой связи дело не обойдется. По словам Джо, договариваться об отгрузках продовольствия становится все сложнее, сроки поставки медикаментов и рецептурных лекарств растягиваются, и вплоть до прошлой недели, когда объявили перемирие, линия фронта подбиралась к нам все ближе.
– Нина, ты не понимаешь, – медленно произносит Хью, будто разговаривает с ребенком. У меня рефлекторно начинает жечь легкие. Муж редко общается со мной в таком тоне, но если уж это происходит… – Нам необходимо выйти в сеть. Возможно, это наш последний шанс… – Он сглатывает, кадык подпрыгивает, не давая договорить.
Хью сейчас особенно тяжело. На носу годовщина, и не только нашей свадьбы. Понимаю. Тянусь к его ладони, он отдергивает руку.
– Удалось договориться на аэродроме?
Нет, не удалось. Мой телефон отрубился в ту самую секунду, когда кто-то наконец снял трубку, представляешь? И оживать ни в какую не хочет, сигнала вообще нет. – Хью кулаками опирается на стол.
– Давай я со своего попробую.
Я выхожу в коридор, где дышится легче, Хью кричит мне вслед:
– Сотовые у всех сдохли, я спрашивал! Вышка накрылась.
Я застываю на месте.
– Накрылась?
Я представляю вышку сотовой связи рядом с насыпью: она уже не стоит на изуродованной земле, где рыли старые могилы, а валяется на боку – опрокинутая, будто вырванная с корнем.
– Да нет, Нина, ее не сбили, просто она не работает. – Хью опускается в кожаное кресло, обреченно горбясь. Он в печали, но это состояние немногим лучше злости.
Я проскальзываю обратно в кабинет, закрываю за собой дверь и присаживаюсь на подлокотник кресла рядом с мужем.
– Джо сказала, такое бывает. – С улыбкой закатываю глаза.
Хью все так же мрачен.
– Она не права. На моей памяти телефоны не отключались ни разу. Как и интернет. И связь по воздуху.
Меня охватывает паника.
Думаешь, из-за войны?.. Эта мысль всегда маячила на периферии моей обычной постоянной тревоги: все ошибаются, мы вовсе не в безопасности. Остров захватят, и на этот раз удача от нас отвернется. Если для защиты Бристольского залива привлекли так много военных кораблей, то и атаку ожидают соответствующую.
Хью лишь фыркает, отмахиваясь от моего предположения, словно от комара.
– Господи, при чем тут война! – Он подается вперед. – Ты видела Мэтти?
Я так изумлена, что Хью называет Мэтью Клера уменьшительным именем, что теряю дар речи. Хью морщится, словно в одно мгновение вспоминает семь прошедших лет, и поправляется:
– Мэтью Клера. Он единственный оставшийся технарь на всем острове. Может, он сумеет помочь.
– Он заходил к Джо, – робко говорю я. Хью непонимающе смотрит на меня. – Интересовался насчет радио. – Мое тело реагирует быстрее сознания. Радио отключилось, Мэтью проверял, заработало ли оно. Обычные действия, а мне все равно кажется, будто я нарисовала у него на спине мишень. Поднимаюсь, отгоняю прочь беспокойство. – Могу его найти.
Не надо. – Хью со стоном встает с кресла, затем упирается ладонями в колени, словно только что пробежал марафонскую дистанцию. – Я сам найду, не волнуйся.
Делаю шаг вперед, подставляю губы под небрежный скоро-увидимся-поцелуй, однако рука Хью повелительно ложится мне на талию, и он целует меня дольше обычного. Отстраняется, продолжая смотреть мне в глаза. Его лоб уже не так блестит от пота, он более собран, более похож на себя. Я разглядываю чуть искривленный рот, золотисто-ясный взор, и мое сердце начинает частить. Даже после семи лет брака я порой теряю голову при виде мужа. Вот он, Хью, и, как это ни невероятно, он – мой.
Наша годовщина уже на носу: мы и встретились, и поженились двадцать второго июня – с разницей в один год. Окружающим мы рассказываем, что познакомились в баре на борту круизного лайнера, но в действительно все было немножко иначе. Помню, как я стояла на носовой палубе, вцепившись в леер. Ветер трепал мне волосы, а я пристально смотрела на молодого мужчину, который только что попросил меня: «Не делайте этого». Смутившись, он притворился, будто пошутил, однако я видела страх в его взгляде, видела трясущиеся руки, странно контрастирующие с элегантной, почти ленивой позой: незнакомец в смокинге стоял, расслабленно опершись о леер. Он был красив, в отблесках света с верхних палуб черты его лица казались слегка растушеванными, более напоминая набросок углем, нежели портрет маслом. А еще в нем чувствовалось смутное отчаяние. После того как я приняла приглашение выпить в баре на палубе первого класса и увидела этого человека при ярком освещении, среди золота и алого бархата, мое первоначальное впечатление смягчилось. В тот вечер я не планировала с кем-либо знакомиться и уж тем более не ожидала знакомства с ним. Я и предполагать не могла, что все завершится таким чудесным образом.
Муж касается губами моего лба, медленно выдыхает, теснее привлекает меня к себе. Я обвиваю руками его шею, бросаю взгляд на закрытую дверь. Дети с Эйвери. Салли тремя этажами ниже, на кухне, планирует меню. Бедра Хью прижимаются к моим; приподняв подбородок, я целую его снова.
Его глаза открыты, он смотрит на дверь, как смотрела я, однако взор Хью устремлен дальше. Со мной только его тело, но не сознание.
– Прости. – Он еще раз целует меня в лоб – коротко, привычным прощальным поцелуем. – Я скоро. – Он торопливо выходит, почти выбегает за дверь.
Я укладываюсь на небольшую обитую кожей кушетку с приподнятой спинкой, и моим глазам наконец открывается беспорядок, царящий в кабинете, – кучи самых разных предметов. Хью выдернул из розеток абсолютно все приборы, растерзал все электронные устройства. Возле письменного стола стопками навалены книги: тома по истории Люта, семейные книги, налоговые ведомости – все то, что накапливается по работе и после уже не пригождается.
В деревянной шкатулке, однако, хранятся вещицы, которые определенно стоит с любовью перебирать и рассматривать, но которые отчего-то убраны подальше от глаз. Фотография женщины – я узнаю в ней мать Хью. Она отвернулась в сторону и улыбается, указывая на что-то, что нам не видно; белокурые волосы, легкие, как пух на морском ветру, мягко сияют в контровом свете. Почему Хью прячет эту карточку? Во всем доме нет ни одной рамки с фото его матери или отца, только эти допотопные масляные портреты предков. В шкатулке обнаруживаются и поздравительные открытки, но послания в них слишком личные, написанные не мной и адресованные не мне, поэтому я стараюсь их не читать. Запускаю пальцы поглубже, наугад извлекаю еще одну фотографию – трое мальчиков в форме начальной школы. Один из них, меньше и смуглее двух других, улыбается во весь рот. На обратной стороне подпись карандашом: «Хью, Мэтти и Энди идут в п. кл.».
«П. кл.» означает «первый класс». Хью, Мэтти… а кто такой Энди? Видимо, он уехал с Люта. Как жаль.
На письменном столе лежит раскрытая конторская книга. Я возвращаю фотокарточку на место и склоняюсь над гроссбухом, рассчитывая увидеть, не знаю, приходно-расходные записи, хотя мне прекрасно известно, что Хью ведет всю нашу бухгалтерию онлайн. Предположу, что он использует книгу из-за перебоев с интернетом. Мало ли.
А, это перечень фамилий. Все они мне знакомы. Список семейных родов острова Лют. Напротив некоторых стоят маленькие красные точки, рядом с другими – черные крестики. Фамилия Риверс помечена крестиком, Тавиш – точкой. Тинкер – точка, Томпкинс – крестик. Тредуэй – точка. Точка. Перелистываю на предыдущую страницу. Клер – крестик.
В кабинет врывается Эмма. Я отшатываюсь от стола, спиной загораживаю гроссбух, пускай там и нет ничего неприличного, а если бы и было, эй, Эмма же не умеет читать. Зато вечно тянет ручки ко всему подряд.
Хочу это! – Она пытается выдернуть провода из модема, я вовремя успеваю ее перехватить. Мы покидаем комнату под душераздирающий дуэт детских воплей и посулов печенья, вспомнившегося мне весьма кстати. Печенье! С большой земли!
И только когда истерика позади и Эмма с Чарли угощаются на кухне печеньем, я сознаю, что вся похолодела и покрылась потом, в точности как Хью. Наша фамилия отмечена точкой. Красной точкой.
За день
Я вновь на скале Иосифа, всматриваюсь в небольшую полоску моря, отделяющую этот островок от Люта, – собственно, так я и понимаю, что не нахожусь здесь в реальности. Самый маленький из четырех островов архипелага, Лют неприветлив – это иззубренный кусок скалы, открытое всем ветрам место, слишком тесное, слишком продуваемое и дикое. Руины древнего бенедиктинского монастыря таят скрытые ловушки – там, где камень проседает в рыхлую почву. Здесь никто не бывает. Кроме меня – разумеется, в снах.
Всякий раз, видя этот сон, я поражаюсь тому, что начисто забываю его после пробуждения. Во сне все моментально возвращается ко мне, но сразу исчезает, стоит мне проснуться. Как такое возможно? И все же мне здесь нравится. Во сне я не вольна управлять событиями, и, как ни странно, от этого мне хорошо. Я словно плыву на океанском лайнере по заданному маршруту и радуюсь, что мою судьбу осторожно забрали из моих собственных рук и передали в чьи-то еще.
Оглядываюсь по сторонам, чтобы сориентироваться, куда попала на этот раз. Точнее, в какую эпоху. Иногда монастырь стоит на месте и я оказываюсь в тринадцатом столетии, но только не сегодня. Тем не менее я помню его, помню лучи солнца на огородных грядках, колокольный звон по утрам и пение. Помню ощущение суровой льняной ткани на плечах и коленках, грязь под ногтями, приятную боль в натруженных работой мышцах. Я люблю такие сны.
В нынешнем сне вокруг меня царит ночь. Небо черно как деготь, не считая горстки крошечных мерцающих точек – звезд. Ветер ерошит мне волосы, парусом надувает ночную рубашку. В потемках я осторожно ступаю по голой земле, босиком, раскинув руки; пропускаю между пальцами порывы влажного ветра, которыми швыряется океан.
Внезапно я понимаю, что должна остановиться. Остров заканчивается крутым утесом. Я могу упасть легким камушком, кануть в море, и никто никогда об этом не узнает. Как не узнала бабуля. Она умерла в неведении. Куда пропала ее девчушка Нина? Нет, сейчас я никуда не пропаду. Не исчезну вот так.
Оборачиваюсь, уже зная, что увижу. Две фигуры, без одежды. Не люди – сходство с людьми лишь отдаленное. Подобия мужчины и женщины стоят в центре невысокого холмика, окруженного кольцом – как это называется? – менгиров – дюжиной врытых в землю каменных столбов высотой примерно по пояс. Сегодня я очутилась в очень далеком прошлом. Белая лошадь без привязи рысит по внешнему краю кольца, но я не свожу глаз с существ, чувствуя их буравящие взгляды, а кроме того, просто не могу отвернуться.
Они ослепительны. Фигуры купаются в свете, он сочится из них, покрывает липким потом, проступающим сквозь поры. Это зрелище всякий раз повергает меня в изумление. Свет напоминает густую жидкость и струится волнами, то перламутровой, то золотистой; он не так ярок, как солнечный, а приглушен ровно настолько, чтобы мне хотелось им любоваться, даже несмотря на то что лошадь легким галопом пробегает мимо меня, едва не задев мою щеку жестким хвостом.
Двое приветственно вскидывают руки, свет разгорается, и у меня перехватывает дыхание. Сердце, готовое выскочить из груди, бешено колотится. Оно вот-вот разорвется. Я не могу привыкнуть к этим существам, каждый раз считаю последним и думаю, что сейчас умру. Нельзя на них смотреть. Никому этого не выдержать. Вокруг меня светлее, чем днем, льющееся сияние ярче пламени костра, и, когда очередная его волна пожирает фигуры и бьет по мне, я переполняюсь им с ног до головы. Меня охватывает такая безудержная радость, что я немею.
Одним резким вдохом вбираю в себя столько кислорода, что хватило бы на целый час дыхания, и сажусь, обхватив лицо ладонями. Вокруг опять темно, но я дома, на острове Лют, в Олдер-хаусе, в спальне на втором этаже. Мужнина половина кровати пуста, покрывало аккуратно застелено, подушка не смята. Цепляюсь за сон, пребывая где-то на полпути между сном и явью, где даже реальность кажется зыбкой, однако сознание никак не может сосредоточиться хоть на чем-нибудь. Пробуждение еще никогда не было таким тяжким. Часы на прикроватной тумбочке показывают четыре минуты первого. Ночь. Сон ускользает. Пытаюсь удержать его обрывки, но это все равно что ловить парашютики одуванчика. Помню свет. Кажется, рядом со мной ктото двигался… И все. Сон рассеивается. Снизу доносится пронзительный визг, я мгновенно просыпаюсь. Эмма. По венам растекается страх, а потом до меня доходит, что ей, видимо, тоже приснился кошмар. Боже, ну и неделька выдалась.
На середине темной лестницы я вспоминаю о Хью. Свет в его кабинете не горит. Понятия не имею, где мой муж.
Эмма стоит в своей детской кроватке, как раньше стояла в колыбельке, – ждет, когда же мама придет на помощь. Хрупкие плечики трясутся, пальцы стиснуты в кулачки.
– Ох, детка. – Подхватываю ее на руки, и она тут же обмякает на моей груди, а я гляжу, как голубые отблески ночника-аквариума пляшут на ее кудряшках. – Страшный сон?
Эмма кивает, судорожно втягивает воздух. Хочу задать вопрос, но колеблюсь, отчасти боясь ответа.
– Помнишь, что снилось?
Она снова кивает, но утыкается губами в мое плечо. Я целую ее в макушку.
– Эмма, можешь рассказать своими словами, что ты видела? Иногда это помогает…
Маленькое тельце каменеет. Глажу ее по спине.
Ладно-ладно, малышка. Все хорошо, мамочка с тобой. Через несколько минут она вновь засыпает, взмокшая от пота и умиротворенная. Сомневаюсь, что я усну так же легко. Почесываю лицо, бреду обратно в спальню; проходя мимо комнаты Чарли, стараюсь не скрипеть половицами. Внезапно что-то заставляет меня остановиться, бесшумно отворить дверь и осторожно заглянуть внутрь. Я вижу свесившуюся с кровати руку сына, его приоткрытый рот, слышу, как он мерно дышит в подушку с изображением Человека-паука. Он здесь, с ним все в порядке. Разумеется. Мне хочется спрятать эту свисающую руку под одеяло, чтобы ее не откусили монстры, прячущиеся под кроватью Чарли. Сдерживаю порыв, ухожу. Ныряю в постель рядом с Хью и погружаюсь в сон, в последний момент сообразив, что муж вернулся оттуда, куда уходил.
Для меня непривычно спать дольше Хью.
Всю жизнь я спала очень мало. Видимо, причиной тому бессонница, хотя это не совсем точное слово. Если вы в принципе никогда не понимали, в чем прелесть сна, как это назвать? Бабуля, которая по ночам бодрствовала вместе со мной, говорила, что во мне течет кровь фейри; мать считала, что во мне сидит демон, и винила этого демона во всех грехах. Кто-то попал в автомобильную аварию, кто-то утонул – во всем я виновата.
Раньше я любила наблюдать за спящим мужем, поражаясь, как быстро он отрешается от дневных забот, оставляет все думы на прикроватной тумбочке, а утром снова забирает их, словно его мозг трудится в рамках строго отведенного рабочего дня. Если бы существовал курс разделения времени на модули, Хью мог бы этому обучать, а я – обучаться.
Когда я снова просыпаюсь, Хью лежит на спине и смотрит в потолок, озаренный рассветными лучами. Открытые глаза не мигают, побелевшие губы сжаты в ниточку.
– Доброе утро, – бормочу я.
Он моргает, но молчит. Со вздохом выскальзываю из постели, тянусь за щеткой для волос. По утрам, прежде чем взяться за дела, я люблю смотреть на море и расчесывать волосы. Обычно Хью при этом смачно зевает и заводит разговор о предстоящем дне, о своих идеях насчет земельных участков, деревни или домиков на Суннане, о том, что предпочел бы на ужин, или о том, достаточно ли быстро Чарли продвигается в чтении. Сегодня он торопливо одевается и покидает спальню без единого слова.
На лестничной площадке встречаю Салли – та направляется на кухню, к детям. Они сейчас завтракают под просмотр телевизора – теперь, когда антенна тоже не работает, доступны только записанные программы, – так что для меня это удачная возможность улизнуть из дома и поискать невесть куда запропастившегося муженька. Насколько мне удалось выяснить за последние полчаса, высматривая Хью во все окна, на участке его нет, а Макс громко храпит на пятачке солнечного света в гостиной, следовательно, если Хью решил прогуляться, то с какой-то своей целью, что гораздо больше похоже на меня.
– В городе я его не видела. – Салли хмурит лоб.
– Я видела! – Из-за угла появляется Эйвери с корзиной сбитых ветром фруктов. – Вы о лорде Тредуэе? Минут пятнадцать назад он шел к церкви.
– Спасибо. – Я ловлю пристальный взгляд, брошенный Салли на девушку, и к тому моменту, когда Эйвери оглядывается на меня, моя улыбка делается чуточку натянутой.
– Чарли и Эмма внизу? – звонко с надеждой интересуется Эйвери, как будто пришла на детский праздник. В ответ на мой кивок радостно сияет. – Хотите, присмотрю за ними до обеда? Мне нетрудно.
– Это было бы замечательно. Спасибо, Эйвери.
Ощутив легкий укол сожаления, наблюдаю, как она вслед за Салли уходит на кухню. Жаль, что я по-настоящему не сблизилась с Эйвери. Почти все ее ровесники ушли на войну, и ей здесь одиноко. Помню ее двенадцатилетней девочкой: как живо она интересовалась нашими свадебными планами, моим подвенечным платьем и прической, подробностями моей жизни до переезда на Лют… После возвращения из балетной школы она держится более замкнуто. Думаю, я по-своему тоже.
Прошедшие семь лет сделали меня почти такой же самодостаточной, какой я была в те три года, когда жила с бабулей и каждый вечер ровно в пять тридцать прогуливалась по бетонированным дорожкам, обрамлявшим поле для гольфа, когда наши развлечения состояли из ланчей у бассейна в компании других пенсионеров, коктейлей на крытой бабушкиной террасе и, если нам хотелось похулиганить, вылазок в местный «Таргет». В теперешней моей жизни иные стены и границы. Базовый сценарий я усвоила: с чувством высказаться о погоде, вежливо поинтересоваться благополучием членов семьи и питомцев, вскользь упомянуть последние события. Гарантия безопасности – следовать алгоритму, поэтому каждый день я с улыбкой киваю Эйвери и иду своей дорогой, так же как при встрече с большинством других островитян. Главное – никого не злить. Незаметно выхожу из дома, вдыхаю соленый морской воздух и настраиваюсь на квест: отыскать мужа, удостовериться, что у него все в порядке, а после, как всегда, взяться за планирование очередного скучного дня. Иду по аллее в лучах солнца, пробивающихся сквозь ветви вязов. Через каждые несколько шагов зажмуриваюсь, чтобы не кружилась голова. И дело не только в свете. Мой привычный распорядок всю неделю хромает, как пластинка, замедляющая вращение, когда выключают проигрыватель и звук становится все ниже и ниже.