Шхуна, которая не желала плавать бесплатное чтение
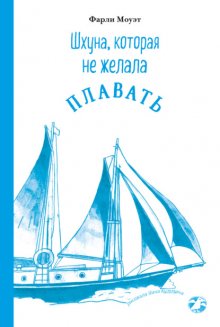
The Boat Who Wouldn’t Float
Original COPYRIGHT© 1969
Izdatelstvo Albus Corvus
Russian language edition© 2023 All rights reserved
© Гурова И.Г., наследники, 1998
© Кузьмина Н., иллюстрации, 2023
© ООО «Издательство Альбус корвус», издание на русском языке, 2023
Ее друзьям, которые любили ее вопреки всем недостаткам: Клэр, Джеку, Тео, Питеру, Альберту, Энди, Ангусу, Сэнди, Дэвиду, Пегги, Джону, Дейлу, Дону и всем остальным, но особенно – Майку Доновану, который больше не будет плавать по беспокойным водам
Глава первая
Зарождение идеи
Во мне прочно засел страх перед аукционами, восходящий к третьему году моей жизни. В том году мой отец зашел на аукцион, просто чтобы скоротать несколько ничем не занятых часов, и вышел оттуда ошарашенным владельцем тридцати ульев, битком набитых пчелами, а также всяческого инвентаря, необходимого пчеловоду. Не сумев избавиться от своей роковой покупки, он волей-неволей стал пасечником, и следующие два года я питался почти исключительно содовыми бисквитами и медом. Затем боги сжалились над нами, и все пчелы скончались от чего-то под названием гнилец, и мы могли вернуться хотя бы к некоторому подобию нормальной жизни.
В моем подсознании аукционы по-прежнему ассоциируются с великими катастрофами. Обычно я бегу от них как от чумы, но в один прекрасный апрельский день несколько лет назад я также стал жертвой пенья сирен. Случилось это в сонном городке на берегу озера Онтарио, некогда главном порту для великих флотилий, которые специализировались на перевозках ячменя и исчезли где-то в начале нашего века. В этом городке обитал торговец всем, что могло потребоваться для этих шхун. Он не пожелал смириться с воцарением пара и смертью паруса и более полувека сохранял свою лавочку и запас товаров в ожидании дня, когда в его дверь вновь постучится моряк. Но так и не дождался. Он умер, и наследники решили пустить хлам старика с аукциона, чтобы перестроить лавочку в бильярдную.
Волей судеб я оказался проездом в городке в день аукциона с молодой спутницей, к которой питал некую страсть. Да только она-то питала страсть к аукционам и, увидев объявление, потребовала, чтобы мы немедленно отправились туда. Я стиснул зубы в твердой решимости ничего не покупать, но в полутемной древней лавочке, еще благоухавшей корабельным варом, клеенчатыми дождевиками и пыльной парусиной, что-то внутри меня дрогнуло.
Среди пристрастий, какими меня заразил отец, было романтичное, в духе Джозефа Конрада, увлечение морем и бороздящими его судами. Подобно ему я частенько отвлекался от горестей, которые накликивал на себя, и часами с головой уходил в книги о плаваниях на малых суденышках по дальним уголкам океанического мира. За десять лет до дня аукциона я бросил якорь посреди изъеденных эрозией песчаных холмов провинции Онтарио, практически так далеко от океана, как только мог забраться человек. И принялся трудиться, добиваясь, чтобы трава, деревья, овощи и сам я пустили прочные корни в эту почву. Усилия мои были тщетными. Засуха губила траву. Сосновые пилильщики, другие их собратья и кролики обдирали деревья. Проволочники уничтожали овощи. Десятилетие рабского служения скудным пескам не только не связало меня прочными корнями с Матерью-Землей, но, наоборот, распалило во мне мятежный дух, о силе которого я и не подозревал, пока не очутился в старой корабельной лавке, физически соприкоснувшись с атрибутами мира, который до этого знал лишь в своем воображении.
Я покупал. Я покупал, и покупал, и покупал. Я накупил столько корабельного добра былой эпохи, что оно еле уместилось в сарае моей высушенной убогой фермы. Я сын моего отца, а потому история с пчелами не могла не повториться и не привести к предопределенному финалу.
Волей судеб у меня есть друг-издатель, который относится к книжному делу примерно так же, как я к обработке земли собственными руками. Джек Макклелланд – романтик, хотя при этом слове зеленеет и яростно опровергает подобные утверждения. Во время войны он командовал ТК (торпедным катером) и другими такими же стремительными корабликами, ну и, хотя после войны он вернулся в унылое однообразие делового мира, дух его остался на мостике ТК, летящего среди серых просторов Атлантики: орудия палят по смутным призракам немецких подлодок, безнадежно пытающихся избежать уготованной им судьбы. У Джека есть коттедж на озере Маскока, и там он держит старомодную, остроносую, отделанную красным деревом моторку, которая в новолуние иногда оборачивается ТК к вящей панике влюбленных парочек, бороздящих тихие воды в каноэ.
Как-то вечерком две-три недели спустя, после того как я приобрел запас товаров усопшего владельца корабельной лавочки, мы с Макклелландом причалили в одном из баров Торонто. Был унылый день в унылом городе, так что мы простояли в баре на якоре несколько часов. Я не стенографировал то, что говорилось, и толком не припоминаю, как все это вышло, а знаю лишь, что покинули мы бар, твердо договорившись купить океанское судно и начать бороздить соленые волны.
Мы решили заняться этим в старом стиле (и в нем и во мне есть что-то от комплекса Дрейка и Нельсона), из чего следовало, что купить мы должны старомодное судно – один из тех деревянных кораблей, на которых некогда плавали железные люди.
Насколько нам было известно, найти такой корабль мы могли только на далеком и туманном острове Ньюфаундленд. А потому как-то утром в начале мая я прилетел в древнюю столицу этого острова Сент-Джонс, где договорился о встрече с рыжебородым, льдисто-голубоглазым ниспровергателем основ по имени Гарольд Хорвуд, который, если верить слухам, знал о разбросанных по побережью острова портовых деревушках больше всех на свете. Хотя я был с материка, а Гарольд материковых не терпит, он согласился помочь мне в моих розысках. Не знаю точно почему, но, быть может, дальнейшее знакомство с этой хроникой наведет на кое-какие мысли.
Гарольд возил меня по десяткам рыбачьих деревушек, льнущих, точно застывшая патока, к обрывам огромного острова, о которые дробятся океанские валы. Он показывал мне суденышки и суда от четырнадцатифутовых рыбачьих плоскодонок до истлевающего величия трехмачтовой шхуны водоизмещением в пятьсот тонн. К несчастью, суда, достаточно надежные, чтобы сняться с причала, не продавались, а те, которые соответствовали моим средствам (Джек благоразумно назначил верхний предел в тысячу долларов), были либо настолько стары и изношены, что их палубы поросли мочегончиками (местное название одуванчиков), либо ушли на заслуженный отдых на дне гавани, так что над водой торчали только их надстройки.
Время иссякало, а мы не двигались с места. Рыжая борода Гарольда торчала под все более и более воинственным углом; его льдистые глаза пробуравливали насквозь, а настроение все ухудшалось и ухудшалось. Он не привык терпеть неудачи, и ему они пришлись очень не по вкусу. С его подачи в газетах была опубликована заметка о приезде материкового богача, который ищет местную шхуну.
Два дня спустя он сообщил мне, что нашел идеальное судно. Небольшая двухмачтовая шхуна, сказал он, из тех, что тут называют южнобережными лоханками. Не могу сказать, что это прозвище так уж меня очаровало, но к этому времени и я почти отчаялся, а потому согласился поехать посмотреть ее.
Она покоилась, вытащенная на берег у Грязной Ямы, рыбачьей деревушки на восточном побережье полуострова Авалон, – побережье, которое почему-то называется Южным берегом. Ну, разве потому, что находится к югу от Сент-Джонса, а Сент-Джонс (во всяком случае, в собственных глазах) является центром вселенной.
Туристические карты утверждают, что Грязная Яма соединена с Сент-Джонсом приличным шоссе. Это типичный ньюфаундлендский розыгрыш. Грязная Яма никак с Сент-Джонсом не соединена, если не считать узенькой тропы, которую, согласно поверью, проложил несколько веков тому назад очень дряхлый карибу, который был не только слеп, но и хромал на все четыре ноги.
Как бы то ни было, нам потребовалось шесть часов, чтобы проехать по его следам. Был весенний день, типичный для восточного берега. С моря задувал ураганный ветер, хлеща по машине косыми струями дождя. Туман с Большой Ньюфаундлендской банки, постоянно таящийся в засаде у прибрежных вод, теперь перелился через высокие мысы, закрыв обзор. Ведомый врожденным инстинктом, унаследованным от предков-мореходов, Гарольд каким-то чудом не сбился с пути, и незадолго до десяти в кромешной тьме мы прибыли в Грязную Яму.
То есть мне пришлось положиться на заверения Гарольда: в свете фар нельзя было различить ничего, кроме дождевых струй и тумана. Гарольд вытащил меня из машины и секунду спустя замолотил кулаками в невидимую дверь. Она приоткрылась и впустила нас в крохотную, ярко освещенную, тропически жаркую кухню, где меня представили братьям Майку и Пэдди Холлоханам. В толстых, домашней вязки фуфайках, тяжелых резиновых сапогах и черных саржевых брюках они выглядели как парочка контрабандистов, сошедших со страниц Роберта Льюиса Стивенсона. Представляя меня, Гарольд объяснил, что я тот самый «материковый» и приехал посмотреть их корабль. Братья не стали тратить время зря: снабдили меня клеенчатым плащом и зюйдвесткой, а затем вытащили под дождь и ветер.
Дождь хлестал с таким шумом, что почти заглушал грохот прибоя, дробившегося о скалы словно бы прямо подо мной и на довольно близком расстоянии.
– Ночка в самый раз, чтоб сесть на рифы! – жизнерадостно проорал Пэдди.
И в самый раз, чтобы свалиться с обрыва и сломать шею. Возможность, которая имела более близкое касательство ко мне, пока я следовал по пятам за Пэдди вниз по крутой тропе, до того скользкой, что нормальная коза хорошенько подумала бы, прежде чем ступить на нее. Фонарь Пэдди, в целях экономии заправленный нерафинированным рыбьим жиром, лишь символически подмигивал слабым огоньком сквозь густое облако вонючего дыма. Впрочем, он оказался очень полезным: благодаря ему я мог следовать за своим вожатым, полагаясь исключительно на свой нос.
Двадцать минут спустя я больно стукнулся о Пэдди и столь же больно об меня стукнулся Майк, который шел по моим пятам. Пэдди выставил фонарь вперед, и передо мной сумасшедшим виденьем возникло его лицо гнома, залитое дождем и почти рассеченное пополам широченной усмешкой.
– Вот, значит, она, шкипер! Лучшая лоханочка на всем Южном берегу Ньюфаундленда!
Я ничего не увидел, протянул руку и прикоснулся к чему-то выгнутому и мокрому. Пэдди придвинул фонарь поближе, и в его бликах я разглядел зеленую краску самого гнусного оттенка, какой мне только приходилось видеть. Мне тут же припомнился голый живот давно уже мертвого немца, с которым довелось делить окопчик в Сицилии. Я отдернул руку как ошпаренный.
Майк заревел мне в ухо:
– Ну, посмотрел ее, милок, так пошли домой, выпьем по капельке.
Майк и Пэдди тут же упорхнули, предоставив мне вволю спотыкаться позади них.
Вновь водворившись в безопасность кухни, я узрел Гарольда, который и не думал покидать это теплое убежище. Позднее он объяснил, что счел нетактичным присутствовать при моем первом общении с моей первой любовью. Гарольд такой деликатный человек!
К этому моменту я промок насквозь, впал в уныние и промерз до мозга костей; но тут за меня взялись братья Холлохан и их престарелая матушка, которая появилась из задней комнаты. Для начала они скормили мне большую тарелку солонины и турнепса, сваренного с соленой треской, что вызвало у меня пылающую жажду. И тут братья поставили на стол кувшин скрича.
Скрич – чисто ньюфаундлендский напиток. В давние времена он изготовлялся с помощью кипятка, который наливался в бочонки из-под рома для растворения ромовых остатков, буде они там имелись. В полученную таким способом черную жижу добавлялись патока и дрожжи. Смесь эту оставляли хорошенько перебродить, а потом дистиллировали. Иногда пару-другую деньков ее настаивали на порядочном куске жевательного табака.
Но на смену старым рецептам пришли новые, и нынешний скрич – птица совсем иного полета. Это карибский ром самого паршивого качества. Его ньюфаундлендские власти разливают в бутылки с этикеткой «Скрич» и продают беднягам, которым жизнь надоела. Нынешний не так пробирает, как прежний, но этот недостаток можно исправить с помощью добавки лимонного экстракта – его и исправляют. Обычно скрич подают разбавленным кипятком. При таком его почти газообразном состоянии алкоголь поступает в кровь в мгновение ока. И не пропадает зазря в пищеварительном тракте.
Это было мое первое знакомство со скричем, и никто меня не предостерег. Гарольд откинулся на спинку стула со злоехидным блеском в глазах и упоенно наблюдал, как я стараюсь утолить жажду. Во всяком случае, такое у меня осталось впечатление, но мои воспоминания о дальнейших событиях этого вечера несколько смутны.
Позднее мне было суждено выслушивать обвинения Джека, что я купил нашу шхуну, когда был пьян, или же купил ее, ни разу не увидев, или и то и другое вместе. «Другое» в любом случае неправда. Пока я сидел в ошеломительной жаре кухни, а давление пара в моих котлах поднималось до максимума, братья Холлохан прибегли к магии своих ирландских предков и сотворили для меня образ своей малютки-шхуны такими яркими красками, что я видел ее столь же ясно, как если бы она находилась в кухне перед нами. Когда в конце концов я упал на шею Пэдди и сунул пачку банкнот в его руку, словно обтянутую акульей кожей, меня переполняла чудеснейшая уверенность, что я нашел-таки идеальный корабль.
Утром на обратном пути в Сент-Джонс Гарольд пел хвалы простосердечным, кристально честным, богобоязненным ирландским рыбакам Южного берега.
– Они тебе последнюю рубашку отдадут с первого взгляда, – сказал он. – Щедры душой! Боже ты мой, во всем мире им нет равных. Вам повезло, что вы им пришлись по сердцу.
В определенном смысле Гарольд был, пожалуй, прав. Не придись я по сердцу братьям Холлохан, так, возможно, я остался бы в Онтарио и, того гляди, стал бы добропорядочным обывателем. Я не питаю зла к Холлоханам, но надеюсь, что больше никогда не попадусь, как попался в тот достопамятный вечер в Грязной Яме.
Два дня спустя я вернулся туда осмотреть мою покупку, оценить ее на этот раз трезвым (в смысле – спокойным, рассудительным) взглядом. Издалека она, бесспорно, выглядела изящным корабликом, несмотря даже на свою тошнотворную окраску. Подлинный корпус шхуны, но в миниатюре: длина палубы – тридцать один фут при ширине девять футов и осадке в четыре фута. Но вид у нее был грубейший! При ближайшем рассмотрении начинало казаться, что ее сколотила орда наших палеолитических предков, возможно замечательных кораблестроителей, но орудовавших исключительно каменными топорами.
Ее конструкция и удобства оставляли желать лучшего. Она была гладкопалубной, с тремя узкими люками для приема рыбы и шириной едва достаточной, чтобы один человек стоял там и сбрасывал треску в два смежных трюма, – в них обоих упрямо витал дух миллионов давно скончавшихся рыбин. В самом носу имелся капитанский салон высотой два фута, шириной в три и длиной тоже в три, в который мог бы втиснуться один очень щуплый человек, если бы согласился принять эмбриональную позу. Имелось еще машинное отделение – темная дыра, где смутно маячил гигантский фаллос одноцилиндрового двухтактного бензомотора, чаще тактично замолкавшего.
Ее оснастка также не была идеальной. Обе мачты были, видимо, изготовлены из пары прогулочных тростей. Штагами им служили телефонные провода и тресковые лёсы. Паруса пестрели заплатами точно разноцветная одежда Иосифа и, казалось, не уступали ей древностью. Бушприт у нее смахивал на ручку швабры и был примотан на место веревками от сетей. У меня не создалось впечатления, что Холлоханы так уж часто выходили на ней в море. Позже выяснилось, что они вообще на ней не плавали и разделяли общее убеждение всех обитателей Грязной Ямы, что любая подобная попытка почти наверное окажется фатальной.
Не была она и чистеньким корабликом. По правде говоря, она смердела. Трюмы у нее не чистились со дня постройки и покрылись липким слоем рыбной слизи, рыбной крови и рыбных отходов толщиной в несколько дюймов. И это не было свидетельством неряшливости, как объяснили мне грязнеямцы, после того как я убил целую неделю в попытках ее вычистить, а «делалось с толком».
– Суть-то в том, шкипер, – объяснил мне один, – что лоханки-то эти строят из сырого дерева, ну и когда подсыхают – так рассыхаются. А уж там знай конопать щели. А вот кровью да отходами они, можно сказать, сами конопатятся и уж не протекут.
У меня ни разу не возникло причин усомниться в его словах.
Поскольку сумма, которую потребовали Холлоханы за свой корабль, странно сказать, оказалась доллар в доллар равна той сумме, какая имелась для этой цели у меня, и поскольку это безымянное судно (Холлоханы никак не нарекли шхуну и называли ее просто «она», а иногда – «эта сука») еще не было готово поплыть к Самоа вокруг мыса Горн, мне предстояло принять очень серьезное решение.
Вопрос, собственно, стоял ребром: либо навсегда ее бросить тут, а Джеку Макклелланду убедительно соврать, что меня, например, в Сент-Джонсе ограбили разбойники с большой дороги, либо нахально сделать вид, будто именно так и надо, а затем попытаться сотворить мореходный корабль из трухи. Но, в сущности, я трус, да и Джека мне враньем не провести, а потому я избрал второй вариант. На вопрос, где мне найти кораблестроителя для кое-каких необходимых переделок, Холлоханы рекомендовали мне Енарха Коффина, того самого человека, который построил шхуну четыре года назад. Енос, как его называли все, оказался сухопарой обезвоженной щепкой в человеческом обличии. В молодости он был мастером-корабельщиком, строившим в заливе Форчен суда для ловли рыбы на Большой банке, но когда эти флотилии отошли в область преданий, ему пришлось сколачивать суденышки для местных рыбаков. Были они изящнейшей конструкции, но сочетание бедности его заказчиков и нехватки хорошей древесины со слабеющим зрением и надвигающейся старостью несколько снизили качество его работы. Шхуна Холлоханов была последней, которую он построил, и ей было суждено навсегда остаться последней в его жизни.
Когда я навестил его, вооружившись симпатичной бутылкой, он жил в обширном несуразном доме с семью незамужними дочерьми. Енос оказался добродушным и говорливым. Диалект Южного берега практически невнятен для непривычного уха, а когда его на вас обрушивают с частотой пулеметной очереди, то понять уж и вовсе ничего невозможно. За первые два часа нашего знакомства я не распознал ни единого обращенного ко мне слова. Впрочем, после первого взрыва словоизвержения он поиссяк, снизил темп, и я сумел понять очень даже многое.
По его словам, он был в восторге, что я купил шхуну, но когда услышал, какую сумму я уплатил, то спасся от апоплексического удара только потому, что тут же выпил полбутылки рома, ничем его не разбавляя.
– Черт-те что! – взвизгнул он, когда отдышался. – Я-то построил ее для этих пиратов за пару сотен!
Тут я выхватил у него бутылку и выпил вторую половину рома, тоже ничем его не разбавляя.
Когда мы оба отдышались, я спросил, не возьмется ли он за ее починку, перестройку и вообще доведение ее до ума, и он охотно дал согласие. Мы договорились, что он поставит фальшкиль и внешний балласт; над рыбными люками соорудит каюту; снабдит ее койками, столами, рундуками и прочим необходимым внутренним оборудованием; приведет в порядок мачты, оснастку и выполнит еще сотни мелких, но крайне нужных работ. Енос прикинул, что на все это ему потребуется месяца два.
Я вернулся в Сент-Джонс, а оттуда в Онтарио во вполне сносном настроении. Я не тревожился, будет ли наше суденышко готово к сроку, поскольку мы намеревались отправиться на нем в плавание не раньше середины лета. Иногда я писал Еносу (он не умел ни читать, ни писать), и та или иная из его энергичных дочерей присылала в ответ покрытую каракулями открытку, типичным примером которой может служить вот эта:
Дорогой Мистер Мот Папаша говорит ваша шхуна хорошо продвигается много рыбы в этом месяце Герт родила Нелли Коффин.
В эти месяцы ожидания мы с Джеком предавались разным грезам и строили разные планы. Мы договорились, что я отправлюсь на Ньюфаундленд раньше его, в конце июня, на джипе, нагруженном всяческим снаряжением, и обеспечу последние штрихи, чтобы шхуна была готова к отплытию, когда в середине июля приедет Джек. Ну а тогда – поглядим. Бермудские острова, Азоры, Рио-де-Жанейро – мир ждал нашего выбора!
Глава вторая
«Страстоцвет» уходит в море
Джек Макклелланд был не единственным владельцем суррогатного корабля для поисков лихих приключений, когда жизнь становилась уже вовсе невыносимой. Его моторке, она же торпедный катер, на озере Маскока ничуть не уступал гордый корабль, которым я владел десять долгих лет. Непосвященному взору он мог показаться дряхлым драндулетом из породы джипов, но в мире фантазий это был последний из чайных клиперов, бороздивший моря между Лондоном и Цейлоном.
Для вящей убедительности по сторонам рубки он был снабжен керосиновыми ходовыми огнями – зеленый на правом борту, красный на левом. На баке вместо деревянной фигуры он нес ворот с сорока морскими саженями каната. А нос и корму украшала надпись с его названием, портом приписки и его девизом:
«СТРАСТОЦВЕТ» 4-Й Р-Н Г. АЛЬБИОН
УМРИ, НО СДЕЛАЙ!
Сколько раз я плыл на нем под всеми парусами по боковому шоссе до магистрального № 50, а затем на юг, чтобы поймать пассат, и таким манером – до портовых баров Торонто. Однако в настоящем плавании ему побывать не удалось вплоть до этого июньского утра, когда мы с ним взяли курс на Ньюфаундленд.
К нашему эпохальному путешествию он был подготовлен настолько, насколько это было в моих силах. В его вместительном трюме покоились два адмиралтейских якоря (один в сто шестьдесят пять фунтов, а другой стофунтовый). Затем три ящика морских сухарей, упакованных в 1893 году. Затем бухты растительного троса, свертки клеенки, пробковые спасательные пояса, патентованный лаг, компас с десятидюймовой картушкой и, как мог бы выразиться аукционщик, «другие предметы, слишком многочисленные, чтобы их называть». Собственно говоря, именно это и сказал аукционщик в одно прекрасное апрельское утро, когда я стал наиболее ненасытным его клиентом.
«Страстоцвет» отчалил от песчаного холма на заре. Легкий туман окутывал обрывы Альбиона, а с запада начинал задувать попутный бриз. Чудесный день для начала великого плавания.
И в этот первый день он покрыл расстояние, поразительное для такого старого судна. С помощью попутного бриза оно пробежало на восток шестьсот пятьдесят миль, и вечером я поставил его на якорь посреди зеленого луга возле реки Святого Лаврентия на востоке от города Квебека.
На следующее утро меня разбудил запах жарящейся грудинки. Солнце уже встало, как и лошади, на чьем пастбище я разбил мой бивак. Севернее величавая серебряная река катила свои воды к еще неблизкому морю, а южнее лошади выстроились безмолвным полукругом, созерцая «Страстоцвет», меня и таинственного незнакомца.
Это был щупленький человечек с морщинистой физиономией и клочковатой бороденкой – неопределенного возраста, в потертых саржевых брюках, рубашке с обтрепанным воротничком и манжетами, в парусиновой куртке поверх нее. Я приподнялся и сел в своем спальном мешке, разглядывая его в некотором изумлении, ибо он деловито стряпал завтрак на моем керогазе, пустив для этого в ход мою сковородку, мои яйца, мою грудинку и мой кофе. Он заметил, что я пошевелился, и посмотрел на меня.
– С добрым утречком, сэр, – вежливо сказал он. – Вам как яички приготовить?
Видимо, я за ночь обзавелся новым матросом. Однако у меня не сохранилось ни малейших воспоминаний, как это произошло, а если мой ум начал заходить за разум, признаваться в этом я не собирался.
– С добрым утром, – ответил я осторожно. – Желтком вверх и не сильно поджаренные. Кофе черный.
– Есть, сэр. Сию минуту, сэр.
Тайна разъяснилась, пока мы завтракали.
Мой новый товарищ – звали его Уилбер – объяснил, что он моряк с Ньюфаундленда и на рассвете пустился в путь на восток к Сент-Джонсу, но тут увидел «Страстоцвет». Небрежный взгляд в окно подсказал ему, что перед ним корабль, замаскированный под джип, а потому с истинно моряцким компанейским духом он пригласил себя на борт.
Уилбер оказался ценнейшим приобретением. Он провел в море почти сорок лет – во всяком случае, так он сказал. Пока мы катили на восток в это утро по берегу могучей реки, он указывал мне на встречные суда и рассказывал всякие истории про их команды – истории, осмелься я их напечатать, превратили бы Генри Миллера в поставщика викторианских детских стишков.
Уилбер был прирожденным рассказчиком и ни на минуту не переставал плести кружева своих былей и небылиц, пока мы не пересекли Нью-Брансуик и не въехали в Новую Шотландию. К этому времени я просидел за рулем десять часов и утомился. Тут Уилбер предложил сменить меня у штурвала, заверив, что еще не построено судно, которым он не сумел бы управлять, и я с радостью поменялся с ним местами.
Я благодарно смежил вежды и заснул. Десять минут спустя «Страстоцвет» высвистал всех наверх треском, который явно возвещал конец вселенной. Уилбер столкнул нас с бортом огромного грузовоза, нагруженного бревнами по самую ватерлинию.
Выяснилось, что оба судна отделались самыми пустячными повреждениями, потому что крепкий носовой ворот «Страстоцвета» ударился о гигантскую тракторную покрышку, подвешенную, точно кранец, к борту грузовоза. Удар, пришедшийся по моей психике, гордости Уилбера и душевному равновесию верзилы, хозяина грузовоза, был много тяжелее; но ведь мы находились в Новой Шотландии и знали, чем исцелиться. Уселись все втроем на краю придорожной канавы, распили бутылочку рома и расстались задушевными друзьями. И я, и водитель грузовоза удовлетворились объяснением Уилбера, который виновато признался, что хотя он способен управлять любым кораблем, когда-либо ходившим под парусами, но вот с моторными лодками ему дела иметь не приходилось.
Я сел за руль. «Страстоцвет» теперь двигался как-то странно, чуть боком, точно краб. Поскольку ни Уилбер, ни я механиками не были, мы не поняли, что его румпель (сухопутные крысы назвали бы это рулевой тягой или еще чем-нибудь, столь же эзотерическим) сильно погнулся. Через час-другой я с этим полностью свыкся – в отличие от встречных машин. Они словно бы не могли решить, какое направление мы выбираем, и многие съезжали на гаревую обочину, пропуская нас.
Начало смеркаться, и мы обнаружили, что наши электрические носовые огни столкновение тоже вывело из строя, но зато наши ходовые огни были хорошо заправлены керосином, мы зажгли их и смогли поехать дальше, хотя и снизив скорость.
И тут я вынужден заметить, что новошотландцы, некогда знаменитые мореходы, видимо, поутратили дух своих предков. Во всяком случае, суда, встречавшиеся нам после наступления темноты, словно бы понятия не имели о правилах, как расходятся бортами. Мы приближались к ним, наш фонарь на правом борту был пылающе-красным, на левом – пылающе-зеленым, а они шарахались, словно повстречали «Летучего Голландца». Некоторые подавали сигналы бедствия столь голосисто, что нам оставалось лишь бросить якорь до конца ночи, как мы и сделали в деревушке Пагуош.
Некогда смиренный поселок ловцов омаров Пагуош теперь знаменит своими учеными конференциями, на которые со всего света съезжаются прославленные мыслители и где их приветствует Сайрус Итон, американский капиталист. Я слышал про него, а потому повернул «Страстоцвет» на шоссе, ведущее к его загородному дому. Мистер Итон был в отъезде, и дежурный секретарь, несмотря на мои прозрачные намеки, не предложил нам с Уилбером гостеприимства этого дома. Отношу этот щелчок по носу на счет того, что я не капиталист. Быть просто мыслителем явно недостаточно.
В конце концов мы причалили на ночь во дворе ловца омаров по имени Ангус Мака, обаятельнейшего человека с гэльскими отзвуками в речи. Он проводил нас к себе в дом, где его супруга накормила нас по уши жареной макрелью. Кроме того, Ангус взялся починить наши носовые огни, а румпель оказался ему не под силу.
Следующий день плавания никакими происшествиями не ознаменовался. Еще до полудня мы достигли Порт-Хоксбери на острове Кейп-Бретон, где разыскали старинного моего морского приятеля Гарри Лэнгли, у которого приобрели не только пятьдесят морских саженей якорной цепи (под ее тяжестью «Страстоцвет» так осел, что его кормовая палуба находилась лишь в нескольких дюймах над поверхностью шоссе), но и картонку мыла, мылящегося в соленой воде.
Мыло это прибыло из заморских стран в 1887 году на борту английского парохода «Центурион». Ныне корпус «Центуриона» догнивает на дне сиднейского порта, но его мыло создано из более вечного материала, чем какой-то там английский дуб и шведская сталь. Гарри заверил меня, что более долговечного мыла мне нигде не найти, и сказал святую правду: десять лет спустя после приобретения этого ящика я все еще не покончил с первым куском, и, наверное, пройдет еще десять лет, прежде чем он достаточно размягчится и даст первую пену.
На исходе того же вечера мы добрались до северо-восточного кончика Кейп-Бретона, до Норт-Сидни, откуда автомобильный паром бежит через пролив Кабота к Ньюфаундленду – через девяносто миль одних из самых бурных вод в мире.
Тут я вынужден прервать записи в судовом журнале «Страстоцвета» и ввести пару-другую слов о великом острове, которому в грядущие месяцы и годы предстояло стать неотъемлемой частью моей жизни. Я и не попытаюсь описывать его заново, ибо такое описание уже существует и я не думаю, что сумею его превзойти. И, не краснея, присваиваю его. Взято оно из книги под названием «Эта окруженная морем скала», написанной Джоном Девиссером и Фарли Моуэтом: «Ньюфаундленд принадлежит морю. Расположенный, точно колоссальная гранитная пробка, в горловине залива Святого Лаврентия, он повернулся спиной к материку, отгородившись от него скальным бастионом своего грозного западного берега длиной в триста миль. Остальные его берега обращены к открытому морю и до того изрезаны и изогнуты бухтами, заливами, проходами и фиордами, что подставляют Атлантике более пяти тысяч миль береговой линии. Повсюду подводные рифы и скалы (называемые с жуткой конкретностью «потопителями») только и ждут случая пропороть днище беспечного судна. И все-таки берега эти – истинный мир мореходов, ибо предлагают им безопасных гаваней без числа.
Еще совсем недавно значение имели только берега острова. Холмистые плато его внутренних областей, покрытые темными борами на севере, но совершенно лысые на юге, оставались неведомыми землями. Ньюфаундленд был тогда, да и остается теперь истинно морской землей, возможно родственной той другой морской земле, которая звалась Атлантидой; однако Ньюфаундленд не был поглощен зеленой бездной, но каким-то образом был занесен ветрами к нашим берегам, где и остался невольным изгнанником, вечно устремленным назад, на восток. И это не просто фантазия. Ведь Ньюфаундленд – это самый восточный край Северной Америки, настолько далеко вдающийся в Атлантику, что его столица Сент-Джонс лежит в шестистах милях к востоку от Галифакса и почти в тысяче двухстах милях восточнее Нью-Йорка».
Возможно, проза Моуэта несколько высокопарна, но суть описания верна.
Плавание через пролив Кабота было первой встречей «Страстоцвета» с соленой водой. Незадолго до полуночи я загнал его на борт громоздкого плоскобокого чудища, лишенного даже намека на мореходные качества, наименованного «Уильям Карсон» и построенного канадским правительством, чтобы оно плавало взад-вперед по проливу, связывая Ньюфаундленд с остальной страной. Эта штука (нет, судном ее назвать никак нельзя) примерно столь же благодушна, как старая коза с воспалившимся выменем, и почти столь же красива. В своем вспученном брюхе она способна перевозить несколько сот легковых машин и грузовиков и в этот вечер была полна под завязку. Каждая машина была надежно принайтовлена к швартовым рымам, приваренным к палубе; впрочем, «надежно» тут, пожалуй, не то слово.
Отплыли мы в полночь. К двум часам ночи «Карсон» переваливался на валах, накатывающихся с траверза, и вздымал высокие бока под ударами северо-западного ураганного ветра, задувавшего со скоростью пятьдесят миль в час. Его человеческий груз цеплялся за все, что можно, или перекатывался на койках, подтягивая стонами пронзительным завываниям ветра. Внизу, в трюме для машин, весь ад сорвался с цепи.
Так называемый моряк, закрепивший «Страстоцвет», видимо, только-только покинул родительскую ферму в Саскачеване. Иначе он сообразил бы, что четырех отрезков четвертьдюймового троса, может, и достаточно, чтобы удерживать на месте невесомую скорлупку стандартной североамериканской легковушки, но для двухтонного джипа, нагруженного тремя тоннами всяческих металлических изделий, они окажутся не крепче тонкого шпагата.
«Страстоцвет» сорвался с якоря. Вначале среди тесно поставленных машин ему не было где толком развернуться. Но за полчаса он сумел расчистить себе местечко. Всякий раз, когда «Карсон» ухал тяжелым рылом в ложбину между волнами, мой «Страстоцветик» кидался вперед и утыкался в корму «понтиака», принадлежавшего капитану ВВС Соединенных Штатов, пребывавшему в Стивенвилле на Ньюфаундленде. Всякий раз, когда «Карсон» задирал нос или тяжело присаживался на жирную задницу, «Страстоцвет» атаковал кормой и таранил буксировочным крюком радиатор «кадиллака» одного из капитанов промышленности, которые по приглашению премьер-министра Джои Смолвуда начинали превращать Ньюфаундленд в свои поля счастливой охоты.
Несколько укоротив эти две машины, «Страстоцвет» обрел достаточно простора, чтобы порвать их узы, и тогда они уже втроем принялись дружно бросаться в атаку то вперед, то назад. Последовавшая цепная реакция учинила на нижней автомобильной палубе разгром, которого мир, пожалуй, не видывал с тех пор, как Клавдий Тиберий выгнал на арену Колизея триста африканских слонов при помощи сорока нубийских львов.
Процесс разгрузки по прибытии в порт назначения Порт-о-Баск был весьма оживленным и интересным. Высказывания владельцев, когда они спускались на пристань востребовать свои искалеченные машины и организовать буксировку, были сочными и глубоко искренними.
«Страстоцвет», хотя и выглядел так, словно несколько месяцев нес ледокольную службу, съехал с парома своим ходом. Видимо, никаких серьезных внутренних повреждений он не получил. И, как благоговейно заметил Уилбер, был «ну прямо в ажуре!».
Плавание в пятьсот пятьдесят миль поперек Ньюфаундленда свелось к долгим упражнениям в мазохизме. В те дни Трансканадское шоссе было еще голубой мечтой, лелеемой в основном политиками в Оттаве и в Сент-Джонсе. Реальность же оказалась настолько жуткой, что справляться с ней было под силу только джипу или танку, ну и, может быть, верблюду. Лишь у немногих путешественников хватало дерзости проверить это на опыте. Большинство предпочитало грузить свои машины на товарные платформы в Порт-о-Баске и отправлять в Сент-Джонс по железной дороге. Я бы, наверное, поступил так же, если бы Уилбер не заверил меня, что он ездил по этой дороге тысячи раз и все было тип-топ.
И он не соврал. Тип-топ, возможно, и было, а вот дороги не имелось. Нам понадобилось пять суток, чтобы добраться до Сент-Джонса, и к тому времени «Страстоцвет» находился при последнем издыхании. Полетело семь покрышек; он лишился последних двух рессор (амортизаторы дали дуба уже много лет назад), а также глушителя и уверенности в себе. Он прибыл в Сент-Джонс совсем одряхлевшим больным кораблем, но, черт побери, он прибыл туда под собственными парусами!
Уилбер расстался со мной в Сент-Джонсе. Я спросил его, где он желает сойти на берег, и по его указаниям нашел на окраине конгломерат серых корпусов. Выглядели они неописуемо мрачно и отталкивающе.
– Ты уверен, – спросил я, – что тебе сюда?
– Да, сынок, – радостно ответил Уилбер. – Это психушка, значит, мне сюда.
Так и оказалось. Уилбера встретили у дверей с такой же радостью, с какой он вошел в них. Кто-то из встречавших, стажер, если не ошибаюсь, все мне объяснил. Он сказал, что Уилбер был пациентом сент-джонской психиатрической больницы уже почти двадцать лет. Он никогда никому лишних хлопот не доставлял, но время от времени сбегал и отправлялся «поплавать». В своем воображении он тоже был моряком, избороздившим семь морей, но через два месяца начинал скучать и возвращался домой.
Уилбер долго тряс мне руку и от души благодарил.
– Как тебе понадобится товарищ в плавании, так ты сразу ко мне, шкипер, – сказал он на прощание.
Может, я так и сделаю; ведь мне доводилось плавать со многими и многими, кто мне нравился куда меньше.
Глава третья
Морская невеста
Хотя к Ньюфаундленду я питаю самые лучшие чувства, Сент-Джонс не принадлежит к числу моих любимых городов. Нет, его внешний облик никаких нареканий не вызывает: старинный городок, приятно обветшалый, раскинувшийся на крутых склонах над сказочной гаванью. Не питаю я антипатии и к подавляющему большинству его обитателей, особенно к тем, кто трудится на судах у причалов, или к тем, кто не считается с тем, что это столичный город, и продолжает заниматься рыболовством как истинные дети моря и жить в домиках, лепящихся по обрывам вдоль Прохода – пролива, ведущего в гавань.
Моя неприязнь к Сент-Джонсу порождается тем обстоятельством, что он – паразит. На протяжении минимум трех веков он был пиявкой, которая, притаившись за оградой величавых скал, высасывала кровь из рыбаков, прямо-таки захлебывалась ею. В начале шестидесятых в нем на душу населения все еще приходилось больше миллионеров, чем в любом другом городе Северной Америки, включая Даллас в Техасе. Состояния эти были нажиты беспощадным ограблением рыбаков, которых до 1949 года, когда Ньюфаундленд стал членом Канадской конфедерации, торговцы эксплуатировали в чисто средневековом духе. Торговцы, чьи огромные склады и конторы окаймляли Уотер-стрит, именовались «пиратами с Уотер-стрит» (прозвище, рожденное беспомощной горечью). Они служили объектом пассивной, но непреходящей ненависти, а в ответ выработали в себе презрительное пренебрежение к людям. Полностью ориентированные на Англию, они культивировали английское произношение, детей отправляли учиться в Англию и ньюфаундлендцами были лишь по названию.
Особый аромат, который они придавали городу, все еще сохраняется, сочетаясь с тлетворным запашком коррупции, которая, хотя и не блещет оригинальностью, ни в чем не уступит никакой другой. Политика на Ньюфаундленде всегда строилась в духе банановой республики, или – точнее – тресковой республики. Диктатура лишь слабо маскировалась протертым до дыр ветхим плащом демократии. В Сент-Джонсе заправляли некоторые из самых неблагоуханных фигур в истории Северной Америки, и пока еще нет никаких признаков, что наступит день, когда старая система рухнет.
Я не стал задерживаться в городе и в тот же вечер двинулся по Тропе Карибу вдоль Южного берега. Кашляя, трясясь словно от болезни Паркинсона, но не сдаваясь, «Страстоцвет» медленно всю длинную ночь совершал свой путь на юг. На рассвете он взобрался на последний холм перед Грязной Ямой и продрейфовал по усыпанному камешками склону к деревне. Я предоставил ему самому выбирать дорогу между валунами и сосредоточил внимание на панораме внизу.
Маленькая гавань, всего лишь щель в изгибе береговых обрывов, выглядела безмятежной в перламутровом свете раннего утра. Тридцать-сорок лодок дремали у причалов точно спящие гаги. А на берегу в серебристо-серый узор, окаймляя бухту, слагались ажурные сушилки для рыбы, пристани, помосты и рыбные лавочки. От кромки воды вверх по склону карабкались двухэтажные кубические домики с плоскими крышами, щеголяя пестротой и яркостью окраски. Прямо подо мной распростерся рыбозавод, из его железной трубы поднимался маслянистый дым.
Сонная, дышащая приятным покоем картина, ничем не отличающаяся от остальных тысячи трехсот ньюфаундлендских рыбачьих поселков, которые в те дни продолжали цепляться, как цеплялись веками, за резные берега огромного острова. Я взирал на эту картину с удовольствием, которое мало-помалу переходило в тревогу.
Чего-то не хватало – и чем-то этим была шхуна моей мечты. Ей полагалось бы чуть покачиваться там, внизу у причала, безупречной, прелестной, ожидающей, точно невеста – своего суженого: вот-вот он придет к ней. И суженый пришел, был здесь, был в эту самую минуту, а вот от морской невесты не было ни следа.
«Страстоцвет» прорвался сквозь последний каменный барьер на козьей тропе, змеившейся к рыбозаводу, икнул раз-другой и тихо испустил дух. Когда я попытался завести его, он только жалобно повизгивал. Я выбрался на тропу, и путь мне преградил крохотный мальчуган, который подобно гному словно бы выскочил из усыпанного камнями склона. Белобрысый, в резиновых сапогах на несколько размеров больше, чем следовало, со шмыгающим носом и застенчивой улыбкой. Я спросил его, где мне найти дядю Еноса Коффина (в таких деревушках любой мужчина старше пятидесяти лет именуется «дядей» теми, кто его помоложе), и он ткнул пальцем в большой дом, исчерченный горизонтальными широкими полосами – лиловыми, канареечно-желтыми и охристо-красными.
На секунду я должен отвлечься и указать, что до вступления в Конфедерацию мало кто из ньюфаундлендцев в рыбачьих селеньях мог расщедриться на магазинную краску. Они изготовляли собственную из охристой глины, растертой в рыбьем жире и морской воде. Когда краска эта высыхала, на что уходило до года, она обретала цвет запекшейся крови. Не слишком-то веселенький оттенок, и за долгие века тамошние жители изголодались по ярким цветам. Вскоре после того, как остров стал частью Канады, его наводнили всевозможные коммивояжеры, в том числе и москательных фирм. Наводнили его и наличные – в результате федерального пособия на младенцев и пенсий по старости. Значительная часть этих денег тут же была обменяна на краски. Опьяненные обилием ярких цветов, обитатели деревушек часто не удовлетворялись просто красным, или травянисто-зеленым, или будуарно-розовым домом и красили свои жилища разноцветными горизонтальными, вертикальными и даже диагональными полосами. При взгляде в туманный день с моря на расстоянии нескольких миль их тона ласкали глаз. При взгляде в солнечный день с близкого расстояния даже сильные мужчины пошатывались.
– Спасибо, – сказал я. – А ты случайно не знаешь, где стоит шхуна, которую продали Холлоханы?
Лицо мальчугана просияло. Он повернулся и зашаркал между двумя обветшалыми складами, а я пошел за ним. Проулок привел нас к основанию жердяного и невероятно шаткого помоста (как там называют рыбацкие пристани) из ободранных хлыстов тонких лиственниц.
У помоста стояло судно.
Вернее, лежало наполовину в воде, так как был отлив, среди богатейшей коллекции битых бутылок, гниющих водорослей, дохлой рыбы и неведомых, покрытых илом предметов. Я пробрался по пропитанным рыбьим жиром слегам помоста и остановился перед шхуной моей мечты.
К корпусу ее, с тех пор как я ее видел, никто не прикасался, и с голых досок обшивки лохмотьями свисали остатки ее зеленой краски, точно изъеденной экземой. Ее днище, лишившееся последних следов сурика и намазанное мазутом, жирно блестело. Палубы зияли дырами люков, разошедшимися швами; между нестругаными новыми досками тянулись длинные черные потеки вара там, где кто-то конопатил на скорую руку. Грот-мачта была сломана в десяти футах над палубой, а фок-мачта, ничем не закрепленная, покачивалась под жутковатым углом в мольбе к глухим и слепым небесам.
Но сильнее всего кровь холодела при виде гигантской неокрашенной, смахивающей на ящик надстройки, которую кое-как присобачили к палубам. Массивная, она тянулась от кокпита до подножья фок-мачты. Больше всего она походила на гигантский саркофаг. Казалось, кораблик, чувствуя, что умирает от какой-то неизлечимой и омерзительной болезни, взвалил себе на спину собственный гроб и пополз к кладбищу, но не добрался и умер там, где покоился теперь.
От этого зрелища я онемел, но на моего маленького мокроносого проводника оно произвело прямо обратное впечатление. Он в первый раз заговорил:
– Господи Иисусе, сэр! – сказал он. – До чего ж красивый, а?
Я не сразу отправился к Еносу. Хоть я человек мирный, но руки у меня чесались убить его на месте. А потому я снова забрался в «Страстоцвет» и, как у меня в обычае, когда я попадаю в сложную ситуацию, откупорил бутылку.
В этот момент заботил меня в основном Джек Макклелланд. Джек должен был приехать в Грязную Яму через две недели, готовый отправиться в наше плавание. Джек принадлежит к тем изысканным фортуной людям, которым чужды слабости простых смертных. Он – Человек, Который Умеет Доводить Дело До Конца, и ждет того же от своих присных. Он не взывает к Судьбам, он отдает им распоряжения. Он отдает распоряжения всем, получил их от него и я.
«Пятнадцатого июля в 7 ч 30 мин мы поплывем из Ньюфаундленда курсом на ближайший пальмовый островок, где проведем лето, наслаждаясь сибаритским существованием. Ясно?»
Таковы были его напутственные слова мне. И я практически не сомневался, что он не удовлетворится тем, чтобы провести лето в Грязной Яме.
После первого приложения к бутылке я все еще планировал пришибить Еноса, сослаться в суде на то, что я психически ненормален, добиться, чтобы меня поместили в психбольницу Сент-Джонса, и коротать там время в обществе Уилбера, пока Джек про меня не забудет. Приложившись еще два раза, я решил развести пары и отбыть на «Страстоцвете» в одно уютное местечко на границе Канады с Аляской, где хоть отбавляй археологических изысканий касательно древности первых людей в Америке. Однако «Страстоцвет» не заводился ни в какую, так что я приложился еще разок-другой и пришел к выводу, что останусь пока там, где нахожусь сейчас, и поищу путь к забвению попрямее.
Семь энергичных дочерей Еноса наткнулись на меня там, когда галопировали на рыбный завод к началу первой смены. Добрые, чуткие девушки.
Одна уложила мою голову на могучие колени, а вторая отправилась искать Еноса. Попозже они всей компанией препроводили меня – то есть отнесли на руках – в родительский дом выше по склону, где и уложили без дальних разговоров в постель.
Проснулся я поздно вечером отнюдь не в радужном настроении. Но дочери Еноса были так радушны и окружали меня таким заботливым вниманием (включая обильную кормежку – языки и щечки трески), что я не устроил Еносу нахлобучку, какую следовало бы. На мой упрек, что он меня страшно подвел, мне было отвечено тоном оскорбленной невинности:
– Чего ж вы не сказали-то, что вам она спешно нужна? Да знай я, так она бы у меня месяц назад готова была. Да вы не тревожьтесь, мил человек. Я утречком с Оби Мэрфи договорюсь, и вдвоем-то мы ее до ума за неделю доведем. И вот что, шкипер, у вас, случаем, еще бутылочки не окажется, а? Желудок у меня последние дни ну прямо бунтует.
Поскольку волей случая и у меня желудок ну прямо бунтовал, я отыскал еще бутылочку, и вскоре во мне опять взыграл оптимизм.
А если у ньюфаундлендцев из рыбачьих селений есть общее качество, так это оптимизм. И он им ох как нужен. Без него они давным-давно вернули бы свой остров чайкам и тюленям. А с ним они творят чудеса. Пока хватает оптимизма, они самые умелые, самые закаленные и самые веселые люди на земле.
Когда на следующий день Енос и Оби Мэрфи (добродушный молодой рыбак богатырского сложения) принялись трудиться над шхуной, моей главной обязанностью стало обеспечивать им надлежащий уровень оптимизма. А потому мне пришлось совершать регулярные рейсы между Грязной Ямой и Сент-Джонсом, ближайшим местом, где можно было разжиться оптимизмом. Я отправлялся в город рано поутру, добирался до него сильно за полдень, ставил джип чиниться, старался купить для шхуны такие жизненно важные предметы, как паруса, насосы и так далее (об этом подробнее в своем месте) и приобретал галлон-другой оптимизма у самогонщика, товар которого был заметно качественнее и дешевле, чем то, что можно было купить в государственном винном магазине. Затем я ехал назад всю ночь, добираясь до Грязной Ямы как раз вовремя, чтобы подготовить Еноса и Оби к предстоявшим им дневным трудам.
Время шло, и плавать по Тропе Карибу стало заметно легче. «Страстоцвет» мало-помалу обтесал худшие из камней и изжевал большинство пней. К тому моменту, когда он завершил последний рейс, тропа обрела такое сходство с вполне сносным шоссе, что обитатели Южного берега были подвигнуты выразить свою благодарность делом. Они подали властям петицию о том, чтобы назвать тропу «Проезд „Страстоцвета“». И, возможно, правительство пошло бы им навстречу, если бы премьер-министр Джои Смолвуд не опасался, что стоит ему признать существование этой дороги – и он обязан будет поддерживать ее в порядке.
Причина, почему я охотно совершал эти долгие путешествия, заключалась в том, что иначе мне неминуемо пришлось бы помогать Еносу и Оби, а об этом и помыслить было страшно. И несколько дней я благополучно увиливал от таких помышлений, но затем Енос начал пришивать фальшкиль и прилаживать две тысячи фунтов чугунного балласта. Тогда понадобилась лишняя пара рук, и предоставить ее был вынужден я. Чтобы передать весь аромат условий работы, лучше всего будет обратиться к тогдашним моим заметкам.
«Судно помещалось в крохотном доке, над которым господствовал рыбозавод. Все стоки человеческого или животного происхождения с этого завода, на котором сто сорок семь мужчин, женщин и детей обрабатывали в день около ста тысяч фунтов рыбы, поступали в наш док из десятидюймовой канализационной трубы, изрыгавшей их на нас через нерегулярные интервалы. При отливе белесые внутренности покойных рыб покрывали корпус скользкой мозаикой и фестонами повисали на всех его канатах. Воздух, и без того достаточно ядовитый, отравлялся газами из цеха, где изготовлялась костная мука. Те рыбьи внутренности, которые не попадали в сточные воды, превращали в вонючий желтый порошок, который сеялся с небес на наши обнаженные головы, точно пепел крематория. Вонь была такой ужасной, что по сравнению с ней четыре деревянные бочки на конце помоста, в каковые Оби имел обыкновение бросать свежие тресковые печени, чтобы в жарких лучах солнца они растеклись жиром, прямо-таки приятно благоухали. Наша одежда, кожа, волосы становились липкими от миазмов давно скончавшейся трески, и, разумеется, каждый дюйм судна был покрыт густым слоем…»
В такой ситуации человеку требовался весь подручный оптимизм.
Однако даже весь наличествовавший на Ньюфаундленде оптимизм не мог заставить нас совершить невозможное, и по мере приближения дня приезда Джека мне уже не удавалось скрывать от себя, что маленькая шхуна не будет готова отплыть по расписанию.
К десятому июля она все еще не обзавелась необходимым рангоутом, снастями, парусами, вином и еще множеством абсолютно необходимых предметов. Нужного количества насосов у нее тоже не было. Поздно вечером десятого мы кончили смолить ее швы и красить днище и с приливом вывели ее к пристани. Она тут же продемонстрировала самую характерную свою особенность, как показало будущее. Она текла так, как ни одно судно, какие я только видел до и после. Где им!
Вода вливалась не через какие-то конкретные отверстия, а словно поступала в процессе прямо-таки дьявольского осмоса через все поры. Ее приходилось откачивать каждый час и между часами, только чтобы удерживать на минимальном уровне. О том, чтобы откачивать больше, чем ее вливалось, и вопроса не вставало: нас же было всего трое, и одновременно мы могли приводить в действие лишь три насоса.
Явное желание маленькой шхуны совершить харакири ничуть не беспокоило ни Еноса, ни Оби. От Еноса я услышал фразу, которая в течение нескольких следующих лет словно вечным эхо шелестела у меня в ушах.
– Суда Южного берега все маленько текут, как их на воду спустят, – мягко успокоил меня Енос. – А поплавают денек-другой – так и берут свое.
Как и во всем, что мне говорил Енос, доля правды тут была. Суда Южного берега свое, бесспорно, берут. Берут немыслимое количество соленой воды в трюм и берут львиную часть твоего времени на ее откачку. Фантастические бицепсы и трицепсы рыбаков Южного берега – вот лучшее тому доказательство.
Глава четвертая
Фарильон и Ферриленд
Адские дни в Грязной Яме и Сент-Джонсе меня, наверное, совсем доконали бы, если бы не семейство Морри в Ферриленде.
Ферриленд расположен неподалеку от Грязной Ямы, но, в отличие от своей соседки, остается пригодным для жизни по причине отсутствия там такой сомнительной радости, как рыбозавод.
О том, что я обосновался в Грязной Яме и по какому поводу, вскоре стало известно в Ферриленде, как, впрочем, и по всему Южному берегу. Однажды на обратном пути из Сент-Джонса «Страстоцвет» закатил истерический припадок: вдруг жутко зафыркал и лишился чувств возле беленого штакетника, огораживавшего большой дом на окраине Ферриленда.
Я направился к дому в поисках помощи, и в дверях меня встретил Хоуард Морри. Я открыл было рот, но он меня опередил.
– Входите, входите, мистер Моуэт, – загремел он. – Входите, выпейте чашечку чайку.
Хоуард тогда разменял девятый десяток, но я решил, что ему лет пятьдесят. Высокий, крепко сбитый, с румяным лицом без единой морщины, он был воплощением фермера-рыбака времен Дрейка. Жена его умерла, и он жил с долговязым неразговорчивым сыном Билли и словоохотливой снохой Пэт. Билл и Пэт держали небольшой магазин и занимались засолкой рыбы на продажу. У них было двое очаровательных детей – мальчик и девочка.
Морри, казалось, вполне понимали, каково мне приходится в Грязной Яме, и ревностно взялись облегчать мое существование. С этой первой встречи и до тех пор, когда я отправился в плавание, их дом был в полном моем распоряжении. Пэт потчевала меня сказочными обедами, всячески тиранила, и ее стараниями я редко ложился спать трезвым как стеклышко. Билл приобщил меня к старинным обычаям рыболовной гавани, отправлял меня в море на объезд ловушек, знакомил меня с искусством и тайнами засолки рыбы и обращал меня в свою яростную бескомпромиссную веру в важность человеческой преемственности во всем. Питер Морри, кончавший свой первый десяток, водил меня на длинные тайные прогулки «за городом» по тропам, проложенным Вольными Людьми, и вверх, на скалистые уступы вроде Дозорного, где из века в век женщины высматривали, не возвращаются ли корабли, или мужчины несли дозор, чтобы поднять тревогу, чуть над горизонтом возникнут паруса пиратов.
Однако воистину открыл для меня сердце и душу Ньюфаундленда Хоуард Морри. Хоуард принадлежал к тем редким людям, чье ощущение прошлого преображается в глубочайшую нежную причастность. Его прапрадед был первым Морри, обосновавшимся на Южном берегу, и все сказания, передающиеся по ступеням поколений, скопились в голове Хоуарда – и в его сердце.
В зрелые годы он получил тяжелую травму и на двадцать месяцев был прикован к постели. Он использовал это время для того, чтобы записать все, что он слышал и помнил о Ферриленде, в тридцати школьных тетрадях. А когда совсем поправился и снова начал выходить в море, он зашвырнул это бесценное сокровище в какой-то чулан, где на тетради наткнулись дети и с их помощью развели веселый костер. Когда Хоуард рассказал мне об их судьбе, я пришел в ужас, а он только засмеялся:
– Ну и что? У меня ж все в голове записано до последнего словечка.
Хоуард не только знал историю Ферриленда за то время, пока там жила его семья, но знал – или чувствовал – ее до того века, когда она началась. То есть до очень далекого прошлого, так как Ферриленд – одно из тех мест на Ньюфаундленде, где патина человеческого обитания настолько плотна, что заметно смягчила каменный лик древней скалы.
Обширная, надежно укрытая бухта у подножия пологих, плавно поднимающихся вверх холмов, обрамленная широкой полосой сочных лугов, гостеприимно принимала кое-кого из самых ранних европейских посетителей Северной Америки. Баскские китобои и рыбаки в поисках трески укрывались в бухте Ферриленда задолго до конца XV века. В первые десятилетия XVI века бретонцы и нормандцы устраивали рыбачьи базы на ее пляжах. На старинной французской карте 1537 года она названа Фарильон. Однако французы явно появились там поздно, так как название это бухте и селению дали не они. Даже тогда Фарильон было всего лишь искажением более раннего названия.
Французы превратили Фарильон в постоянное селение и жили там, пока английские пираты не захватили его около 1600 года. В 1621 году лорд Балтимор избрал его центром грандиозной плантации, в которую намеревался превратить Ньюфаундленд. Однако высокородный лорд был подкаблучником. Его супруга возненавидела Фириленд, как он тогда назывался, и через два года убедила супруга переехать на юг, в места, которым предстояло стать штатом Мэриленд.
На протяжении последующих веков новые господа захватывали номинальную власть над селением и высасывали соки из его обитателей. Но обитатели эти, смешавшие в своих жилах кровь французов, англичан западных графств, жителей острова Джерси, а также ирландцев, занимались своим делом и уходили в море, почти не замечая тех, кто уселся им на шею. Крепкие, упрямые, невероятно закаленные, они выстояли в черные годы Рыбных Адмиралов, когда английские монархи склонились перед требованиями влиятельнейших рыбных дельцов на Старой Родине и постановили, что на новых землях никто не смеет селиться, что остров должен служить лишь сезонной базой для команд английских кораблей.
Тем не менее жители Ферриленда отстояли родные дома. Они отстояли их от бесконечных нападений французов, обитателей Новой Англии, португальцев и просто пиратов. Они держались за них с упорством ракушек, всверлившихся в корабельное днище. Несколько раз Ферриленду приходилось стоять насмерть, когда его атаковали и с моря и с суши. Но он выжил. Он и его жители продержались более четырех веков. Когда я познакомился с ним в начале шестидесятых, сущность его практически оставалась почти такой же, какой, вероятно, была при его возникновении. У Хоуарда был неиссякаемый запас рассказов, иллюстрировавших природу плавильного котла, создавшего его земляков. Например, история о Вольных Людях.
На протяжении XVIII века команды английских рыболовных судов состояли главным образом из людей, которых гнал в море голод, или же они попались на удочку «вербовщиков», обманом обрекших их на тяготы долгого плавания через океан. И многие из них, оказавшись на Ньюфаундленде, не желали вернуться на родину. Местные «плантаторы» обходились с ними как с рабами, и подобно спартанским рабам они бежали из маленьких портовых селений в угрюмые внутренние области острова.
Там они создали собственное общество, и оно просуществовало сотню лет. Они стали разбойниками в романтической традиции Робина Гуда, жили в лесах и грабили богатых, чтобы не только обеспечивать себя всем необходимым, но и помогать угнетаемым рыбакам на побережье.
Внутренняя область полуострова стала Краем Вольных Людей. В их владения рисковали вторгаться только вооруженные до зубов отряды королевских солдат. Тайные тропы вились повсюду, а поселки Вольных Людей прятались в десятках глубоких долин, одна из которых находилась всего в пяти милях от Ферриленда, укрытая могучим холмом, носившим название Горшок Масла.
Вольных Людей не разгромили и не подчинили – мало-помалу они смешивались с поселенцами на побережье, и их кровь тоже струится в жилах жителей Южного берега.
В рассказах Хоуарда Морри эти люди и подобные им вновь обретали жизнь, пока он совершал со мной экскурсии по берегу в портовые селения вроде Медвежьей бухты, Ла-Манша, Адмиральской бухты, Каппахейдена, Продления, Фермьюза, Аквафорте, Болиня и многие другие с не менее странными названиями. Однако средоточием его любви оставался Ферриленд.
Как-то днем он повез меня на остров Буа, отгораживающий вход в гавань Ферриленда. Когда-то остров был лесистым, но эти дни канули в Лету. Теперь на нем деревья не растут, и он кажется порождением буйной фантазии.
Это величественная крепость, то ли забытая, то ли не интересующая официальных историков, известная лишь горстке людей вроде Хоуарда. По верхнему краю почти вертикальных обрывов тянется кольцевой земляной вал. По меньшей мере пять батарей все еще грозят черными жерлами пушек, чернеющих за пышными мхами, испещренными птичьим пометом. Все еще сохраняются остатки арсеналов, жилых домов и даже старинного колодца. По словам Хоуарда, впервые островок был укреплен французами до 1600 года. К 1610 году его захватил английский суперпират Питер Истон, и с тех пор воздвигались все новые укрепления, пока островок не стал практически неприступным и дал ключ к загадке, почему Ферриленд сумел продержаться так долго.
На мелководье у нижнего конца огромной расселины еще ржавели двадцатифунтовые каронады XVII века – там, где корсар XVIII века попытался забрать их из временно покинутого форта. А в остальном все как будто оставалось не потревоженным с того момента, когда форт перестал жить. И никаких гидов, никаких ухоженных дорожек, никакой претенциозной реконструкции. Истинная реальность былого, лишь притемненная, но не стертая промелькнувшими столетиями.
Когда уйдут из жизни люди, подобные Хоуарду Морри (а их так мало в любых краях!), с ними безвозвратно исчезнет почти все богатейшее и живое человеческое прошлое Ньюфаундленда. И придет конец укладу жизни четырехсотлетней давности.
Я считаю себя редкостным счастливчиком, раз мне представился случай приобщиться к этому укладу – к жизни ловца трески. Как-то утром в четыре часа Хоуард поднял меня с пуховой перины, накормил потрясающим завтраком и повел в темноте к концу помоста, где мне предстояло пополнить команду объездчика ловушек, состоявшую из четырех человек.
Я оказался на небольшом широком судне, оснащенном одноцилиндровым мотором в пять лошадиных сил. Было тихо и холодно, когда мы застрекотали к выходу из гавани. В темноте нам аккомпанировал приглушенный стрекот десятка-другого «однотактников», увлекающих невидимые суденышки в открытое море.
Нам предстояло посетить две ловушки. Упрощенно говоря, ловушки эти представляют собой огромные «ящики» из сетей со сторонами до пятидесяти футов. У них есть дно, но нет верха. От «двери» в одной из сторон тянется длинная, вертикально подвешенная сеть, направляющая медленно плывущую треску в ловушку.
Сооружение это закреплялось на морском дне большими коваными якорями – последним, что осталось от старинных и забытых кораблей.
Наша первая ловушка была установлена в девяти фатомах за островом Буа, и мы добрались до нее с первыми лучами рассвета. Наш шкипер, пока мы все перегнулись через борт, вглядываясь в черную воду, проверил ловушку джиггером – шестидюймовой свинцовой рыбкой с двумя огромными крючками, подвешенной на конце толстой лески. Он опустил джиггер в ловушку и резко его выдернул. С первого же раза он подцепил отличную жирную треску и втащил ее, переливающуюся жемчужным блеском, на борт.
– Сгодится, – сказал он. – Ну-ка, поднажмем, ребята.
И мы поднажали. Чтобы затянуть сеть, а затем справиться с колоссальным весом веревок и канатов, понадобились дружные усилия всех нас пятерых, и прошло полчаса, прежде чем, поддерживаемая поплавками на поверхности, она «пошла мешком». По мере того как мы перетягивали охапки воняющих смолой, ледяных на ощупь веревок через планширь, мешок все уменьшался и уменьшался и вода внутри его начала бурлить. Отличный улов. В ловушке было двадцать-тридцать квинталов[1] первосортной трески, без толку бившейся о ее ячеи.
Один из нас, молодой человек лет двадцати, не больше, орудовал за бортом, стоя на пляшущей плоскодонке. Ему было трудно удерживаться в такой позе, так как со стороны океана накатывалась крупная зыбь. Веревка неожиданно дернулась, он потерял равновесие, и его правая рука оказалась между бортом плоскодонки и судном в тот момент, когда они смыкались. Раздался треск ломающихся костей. Он тяжело сел на банку своей плоскодонки и поднял руку, оглядывая ее. Она уже была вся залита кровью. Часы, недавно купленные, которыми он очень дорожил, были полностью раздавлены и глубоко впились в запястье.
Он выпустил веревку, отлив начал быстро уносить плоскодонку от нас. Наш шкипер крикнул, чтобы мы бросили ловушку – он сейчас заведет мотор, но паренек возражающе крикнул:
– Не валяйте дурака! Я справлюсь. Рыбу-то не упустите!
Другой рукой он опустил весло в воду, подцепил веревку, а потом, одной рукой и зубами перебирая ее, подтянул плоскодонку к судну. Мы втащили его на борт, но он не позволил нам отойти от ловушки, пока из нее не вычерпали последних рыбин и судно не осело в воде почти по планширь. На протяжении всего этого времени – около двадцати минут – он сидел на машинном люке, следил за нами и улыбался, а рукав его толстой фуфайки все больше намокал кровью, и она стекала на его непромокаемые брюки.
Когда мы причалили к помосту, было десять часов, солнце стояло уже высоко и сильно припекало. Пэт Морри встретила нас с грузовиком, и мы отвезли паренька к врачу, который вправил кости и наложил шестнадцать швов на рану. Я поехал с ними, и, когда мы выходили из приемной, паренек сказал мне:
– Шкипер, я вам утро-то не испортил?
Нет, не испортил. Но где я мог найти слова, чтобы сказать ему, какой он человек? И он страшно смутился бы, попробуй я.
Всякий раз, когда я ночевал у Морри, утро заставало меня на помосте, куда я приходил встречать возвращающихся объездчиков ловушек. И неизменно ко мне там присоединялись дядя Джим Уэлч и дядя Джон Хокинс. Им было восемьдесят восемь и девяносто лет соответственно. Оба всю жизнь занимались ловлей рыбы, но, как сказал дядя Джон: «Для этого дела мы чуть староваты стали. Уже не годимся для него». Тем не менее они вполне еще годились, чтобы обозревать каждое причаливающее судно, отпускать ядовитые замечания касательно количества и качества улова и держать в узде «молодых парней» (отцов семейств сорока-пятидесяти лет). Дядя Джон впервые вышел в море джиггеровать рыбу с отцом, когда ему сравнялось восемь. И начал свою карьеру поздновато. Дядя Джим ловил рыбу с шести лет.
Запас индивидуальных жизнеописаний, хранившихся в памяти Хоуарда Морри, был неисчерпаем, и все они были сплетением комичного и трагического, ведь обычная жизнь всегда такое сплетение. Как-то вечером мы заговорили о патерах Южного берега (там почти все жители – католики), и Хоуард поведал мне историю Билларда и козла.
На Южном берегу все сажали картофель, и Биллард особенно гордился своим полем. К несчастью, его сосед держал коз, а козы тоже любят картошку. Как-то утром Биллард копал свою, сгорбив спину, вглядываясь в торфяную землю, и не заметил, как подошел священник. Святой отец остановился, положил руки на забор и осведомился:
– Картошку копаешь, Биллард?
Биллард покосился из-под кустистых бровей – священника не заметил, зато узрел янтарные глаза особенно нахального козла, который поглядывал на него через забор в другой стороне.
– Да, сукин ты сын! – свирепо ответил Биллард. – А без тебя ее куда больше было бы!
В тот же вечер Хоуард рассказал мне совсем другую историю. Сто семьдесят лет назад в Ферриленде появился мужчина средних лет. Сбежал с рыболовного судна. Один из «ирландских юнцов», как называли без различия мужчин и юношей любого возраста, которые, спасаясь от голодной смерти в Ирландии, завербовывались на английские рыболовные суда или шли в кабалу к ньюфаундлендским плантаторам.
Феррилендцы приняли его дружески, но он был одержим страхом – «тронутым». Его преследовала мысль, что он будет схвачен и вновь отдан в кабалу. В поселке он прожил несколько месяцев, женился на молоденькой девушке, завел собственную рыбачью лодку, но страх не оставлял его. И осенью он забрал жену, двух младенцев и погреб вдоль берега до скрытой бухточки, в которую рискнуло бы войти не всякое суденышко, не говоря уж о больших кораблях. Там он построил лесную хижину и повел жизнь изгнанника.
Раза два в год он отправлялся на своей лодке в Ферриленд и обменивал засоленную рыбу на необходимые припасы. И вновь исчезал. Если не считать этих редких поездок, он, его жена и подрастающие сыновья жили будто единственные люди на земле. Кормились они ловлей рыбы, а на мясо убивали карибу и уток и выращивали картошку на крохотном отвоеванном у мхов участочке под морскими обрывами, которые охраняли их от остального мира.
Однажды утром в феврале мужчину разбил паралич. Две недели жена выхаживала его, но ему становилось все хуже. В конце концов она решила, что без помощи ей не обойтись. Поручила мальчикам (одному было десять, другому – девять) ухаживать за отцом и отправилась в лодке на веслах до Ферриленда, до которого от их бухточки было без малого сорок миль. Зима выдалась холодная, и льды были особенно опасными.
Она проплыла пятнадцать миль, но тут начался шторм, погнал льдины к берегу, так что лодку раздавило. Женщина добралась до берега пешком по льду. Затем вскарабкалась по оледенелому обрыву, переплыла или перешла вброд несколько речек и в конце концов добралась через лесные сугробы до Ферриленда.
У нее не сразу нашлись силы рассказать, что привело ее туда; и миновало семь долгих дней, прежде чем шторм – завывающий северо-восточный ураганный ветер – настолько стих, что несколько рыбаков смогли добраться до дальней потаенной бухты вдоль припая.
Их встретили два мальчика, онемевшие от застенчивости при виде стольких незнакомых лиц. Рыбаки поднялись в хижину, где царили уют, тепло и полный порядок, но кровать стояла пустая. Они спросили мальчиков, где их отец, и старший, десятилетний, повел их к сараюшке на некотором расстоянии от хижины. Они открыли дверь и увидели пропавшего.
Он был подвешен за ноги к потолочной балке, аккуратно освежеванный и расчлененный.
– Понимаешь, как оно вышло-то, – объяснил Хоуард. – Мальчишки же никогда прежде не видели, чтоб человек умирал. Зато видели, как их отец свежевал и разрубал на части убитых оленей. Ну и бедные малыши решили, что так полагается поступать с мертвыми, будь то человек или зверь. Постарались сделать как лучше…
Глава пятая
Корсеты, треска и несварение желудка
Время, которое я проводил у Морри, было, увы, мимолетным. А почти все свои дни я отдавал (и дни, и ночи тоже) бестолковым усилиям превратить немыслимый кошмар в сносную реальность. Дни шли, а работа словно топталась на месте. Меня все больше преследовала мысль, что Еносу, Оби и мне суждено провести всю оставшуюся нам жизнь на коленях среди рыбьих останков и обманутых надежд. Дни скользили – в буквальном смысле слова, и вот как-то утром приблизился момент истины.
Наступил день, когда Джек должен был прилететь в аэропорт Сент-Джонса из Торонто. Занялась заря того Дня, когда ему предстояло первое свидание с маленькой шхуной.
Направляясь на «Страстоцвете» к серому городу, я пребывал в унынии и был полон дурных предчувствий.
Однако порой черная Судьба, тяготеющая над нашими жизнями, внезапно жалостливо щадит своих жертв. В это утро Южный берег заволокло туманом. Поскольку заволакивало его так почти каждый день, я не обратил на туман никакого внимания. И только когда я пролавировал через город до аэропорта и услышал там, что из-за тумана все рейсы на ближайшие дни отменяются, до меня дошло, что я получил отсрочку!
Я тут же поспешил к синоптику. Он согрел мне сердце и преисполнил меня радостью, предсказав, что из-за тумана аэропорт останется закрытым еще несколько дней.
– А сколько? – спросил я.
– Трудно сказать, старик. Не меньше недели, это уж точно.
Чувствуя, что у меня гора с плеч свалилась, я сочинил записку Джеку с объяснением, что в Грязной Яме телефонов нет и я не смогу узнать, когда он прилетит. И, добавил я, на шхуне требуется кое-что доделать, а потому мне нет смысла ездить в Сент-Джонс наугад, на случай, что Трансканадской компании все же удалось отыскать этот город и осуществить там посадку рейсового самолета. Я посоветовал ему по прибытии взять напрокат грузовичок (предпочтительно с приводом на все четыре колеса), забрать мои заказы в корабельных лавках – там-то и там-то – и самому добраться до Грязной Ямы. Эти инструкции я оставил у девицы в справочной Трансканадской авиакомпании.
Кто-то может удивиться, зачем Джеку обязательно понадобилось лететь, почему он не воспользовался железной дорогой. Но если найдутся такие, значит, они понятия не имеют о ньюфаундлендской железнодорожной сети.
Сеть эта исчерпывается узкоколейкой, протянувшейся на пятьсот миль по большей части через необитаемую глушь – от Порт-о-Баска до Сент-Джонса. И это антикварный памятник иного века, иной эпохи. Расписание настолько прихотливо, что в каждом вагоне под сиденьями помещают большие деревянные ящики. В них хранятся аварийные запасы на случай, если поезд где-нибудь застрянет. Имеются вполне официальные сведения, что одному поезду понадобился месяц, чтобы пересечь остров.
Самые длительные задержки обычно случаются зимой, но и в любое время года поезд может встать надолго по целому ряду причин: туман, такой густой, что машинист не видит, куда ехать; самец-лось в брачный сезон вызывает локомотив на неравный поединок (неравный потому, что лось редко выходит из него победителем); взрывается котел; задувает ураганный ветер, способный сбросить вагоны под откос; заблудятся пассажиры, пошедшие по ягоды, пока поезд одолевал подъем, и так далее и тому подобное. Недаром же канадские солдаты, стоявшие в Сент-Джонсе во время войны, дали поезду его бессменное прозвище – Ньюфаундлендская Пуля.
В вагонах Пули случалось немало хватающих за сердце происшествий, но, пожалуй, ни одно не побьет трогательностью случай с молоденькой девушкой, которая выехала из Порт-о-Баска на восток. Шли дни, и она все больше и больше тревожилась. Всякий раз, когда проводник проходил через вагон, она останавливала его и с волнением спрашивала, долго ли еще им ехать. Ему, естественно, это известно не было, и в конце концов, потеряв терпение, он осведомился, с чего она так торопится.
Целомудренно потупившись, она ответила, что ждет ребенка.
– Так зачем вы на Пулю-то сели, раз вы в положении! – негодующе вскричал он.
– Ах, сэр, – ответила она, – когда я садилась, то еще не была в положении.
Джек Макклелланд предпочел не рисковать и потому выбрал самолет.
Конечно, я мог бы догадаться, что Судьба просто посмеялась надо мной, посулив недельную передышку. Утром после возвращения из Сент-Джонса я отправился с Оби на «Страстоцвете» в Башмачную бухту, дальше по побережью, в уповании разжиться там стеньгами и реями для шхуны. Перед полуднем мы оба чуть не ослепли, когда нам в глаза ударило солнце, вырвавшись из тумана, полог которого унесся в море. Далеко-далеко в Сент-Джонсе люди останавливались на улицах перекинуться словечком с друзьями, которых не видели столько дней, и задирали головы, услышав непривычный рев авиационных двигателей.
Я так и не сумел решить, радоваться ли мне, что меня не оказалось на месте, когда Джек приехал в Грязную Яму, или горько пожалеть об этом. Я не был свидетелем сцены, которая теперь вошла в фольклор Южного берега.
Самолет Джека приземлился в Сент-Джонсе в двенадцать пятьдесят. Он высадился, получил мою записку и немедленно начал действовать. Он такой. Действует без промедления. Правда, на этот раз кое-какое промедление все-таки было, так как он недавно «потянул спину», а потому под модной курткой и брюками из акульей кожи на нем было жуткое приспособление из резины, стали и китового уса, при виде которого затягивавшиеся в рюмочку викторианские дамы позеленели бы от зависти.
Но тем не менее действовал он с таким успехом, что уже через два часа катил к Грязной Яме. Но пока он катил на юг, его энергия несколько амортизировалась, зато вовсе вышли из строя амортизаторы новехонького ярко-красного, в хромированных молдингах «бьюика» с открывающимся верхом, единственного такого автомобиля на острове, который он умудрился взять напрокат в лучшем гараже Сент-Джонса с обычным своим талантом подавлять и отметать сомнения тех, с кем имел дело.
В семь часов он достиг Грязной Ямы. На рыбозаводе как раз кончилась смена, и десятки девушек в белых передниках и резиновых сапогах, а также мужчин в комбинезонах и резиновых сапогах хлынули на воздух из смердящего здания, завершив очередной день рабского труда там. И остановились как вкопанные, когда раздался оглушительный вопль клаксона.
Сперва они подумали, что в гавань вошло неизвестное судно; но затем девушка увидела над спуском к поселку вспышку лучей заходящего солнца на хромированном чудовище.
Такого никто из обитателей Грязной Ямы еще никогда не видел. Пока они смотрели, пригвожденные к месту, огненное видение перевалило через гребень, и это подействовало на них как удар электрического тока. Сотни рук принялись отчаянно махать, хриплые голоса слились в едином вопле.
Джек за рулем красного мастодонта пришел в восторг.
Он счел, что жители Грязной Ямы приветствуют его. И еще он думал, что по-прежнему находится на плохо обозначенной дороге, которая ведет вниз по каменистой осыпи к берегу бухты.
Оба его вывода были ошибкой. Дороги не существовало, и жители изо всех сил старались поставить его в известность об этом факте.
– Сынок! – услышал я после от одного очевидца. – Такое чудо увидать!
Тут следует объяснить, что на Ньюфаундленде слово «чудо» все еще означает то, что означало в старину, – чувство удивления, благоговения.
Первые несколько ярдов машина преодолела без происшествий, затем склон внезапно стал много круче, и, хотя Джек, успев заподозрить что-то неладное, нажал на тормоза, было уже поздно. Вниз помчался красный бегемот, пренебрегая валунами, не замечая всякие там штакетники на своем пути, с самозабвением слона, обезумевшего от гашиша. Из него вылетало то одно, то другое. Две тридцатигаллонные никелированные цистерны (одна для воды, другая для топлива), которые вольно возлежали на заднем сиденье, взмыли ввысь и описали сверкающие параболы в вечернем воздухе. Багажник открылся, и скромный багаж Джека для морского путешествия – пять чемоданов и разная мелочь – покинул корабль.
Внезапно все кончилось. Машина замерла. Ее сияющий радиатор погрузился в заднюю стенку овчарни. Долгую минуту зрители сохраняли полную неподвижность. Но не успели они кинуться на выручку, как Джек вышел из облачка пыли, заклубившегося над протараненной овчарней.
Как и следовало ожидать от человека, который, командуя торпедным катером, однажды попытался пробить новый проход в гавань Сент-Джонса сквозь четырехсотфутовую гранитную скалу, он ничуть не утратил хладнокровия. Как ни в чем не бывало он проделал пешком остававшийся спуск по склону. С такой беззаботной небрежностью, словно поднимался на борт роскошной яхты, стоящей у устланного ковром причала Королевского яхт-клуба на острове Уайт.
Енос нервно пошел ему навстречу. Его ошарашило эффектное прибытие Джека. И вместо того, чтобы отвести его к себе домой, налить ему стаканчик и задержать там до моего возвращения, Енос покорно подчинился властному требованию Джека немедленно проводить его к шхуне.
Енос повел великолепного гостя прямо на помост. Джек сделал три шага по пропитанным жиром жердям, наступил на разложившийся кусок тресковой печени и потерял равновесие. В ужасе Енос и еще двое-трое прыгнули не к нему, а на него и в неуклюжей попытке помочь встать столкнули его в воду.
Хотя с тех пор пролетело много лет, Джек все еще не желает обсуждать этот эпизод. Утверждает, что вообще его не помнит. Подозреваю, это умственное затемнение явилось результатом забот, которыми его в тот вечер окружили Енос и семь энергичных дочерей Еноса. Напряжение нескольких часов в жаркой кухне, где его насильственно кормил выводок из семи валькирий, а одет он был только в корсет да кое-как завернут в одеяло и тщетно пытался установить контакт с восемью людьми, которые изъяснялись на неизвестном языке, – это ли не причины для потери памяти?
Мы с Оби вернулись в Грязную Яму за полночь. К счастью, Джек уже крепко спал, и я забрался в свой спальный мешок с тяжелым сердцем и сильными сомнениями относительно грядущего дня.
Разбужен я был спозаранку. Над моим ложем наклонился Джек, облаченный в одеяло и чем-то озабоченный.
– Привет! – сказал он и добавил изнемогающе: – Где тут, черт побери, туалет?
Не следует забывать, что Джека сформировали очень хорошая частная школа, принадлежность к старинной торонтской семье и жизнь, исполненная если не роскоши, то всяческого комфорта. Он не принадлежит к племени закаленных первопроходцев. Ему дороги его удобства. Он к ним привык и без них чувствует себя неуютно.
Однако жилища Грязной Ямы удобствами особенно похвастать не могут. Внутри их туалетов нет, снаружи туалетов тоже нет. Дамы держат под кроватями фаянсовую ночную посуду, а мужчины – нет. Это представляется дискриминацией, даже жестокостью, пока вас не посвятят в тайну мужского населения маленьких рыбачьих портов.
Когда я сам в первый раз оказался на Ньюфаундленде, мне потребовалось несколько дней, чтобы проникнуть в эту тайну, – несколько дней неизбывных страданий. Однако я стал членом братства и мог избавить Джека от мук самостоятельных поисков.
– Привет! Хорошо выспался? Да? Ну так спустись на помост – ну, на пристань из жердей. На конце ближе к берегу увидишь сараюшку. Ее называют рыбным складом, и она имеется у каждого рыбака. Войдешь и увидишь дыру у разделочного стола, куда они бросают тресковые потроха. И да! Захвати с собой бумагу.
На лице Джека отобразилась происходившая в нем борьба. Меня растрогал его молящий взгляд, но необходимость требовала непреклонности.
– Послушай, – сказал я мягко, – выбора у тебя нет. Разве что проберешься в спальню девочек и позаимствуешь ночной горшок. – (Все семь дочерей спали в одной комнате на двух кроватях.) Джек содрогнулся. – А что до великого безмолвия и безлюдья – забудь! Будешь развлекать пять-шесть мальчишек и столько же собак; они возникнут ниоткуда, едва ты решишь, что пребываешь в одиночестве.
Джек испустил легкий стон, бросил на меня тоскливый взгляд и устремился к двери. Отсутствовал он долго, так что девочки успели встать и затопить плиту. Когда он вернулся, они уже стряпали завтрак.
Я сочувствовал Джеку, горячо сочувствовал. В памяти у меня жило первое мое посещение рыбного склада: сидя на корточках под ударами ветра и над водой в окружении благоуханных лоханей с засаливающейся треской, я имел неосторожность посмотреть вниз и узрел собрание керчаков, камбал, крабов и угрей, которые с надеждой взирали на меня с мелководья.
Каким тяжким ни было это испытание, Джек сумел встать выше его. Но он чуть не хлопнулся в обморок, когда его обдал аромат завтрака. Он гурман и очень разборчив в еде. К тому же у него слабый желудок.
Он до боли стиснул мой локоть и хрипло шепнул мне на ухо:
– Во имя всего святого, Что Это Такое?
– Это, – бодро ответил я, – национальное ньюфаундлендское блюдо. Особый знак уважения к гостям. Называется рыбное хлёбово.
– В первый раз слышу! А из чего оно?
– Ну, собственно говоря, это мешанина. Берешь черствый хлеб или морские сухари, замачиваешь их с вечера, чтобы они размякли, а мучные черви всплыли. Берешь вяленую рыбу и тоже замачиваешь с вечера – «смачиваешь», как тут говорят. Затем варишь рыбу вместе с черствым хлебом, а когда они уварятся в кашицу, вливаешь чашку растопленного еще горячего нутряного сала, а затем…
Я не докончил объяснения: Джек уже умчался вновь навестить керчаков и угрей.
На исходе утра, когда с помощью джипа и полдесятка крепких миниатюрных лошадок мы извлекли «бьюик» из овчарни и отбуксировали на гребень, какие-то латентные остатки совести побудили меня честно объяснить Джеку положение вещей. Я сказал, что в самом лучшем случае оснастить шхуну для плавания раньше чем через две недели нам не удастся. И добавил, что и тогда выйти на ней в море будет очень и очень рискованно.
– Если решишь отказаться, Джек, я тебя пойму. После всего, что ты уже вытерпел, и – говорить так говорить! – всего, с чем тебе придется мириться в море. Скажи только слово – и мы бросим чертову посудину валяться тут и вернемся в Сент-Джонс. Оттуда еженедельно сухогрузы направляются в Карибское море, и ближайший отплывает как раз завтра. Мы можем быть на борту еще сегодня вечером.
Джек помолчал. Поглядел вдаль, за гавань, за помосты и рыбные склады, за угрюмые береговые обрывы, на серую пустоту надвигающегося тумана и темную воду – и тогда, к вечной своей славе, ответил:
– Как бы не так! Думаю, я заполучу такое несварение желудка, какого медицина еще не знает. После вчерашнего моей спине уже не излечиться. Возможно, Фарли, мы пойдем ко дну, едва выйдем в море на этой фантастической куче хлама, которую ты купил. Но, Фарли, мы отплывем на ней отсюда, даже если оба погибнем. А теперь – за работу!
Глава шестая
Пиратский налет
Джек приступил к руководству. Он пришел к выводу, что наша главная беда заключалась в отсутствии организованности, и первым делом устроил совещание на кухне Еноса. На совещании присутствовали Оби, Енос, я и неопознанный прохожий, который хранил молчание, направляя миниатюрные гейзеры табачной жвачки на горячую плиту, и они шипели, высыхая.
В самой лучшей своей председательской манере Джек объяснил, что мы слишком много времени теряли зря. Почти ежедневные поездки в Сент-Джонс совершенно не нужны, сказал он. Нет, мы составим исчерпывающий список всего, что необходимо для приведения шхуны в полный порядок, а тогда он отправится со мной в город, и, посвятив день интенсивным покупкам, мы запасемся всем, что может нам понадобиться.
А когда вернемся, мы вчетвером, работая по тщательно разработанному графику, хорошенько наляжем, и в самое короткое время шхуна будет готова к плаванью.
– Что же, господа, вы согласны? – Он бодро посмотрел на нас, ожидая одобрения.
Я поглядел на Еноса, а он поглядел на Оби, а он поглядел на свои резиновые сапоги. Никто ничего не сказал. Было бы бессердечно вылить ведро холодной воды на такой простодушный энтузиазм.
Мы с Джеком отправились в Сент-Джонс на следующий день – «Страстоцвет» тащил на буксире потрепанный «бьюик». В городе мы расстались – каждый со своим списком, – договорившись встретиться в шесть в баре на набережной. Джек отправился на джипе, а я, на опыте познавший сент-джонские невероятные заторы, предпочел пойти пешком.
В бар я вошел чуть раньше шести. Джек появился несколько минут спустя, и я узнал его лишь с трудом. Его золотистые, всегда безупречно причесанные волосы спутались в подобие швабры. Глаза кровожадно сверкали. Тик передергивал левую щеку, а дыхание вырывалось из груди со свистом.
Потребовались три двойные порции рома, чтобы он обрел силы рассказать мне, как провел день, но и тогда он коснулся лишь самых примечательных событий. Он поведал, как заходил в магазин за магазином, где редко видел покупателей, зато продавцы имелись в изобилии, и как у него на глазах все продавцы немедленно испарялись, будто он был разносчиком бубонной чумы.
– Дело в том, – сочувственно объяснил я, – что в Сент-Джонсе продавец считает себя униженным, если вынужден обслуживать покупателя. И при всякой возможности избегает этого, чтобы не уронить себя в глазах общества.
Джек мрачно кивнул.
– Это еще пустяки. В конце концов, в скобяной лавке я сумел загнать продавца в угол, прежде чем он улизнул в подвал. Прижал к стойке с вилами и попросил у него – очень вежливо, учти! – пять фунтов двухдюймовых гвоздей. И, Фарли, знаешь, что он сказал? Боже ты мой! – Голос Джека поднялся почти до фальцета. – Он сказал, чтобы я оставил заказ, и они постараются выполнить его на той неделе!
– Тебе еще повезло, – постарался я его успокоить. – Обычно они отвечают просто, что у них этого нет, но в будущем году, возможно, будет. Или через год. Или…
– Это еще не все, – перебил Джек, и щека у него задергалась сильнее. – Проискав два чертовых часа, я наконец нашел винный магазин, и продавец даже стоял за прилавком. Я попросил у него ящик рома. И знаешь, что он сделал? Заставил меня заполнить заявление с просьбой выдать мне специальное разрешение, а потом послал меня в управление по контролю над спиртными напитками за этим разрешением. Я битый час разыскивал эту контору, а когда нашел, все разошлись на обед, хотя была уже половина четвертого, а потом явился какой-то сморчок и сообщил мне, что проклятое управление выдает разрешения только по средам!
– То-то и оно, Джек. Видишь ли, в Сент-Джонсе все продавцы и служащие нуждаются в частом и долгом отдыхе. Потому что просто надрываются на работе. И еще: у торговцев тут столько денег, что больше им ну никак не требуется. Просто не знают, куда их девать. Деньги для них – камень на шее. И что, по-твоему, они чувствуют, когда вваливается тип вроде тебя и начинает совать им кучу денег? Если они тотчас не соберутся с мыслями, так могут и взять их! Но в любом случае – что ты все-таки сумел купить?
Джек заскрипел зубами, сунул руку в карман куртки, выудил какую-то бумажку и швырнул ее на стол.
Квитанция штрафа за стоянку в неположенном месте.
Что до меня, то я мог бы назвать мой день вполне успешным. Из восьмидесяти с лишним предметов в моем списке я сумел приобрести целых шесть. Они лежали в сумке у моих ног. Шесть бутылок рома. Я отыскал тайного торговца спиртным, который еще не успел разбогатеть и готов был унижаться до сделок с покупателями. Дельцов, подобных ему, в Сент-Джонсе сыщется не много.
Поскольку большая часть того, что нам требовалось для шхуны, в Сент-Джонсе отсутствовала или нам не удавалось вырвать желаемое из цепких рук торговцев, мы научились делать то, что делали жители ньюфаундлендских портов на протяжении веков: мы начали импровизировать. Енос был в этом непревзойденным мастером. Когда нам понадобились вант-путенсы – железные полосы для закрепления вант, он набрал железного лома со старого разбившегося парохода и колотил по холодному ржавому металлу, используя в качестве наковальни валун, пока не изготовил очень даже сносные вант-путенсы. Детали помельче он делал из того, что ему удавалось найти в бесчисленных, пропитанных тресковым жиром ящиках, которыми заставлены рыбные склады всех рыбаков, – ящиках, хранящих всякий хлам, копившийся из поколения в поколение на случай, если он вдруг понадобится.
Порой нам приходилось отправляться на поиски в дальние места. Полый саркофаг, который Енос воздвиг на палубе, символизировал каюту – но без единого отверстия, которое пропускало бы свет, так что внутри было черно, точно в бочке с патокой. После долгих розысков мне таки удалось обнаружить в Сент-Джонсе торговца, который сквозь зубы сознался, что мог бы продать мне иллюминаторы – семьдесят пять долларов штука, – если я не против подождать шесть месяцев, пока он выпишет их из Англии. Поскольку я был против, выручил нас Оби.
В дальнем конце Южного берега на полуострове Кейп-Пайн у Оби были родственники. Кейп-Пайн – мрачный каменный язык, который далеко вдается в океанские пути. Он окаймлен рифами, а от морских валов его защищают гранитные обрывы. Он хвастает двумя населенными пунктами – крохотными поселочками, которые чудом лепятся на этих обрывах. Как тамошние люди добывают свой хлеб насущный, на первый взгляд кажется тайной: ведь у них нет гаваней, а стаскивать свои лодки с крохотных пляжей они могут лишь изредка – такие гигантские волны обрушиваются на эти берега. Однако жители Сент-Шоттса и Сент-Шорса (изначально Сен-Жака и Сен-Жоржа) живут припеваючи. У них весьма доходное занятие, хотя с посторонними они его не обсуждают. Правду сказать, посторонние не встречают в их бухтах радушного приема и им даже может угрожать опасность.
Дело в том, что обитатели Сент-Шоттса и Сент-Шорса в течение многих поколений зарабатывали себе на жизнь, устраивая кораблекрушения. В более вольные времена они посвящали этому высокому искусству все свое время. Бесчисленные корабли гибли у их берегов из-за досадной промашки своих капитанов, не сумевших распознать, что огонь, по которому они держат курс, вовсе не маяк Кейп-Рейс (двадцать миль восточнее), а лишь его превосходная имитация.
«В смерти жизнь!» – как, бывало, возглашал священник с обрыва, откуда он указывал своим прихожанам, как способнее снять груз с судна, которое разбилось, потеряв всю команду, на коварном прибрежном рифе.
Теперь, разумеется, славному духу вольного предпринимательства, находившему выражение в использовании фальшивых маяков, положен предел. Тем не менее все еще находятся суда, совершающие роковую ошибку без помощи со стороны и садящиеся на рифы Кейп-Пайна. Такие суда и их груз по закону принадлежат тем, кто их застраховал, но обитатели Сент-Шоттса и Сент-Шорса не соблюдают этого закона, как, подозреваю, и все прочие.
Мы с Оби отправились туда на «Страстоцвете» и ни на каком другом судне никогда туда не добрались бы, ибо почти на всем пути дороги вообще отсутствовали. Наше прибытие вызвало сенсацию: не только люди следили за нами из-за занавесок каждого дома – их примеру следовали круглые черные глаза длинноствольных ружей, предназначенных для охоты на тюленей, но пригодных и для разных других целей.
Оби вылез первым, был тут же опознан, и нас сразу же окружили толпы могучих великанов, которые говорили на языке, абсолютно мне непонятном, хотя к этому времени я уже немножко разбирался в ньюфаундлендских диалектах.
Однако язык не всегда так уж важен. Когда мы выгрузили несколько бутылок рома, выяснилось, что мы говорим на вселенском языке. Ночь мы провели в Сент-Шоттсе после короткой экскурсии в Сент-Шорс, и все это было чудесным сном, волшебной переброской во времени в более суровую и буйную эпоху. Например, одна старуха показала мне шкатулку красного дерева, до краев полную золотых монет, в том числе старинных испанских. Как я узнал, почти у всех в обоих поселках имелись такие же сбережения, укрытые в тайниках среди голых скал, – подстраховка в ожидании того дня, когда современные навигационные приборы наконец лишат этих людей возможности честно зарабатывать на жизнь в традициях своей семьи.
Когда наутро мы отправились домой, «Страстоцвет» был нагружен по самую ватерлинию. Мы везли восемь иллюминаторов, один из которых, двадцати дюймов в диаметре, с бронзовой рамкой, весил, наверное, фунтов сто. Везли мы еще столько бронзовой и медной арматуры для палубы и каюты, что ее должно было хватить на все наши нужды.
Кое-кто обзывает обитателей Сент-Шоттса пиратами. Возможно, они и правда пираты. Однако, если мне придется выбирать между пиратами Сент-Шоттса и пиратами Сент-Джонса, я знаю, кого выберу.
Большинство обитателей Южного берега тоже не скупились на помощь. Они и их предки веками зависели от милости торговцев, так что им было известно, с чем нам пришлось столкнуться, и они сочувствовали нашей нужде во всем.
И первым – Монти Виндзор, участливый человек с мягкой речью, который жил в большом, с многочисленными пристройками доме на крохотном, почти обособленном полуострове в Аквафорт-Харбор. Дом был и внушительным, и красивым, когда Виндзоры построили его двести лет назад, но теперь выглядел серым и грустным. Монти Виндзор был чуть ли не последним в Аквафорте, носившим эту фамилию. Он показал мне семейную Библию, в которой записывались даты рождения и смерти всех Виндзоров, начиная с 1774 года. Из мужчин мало кто умер в своей постели. Большинство погибло в море: одни – как рыбаки, другие – как матросы, третьи – как китобои, а некоторые – как корсары. Фантастическая старинная книга, поля которой были покрыты записями отнюдь не религиозными, но равно полезными.
В заключении Книги Чисел кудрявые выцветшие строчки излагали рецепт излечения «душилки» (дифтерита). Пациент должен был выкурить глиняную трубку, набитую пенькой (растрепанными волокнами смоленой пеньковой веревки), предварительно вымоченной в сере. Выкурив это зелье, он (или она) должен был выпить пинту черного рома прямо из бочонка.
Современные светила медицины презрительно фыркнут, но, по-моему, вирус или бацилла, способные выдержать такое лечение, – это уже какие-то суперсупермикроорганизмы. С другой стороны, любой человек, будь то мужчина, женщина или ребенок, оставшийся в живых после такого лечения, в любом случае изначально мог не опасаться никакой заразы.
Поколения Виндзоров держали завод для переработки китового жира, фабричку, где засаливалась рыба, и много больших рыболовных шхун, но теперь все это ушло в прошлое и остался только лабиринт обветшавших зданий на берегу бухты. Здания эти хранили память о былых эпохах, но, кроме того, они хранили всяческие сокровища для таких, как мы. Там мы извлекли на свет божий огромный двухлопастный медный винт, сделанный явно полвека назад, но точно подошедший к нашему моторному отсеку. Мы нашли десятки блоков для трехмачтовых шхун и достаточно блоков поменьше для нашего бегучего такелажа. Скобы, кофель-нагели, гаки, храпцы – ну чуть ли не все, что нам требовалось, – только и ждали, чтобы их обнаружили в пыльных углах виндзоровских зданий.
Споткнулись мы только на одном. Нам требовались два новых штага, и вот их-то найти не удавалось. На пляжах было полно старых мачт, как и на гниющих корпусах брошенных шхун, но все они были либо слишком велики, либо слишком стары. После четырех веков кораблестроительства, дровяного отопления и лесных пожаров на Южном берегу не нашлось бы ни единой корабельной сосны. Остались только искривленные черные ели. За одним исключением.
Напротив дома Монти, за узкой гаванью устремлялись к небу стройные, почти первозданные ели. Своего рода священная роща. Она принадлежала семье со времен первого ньюфаундлендского Виндзора и ревниво оберегалась поколениями его потомков как поставщица штагов, гафелей и прочего рангоута для виндзоровских шхун. Хотя шхуны эти уже давно исчезли, ели оставались священными. Пока они стояли нетронутые, гордые, сохранялась в неприкосновенности какая-то часть виндзоровского наследия. Во всяком случае, такими их видел Монти. Однако, когда он прослышал, что мы не можем найти штаги, он прислал нам в Грязную Яму приглашение навестить его.
Мы навестили – Джек и я, Оби и Енос, – и Монти повел нас вниз, к видавшей виды плоскодонке, последнему суденышку из всех флотилий, какими когда-то владели Виндзоры. На дне плоскодонки лежали два топора и веревки.
– Гребите-ка, ребята, к роще, – сказал нам Монти своим тихим мягким голосом. – Вон туда. Влезете на обрыв там, где увидите большую белую скалу, и прямо за кормой от нее найдете ели, такие прямые и стройные, лучше каких на острове нет. Срубите, что вам требуется. Только уж выберите без промаха самое наилучшее.
Мы сделали, как он сказал. На крутом склоне, в тени благоухающих смолой деревьев Енос метил жертвы, а мы их рубили, очищали от сучьев, скатывали хлысты к воде и буксировали через бухту. Я поднялся к Монти, чтобы заплатить ему, но он отмахнулся от денег:
– Да ладно, шкипер. Никому из нас уже сучочка из этого ельника не понадобится. Никому из Виндзоров, похоже, в море уже не ходить. А мне приятно будет знать, что рангоут на вашей посудинке надежный, виндзоровский. Ведь елки эти для того и росли.
Разборчивые яхтсмены наверняка брезгливо содрогнутся при мысли, что кто-то срубил дерево, а через два дня оно стало мачтой, еще слезясь смолой. Пусть их содрогаются. Мачты эти все еще на своем месте, когда я пишу эти строки, и дотянут до конца дней маленькой шхуны, ибо в мире нет дерева крепче, чем ньюфаундлендская черная ель, которая выросла на берегу океана. Правда, есть у нее одна особенность. Волокна не тянутся вертикально, как у деревьев, выросших в более благоприятных условиях. Противостоя мощи вечных ураганных ветров, береговая черная ель растет, закручиваясь штопором. Это придает ей большую крепость, но по мере высыхания древесина начинает раскручиваться. Для нас это означало, что обе наши мачты мало-помалу раскручивались и реи со всеми снастями поворачивались с ними. Против этого есть простейшее средство. Каждые месяца два мы просто отсоединяли ванты, поднимали мачты и снова их устанавливали, повернув на девяносто градусов. Только и делов.
Установка мачт стала в Грязной Яме подлинным торжеством. Чтобы отпраздновать этот момент, Джек побывал в Сент-Джонсе и, застав крючкотворов врасплох, умудрился-таки купить ящик рома.
Большинство обитателей Южного берега принимаются за ром, едва их отнимут от материнской груди, так что в зрелом возрасте успевают выработать значительный к нему иммунитет. Но не абсолютный. До того дня я успешно справлялся с ромовой ситуацией и дирижировал ею, ибо выдавал его порции, свято учитывая три заповеди распития рома на Ньюфаундленде. Заповедь первая: бутылку необходимо сразу откупорить, чуть ее поставят на стол. Смысл в том, чтобы «впустить в нее воздух, чтоб он унес черные пары». Заповедь вторая: откупоренную бутылку ни в коем случае нельзя снова закупоривать, так как считается, что тогда ром скиснет. Еще ни одна бутылка рома на Ньюфаундленде не скисала, но ни одна вновь не закупоривалась, так что проверить, насколько основательно такое поверье, остается невозможным. Заповедь третья: откупоренную бутылку необходимо выпить как можно скорее, «пока из нее сила не выдохлась». Усвоив эти заповеди, я принципиально ставил на стол только одну бутылку.
К несчастью, Джек заповедей не знал, а у меня недостало предусмотрительности предупредить его. Когда он вернулся из Сент-Джонса, я был занят в другом конце гавани. Он втащил ящик на борт, с нежностью вскрыл его и поставил все двенадцать бутылок на стол в каюте, точно двенадцать стройных солдатиков.
Енос и Оби спустились следом за ним, и потом Джек рассказывал мне, что рубиновое сияние бутылок в луче солнца, падающем через носовой иллюминатор, вызвало в их глазах очень странные отблески. Затем Джек сходил к джипу за другими покупками, а когда вернулся, все двенадцать бутылок стояли откупоренные, а пробки бесследно исчезли. Он поднялся на палубу, чтобы найти у Оби объяснение этому загадочному феномену, и Оби, как обычно обходясь без слов, кивнул на воду, где двенадцать пробок, увлекаемые отливом, уплывали в открытое море, точно кораблики, пущенные ребенком.
Вот тут-то вернулся я и сразу понял, что положение сложилось критическое: Джек закупоривал бутылки жгутиками туалетной бумаги за неимением ничего лучшего. Я объяснил, что подобное нарушение традиций, конечно же, приведет к мятежу и нас, вполне возможно, с позором изгонят из Грязной Ямы. Жребий был брошен. Пути к отступлению не было. Оставался только один выход.
– Послушай, – прошептал я, надеясь, что мой голос не донесется до палубы, – к середине дня каждая бутылка опустеет. Можешь не сомневаться: это железный факт.
А если осушат их только Енос с Оби, то в обозримом будущем работа не продвинется ни на йоту. Нам придется принести себя в жертву, Джек. Пей!