Сандро из Чегема. Том 2 бесплатное чтение
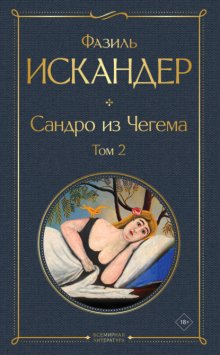
© Искандер Ф.А., наследник, 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Абхазия
Единственный владелец – Фазиль Искандер
1 – Встреча Сандро с принцем Ольденбургским
2 – Битва на Кодоре с деревянным броневиком
3 – Первая встреча Сандро со Сталиным на Нижнечегемской дороге
4 – Каштановая роща, которую Сандро продал Самуилу
5 – Санаторий, в котором стрелял Лакоба
6 – Здесь Махаз выпил кровь Шалико
7 – Кедр Баграта
8 – Сталин на ловле форели
Хранитель гор, или Народ знает своих героев
Мы вчетвером сидели на стволе поваленного бука и курили в ожидании машины. Здесь, на лесной поляне, образованной вырубками, стоял сильный запах свежей древесины. Справа, в конце поляны, виднелось деревянное строение, в котором помещались конторка лесорубов и ларек. Сейчас и то и другое было закрыто.
Возле конторки высились сложенные друг на друга розовые, свежеошкуренные бревна. Такие же глыбастые, громадные обрубки были разбросаны по всей поляне. Казалось, их вынесла из леса вода, потом схлынула, а бревна так и осели здесь. На самом деле их сюда приволакивают из леса на тракторах, а уж отсюда везут на машинах вниз, в город.
Два тяжелых грузовика, уже нагруженные, стояли у конторки. Оба шофера вместе с местными сванами ушли домой к одному из них. Шоферы, бывшие местные сваны, теперь живут в городе, и земляки при встрече с ними подвергают их ревнивой застольной проверке.
Это длительное застолье мы сейчас и пережидали, сидя на стволе поваленного бука. Мы не боялись, что шоферы напьются, потому что на этих высокогорных дорогах встретить пьяного шофера так же маловероятно, как встретить пьяного лунатика на карнизе высотного дома. Хотя с другой стороны, если установить наблюдение за карнизами высотных домов (а почему бы не установить? – пенсионеры-общественники с удовольствием возьмутся за это), в конце концов, может, и удастся обнаружить пьяного лунатика. Во всяком случае, здесь, на горных дорогах, я пьяных шоферов никогда не встречал. Слегка выпившие иногда попадались, но пьяные – никогда.
Вместе со мной на стволе сидели Котик Шларба, лектор сельскохозяйственного института, художник Андрей Таркилов и его друг из Москвы Володя, тоже художник.
Неделю мы провели на альпийских лугах, а сейчас возвращались в город. Вернее, ребята ехали в город, а я собирался спуститься до нарзанного источника, где должен был встретиться с дядей Сандро. Об этом мы с ним договорились еще в городе.
Сюда, к пастухам, нас пригласил родственник Андрея, заведующий колхозной фермой. Хотя самого заведующего к нашему приезду на месте не оказалось, мы чудесно провели время, может быть, именно потому, что его не оказалось на месте.
Представляю моих спутников в самых сжатых чертах.
Насколько хорош Котик, лучше, чем раньше, стало чувствоваться теперь, когда он стал несколько хуже. А хуже он стал с прошлого года, когда его сделали заведующим кафедрой у себя в институте. С тех пор он стал как-то осторожней, потерял часть своей непосредственности, точнее, установил за своей непосредственностью более строгий контроль. И все-таки он и сейчас парень хоть куда, а разойдется – так и вовсе забываешь, что у себя в институте он заведует кафедрой, одновременно заседая или даже восседая на ней.
По-моему, если человек от природы весел, неглуп, доброжелателен, то его не так-то просто сбить с толку какой-нибудь кафедрой. Конечно, кафедрой можно сбить человека с толку, но для этого нужно время, особенно если речь идет о таком живчике, как наш Котик.
Кстати, забавную вещь о кафедре рассказал мне один симпатичный архитектор. Он был приглашен к одному из министров легкой промышленности для переоборудования его кабинета в более современном стиле.
В обширном и светлом кабинете министра, обставленном тяжелой послевоенной мебелью, его поразили две вещи: вышивки, украшавшие спинку дивана, и трибунка, облицованная облупленной фанеркой. Такая кафедра, по его словам, была бы уместна в красном уголке пожарного депо, а не в кабинете министра.
Наш любознательный архитектор спросил у помощника министра, откуда эти вышивки явно кустарной работы. На это ему помощник ответил, что жена министра решила в связи с общей либерализацией утеплить казенную атмосферу в кабинете мужа. И вот, сказал он, двусмысленно вздохнув, либерализация кончилась, а вышивки остались.
Тогда мой знакомый архитектор очень осторожно решил выяснить у помощника, какой из двух смыслов в его двусмысленном вздохе он лично поддерживает. Тут, к унылому удивлению моего архитектора, оказалось, что помощник министра поддерживает оба смысла, потому что и тот и другой носят осуждающий характер.
Удовлетворив свое любопытство по поводу вышивок, архитектор стал громко выражать недоумение по поводу этой странной трибунки. Тут помощник министра ему разъяснил, что вообще-то она здесь обычно не стоит, но в последние дни она была сюда внесена по случаю того, что министр с ее помощью готовился к докладу.
Тут мой знакомый архитектор еще больше удивился и спросил, зачем министру трибунка, когда с докладом, составленным помощником, он может ознакомиться, сидя за своим обширным и удобным столом.
– Подход к кафедре тоже имеет значение, – сказал помощник и, переводя разговор, стал объяснять, как переоборудовать форточки в кабинете министра легкой промышленности, с тем чтобы они по красоте не уступали форточкам в кабинете другого министра, несколько более тяжелой, хотя и не самой тяжелой промышленности.
Он очень подробно объяснял, как это надо сделать, чем не только удивил, но даже обидел моего знакомого архитектора, известного своими талантливыми работами. По его словам получалось, что он уже сорок лет делает эти самые форточки и как-нибудь больше в этом понимает, чем оба министра обеих весовых категорий.
Вот о чем мне вспомнилось, когда разговор зашел о кафедре, который я же и завел, впрочем, без всякого злого умысла.
Что сказать об Андрее? Достаточно посмотреть на его картины, когда ему удается их выставить, как сразу же видишь, что таланта в нем столько, сколько молока в вымени хорошей коровы.
Бойцовский темперамент в его характере сочетается с ужасающей застенчивостью, которую он неизвестно где подцепил. Впрочем, я догадываюсь, откуда это в нем, но скучно было бы все это выяснять и разъяснять. В боксе таких ребят во время спарринговых боев тренеру не приходится горячить. Тем более на ринге.
Надо сказать, что застенчивость его иногда оборачивается невероятной агрессивностью и тогда его невозможно остановить. Обычно он взрывается на проявление хамства, а иногда на то, что кажется хамством его подвыпившей застенчивости.
В последнее время у него был довольно мрачный вид, но здесь, в горах, он сумел сбросить свои заботы и заметно повеселел. Мрачное состояние было вызвано реакцией на его картину, выставленную этой весной в художественном салоне.
Это довольно большое полотно изображало трех мужчин в синих макинтошах, стоявших у моря. В дальней перспективе виднелся призрачный мыс с призрачными, естественно, от большого расстояния контурами новостроек.
Чувствовалось, что художник увидел в изображенных людях какую-то силу зла и в то же время вложил в это изображение долю издевательства, тем самым как бы внушая, что сила зла, воплощенная в этих людях, мнимая. Или само зло мнимое?
Одним словом, впечатление от картины двоилось, троилось и самой своей множественностью как бы издевалось над зрителем, внушая ему мысль, что всякое его единственное решение будет неверным и потому глупым. В крайнем случае глуповатым.
А множественное решение обещает быть умным? Судя по всему, художник и такого обещания никому не давал.
Одним словом, в картине была (на мой взгляд, конечно) какая-то тайна, смягченная или, наоборот, осмеянная иронией художника. Так, у одного из троих из-под длинной штанины виднелась часть каблука, слегка напоминающая копыто, но опять же оставалось неясным, то ли дьявола, то ли осла. Возможно, одновременно и то и другое, то есть каблук напоминал дьяволистое копыто осла или ослеющее копыто дьявола.
У другого хотя каблук и не напоминал копыта, но вся нога, по-лошадиному расслабленная (имеется в виду поза задней ноги отдыхающей лошади), грозила в случае необходимости немедленно скопытиться.
У третьего, наоборот, вытянутые ноги кончались фотографически точно изображенными желтыми туфлями с бантиками шнурков, посверкивающими металлическими наконечниками. Ноги были вытянуты и симметрично раздвинуты носками врозь. И хотя они не только не грозили скопытиться в ту или иную сторону, но как бы полностью отрицали всякую идею развития, что-то в них было еще более неприятное, чем в ногах его товарищей. В самой позе и в выражении лиц этих двоих была та солидность, то спокойное ожидание исхода, какое бывает у людей, стоящих на эскалаторе. В данном случае можно было предположить, что это был эскалатор эволюции видов, только движущийся в обратном направлении: вот доедем до парнокопытных, а там и сойдем. Но почему же ноги этого третьего с их великолепными желтыми туфлями казались гораздо хуже? Первый раз с мурашками, пробежавшими по спине, я догадался, что дело в неестественно маленьком размере этих самых туфель. Могут ли ноги карлика удержать это взрослое туловище? И вместе с этим вопросом догадка и мурашки по спине: постой, да не мертвец ли это, поставленный на попа! Тогда почему у него такое улыбающееся, жизнерадостное лицо? Господи, да не обменялись ли эти трое головами?!
Картина называлась «Трое в синих макинтошах». На все вопросы Андрей морщился по своей привычке или отвечал, что ничего, кроме эффекта перехода цвета темно-синих макинтошей в синь гладковыбритых щек, его в этой вещи не интересовало.
Картина наделала много шуму, и в конце концов ее сняли до закрытия выставки. Впрочем, в нашем городе ее все успели посмотреть. В книге отзывов о ней писали больше, чем о всех остальных картинах, вместе взятых, хотя и среди остальных было несколько хороших полотен.
Большинство отзывов склонялось к тому, что на картине изображены три бюрократа. Честно говоря, я сам склоняюсь так думать, но сказать ему об этом я не решился, поскольку знал, что он может обидеться на такую прямолинейность.
Некоторые отзывы, на мой взгляд наиболее забавные, я тогда же переписал в блокнот. Вот они.
«Три макинтоша». – «Здорово! Здорово! Здорово!» (Следовали три подписи, из чего я заключил, что трое друзей по одному разу воскликнули свою оценку.)
«Так держать!» (Приказал некий сухопутный капитан, но расписался как-то уж слишком неразборчиво. Меня этот сухопутный капитан почему-то всегда раздражал больше всех остальных.)
«Картина хорошая, но почему трое именно в синих макинтошах?» (Страстно допытывалась какая-то женщина.)
Иные писали просто черт-те что. Так, например, выступил представитель народного контроля, вызвавший своим отзывом целый каскад ответных реплик. Он писал: «Если художник имеет в виду заведующих промтоварными складами № 1, № 2, № 3, то дело не в том, что они щеголяют в синих макинтошах, хотя это метко подмечено, а дело в том, что они отпускают дефицитные товары вплоть до джерси. И не надо было им головы маскировать путем обмена. От перестановки слагаемых, как говорится в народе, сумма не меняется».
«Позор товароведу Цурцумия!!!» – бросил кто-то гневную, но совершенно непонятную реплику. Можно было догадаться, что она написана под влиянием предыдущей записи, но, как впоследствии выяснилось, дело было сложней.
А вот запись молодого представителя рабочего класса:
«…Хорошая картина и правильная. Пока начальники в синих макинтошах прохлаждаются возле моря, стройка стоит и будет стоять. Я сразу узнал очертания Оранжевого мыса и начальника нашего СМУ. Он тот, который в середке, только художник ему другую голову приделал. И это мудро. У гидры бюрократизма отруби одну голову – вырастет другая…»
И подпись и адрес были выведены с полемической отчетливостью.
А вот еще один, последний отрывок из последней записи.
«…Я впервые на периферийной выставке и удивлен. Во-первых, почему каждый пишет что хочет, товарищи? Ведь этим могут воспользоваться те, которые разъезжают под видом туристов? Почему сами не догадались, почему все надо подсказывать, товарищи? Ведь я здесь отдыхаю случайно, хотя, разумеется, не случайно в санатории Министерства тяжелой промышленности. В Москве, например, сейчас на выставках…» Дальше шло описание того, как, по его мнению, теперь устраивают выставки в Москве, но об этом потом. Товарищ из тяжелой промышленности не только отчетливо подписался, но и указал номер комнаты в санатории, где он жил, что могло быть понято как приглашение для более подробной консультации.
Должен сказать, что до этой цитаты шел довольно-таки резкий отзыв о самой картине. Думаю, все это повлияло на то, что случилось позже.
Так или иначе в один прекрасный день в нашей газете прошел слушок, что картина Таркилова кому-то наверху не понравилась, что редактор кому-то уже заказал статью по этому поводу и она появится в газете, как только уедет с Оранжевого мыса один молодой принц из еще более молодого африканского государства.
Сначала никто не понимал, какая тут может быть связь между молодым принцем, отдыхающим на Оранжевом мысе по приглашению нашего местного президента, и нашей выставкой, но потом редактор наш, Автандил Автандилович, нам все объяснил.
Оказывается, принц еще окончательно не выбрал между нашим и американским путем развития своего несовершеннолетнего государства. Иногда он у нас отдыхает, иногда – во Флориде.
Это во‐первых. А во‐вторых, имелись сведения, что он коллекционирует картины. И хотя точно никто не знал, какого характера работы он выбирает для своих коллекций, было подозрение, что он из молодых, да ранний.
Конечно, было маловероятно, что принц, просыпаясь по утрам, первым делом хватается за нашу местную газету, но все-таки рисковать не стоило, тем более что через неделю он собирался уезжать к себе домой, не говоря о том, что и без этого произошел довольно-таки неприятный случай, из которого, кажется, удалось выкрутиться без особых потерь. Тут я беру тайм-аут и предоставляю слово своему земляку, с тем чтобы он рассказал об этом случае.
Рассказ моего земляка.
Пусть они на меня не обижаются, но у некоторых наших руководителей (местных, конечно) есть плохая привычка.
Чуть появится в наших краях какой-нибудь негритянский деятель, так тот, можно сказать, не успеет с трапа ступить на землю, как они ему говорят:
– А вы знаете, у нас свои негры есть.
В самом деле, у нас с незапамятных времен живут в селе Адзюбжа несколько негритянских семей. Ну, живут и живут. Раньше как-то никто на это внимания не обращал. Даже и теперь неизвестно, когда они к нам попали. Наверное, множество столетий назад. Одним словом, никто не знает.
Не то что о происхождении наших негров, мы о собственном происхождении мало что знаем. Кстати, еще в середине 30-х годов наш знаменитый ученый и писатель Дмитрий Гулиа пытался докопаться до нашего происхождения.
То ли глядя на наших негров из Адзюбжа, то ли по каким-то другим причинам он выдвинул гипотезу об эфиопском происхождении абхазцев. Ну, выдвинул и выдвинул. Да не тут-то было.
Почему-то эта гипотеза сильно не понравилась председателю Совнаркома Абхазии Нестору Лакобе. Вообще-то, несмотря на глухоту, Лакоба был остроумный человек, но эта гипотеза ему не понравилась.
– Сам ты эфиоп, – сказал Лакоба, отрывая слуховую трубку от уха. При этом он даже, говорят, дунул в свою слуховую трубку, как бы ополаскивая ее от нечестивого звука и одновременно намекая, что дважды ополаскивать ее от одной и той же версии не собирается. Разумеется, больше об эфиопской версии нашего происхождения никто не заикался.
А между прочим, уже совсем недавно, когда газеты запестрели именем несчастного Лумумбы, я подумал: а что, если старик Гулиа был прав? Лумумба – типично абхазская фамилия. Сравните – Агрба, Лакерба, Палба, а рядом далекая, но нашенская – Лумумба.
Не успел я додумать это интересное научное наблюдение, как в газетах появилось мрачное имя – Чомбе. (Между нами говоря, правильнее было бы сказать Чомба.) И главное, из того же Конго. С точки зрения научной добросовестности, признав Лумумбу нашим, я должен был то же самое сделать и с Чомбе. Но, спрашивается, зачем нам этот мракобес, что, у нас нет своих забот, что ли?
Пришлось, как говорится, довольно основательно наступить на горло собственной песне и оставить развитие эфиопской версии до лучших времен.
Так вот, значит, когда стали появляться в наших краях негритянские деятели из натуральных африканских государств, наши руководители при встрече с ними нет-нет да и не вытерпят, чтобы не сказать:
– А вы знаете, у нас свои негры есть.
Иногда это говорится во время банкета, когда надо поддержать непринужденный разговор на общую тему. Услышав такое сообщение в разгар банкета, некоторые африканские деятели, особенно из демократов, начинали, говорят, поспешно срывать со своего горла салфетку, понимая эту информацию как приглашение немедленно посетить своих братьев.
– Нет, кушайте, пейте, – спохватывается наш деятель, – я это просто так, к слову сказал.
Ничего себе к слову! Смотрит на приезжего негра, вспоминает про наших и еще говорит, что это просто так, к слову.
Разумеется, не все приезжие негры с такой родственной горячностью откликаются на это сообщение. Более монархически настроенные негритянские деятели, услышав такое, молчат или, что еще хуже, нагловато выпятив губу, отвечают:
– Ну и что?
– Как ну и что? – теряется наш товарищ, но сказать ничего не может – политика.
А между прочим, все началось с Роя Ройсона. В тот год Рой Ройсон отдыхал в Крыму. Ну отдыхает человек – ничего особенного. Так наши товарищи и туда, в Крым, проникли к Рою Ройсону и передали, что, мол, так и так, у нас с незапамятных времен живут негры.
Но, главное, говорят, спросите, как живут. «Как живут?» – спрашивает Рой Ройсон. А так живут, отвечают наши, что спросишь у них про суд Линча, они только лупают своими глазищами и говорят, что это такое, мы про такие глупости не слыхали. А спросишь про дискриминацию, опять лупают глазами, опять ничего не знают. Вот как у нас живут негры, говорят наши.
«Хорошо, что вы мне это сказали, – отвечает Рой Ройсон, – хотя я и сам догадывался, что если уж негры живут в Советском Союзе, то только так». При этом он как будто обещал, если будет время, заехать в Абхазию и познакомиться с жизнью местных негров.
Наши, конечно, обрадовались и давай мозговать, как получше принять замечательного певца, который, по слухам, прижимая к груди живого голубя мира, с такой нежностью поет негритянскую песню «Слип, май беби», что голубь в самом деле засыпает на глазах у публики. А знаменитый певец с улыбкой смотрит на спящего голубя и, продолжая держать его на вытянутой ладони, молча, одними глазами умоляет публику аплодисментами не будить спящую птицу. Но благодарная публика с этим никак не соглашается, и голубь во время перехода аплодисментов в овацию вздрагивает и просыпается. Он поворачивает во все стороны свою головку, стараясь вспомнить, где находится.
И вот, осознав, что он среди хороших, простых людей, голубь взлетает с ладони и летит под купол, тем самым лишний раз доказывая, что он живой, а не подделанный.
Этот его коронный номер до сих пор не могут ему простить империалисты всех стран, потому что их певцы повторить его не могут. Они пытались его оклеветать, указывая, что в дыхании певца имеется наркотическое средство, при помощи которого он якобы усыпляет доверчивую птицу. Но авторитетная комиссия, созванная обществом Красный Крест, после тщательной проверки дала заключение, что, к сожалению, ничего подобного нет, что Рой Ройсон исключительно голосом воздействует на эту древнюю музыкальную птицу. Так говорят люди, которые допущены к международной литературе по этому вопросу.
Ну, вот, значит, мозгуют наши, как получше принять знаменитого певца. Среди наших негров выбрали одного подходящего во всех отношениях для такого случая: и живет зажиточно, и семья большая, и на вид справный, не какой-нибудь там мозгляк. К тому же при должности, бригадир табаководческой бригады.
Все хорошо у этого негра, только один минус – нет собственной машины. Что делать? Быстро оформили через Совмин (наш, местный, конечно) новенькую «Волгу» как подарок передовому колхознику.
А между прочим, про то, что Рой Ройсон должен приехать, держали в полном секрете. Зачем раньше времени языками трепать. Просто намекнули, мол, как-нибудь заедем с одним высоким гостем, а кто он, не сказали.
– Хоть с высоким, хоть с низким, – отвечал им этот зажиточный негр, усаживаясь рядом с министерским шофером, – я и так вас принял бы, а теперь буду век благодарить.
– Еще бы, – сказали ему в Совмине, – поезжай и жди.
В общем, все получилось честь честью. Представьте, зеленый абхазский дворик с традиционным грецким орехом посредине, каменный дом на высоких сваях, возле дома новенькая «Волга» с задраенными окнами, чтобы куры не влетали… Вот, мол, хижина нашего дяди Тома, вот его бричка, а вот и он сам.
Кстати говоря, и без всего этого негры, как и все колхозники этого села, достаточно зажиточно живут, но наши-то меры ни в чем не знают, а прикрикнуть на них в этот исторический промежуток оказалось некому.
Одним словом, все оказалось честь честью, да вот беда – Рой Ройсон не приехал. То ли он подумал, что за наших-то негров он спокоен, вот за своих ему надо думать, то ли еще что. Да в сущности, он точного обещания никому не давал, это уж наши тут напреувеличивали.
Одним словом, в один прекрасный день в газетах появилась информация, что Рой Ройсон уехал к себе в Америку, где, по всей вероятности, будет преследоваться, как и прежде.
Наши приуныли. Как быть? Машину подарили, а он возьми и не приедь. А тут, как назло, этот зажиточный негр и вся его черно-белая родня, не говоря о детях, как очумелые шпарят на этой «Волге» и знать не знают о Рое Ройсоне.
Я забыл сказать, что этот негр, как и многие наши негры, был женат на абхазке. Женились-то они издавна на абхазках, но могучие негритянские гены всегда побеждали и упорно давали черное потомство. Правда, в последние годы то ли под влиянием радиации, то ли еще что, но негритянские гены, между нами говоря, стали не те. Осечку дают. Нет-нет да и появится смуглячок. Но распределяются они неравномерно. То идут сплошняком черненькие, а там, глядишь, и смуглячок появляется. А то наоборот.
А в одной семье, где мать была чистокровная абхазка, а отец – негр, родился мальчик ну совершенно белый, как козленок. Отец ребенка, думая, что он мнимый отец, пришел в ярость и, схватив двустволку, ринулся в комнату, где лежала жена со своим ребенком. Между прочим, после родов она довольно долго пролежала в больнице. Одни говорят, осложнения, другие – мужа боялась, ждала, может, ребенок потемнеет.
Но ребенок потемнеть не собирался, и вот, значит, муж схватил двустволку и ринулся в комнату, где лежала жена со своим ребенком. Но тут на него навалились все, кто мог, с тем чтобы удержать его от рокового шага. Он даже в дом не смог пройти, потому что двустволку он вынес из кухни, а кухня, как у нас принято, отдельно от дома расположена.
– Даже если это было, при чем ребенок?! – кричали ему, заламывая руку с ружьем и одновременно пытаясь его «стреножить». Очень здоровый был этот негр, и тем более ему было обидно.
– Ребенок ни при чем! – отвечал он сквозь зубы. – Я ее пристрелю как собаку!
Они решили, что раз он схватил двустволку, значит, обязательно собирается убивать обоих, что было не совсем верно.
Одним словом, шум стоял ужасный. А тут еще стали вмешиваться те, что забрались на веранду, чтобы удобней было наблюдать за потасовкой и быть подальше от шальной пули.
– Пропускайте веревку между ног! – кричат одни.
– Наступайте ему на живот! – советуют другие. Им было хорошо советы бросать. А тем, которые взялись скрутить этого могучего негра, обидно, и они им говорят:
– Спускайтесь сюда, если вы такие умные!
Те знай кричат свое, а спускаться и не думают. Недаром великий Руставели про таких когда-то сказал:
«Каждый мнит себя стратегом, видя бой издалека».
А между прочим, в это время возле роженицы сидели женщины и все время заводили проигрыватель с долгоиграющей пластинкой, чтобы она не слышала скандала. Молодая мать сначала терпела, но потом не выдержала.
– Дорогие родственницы, – сказала она, – или идите играть в другую комнату, или у меня молоко испортится.
– Лучше мы выключим совсем, – сказали женщины и остановили пластинку.
Вообще в нашем районе долгоиграющие пластинки не уважают, особенно оперы. Правда, покупают, потому что они довольно дешево обходятся.
И тут женщины, остановив пластинку, вынуждены были рассказать молодой матери про ее мужа.
– Впустите, докажу, – оказывается, сказала она и, быстро приубрав кровать, присела на ней.
Женщины побежали во двор и все рассказали.
– Хорошо, – согласился этот негр и, бросив двустволку, выбрался из веревок.
Опять поднялся шум, потому что всем было интересно посмотреть, как она ему будет доказывать. А между прочим, те, кто, ничего не делая, с веранды наблюдал за происходящим, опять оказались в лучшем положении, чем те, кто, рискуя жизнью, связывал ревнивца. Вот вам и справедливость.
Значит, в дом набилось человек сто, а то и больше. Правда, в комнату роженицы вошло человек десять. Остальных не пустили.
– Слушайте из залы, – сказали им, – оттуда все слышно.
Но оттуда ничего не было слышно, и они стали подозревать, что их обманули.
– Почему в тишине ничего не раздается? – спрашивали они друг у друга, ничего не понимая.
– Потому что она ничего не говорит, – наконец ответил тот, что стоял у самых дверей и кое-что видел.
В самом деле, оказывается, в это время молодая мать, глядя на мужа, молча разбинтовывала пеленки на своем младенце. А отец стоит у дверей и только прожекторами полыхает: мол, посмотрим, что ты этим докажешь.
Откинув пеленки, она выставляет на ладонях шевелящееся дитя. Между прочим, кверху спинкой, но никто ничего не понимает.
Только мать этого негра все поняла, потому что мать, дорогие товарищи, она всегда остается матерью.
Это была старая, уважаемая всеми негритянка, потому что с большим мастерством гадала на фасоли. Ее так и называли – «Метательница фасоли». Метнет на стол горсть фасолин, а потом смотрит, смотрит, как они легли, и спокойно читает вашу судьбу. Между прочим, никогда ничего не скрывала. Некоторые на нее за это обижались.
– Тыквенная голова, – говорила она таким, – я только читаю твою судьбу, ты обижайся на того, кто ее написал.
Одним словом, эта мудрая женщина наклоняется к ребенку, а потом делает знак своему сыну, чтобы он подошел. Сын подходит и нехотя рассматривает невинный задик младенца. А сам ребенок в это время крутится на руках у матери, выворачивает голову и с улыбкой смотрит на родного отца.
Видя такое, некоторые женщины не выдерживают и начинают рыдать, мужчины находят поведение ребенка удивительным и довольно смешным. Хотя смешного тут ничего нет, потому что ребенок, с одной стороны, мог почувствовать родного отца, а с другой стороны, он впервые видел негра. Ведь до этого он был в больнице, а там работают только наши и притом все в белом – и сестры, и няни, и врачи.
– Зад-то как будто мой, – наконец частично признает своего сына этот упрямый негр.
Тут не выдержала его собственная мать и с ловкостью, неожиданной для гадалки, ударила его палкой по голове. Палку эту она всегда держала в руке, как старая, уважаемая всеми женщина.
– А теперь иди, – сказала она, и он молча вышел. Оказывается, у негров тоже бывают родимые пятна, хотя многие об этом не знают. Оказывается, на середине левой ягодицы этого ребенка было такое же родимое пятно, как у отца.
Тут родственники с обеих сторон начали ругать этого невыдержанного негра. А что же, говорили они, если бы этого пятна не оказалось или оно, допустим, оказалось совсем в другом месте?
И вообще, говорили многие, все это безобразие. И то, что жена знала, где находится родимое пятно мужа, тоже не украшает ее по нашим обычаям. Правда, некоторые оправдывали ее, говоря, что она могла заметить это родимое пятно, когда он купался и попросил мочалкой потереть ему спину.
Тут старые, уважаемые люди сели и стали думать, как выйти из создавшегося положения, чтобы перед людьми из других сел не было стыдно за этот случай. И вот что они придумали.
Они придумали такую версию, что вообще ничего такого не было. Все произошло по недоразумению. Отец, как и принято по нашим древним обычаям, когда привезли сына из больницы, решил выстрелами отметить это удачное событие.
А кто-то из соседей, заметив, что он выходит из кухни с ружьем и уже зная, что у него родился чересчур белый ребенок, решил, что он будет стрелять не в воздух, а в жену. И от этого, мол, произошла вся свалка, потому что отцу не дали возможности объяснить, что к чему. Разумеется, этому никто не верил, но родственники все равно рассказывали так.
Но вернемся к Рою Ройсону и тому зажиточному негру, которому подарили «Волгу», как оказалось, без всякой пользы для дела. Стали через председателя колхоза осторожно нажимать на него, с тем чтобы он без всякого шума вернул «Волгу» подарившему ее Совмину (местному, конечно).
Председатель очень обрадовался новому решению Совмина, потому что ему было обидно, что бригадир катается на новой «Волге», а он, председатель, на старой «Победе». Товарищу из Совмина, который вызвал его по этому поводу, он предложил отобрать у бригадира «Волгу» и продать ее колхозу.
– Ты уговори ее вернуть, – отвечал товарищ из Совмина, – а там посмотрим, потому что с «Волгами» сейчас трудно.
– А как его уговоришь, – отвечал председатель, – вы лучше прикажите.
– Приказать не можем, – отвечал товарищ из Совмина, – потому что, с одной стороны, сами подарили, а с другой стороны, Африка просыпается.
– Африка пусть просыпается, – отвечал председатель, – и мы ее за это приветствуем, но эту «Волгу» надо отобрать, потому что они ее все равно разобьют.
– Поговори с ним по-хорошему, – отвечал товарищ из Совмина, – а там посмотрим.
Видно, председатель не верил, что по-хорошему что-нибудь получится, потому что действовал совсем не так, как просил его товарищ из Совмина. Он вызвал к себе бригадира и под большим секретом рассказал ему, что машину у него все равно отберут, поэтому лучше пускай он, пока не поздно, обменяет ее на его «Победу», а разницу он хоть сейчас получит наличными.
На это зажиточный негр улыбнулся ему своей характерной ослепительной улыбкой и сказал, что в деньгах он не нуждается, а нуждается в этой новой «Волге».
Председатель снова поехал к товарищу из Совмина и сказал, что по-хорошему ничего не получается. Он предложил товарищу из Совмина хотя бы временно запретить бригадиру и всем его родственникам кататься на «Волге», по-видимому рассчитывая позже как-нибудь овладеть машиной.
– Можно через техосмотр провести, – даже подсказал он ему выход.
– Что ты, – отвечал ему товарищ из Совмина, – это даже хуже, чем совсем отобрать.
– Почему? – удивился председатель.
– Сам знаешь, – отвечал товарищ из Совмина, кивая на карту мира, висевшую на стене, – они просыпаются. А мы в это время их нации запрещаем кататься на собственной машине.
– Арбузы в Сочи возили на этой «Волге», – пожаловался председатель.
– Ничего, – отвечал товарищ из Совмина, – в Сочи немало иностранцев отдыхает, пусть смотрят и завидуют.
– Да, но совсем сломает, – не унимался председатель, – скоро хуже моей «Победы» будет.
– Хуже твоей «Победы» новая «Волга» никогда не будет, – отвечал товарищ из Совмина, которому начинали надоедать интриги председателя.
В самом деле, этот зажиточный негр и все его родственники как очумелые скакали по проселочным дорогам на этой «Волге», и председателю ничего не оставалось, как с болью смотреть на эту картину.
Однажды они один на один встретились на проселочной дороге. Председатель на своей старенькой «Победе» ковылял из райцентра, а зажиточный негр летел туда, а может, и подальше куда-нибудь, кто его знает… Поравнявшись, остановились друг против друга.
– Поутихни, – сказал председатель, выглядывая в оконце, – видать, и отец твой без машины и шагу не ступал.
– Нет у тебя такой власти, – отвечал зажиточный негр, улыбаясь своей характерной ослепительной улыбкой, – чтобы правительственный подарок отнимать…
При этом он спокойно затянулся своей цигаркой, спокойно вытащил руку из окна и загасил, да что загасил – ввинтил окурок в дверцу председательской машины. Тут председатель присвистнул и, понурившись, поехал дальше. Он решил, что, раз этот негр гасит окурки о дверцу его машины, значит, дело проиграно – или высокий гость уже дал телеграмму о приезде, или еще что-нибудь похуже.
На самом деле никакой телеграммы не было, просто зажиточный негр решил, что пора окончательно сломить психику председателя, что ему отчасти и удалось.
Одним словом, машина у него так и осталась. Правда, некоторые говорят, что он ее у Совмина выкупил по государственной цене, что в наших условиях, считай, даром досталась, но другие говорят, что он ее даже не выкупал, потому что подарок оставили в силе.
У нас ведь тоже наверху немало сообразительных людей. Они решили, что хоть Рой Ройсон и не приехал, но время такое, что будут наезжать другие африканские деятели и на этот случай можно использовать зажиточного негра с его «Волгой».
И вот так получилось, что этот молодой принц, страдавший политическим гамлетизмом, потому что все еще никак не мог выбрать между нашим и американским путем развития, вместе со свитой был направлен к этому негру.
Председатель и тут пытался интриговать против него. Когда ему позвонил все тот же товарищ из Совмина и сказал: «Будьте готовы, завтра к зажиточному негру привезем принца», – тот слегка заартачился. Он сказал, мол, стоит ли возить принца к этому негру, когда у нас есть другие, гораздо более интересные негры. Так, например, сказал он, у нас есть негр, у которого родился сын, белый, как козленок, и притом наукой доказано, что это его собственный отпрыск.
– Слыхали, – резко отвечал ему на это товарищ из Совмина, – никакого политического значения не имеет… Ты лучше проследи, чтобы за столом глупости не говорили и женщины тоже сидели, а то рассядутся одни мужики.
– Сколько женщин? – спросил председатель.
– Процентов тридцать, не меньше, – сказал товарищ из Совмина и положил трубку, чтобы избежать дополнительных интриг.
Конечно, в доме этого негра принц был принят по-королевски. Все ему здесь очень понравилось: и наша острая еда, и, конечно, наше прославленное вино «Изабелла». За столом много шутили, разговаривали и пели наши песни, причем принц пытался подпевать, что было особенно трогательно.
Между прочим, хозяин дома со смехом рассказал: столько было говорено о приезде высокого гостя, что он думал, что этот гость в дверь не пролезет, а гость оказался не такой уж высокий, хотя и приятный человек.
Принцу перевели слова хозяина дома, и он нисколько не обиделся, а только посмеялся над такой наивной постановкой вопроса этого деревенского негра.
Одним словом, все было хорошо, но вдруг, когда собирались поднять заключительный тост за мир во всем мире, принц, как потом оказалось, без всякого злого умысла спросил у хозяина дома:
– Ну а как живется неграм в Советском Союзе?
– Каким неграм? – заинтересовался хозяин.
– Как каким? – удивился принц, оглядывая местных негров, сидевших за этим же столом. – Вам!
– А мы не негры, – сказал хозяин, улыбаясь своей характерной улыбкой и кивая на остальных негров, – мы – абхазцы.
– То есть как? Отрекаетесь? – стал уточнять принц, еще слава богу, через переводчика.
Тут некоторые товарищи, в том числе и товарищ из Совмина, стали прочищать глотки в том смысле, чтобы он этого не говорил, а, наоборот, во всем соглашался с принцем. Но он никак на все это не реагировал, вернее, даже начал спорить, доказывать свое, правда, по-абхазски.
Дело в том, что среди сопровождавших принца лиц один был на сильном подозрении, что понимает по-русски, хотя и скрывает это. Оказывается, на предыдущем банкете, когда ему подали литровый рог, с тем чтобы он, сказав пару теплых слов, выпил его, он растерялся и как будто по-русски прошептал:
– Ну и дела…
После того как он выпил этот рог, с ним попытались поговорить по-русски, но он уже ни по-русски, ни по-африкански ничего не мог говорить. А на следующий день, когда ему в шутливой форме напомнили об этом, он полностью отрицал, что понимает по-русски. Так что оставалось совершенно неясным, что он этим хотел сказать и вообще говорил ли…
Словом, этот зажиточный негр уперся – и ни в какую.
– Вы бы еще «Чайку» ему подарили, он бы вам тут наговорил, – оживился председатель, вспомнив про свои обиды.
– Неуместное напоминание, – сказал ему на это товарищ из Совмина, а зажиточный негр, тем более подвыпил, разошелся вовсю.
– Если уж наши отцы, – сказал он с гордостью, – принцу Ольденбургскому отказали признать себя арапами, так что ж мы будем слабину давать этому африканскому принцу?!
Ну, в таком сыром виде слова его, конечно, никто и не собирался переводить принцу, но все-таки, по наблюдениям наших людей, он остался не вполне доволен. Нет, тост за мир во всем мире он, конечно, выпил, и потом его постепенно успокоили, но лучше бы этого всего не было.
Кстати, о принце Ольденбургском хозяин дома вспомнил не случайно. В самом деле, так оно и было. Принц Ольденбургский, покровитель Гагр, узнав о том, что в Абхазии есть свои негры, решил их пригласить к себе на работу. То ли хотел составить себе негритянскую стражу, то ли еще что.
Как известно, принц Ольденбургский во всем подражал Петру Великому, поэтому ему захотелось иметь своих арапов. И вот приезжает представитель наших негров в Гагры и начинает договариваться с Александром Петровичем. Между прочим, Александр Петрович предлагал им очень хорошие условия, но наш представитель наотрез отказался, потому что принц предлагал нашим службу в качестве арапов.
– Пожалуйста, – говорил наш представитель, – на общих основаниях мы у вас готовы работать, но в качестве арапов не можем, потому что мы абхазцы.
Принц Ольденбургский так и эдак его уламывал, но ничего не получилось.
– Ну ладно, – оказывается, махнул рукой Александр Петрович, – ступай домой, раз ты такой упрямый.
– На общих основаниях, пожалуйста, дорогой принц, – оказывается, напоследок еще раз напомнил наш представитель, – а в качестве арапов не можем.
– Нет, ступай, – повторил Александр Петрович, – на общих основаниях у меня и без вас людей хватает.
И вот через множество лет повторяется аналогичная история, только теперь не знаменитому принцу Ольденбургскому, а молодому африканскому принцу приходится доказывать то же самое.
Конечно, с одной стороны, такое упрямство наших негров было неприятно нашему начальству, которое сопровождало принца в деревню. Но, с другой стороны, как абхазцы, те из них, которые были абхазцами, радовались преданности наших негров.
– Как они нас все-таки любят, – покачиваясь на мягком сиденье, растроганно вспоминали они на обратном пути патриотическое чудачество зажиточного негра.
– Да, но гибкость тоже надо иметь, – покачиваясь на тех же сиденьях, слегка ворчали представители других национальностей. У нас руководство всегда многонациональное, и это создает исключительные возможности для своевременной подстраховки взаимных перегибов.
Одним словом, после этого случая с принцем решили больше не рисковать, а дождаться его отъезда. Так или иначе, я понял, что со статьей, конечно, могут и подождать, но картину с выставки обязательно снимут, тем более что принц ее еще не посещал.
Как раз в это время ко мне приехал приятель из Москвы, и я решил, воспользовавшись этим случаем, еще раз зайти на выставку. Сам Андрей был в деревне и писал свою «Сборщицу чая». Предупреждать его о надвигающейся грозе было бесполезно. Он кончал картину и в таких случаях говорил, что только смерть кого-нибудь из близких может быть достаточным поводом для остановки в работе. Я знал, что это не пустые слова.
Как только мы с приятелем вошли в выставочный зал, я сразу же почувствовал тревогу, но почему-то не придал ей значения. Еще пересекая зал, я протянул руку в сторону невидимой за колонной картины и сказал что-то вроде того, что и мы не лыком шиты…
Но увы, картины на месте не оказалось. Я мельком оглядел весь зал, но ее нигде не было. Теперь я понял причину своей тревоги. За месяц пребывания картины на выставке я привык, что возле нее все время происходило небольшое бурление толпы. В какой-то мере она была как камень, брошенный (конечно, несознательно) поперек спокойного течения выставки. И хотя течение не остановилось, да он и не пытался его остановить, но вокруг картины все время журчал живой бурунчик, слышный во всех концах выставки.
Сейчас все было тихо. Это-то и вызвало во мне тревогу, но поразило меня не это. На месте картины Андрея висела совсем другая картина, совсем другого художника, правда, примерно такого же размера. Это была одна из бесконечных иллюстраций к великой поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Картина изображала трех витязей – Автандила, Тариэла и Фридона, с маршальской деловитостью обсуждающих способы взятия крепости Каджэти, которая призрачно, подобно контурам новостроек на картине Андрея, высилась на заднем плане.
И хотя, в отличие от синих макинтошей, рыцари стояли вполоборота к зрителям, а Тариэл и вовсе спиной, чувствовалось какое-то дикарское шарлатанство в том, что на месте картины Андрея Таркилова поместили именно эту. Расчет был ясен: если кто-то что-то слышал о «Троих в синих макинтошах», то теперь, увидев трех витязей, решит, что он чего-то недослышал или недопонял. Одним словом, получалось, что бюрократов не держим и не собирались держать, а витязей почему же, витязей, пожалуйста.
Я подошел к администратору, который сидел у дверей за маленьким столиком, презрительно положив на него локти. Всем своим видом он показывал, что оскорблен размером столика и не считает нужным скрывать это от кого бы то ни было.
Я спросил у него, куда делась картина Андрея Таркилова. Он посмотрел на меня все еще обиженными глазами и с нахальством, неслыханным после 1953 года, сказал, что не знает такой картины.
Я решил не сдаваться и потребовал книгу отзывов, чтобы доказать ему, что он врет, хотя он и сам прекрасно знал об этом. Он мне ответил, что книга отзывов заполнена и потому ее убрали. Тогда я спросил, где новая, если старая заполнена. Он вытянул руку и молча показал на фанерный ящик, стоявший справа от столика у его ног.
Оказывается, отзывы отныне будут бросаться в этот ящик. На столике лежала стопка бумаги и карандаш.
– Во всех крупнейших городах страны теперь так делают, – сказал он. Как выяснилось позже, негодяй оказался прав. Не знаю, во всех ли, но в одном из крупнейших я это видел своими глазами. Ради справедливости надо сказать, что потом опять появились книги отзывов. Возможно, это был разумный компромисс за счет более продуманного выбора картин для выставок.
Но тогда я этого не знал и принялся спорить с администратором. Стараясь друг друга запугать своей близостью к истине, что почему-то одновременно подразумевало и близость к начальству, мы уже покрикивали друг на друга.
На шум из пристройки внутри зала, загримированной под капитанский мостик, спустился к нам директор салона Вахтанг Бочуа. С некоторых пор он был переброшен на эту работу, хотя и чтение лекций отнюдь не забрасывал.
– Читаю на все прежние темы минус лекции о козлотуре плюс лекции об искусстве, – говорил он всем, кто ошибочно полагал, что теперь он забросил лекторскую работу.
В своем неизменном белоснежном костюме он приближался, веселея на ходу и мягко ступая, как бы боясь вспугнуть скандал.
– О чем шумите? – спросил он, пожав мне руку бодрящим рукопожатием. Узнав, о чем мы шумим, он сказал, что картина снята с выставки по приказу свыше. Он посмотрел на потолок, как бы ища в нем отверстие, сквозь которое картина была вытянута.
Я посмотрел на администратора, но тот нисколько не смутился. Широко расставив локти на своем узком столике, он снова замкнулся в личную скорбь.
– Если местные ребята будут спрашивать, – пояснил Вахтанг, кивнув в мою сторону, – не говори, что ее не было, говори, что художник сам снял на доработку… Это его право… А соблюдать права художника… – пробубнил он и, внезапно наклонившись к ящику, заглянул в его щель, словно знакомясь с общим состоянием отзывов, даже как бы с их поведением в ящике.
И была в его позе порнографическая динамика, презрительно смягченная хозяйственным поводом. Возможно, именно так начальник стражи султанского гарема заглядывает во внутренние покои пленительных, но коварных жен своего владыки.
– …А соблюдать права художника, – уже бормотал он, понизив голос (чтобы не слышали во внутренних покоях), – это наша повседневная обязанность..
Он выпрямился, посмотрел на меня с выражением скромной важности, перевел взгляд на администратора, как бы кивнул ему слегка в том смысле, что надо мечтать, что мечта его о более обширной поверхности стола замечена там, где надо, и уже обрастает деревянной плотью. После этого он молча удалился. Подымаясь по лесенке к своему капитанскому мостику, он еще раз посмотрел на меня, но теперь не только со скромной важностью, но и мягким упреком, мол, вот не шумим, не кричим, а искусство поощряем, хотя это не так просто, как может показаться некоторым со стороны.
Неделей позже, когда мы с Андреем стояли на одной из наших главных улиц, неожиданно возле нас, вернее, проехав нас метров на десять, остановилась черная «Волга», и человек, сидевший рядом с шофером, поманил нас пальцем. Кстати сказать, Андрей, уже, разумеется, зная о том, что картина снята с выставки, и о том, что вокруг нее идет какая-то негласная возня, пытался встретиться с этим человеком, но встретиться никак не удавалось, а тут он вдруг сам поманил его пальцем. Значит, подумал я, можно надеяться на легкую взбучку без серьезных последствий.
Это был довольно крупный начальник, разумеется, в масштабах нашего края. Среди прочих дел он по должности и по собственному желанию присматривал за людьми искусства, считая себя знатоком и покровителем муз, что в какой-то мере соответствовало действительности.
У него была странная и в то же время замечательная привычка. Бывало, распечет как следует того или иного художника за излишний натурализм, или, наоборот, за склонность к абстракциям, или еще за что-нибудь, а там пригласит этого же художника завтракать или обедать, а то и ужинать, что было особенно заманчиво, потому что тут он не спешил, а рестораторы, зная его в лицо, старались вовсю.
Художниками даже было замечено, что чем сильней он ругает, тем лучше угощения следуют потом. Скажем прямо, некоторые этим пользовались, хотя дело это было рискованное, потому что иной раз отругать отругает, а угостить забудет.
А однажды был такой случай. Один художник, такой серенький реалистик, которого обычно и хвалить рука не подымалась, и ругать было не за что, вдруг решил отличиться.
Вернее, года за два до этого он написал для того времени знаменитую картину «Козлотур на сванской башне». На ней был изображен козлотур, стоявший на сванской башне с приподнятой передней ногой: не то собирается шагнуть, не то собирается проткнуть башню копытом, чтобы доказать, что она прогнила.
Картина была неоднократно хвалима нашей газетой, помнится один абзац, где обращалось внимание на решительно приподнятую ногу козлотура, топчущую сванскую башню как символ вражды народов. Позже картина была куплена новооткрытым рестораном «Водопой козлотура» и провисела там вплоть до критики козлотуризации сельского хозяйства, после чего была убрана из ресторана и обругана в печати, между прочим, за ту же сванскую башню, вернее, за ее неправильную трактовку. Оказывается, она никак не символ вражды народов, а, наоборот, символ сопротивления мужественного народа иноземным захватчикам.
Помнится, тогда он приходил к нам в редакцию и жаловался, что вообще сванской башне никакого международного символического значения не придавал, а просто поместил козлотура на старой крепости, чтобы показать победу нового над старым.
На это ему в редакции нашей ответили, почему же он протестует теперь, когда его ругают за сванскую башню, а когда хвалили за нее, он не протестовал.
– Кто же протестует, когда хвалят? – спросил он, но вопрос его остался без ответа, и о художнике забыли.
Другие о нем забыли, но сам он о себе, оказывается, не забывал. Теперь он решил прославиться совсем по-другому и показал на очередной выставке несколько странных, в духе абстракционизма, полотен, и даже сам все время стоял возле них с выражением заносчивой скромности.
Художники быстро раскусили этот его жалкий маневр, рассчитанный на внимание Абесаломона Нартовича. (Так и быть, раскрываю его имя, выдуманное, конечно.) Раскусили, значит, и в своей среде высмеяли его лжеабстракции как недействительные.
Сам же Абесаломон Нартович во время посещения выставки по многолетней привычке прошел мимо его картин, не глядя, да и художники окружали его шумным роем. Но потом уже, когда он осмотрел всю выставку, кто-то ему капнул о проделке этого товарища. Абесаломон Нартович был сильно раздосадован и уже выругал его за это лицемерие, а не за художественные ошибки, что не давало повода для ресторанного развития темы.
Обычно, войдя в выставочный зал, он останавливался в дверях и, бросив общий взгляд на выставку, с улыбкой говорил:
– Край у нас солнечный, художников много…
При этом лицо его и большая вальяжная фигура струили солнечную доброжелательность. Он как бы говорил: вот видите, я к вам пришел с хорошим настроением, а дальше все зависит от вас…
Начинался осмотр. Обходя картины в окружении художников, он сначала смотрел на картину, потом на автора, стараясь по выражению его лица определить, как сам он относится к своей картине. Разумеется, не в художественном отношении, а исключительно в идейном плане. То есть не передерзил ли, если картина носит на себе сатирический оттенок, не увлекся ли вредными новациями или чуждыми, вредоносными идеями, впрочем, смехотворными в своей ничтожности.
У Абесаломона Нартовича было три формулы, определявшие степень критического отношения к работе художника.
По первой получалось, что картина любопытная, но льет воду не совсем на ту мельницу.
По второй получалось, что картина не лишена интереса, но льет воду совсем не на ту мельницу.
По третьей получалось… даже страшно сказать, что получалось. Во всяком случае, тут ни о какой, даже враждебной, мельнице не могло быть и речи.
Чаще всего ресторанное развитие темы давала первая формула. Вторая в принципе тоже не исключала, ну а третья не только не давала ресторанного развития, но могла стать началом развития в совершенно противоположном направлении. Единственным достоинством третьей формулы было то, что она в последние годы довольно редко употреблялась.
И вот, бывало, Абесаломон Нартович смотрит на картину внимательно, с прищуром, потом так же внимательно, но без всякого прищура, на самого художника. И так несколько раз туда и обратно, обратно и туда, и все делается ясно.
Художники договорились никак не подначивать Абесаломона Нартовича, не предварять его мнения, чтобы глас судьбы проявлялся в чистом виде. Но уже после того как Абесаломон Нартович высказался, можно было его поддерживать или даже возражать, но, разумеется, до определенного предела. Но так как предела точно никто не знал, обычно возражали не доходя.
И если Абесаломон Нартович говорил про картину, что задумана она так-то, но объективно получается, что она льет воду не совсем на ту мельницу, то возражающий обычно говорил:
– Да ведь это, Абесаломон Нартович, с какой стороны взглянуть…
– А ты смотри с нашей стороны, смотри с точки зрения сегодняшних интересов…
Молодые художники особенно пользовались слабостью Абесаломона Нартовича, да и старые, случалось, грешили. Что скрывать, иногда художники, чтобы пообедать в роскошном обществе покровителя муз, нарочно имитировали душевные сомнения, опускали глаза, когда он на них глядел, тяжело вздыхали, когда он, прищурив взор (как бы подготовив инструмент), направлял его на картину.
– Да, брат, ты что-то не туда… – начинал Абесаломон Нартович и если затруднялся ухватить начало критической мысли, то, бывало, художник и сам подсказывал что-нибудь вроде того, что:
– Да вот, Абесаломон Нартович, с Сальвадором, понимаете, Дали пытался полемизировать, да, видно, увлекся…
– Вижу, вижу, – доброжелательно соглашался Абесаломон Нартович, – и это хорошо, мы за полемику… Но трибуну зачем ты ему предоставил?
– Да, понимаете, – мнется художник, – пытался спародировать его метод…
– Опять двадцать пять! – удивляется Абесаломон Нартович. – Пародируй себе на здоровье, но трибуну зачем предоставлять? Смотри, что он там делает?
Тут художник поднимает глаза, словно заново узнавая свою картину, словно даже заметив, что из-за картины, как из-за трибуны, бесенком высовываясь, неистовствует Сальвадор Дали.
– Ты думаешь, – продолжает Абесаломон Нартович, – ты его высмеял? А ему только и надо было, что трибуну получить… Вот он и кричит сейчас на всю выставку с твоей картины. А попробуй ты с его картины покричи? Черта с два он тебя туда пустит!
В таких случаях можно было незаметно пристроиться к заблудшему художнику, подхватив ту или иную реплику, чтобы дать растечься критической мысли Абесаломона Нартовича, обхватив двумя рукавами ваш островок бесплодных заблуждений.
– Ладно, пошли обедать, там поговорим, – наконец бросает Абесаломон Нартович заветную фразу, а иногда добавляет, мельком взглянув на второго оппонента: – И ты тоже…
Разумеется, не всегда получалось так гладко. Иногда Абесаломон Нартович долго переводил взгляд свой с картины на художника, и весь его облик выражал мучительное недоумение. Дело в том, что в таких случаях картина ему нравилась, что не соответствовало виноватому, подавленному взгляду художника. Не в силах соединить эти два взаимоисключающих впечатления, он искал выхода, переводя взгляд с художника на картину. И замечательно в этом случае, что если уж у него возникало хорошее впечатление от картины, то он упорно его отстаивал, несмотря на подозрительный вид художника.
– А по-моему, неплохо, – говорил он вполголоса и смотрел на художника, стараясь взбодрить его или понять, чем он подавлен. Художник виновато молчал или робко пожимал плечами.
Абесаломон Нартович снова бросал на картину энергичный взгляд, стараясь продраться в ее внутреннюю сущность и найти ее тайные изъяны.
– Нет, в самом деле неплохо, – уверенно повторял Абесаломон Нартович и еще более уверенно добавлял, как бы окончательно подавив своего внутреннего критика, как бы на собственном примере показывая художнику путь от сомнений к уверенности, – просто хорошая, крепкая вещь… – Да что ты думаешь, мы против смелости?! – вдруг вскрикивал он, догадываясь о причине подавленности художника.
– Не в этом дело, – мялся художник, не зная, как дальше воздействовать на критическое чутье Абесаломона Нартовича.
– Не бойся своей смелости, – радостно поучал Абесаломон Нартович, – знай, что мы всегда за хорошую смелость…
Крепко сжав предплечье художника в знак поддержки хорошей смелости, он уже проходил дальше, уверенный, что восстановил внутренний мир художника.
Вот такой у нас покровитель муз Абесаломон Нартович, или просто Нартович, как его любовно за глаза называют художники. Теперь, когда вы его более или менее представляете, я продолжу свой рассказ об Андрее и его картине «Трое в синих макинтошах».
Когда черная машина, низко прошуршав, остановилась, не доезжая несколько метров до перекрестка, и Абесаломон Нартович, слегка обернувшись, поманил пальцем Андрея, я, стараясь не шевелить губами, тихо сказал:
– Чур, я с тобой.
Андрей ничего не ответил, и мы быстро пошли к машине. Абесаломон Нартович сидел, откинувшись на спинку, а его великолепная большая рука высовывалась из окна машины, державно отдыхая.
Я вдруг до щемящей кислоты во рту почувствовал, как я макаю крылышко цыпленка табака в огненное сациви, а потом отправляю в рот остренькую цицматку да еще подбрасываю туда мокрую, непременно мокрую, редисинку и отвечаю ему, урча:
«Да ведь это ж с какой стороны взглянуть, Абесаломон Нартович…»
«А ты посмотри с точки зрения сегодняшних интересов, – говорит Абесаломон Нартович и, оглядывая ближайшие столики, добавляет: – Ладно, выпьем за правильную линию…» – «С удовольствием, Абесаломон Нартович, с удовольствием…»
Не успела промелькнуть эта картина у меня в голове, как мы уже стояли возле машины. Абесаломон Нартович медленно повернул голову, несколько мгновений смотрел на Андрея, не поворачивая головы, мельком взглянул на меня, как бы принимая к сведению границы зараженной местности на случай, если придется объявить карантин, снова посмотрел на Андрея и медленно развел руками, выражая этим жестом свое катастрофическое недоумение.
– Клевета, – сказал он, и машина отъехала. Слегка высовывавшаяся из окна рука его, продолжая высовываться, опустилась как бы в державном бессилии помочь отступнику.
– И это все? – только и успел сказать я, глядя вслед уходящей машине.
– Продолжение будет в другом месте, – мрачно пояснил Андрей, а потом, взглянув на меня, нервно хохотнул: – Чур, и ты!
В ближайшее время одна за другой с промежутком в два дня в «Красных субтропиках» появились две статьи, где картина называлась не иначе, как «Трое в пресловутых макинтошах». Было похоже, что для ослабления ее общего вреда кто-то наложил табу на само упоминание цвета макинтошей.
Как только картину стали ругать в печати, нашлись четыре человека, признавших свое сходство с персонажами картины и на этом основании подавших в суд жалобу за оскорбление личности. Кстати, Цурцумия в их число не входил.
Впрочем, сам он на сходстве с персонажем картины никогда и не настаивал, это другие навязывали ему это сходство, а сам он вообще молчал и даже на выставку не приходил. Правда, прислал жену.
Так вот, эти четверо подали жалобу и даже наняли адвоката, нашего местного парня, который потом обо всем нам рассказал. Интересно, что сначала один из них попросил Цурцумия принять участие в жалобе. Он пришел к нему вечером, когда Цурцумия отдыхал на веранде своего особняка, как обычно, сунув ноги в холодильник для усиления умственной работы во время обдумывания коммерческих операций. Цурцумия принять участие отказался, ссылаясь на то, что он вообще суд не переносит как зрелище. Трое из четырех жалобщиков были жителями нашего города, а четвертый подъехал из района. Он оказался директором чайной фабрики из Эндурска. Директор чайфабрики даже не видел картины, но родственники ему о ней написали, что так, мол, и так, пока ты там сидишь на своей чайфабрике, тебя здесь исказил художник. Директор сначала отмалчивался, только спросил у родственников по телефону, кто такие двое остальных на картине. Родственники ответили, что остальных не знают, и спросили, а что он думает по этому поводу.
– Что-то думаю, но это не телефонный разговор, – печально ответил он родственникам и положил трубку.
А думал директор чайфабрики, что все это дело рук райкома (так он потом рассказывал адвокату), что его теперь будут постепенно снимать с работы. Так как в Эндурске художественных выставок никогда не устраивали, по-видимому, он решил, что это вроде сатирических окон, которые устраивают во многих городах. Наверное, поэтому он интересовался и двумя другими персонажами картины, может, думал, что там изображены директора других чайных фабрик, и хотел узнать, каких именно.
Оказывается, к моменту открытия нашей выставки он уже имел шесть или семь выговоров от райкома за махинации с чаем. Эти невинные махинации заключались вот в чем. Скажем, привозит колхоз на фабрику сдавать чай первого сорта. Допустим, привезли десять тонн. Фабрика определяет, что восемь из них соответствуют первому сорту, а две проходят по второму. Колхозу спорить некогда и невыгодно (еще к чему-нибудь придерутся), а непринятый чай может быстро испортиться, тогда еще хуже. И он соглашается.
Другой колхоз, у которого недостача по первому сорту, с удовольствием и, разумеется, за соответствующую мзду перепишет эти две тонны на себя, а взамен сдаст нужное количество второго сорта. Дело это стало настолько обычным, что представители некоторых колхозов, привозящих чай, уже сами, так сказать, за собственный счет идут на сделку. Выбракуйте, мол, столько-то тонн, говорят они, но так, чтобы и нам кое-что перепало, мы тоже люди.
Одним словом, все это, конечно, делается, но партийными органами никак не одобряется.
«Государство от этого ничего не теряет», – оправдывался директор чайфабрики на одном из бюро райкома.
«Потому предупреждаем, а не сажаем, – вразумительно отвечали в райкоме, – колхозники тоже люди…»
И вот приехал этот директор чайфабрики жаловаться на художника, а заодно и посмотреть на картину. Но картины на выставке уже не оказалось.
С одной стороны, это его обрадовало, но с другой – разожгло любопытство. Он явился на дом к Андрею, с тем чтобы посмотреть на свое изображение и, может быть, заодно узнать, кто остальные. Андрей сказал, что он его знать не знает и никакой картины показывать не будет.
– Или жаловаться буду, или покажешь, – пригрозил он Андрею.
Андрей рассвирепел и просто вытолкнул за дверь директора чайфабрики.
– Ничего, на суде покажешь! – успел тот крикнуть. В адвокатуре, куда он пришел нанимать защитника, он познакомился с тремя остальными жалобщиками, то ли они там толкались, то ли их адвокат познакомил. Ему ничего не оставалось, как присоединиться к этим троим, тем более они ему показали фотографии картины, правда, черно-белые, но зато довольно больших размеров. Тут же, не сходя с места, он себя узнал.
Когда адвокат вплотную взялся за дело (наш парень, кто его не знает), он обнаружил, что обвинить художника в оскорблении своих земляков будет трудно. Оказалось, все трое городских жителей, претендовавших на оскорбительное сходство, в сущности, претендовали на сходство с одним из трех персонажей в синих макинтошах.
Само по себе это совпадение было не столь важным, если бы при этом пострадавшие от сходства были бы похожи между собой, что в жизни случается, конечно. Но как назло, все трое были совершенно непохожи друг на друга, и в то же время каждый из них в отдельности был похож на одного и того же персонажа картины.
– Надо же дойти до такого ехидства, – говорили они по этому поводу.
Адвокат предупредил своих клиентов, что защита художника обязательно воспользуется этим коварным обстоятельством.
– Как же быть? – спросили они у адвоката, раздраженные неожиданным препятствием со стороны собственной внешности. При этом, по словам адвоката, каждый из них оглядывал двух остальных как более виноватых в случившемся.
Тут адвокат сказал, что будет лучше всего, если двое из троих откажутся от обвинения, а третий, присоединив к себе директора чайфабрики (к счастью, он был похож на второго носителя синего макинтоша) и уговорив Цурцумия, если он похож на третьего, подаст совместную жалобу в оскорблении трех самостоятельных личностей.
Никто не мог вспомнить, на кого похож Цурцумия. Этого не мог вспомнить даже тот, который ходил к нему с предложением принять участие в общей жалобе.
– Цурцумия не согласится, – сказал он, – он вообще суд не любит…
– Как не согласится? – удивился директор чайфабрики. – Заставим…
В тот же вечер они пришли домой к Цурцумия. Тот встретил их, сидя на веранде своего особняка с ногами, погруженными в холодильник. Он всегда там сидел. Снова выслушав предложение о совместной жалобе, он спросил:
– Сульфидин знаете?
– Смотря какой, – удивились гости, – сульфидин – лекарство или сын заведующего бензоколонкой, которого тоже зовут Сульфидин?
– Лекарство, – пояснил немногословный Цурцумия, – то, что некоторые организмы его не переносят, знаете?
– Знаем, – удивились гости.
– Вот так же, как некоторые организмы сульфидин, так я не переношу суд, – признался Цурцумия в болезненном свойстве своего организма.
После этого, сколько его ни уговаривали, он твердо стоял на своем. Правда, чтобы смягчить отказ, он устроил хлеб-соль и угостил товарищей по несчастью вместе с их адвокатом. Те приняли приглашение, надеясь во время застолья уговорить Цурцумия.
Но во время застолья не только не удалось уговорить Цурцумия, но и все дело кончилось полной катастрофой. Уговаривая Цурцумия, трое представителей города перешли на самих себя и стали выяснять, кому из них выступать на суде. Решили, что выступать будет тот, кто больше всех похож на модель персонажа картины. Тут выяснилось, что каждый из них себя считает наименее похожим на модель, что привело к взаимным колкостям и даже оскорблениям.
Сначала адвокату удалось спасти дело путем решительного отмежевания от всей городской группы. Он сказал, что пусть все они снимают обвинение, он будет действовать через директора чайфабрики как самого мужественного человека. (Он-то понимал, что, сколько ни потроши кошелек директора чайфабрики, до дна никогда не допотрошишься.)
– Я пойду на него один на один, – сказал директор чайфабрики и, вырвав фотографии картины, которые те все еще мусолили в руках, положил их к себе в портфель.
Сказать-то он сказал, но потом ему, видимо, все это не понравилось, и он начал дуться. Дулся, дулся, а потом, в конце вечера, взял да и сказал, что раз так, и он не будет выступать на суде, что напрасно они его заманили к Цурцумия, хотя к Цурцумия его никто не заманивал.
В конце концов, по словам адвоката, они все перессорились и, все свалив на Цурцумия, разошлись по домам. Совершенно успокоившись, директор чайфабрики в ту же ночь уехал к себе в Эндурск, кстати, забыв возвратить, а может, и умышленно не возвратив, фотографии их законным владельцам.
Как справедливо говорят радио- и телекомментаторы, так распадается всякий союз, созданный на гнилой идейной основе. И так об этом рассказывал адвокат, уже успокоившись по поводу упущенного директора чайфабрики. Не знаю, говорил ли я о том, что он наш местный парень, когда-то голопузым пацаном вместе с нами бегал на море, а теперь такими делами иной раз ворочает, что страшно подумать.
Последний след общественного негодования по поводу «Синих макинтошей» обнаружился на областном совещании строителей, где начальник одного СМУ сказал, что очень трудно выполнять план, когда художники, вместо того чтобы помогать строителям, высмеивают в глазах рабочих руководство, изображая его как бездельников, целыми днями шатающихся у моря в синих макинтошах.
Но тут, к счастью для Андрея, взорвался один ответственный работник и отхлестал этого строителя, указав, что картина на выставке появилась этим летом, а его строительное управление уже третий год не выполняет план.
Выступление ответственного товарища было понято как строгий намек на прекращение возни вокруг имени Андрея Таркилова. Возня была немедленно прекращена, и Андрей получил несколько хороших заказов. Впоследствии оказалось, что ответственный товарищ никакого намека не давал, а просто раскрыл истинное положение вещей и без того, впрочем, ясное.
Тут, как говорится, у Андрея пошла карта. Через месяц со времени прекращения возни вокруг «Синих макинтошей» картину Андрея «Отдых сборщицы чая, или Потный полдень Колхиды» (ее-то он и писал в деревне) московская комиссия отобрала для всесоюзной выставки.
Правда, по дороге в Москву комиссия почему-то потеряла вторую часть названия картины, но это теперь не имело никакого значения. О ней появилось несколько одобрительных отзывов в центральной печати, но это случилось гораздо позже, зимой.
Зато наша газета, только узнав, что картину Андрея берут на всесоюзную выставку, и при этом имея на руках гарантированный намек на прекращение возни вокруг «Трех макинтошей», дала о ней большой очерк.
Автандил Автандилович этим очерком хотел показать (и показал!), что умеет вовремя подхватить намек, особенно если он строгий, к тому же на всякий случай защищал себя от возможных упреков в преследовании талантливого художника. Такое тоже бывало, хотя и редко.
Очерк писал один наш дуропляс, который ко всем этим сложным задачам Автандила Автандиловича сумел присобачить собственную линию, делая вид, что он расхваливает недозволенного художника, как будто можно хвалить что-то недозволенное.
Между прочим, нашей общественностью, как никто, чуткой к шорохам подсознания и подтекста, сразу же было замечено, что размер очерка на четверть колонки (до подвала) превосходит оба критических выступления. Кроме того, в нем упоминалось и о картине «Трое в синих макинтошах». Правда, о ней говорилось как о неудачном эксперименте, но отсвет более поздней славы как бы слегка облагородил ее вредность. Так или иначе, она снова была названа собственным именем, а не «пресловутыми макинтошами», как было раньше.
Кроме всего, возможно, тут сказалось и то обстоятельство, что теперь, в разгар лета, макинтоши, особенно синие, никто не носил, а сама тема как бы потеряла некоторую актуальность. Так или иначе, название картины было полностью и окончательно реабилитировано.
Как известно, в сложных условиях современной жизни не всякие, даже простые, истины можно выразить прямо, чтобы ими тут же не воспользовались наши зарубежные недоброжелатели. Поэтому все мы легко понимаем, или нам кажется, что понимаем, язык намеков, кивков и подмигиваний типографских знаков.
Стоит ли говорить, что очерк о картине Андрея был понят не только как посветление в его личной судьбе, но и как явление с далеко идущими оптимистическими последствиями.
Я, конечно, не очень поверил, что есть какая-то связь между размерами двух критических выступлений и последним очерком. Все же просто так, скорее для смеха, я достал подшивку и сравнил. В самом деле, так оно и получилось. Как ни крути, а очерк на четверть колонки был больше обоих критических выступлений. Случайность ли это? А кто его знает…
Сам автор мог выполнять тайную волю Автандила Автандиловича, даже не подозревая о ней. Получись очерк чуть поменьше или даже равным размеру двух критических выступлений, тот мог вызвать его и сказать:
«А знаешь, вот эту часть надо развить…»
Ну а если что сократить, и вообще никто ничего не спрашивает. Так или иначе, стало ясно, что грехопадение прощено с бодрящей надбавкой на будущее. Именно после всех этих дел мы и выехали в горы.
Теперь мне хотелось бы слегка передохнуть и продолжить рассказ в более спокойных тонах. Дело в том, что я обо всем этом не собирался рассказывать, я только собирался поделиться нашими дорожными приключениями.
Но что получилось? Как только я захотел представить своих спутников в самых сжатых чертах, я вдруг заподозрил себя в попытке скрыть историю «Синих макинтошей». Нет, сказал я себе, я не собираюсь скрывать эту историю, но здесь она просто неуместна. И, чтобы самому себе доказать, что я ничего не собираюсь скрывать, я решил выложить выдержки из книги отзывов. Ну, а тут и все остальное как-то само собой вывалилось.
Я это все говорю к тому, что не надо давать никаких обещаний, как рассказывается, так и рассказывай. Ведь что получается? Как только ты даешь обещание, скажем, быть во всем откровенным, сразу же на тебя находят сомнения: «А надо ли? А что я, дурнее всех, что ли?» И так далее.
А если ты даешь обещание говорить сжато, то и тут возникают подобные соображения. Сжато-то оно сжато, думаешь ты, но как бы через эту сжатость не пропустить чего-то главного. А кто его знает, что главное? И тогда ты решаешь рассказывать сжато, но при этом ничего не пропускать из того, что потом может оказаться главным. Итак, возвращаюсь к началу моего рассказа, с тем чтобы решительно и без всяких оглядок на прошлое двигаться вперед.
И вот, значит, после недельного отдыха в горах, после ледяного кислого молока, после вечерних дымных костров, после длительных и безуспешных охотничьих прогулок по каменистым вершинам перевалов мы в ожидании машины сидим на стволе старого бука, греемся на солнышке, изредка перекидываясь никчемными пустяками – за неделю обо всем наговорились.
Время от времени мимо нас проходят сваны-лесорубы, возвращаются из лесу домой к своему летнему лагерю, разбитому возле речки. У одних за плечами топор, у других механическая пила. Приблизившись, они здороваются и, окинув нас внимательным взглядом, проходят мимо.
Мне показалось, что они почему-то со мной здороваются дружелюбней, чем с остальными. Но потом, когда один из них обошел меня и оглядел сзади, я понял, в чем дело. Здоровались они не столько со мной, сколько с моим карабином, торчавшим у меня за плечами. А так как у других никакого оружия не было, только у Андрея была мелкокалиберная винтовка, почтительное внимание к моей особе было вполне оправданно.
Наконец возле машин появились люди. Двое полезли в кузов и стали стягивать тросами бревна, лежавшие там. Остальные, всего их было человек восемь, снизу давали этим двоим советы. Судя по несоразмерной громкости голосов, все они порядочно выпили. Через несколько минут двое из них отделились от остальных и направились в нашу сторону.
Один из них, более молодой, был одет в ватные брюки и старую ковбойку с закатанными рукавами. Он был небрит, коренаст и откровенно пьян, что было заметно издали. Второй был маленький, сухонький. Он был в сапогах, в широком галифе и узком черном кителе, наглухо застегнутом. Держался твердо и вид имел военизированный. В руке он сжимал блестящий топорик, напоминающий те самые топорики, при помощи которых домашние хозяйки разрубают мясо и кости.
– Здравствуйте, товарищи, – сказал он несколько скорбным голосом, остановившись со своим спутником возле нас. Мы встали навстречу обоим и поздоровались с каждым за руку. Несколько мгновений он оглядывал нас, отгоняя волны хмеля, помигивая пленчатыми веками и пульсируя желваками на сухом стянутом личике.
Обычно после такого тусклого приветствия спрашивают документы, но он ничего не спросил, а только сел рядом со мной. Возможно, из-за того же карабина он счел меня старшим в нашей группе, что не соответствовало истине, потому что старшим был Котик – и по возрасту, и по званию.
Второй сван, который был откровенно пьян, добродушно посапывая, присел перед нами на корточки, чтобы, видимо, общаться со всеми сразу. У него была тяжелая бычья голова выпивохи и голубые, навыкате, глаза. Время от времени голова у него падала на грудь, и каждый раз, подняв ее, он оглядывал нас с неизменным детским любопытством. Казалось, каждый раз поднимая голову, он заново удивлялся, не понимая, как мы очутились перед ним.
– Откуда будете? – все так же скорбно спросил сван в черном кителе, искоса оглядывая всех.
– Мы из города, а этот товарищ из Москвы, – дружелюбно и внятно сказал Котик, голосом показывая, что запасы его дружелюбия необъятны.
– Здесь что делали? – скорбя и удивляясь, спросил он, повернувшись вполоборота. Одна рука его опиралась о колено, другая, та, что была поближе ко мне, опиралась о ручку топорика. Теперь было ясно, что он вдрабадан пьян, но изо всех сил сдерживается. Из всех пьяных самые опасные – это те, что стараются выглядеть трезвыми.
– Мы гостили у колхозных пастухов, наших хороших друзей, – все так же внятно и миролюбиво сказал Котик.
– Имени? – неожиданно спросил черный китель, помигивая пленчатыми птичьими веками. Стало тихо.
– Что значит имени? – в тишине спросил Котик.
– Имени, значит, имени, – твердо повторил черный китель, искоса оглядывая нас. Второй сван, глядя на меня, делал мне какие-то знаки. Я никак не мог понять, что он своими пьяными знаками и кивками хочет мне сказать, и на всякий случай в ответ пожал плечами.
– Я не понимаю вас, – сказал Котик, отстаивая свое скромное право отвечать только на ясные вопросы.
– Здесь в горах несколько ваших колхозов, – наконец объяснил лупоглазый, покачиваясь на корточках, – потому имени спрашивает…
– А, колхоз, – обрадовался Котик и оглянулся на Андрея.
– Имени Микояна, – едва скрывая раздражение, подсказал Андрей. Вся эта история его начинала раздражать.
– Правильно, – согласился черный китель и, сделав на лице гримаску человека, который знает больше, чем говорит, добавил: – Не обижайтесь, но это надо…
– Что вы! – воскликнул Котик.
– А вы кем работаете? – спросил я у соседа.
– Заместитель лесничего буду, – сказал он важно и стал расстегивать верхний карман кителя.
– Что вы, не надо! – сказал Котик и протянул руку, стараясь помешать ему.
– Шапку там у товарища забыл, – сказал он, ладонью неожиданно нащупав на лбу довольно заметный рубец от шапки. И было непонятно, рубец этот ему напомнил, что нет фуражки, или разговор о должности заставил его вспомнить о существенной части своей формы.
Обстановка явно разряжалась. Теперь заместитель лесничего не опирался на свой топорик как на эфес шпаги, а просто положил его на колени. Кажется, теперь он перестал сдерживаться и осоловел. Он перестал разглаживать на лбу рубец от шапки и, поставив локоть на колено, свесил голову на ладонь и задремал.
Второй сван, словно дожидаясь этого мгновения, усилил свои дурацкие кивки и подмигивания. Наконец я его понял.
– Карабин? – спросил я.
– Продай, – радостно закивал он мне.
– Не продается, – сказал я.
– Тогда махнемся, – вдруг произнес он городское словечко.
– Нет, – сказал я, стараясь не раздражать его, – не могу.
– Я тебе немецкий автомат дам, – торопливо прошептал он, – потому что вот эти русские карабинчики спокойно не могу видеть.
– Нет, – сказал я, стараясь не раздражать его.
– Дай посмотреть, – сказал он и протянул руку. Я вздохнул и снял карабин.
– Зачем тебе карабин, если у тебя автомат есть? – сказал я, стараясь возвысить его автомат за счет своего карабина.
Он щелкнул затвором и заглянул в ствол.
– Автомат для охоты не такой удобный, далеко не берет, – сказал он и поднял голову. – А патроны есть?
– Патроны далеко, в рюкзаке, – сказал я твердо. Видно, он это почувствовал и, прицелившись куда-то, щелкнул курком.
– Вот эти русские карабинчики люблю, – сказал он, неохотно возвращая мне карабин.
Я взял карабин и повесил его за плечо. Я почувствовал облегчение, оттого что все так хорошо кончилось.
– За сколько водолаза можно нанять? – вдруг сказал он.
– Зачем тебе водолаз? – спросил я.
– Одно озеро знаю, – сказал он просто, – на дне немецкое оружие. Водолаза хочу.
Мы рассмеялись, а парень снова задумался. В это мгновение черный китель поднял голову и начал что-то выговаривать своему земляку. Сван, что сидел на корточках, добродушно оправдывался, поглядывая в нашу сторону как на союзников. Черный китель постепенно успокоился и на интонации мелкого административного раздражения замолк.
– Язык не распускай, – сказал он ему в конце по-русски и приподнял топорик с колен.
– Даже спрашивать не буду, – ответил ему на этот раз сван и, обратившись к Котику, спросил: – Водолаз сюда имеет право приехать?
– Обманывать не можем, – ответил Котик добродетельно, – но мы в таких делах не разбираемся.
– Что ты говоришь, кацо! – взвился черный китель. – Водолаз как может сюда приехать? Водолаз – государственный человек. Водолаз от моря отойти не имеет права. Ты что – райком, военком, сельсовет?!
– На один день водолаза хочу, – сказал молодой сван, ни малейшего внимания не обращая на эту грозную тираду, – сам привезу и отвезу, как министра.
– А ну скажи, в каком озере лежит? – неожиданно с другой стороны атаковал его заместитель лесничего.
– Э-э, – лукаво протянул молодой сван и помахал толстым пальцем у переносицы, – это мой секрет. Кроме водолаза, никому не скажу.
– Привлеку, – сказал черный китель и, грустно покачав головой, посмотрел на лезвие топорика, словно читая на нем соответствующую статью закона.
– Скажите, – спросил я у него, слегка развеселившись, – для чего вам этот топорик?
В сущности говоря, если б я не заметил на обушке этого топорика нечто вроде металлической печати, я, наверное, не спросил бы его об этом. Мне хотелось узнать, что он, собственно, им делает: скажем, ударом обушка отмечает сухостой или делает какие зарубки, или это просто символ его лесной власти.
Как только я это сказал, рот его сжался в решительную полоску, птичьи веки остановились. Я почувствовал, что допустил самую страшную дипломатическую ошибку в своей жизни. Это было все равно что во время аудиенции у короля неожиданно щелкнуть пальцем по короне и спросить:
«А для чего эта штука, старина?»
Он медленно встал, отошел на несколько шагов, повернулся и, прижав топорик к бедру, неожиданно взвизгнул:
– Граждане, документы!
– Товарищ, вы его не так поняли, – сказал Котик и, встав, с виноватой улыбкой стал подходить к нему.
– Граждане, документы! – снова взвизгнул черный китель и даже сделал шаг назад, чтобы не допускать с Котиком личных соприкосновений. При этом он чуть не наступил на второго свана. Во всяком случае, он столкнул его с корточек, и тот сел на землю, в дурашливом недоумении растопырив руки: мол, вот что делает со мной власть, но при чем я?
Даже сваны, стоявшие у машины, услышали его голос и на несколько мгновений примолкли.
– Гено, – крикнул один из них и, видимо, спросил, в чем дело. Гено снизу вверх оглядел маленькую гневную фигуру помощника лесничего и что-то сказал в том духе, что шутки с ним плохи.
В самом деле, все это приобретало дурацкий оборот.
Черный китель шутить не собирался. Я заметил, что косточки на его кулаке, сжимавшем топорик, побелели.
Из нас четверых документы были только у Котика и у Володи. Володя уже рылся в рюкзаке. Котик протягивал свой документ. Это была красная книжечка – удостоверение лектора обкома партии. Обычно она в затруднительных случаях хорошо воздействовала, особенно если крупным планом подавать обком партии и не слишком обращать внимание, что он там лектор, да еще внештатный.
Человек в черном кителе подержал в руке книжечку, бросил несколько взглядов с фотографии на оригинал и вернул ее хозяину. Видно, она на него произвела хорошее впечатление.
– А эти сопровождают? – спросил он и кивком головы объединил нас.
– Да, сопровождают, – сказал Котик с улыбкой и положил книжку в карман.
Человек в черном кителе медленно оглядел каждого из сопровождающих. И в этой медленности проявлялось уважение к своей должности. Володя, стоя, протягивал ему свой паспорт, но он не взял его. Андрей продолжал сидеть, несколько картинно развалясь, глядя на помощника лесничего с полупрезрительной усмешкой.
– Паспорт на карабин, – сказал он кротко, когда взгляд его дошел до меня. В груди у меня екнуло. Никакого паспорта на карабин у меня не было. Я одолжил его у своего родственника, бывшего начальника городской милиции.
– Паспорта нет, – сказал я.
– Как нет? – заморгал он пленчатыми веками, отказываясь меня понимать.
– Карабин не мой, – сказал я, – я его одолжил.
– Ничего не знаю, – воскликнул он, взбадриваясь, – может, одолжил, может, убил, может, отнял…
– Я знаю, – вмешался Котик, – он одолжил его у своего родственника, бывшего начальника городской милиции.
– Вот эти русские карабинчики, – сказал второй сван, глядя снизу вверх, – клянусь своими детьми, я больше всего на свете люблю.
– Ничего не знаю, конфискую! – вскрикнул человек в черном кителе.
– Ну что вы, товарищ, – миролюбиво вразумлял его Котик, – как можно, что мы скажем его родственнику, когда приедем?
– Ничего не знаю, тем более бывший начальник милиции, – сказал он, все-таки оставляя маленькую лазейку для более широкой информации.
– Один хороший русский карабинчик, – восторженно сказал второй сван, – я уважаю больше, чем два немецких автомата.
– Язык не распускай! – прикрикнул на него черный китель, на что тот не обратил ни малейшего внимания.
– Его родственник, – сказал Котик, при этом Андрей весь перекорежился, – уважаемый в городе человек, и ему будет неприятно узнать, что вы конфисковали его карабин.
– Ха! Уважаемый! – воскликнул черный китель и всплеснул топориком. – Если уважаемый, зачем сняли?
– Его не сняли, он на пенсию ушел, – сказал Котик.
– Не мое дело, – опять затвердел черный китель, – прошу передать карабин для выяснения принадлежности.
– Не вздумай дать, – сказал Андрей по-абхазски, – потом не получишь.
– Карабин я вам не дам, – сказал я очень твердо, потому что не чувствовал в себе этой твердости, – не вы мне его давали.
– Задерживаю вместе с карабином! – отрезал он и снова вскинул свой проклятый топорик. И дернуло ж меня за язык! Промолчи я насчет его топорика, ничего бы не было. Я пожал плечами.
На грузовиках завели моторы, и они медленно, задним ходом стали выезжать на дорогу. Сваны шли за грузовиками, словно подгоняли их вперед.
– Нам пора, – решительно сказал Андрей и встал.
– Подождите, – приказал помощник лесничего, но, видно, он не ожидал такой решительности.
– Не горячись, Андрей, – бросил Котик по-абхазски.
– Мы тоже едем, – неожиданно сказал черный китель. Он несколько растерянно провел рукой по волосам.
– Это ваше дело, – холодно сказал Андрей и пошел дальше. Небольшого роста, коренастый и длиннорукий, он сейчас был похож на медвежонка.
Черный китель стал о чем-то просить молодого свана, как можно было догадаться, принести из дома, где они пировали, забытую фуражку. Дом этот, видный отсюда, стоял на той стороне реки, примерно в двадцати минутах ходьбы.
Молодой сван как раз подымался с земли и, распрямляясь, вдруг схватился за спину и громко охнул, как от внезапного прострела, не то вызванного просьбой помощника лесничего, не то самостоятельного. В обоих случаях жест этот показывал на неисполнимость этой маленькой просьбы.
Мы двинулись к машинам. Шоферы вышли из машин и вместе с остальными сванами дожидались нас.
– Я же не отбираю это ружье, – кивнул лесничий более миролюбиво на спину Андрея. Мне показалось, что неудача с фуражкой несколько улучшила его тон. – А почему? Потому что карабин – боевое оружие.
– То-то же у вас здесь с автоматами бегают за оленями, – сказал Андрей, обернувшись.
– Как только обнаружим, отбираем! – крикнул ему черный китель.
– Знаем, у кого отбираете, – сказал Андрей не оборачиваясь.
– Не задирайся, Андрей, – крикнул ему Котик по-абхазски.
– Мать его растак, – ответил ему Андрей на том же языке не оборачиваясь.
– Или отдаст карабин, или задержу в сельсовете до выяснения, – сказал черный китель с новой твердостью. Видимо, он уже забыл о неудаче с фуражкой или его вдохновила близость остальных сванов. Мы подошли к машинам.
– Как можно, – тихо возразил Котик, давая знать, что не стоит доводить до слуха остальных это непристойное, хотя, возможно, и случайное недоразумение, – мы же не оставим своего товарища…
– Ваше дело, – сказал черный китель громко, как бы силой голоса отвергая версию о непристойности или тем более случайности недоразумения, – пусть кто-нибудь привезет хозяина карабина.
Этого еще не хватало! Молодой сван, восторженно кивая на мой карабин, выложил остальным суть дела. Несколько сванов сразу же заклокотало, обращаясь к черному кителю, и, как мне показалось, заклокотало доброжелательно по отношению ко мне.
Но тут черный китель вступил с ними в спор, время от времени бросая на меня злые птичьи взгляды, после чего обращал внимание сванов на свой топорик, который якобы я успел осквернить своим вопросом. Сваны оглядывали топорик, ища на нем скрытые следы осквернения.
Из всех сванов только один высокий старик с искривленным, как мне потом объяснили, ударом молнии ртом сразу же стал его поддерживать. Он бросал на меня еще более злые взгляды, чем сам черный китель. Это был хозяин дома, у которого все они сейчас гостили.
Потом по дороге я узнал, почему он так злился на меня. Оказывается, у сванов, которые живут здесь почти на окраине альпийских лугов (а он один из представителей этих нескольких семей), давняя вражда с нашими пастухами.
Альпийские луга, куда несколько наших долинных колхозов перегоняют скот, эти сваны считают спорными, потому что сами они живут здесь рядом и они им очень удобны.
А спорными они их считают потому, что во время войны сюда из колхозов, естественно, никто не перегонял скот и после войны довольно долгое время нечего было перегонять. К тому времени, когда колхозы оправились, сваны привыкли эти луга считать своими. В первый год дело чуть не дошло до поножовщины. Теперь они смирились, но неприязнь осталась.
Я об этом так подробно говорю, потому что, если б не этот старик, который терпеть не мог пастухов из долинных колхозов вместе с их гостями, или если б он целый день не угощал остальных сванов, чаша весов могла бы перетянуть на мою сторону. Свою небольшую, но вредную роль могла сыграть и та молния, которая по какой-то мистической случайности когда-то влетела ему в рот и, может быть, навсегда его ожесточила. Так или иначе, он угощал всех моих доброжелателей, и они в конце концов притихли и перестали спорить.
Правда, нам предстояло двигаться в одну сторону, и это нас временно сблизило. Котик, судя по всему, довольно удачно обрабатывал огромного свана из тех, что защищали меня, а потом отступились. Котик сел вместе с ним в одну кабину и крикнул мне:
– По дороге что-нибудь придумаем…
Меня, как почетного преступника, посадили в первую машину, остальные ребята устроились во второй. На подножках слева и справа от кабины устроились оба свана, те, что к нам подходили. Любитель русских карабинчиков стоял слева, а горный страж, теперь и мой страж, стал с моей стороны.
Когда нас усаживали, я предложил ему сесть в кабину со смутным расчетом загнать его тем самым в моральный тупик. Несмотря на мои уговоры, он с твердым достоинством отказался влезать в кабину, тем самым не давая поймать его на взаимном великодушии.
– Как можно, вы гость, – сказал он важно, давая знать, что соблюдение обычаев есть продолжение соблюдения законов и наоборот.
Я снял с плеча карабин, влез в кабину и уселся, поставив его между ног. Скинул полупустой рюкзак и задвинул его в угол сиденья.
Машина тронулась. Несколько сванов во главе со стариком, что поймал ртом молнию, стояли впереди машины. Мой страж что-то прокричал старику, по-моему, попросил присмотреть за его фуражкой, пока он приедет. Старик ничего ему не ответил, и мы поехали дальше.
Положение мое осложнялось тем, что я сейчас вообще не собирался ехать до города. Я собирался доехать только до нарзанного источника, где отдыхал дядя Сандро. Мы с ним договорились там встретиться, и я думал провести несколько дней на водах в обществе дяди Сандро. Источник был расположен гораздо выше сельсовета, и даже если бы мне с помощью моих друзей удалось там освободиться от моего стража, все равно было неприятно среди ночи тащиться назад к источнику.
Мы медленно двигались по лесу. Солнце еще не село. Лучи его дозолачивали листья буков и каштанов, тронутые ранней горной осенью, и блестели на нержавеющей зелени пихт.
Свежий дух слегка забродившей зелени время от времени влетал в кабину, как бы в награду за достаточно зловонный запах араки, исходивший от моего сопровождающего, когда при толчках машины его голова слегка всовывалась в кабину.
Машина трудно двигалась по неровной колее, местами каменистой, местами перевитой обнажившимися корнями деревьев. Огромная тяжесть в кузове иногда так раскачивала корпус машины, что казалось, она вот-вот перевернется и раздавит кого-нибудь из стоящих на подножке. Шофер то и дело тормозил и переключал скорости.
Моего стража от этих раскачиваний и взбалтываний явно развезло. Он смотрел на меня тем всепрощающим взглядом, каким смотрят люди, когда им хочется рвать. Пару раз, встретившись с ним глазами, я предложил ему занять мое место, но он, прикрывая пленчатые веки умирающего лебедя, отказывался.
Взгляд его делался все более всепрощающим, и я стал бросать на него умоляющие взгляды в смысле простить меня за карабин. Сначала он меня не понимал и, взглянув на меня с некоторым недоумением, бессильно прикрывал пленчатые веки. Потом понял и не простил.
«Ты видишь, мне и так трудно, а ты еще пристаешь», – говорил он взглядом и бессильно прикрывал пленчатые веки.
«Ну что вам стоит? Ну я больше не буду!» – канючил я взглядом, дождавшись, когда он приоткроет глаза.
«Ну ты видишь, что мне и так трудно, а если я нарушу закон, мне будет еще трудней», – объяснял он мне затуманенным взглядом и бессильно опускал пленчатые веки.
Мы выехали из леса, и машина пошла по дороге между глубоким обрывом и скалистой мокрой стеной, с которой стекало множество водопадиков в тонкой водяной пыльце. Когда машина в одном месте близко подошла к стене, мой страж почему-то посмотрел наверх, словно собирался там кого-то приветствовать. Но приветствовать оказалось некого, и он, неожиданно откинувшись, подставил голову под водяную струйку.
И потом каждый раз, когда попадалась достаточно удобная струйка, он ловко откидывался и ловил ее головой. И уж оттуда, из-под струйки, в легком светящемся нимбе водяной пыльцы, успевал бросить на меня сентиментальный и в то же время недоумевающий моему удивлению взгляд.
Освежившись, он перенес топорик из правой руки в левую и освобожденной рукой, достав из кармана платок, стал утирать им лицо и волосы.
Держаться одной рукой за бортик открытого окна кабины да еще сжимать в этой же руке топорик показалось мне настолько неудобным и даже опасным, что я решил помочь ему.
– Дайте, я подержу, – кивнул я на топорик. Отчасти это было обычной для всякого преступника тягой к месту преступления, но был и расчет. Этой новой дерзостью, уже после того как я был достаточно наказан за старую дерзость, я как бы доказывал ему, что и старой дерзости не существовало, во всяком случае, не было злого умысла, а было глупое щенячье любопытство.
Он перестал протирать голову платком и долго смотрел на меня скорбным взглядом, все время покачиваясь и дергаясь вместе с машиной и все-таки не упуская меня из своего поля зрения.
Потом он, продолжая смотреть на меня, пригладил ладонью мокрые жидкие волосы, перенес топорик в подобающую ему правую руку. Казалось, взгляд его старается определить, можно ли за повторное оскорбление назначить новое наказание.
Я слегка заерзал, но взгляд его вдруг потеплел. Казалось, он решил: нет, повторного оскорбления не было, а была глупость.
– Давайте в кабину, – сказал я.
– Ничего, мы привыкли, – ответил он и отвел глаза.
– Вы знаете, – сказал я, – я не могу доехать до сельсовета.
– Почему? – спросил он.
– Мне надо у источника сойти.
– А мне еще раньше надо сойти, – сказал он.
– Почему? – спросил я.
– Потому что мой дом раньше, – сказал он и выразительно посмотрел на меня в том смысле, что служба и у него требует жертв, а не то что у нарушителей.
– Меня человек ждет на источнике, – сказал я, – понимаете, волноваться будет.
– Хорошо, – ответил он, немножко подумав, – ты слезай у источника, а карабин оставь.
– Без карабина я и так слезу, где захочу, – сказал я.
– Тоже правильно, – согласился он.
– За этот карабинчик что я только не сделаю, – раздался голос Гено с другой стороны машины. Мой страж встрепенулся.
– Гено живет рядом с источником, – сказал он, – он передаст твоему товарищу, что я тебя задержал.
– Не стоит, – сказал я. Конечно, дядя Сандро меня ждал, но не с такой уж точностью.
– Скажи имя, он пойдет, – настаивал страж.
– Сандро, – сказал я машинально.
– Сандро, но какой Сандро? – удивился страж.
– Сандро Чегемский, – сказал я.
– Сандро Чегемский? – переспросил он почти испуганно.
– Да, – сказал я, волнуясь. Я почувствовал, что имя на всех произвело впечатление.
– Уах! – сказал сван, молча сидевший между мной и шофером. – А кем он тебе приходится?
– Дядя, – сказал я.
Тут все сваны, включая шофера и Гено с той стороны, заклокотали перекрестным орлиным клекотом.
– Это тот самый Сандро, – спросил сван, сидевший рядом со мной, – который в двадцать седьмом году привез тело Петро Иосельяни?
– Да, – сказал я. Я что-то смутно слышал об этой истории.
– Петро Иосельяни, которого матрос убил на берегу?
– Да, – сказал я.
– Так за бедного Петро никто и не отомстил, – вздохнул шофер, продолжая пристально всматриваться в дорогу.
– Двенадцать человек приехало в город, чтобы сжечь пароход вместе с матросом, – сказал сван, сидевший рядом со мной.
– Почему не сожгли? – спросил шофер, продолжая внимательно всматриваться в дорогу.
– Не успели, – сказал сван, сидевший рядом со мной, – пароход ушел в море.
– Успеть успели, – откликнулся Гено, – но их даже на пристань не пустили.
– Ты откуда знаешь, – обиделся сван, сидевший рядом со мной, – тебя еще на свете не было.
– Мой отец с ними был, – сказал Гено, – Петро наш родственник…
– Языки не распускай! – вдруг крикнул мой страж, всунув голову в машину. – Пароход – нет, дерево – и то никто не имеет права сжечь!
– Значит, – сказал сидевший рядом со мной, переждав разъяснение заместителя лесничего, – это тот самый Сандро из Чегема?
– Тот самый, – сказал я.
– Красивый старик, усы тоже имеет? – уточнил сидевший рядом сван.
– Да, – сказал я.
– В прошлом году, когда генерал Клименко приезжал на охоту, он сопровождал? – спросил мой страж, вглядываясь в меня.
– Да, – сказал я, стараясь не выпячиваться, обстоятельства работали на нас.
– Генерал Клименко – прекрасный генерал, – сказал сван, сидевший рядом.
– Какой маршал – такой генерал, – сказал Гено.
– И охота была большая, – сказал шофер, не отрываясь от дороги.
– Товарищ Сандро – уважаемый человек, – твердо сказал черный китель.
– О чем говорить! – воскликнул сван, сидевший рядом со мной. – Сопровождать генерала Клименко с улицы человека не возьмут.
– Сами знаем, – обрезал его мой страж.
Я чувствовал, что шансы мои улучшились. Взгляд заместителя лесничего не то чтобы стал дружелюбней, нет, теперь он острей всматривался в меня и как бы с любопытством обнаруживал под верхним порочным слоем моей души слабые ростки добродетели.
Уже смеркалось. Дорога все еще шла над пропастью, где в глубине слабо блестело русло реки. Отвесная стена сменилась меловыми осыпями, бледневшими в сумерках.
Метрах в ста впереди показалась машина. Она стояла у края дороги. Рядом с ней толпилось несколько человек.
– Там авария случилась, – сказал сван, сидевший рядом со мной.
– Сорвалась машина? – спросил я.
– Языки, – неуверенно предупредил мой страж.
– Да, – сказал он, не обращая внимания на предупреждение стража, – слава богу, шла в город последним рейсом, мало людей было.
– Языки, – более строго вставился мой страж.
– Кто-нибудь спасся? – спросил я, понижая голос.
– Один мальчик, – сказал сидевший рядом со мной, – выпал из машины и зацепился за дерево.
Мы подъехали к месту катастрофы, и шофер остановил машину. Все вышли из нее. Второй грузовик слегка приотстал. Я подошел вместе со всеми к обрыву.
Внизу у самой воды лежал продавленный, как консервная банка, автобус. Выброшенный ударом, один скат валялся на том берегу реки.
– Вот это дерево, за которое мальчик зацепился, – сказал сван, сидевший рядом со мной в машине. На самом обрыве из расщелины в камнях подымался узловатый ствол молодого дубка с широкой кроной, похожей на зеленый парашют.
– Не надо, товарищи, ничего интересного, – крикнул мой страж, обернувшись ко второй машине. Она только что подошла, и те, кто в ней сидел, потянулись к обрыву.
Не обращая внимания на его предупреждение, все подошли к обрыву и заглянули вниз.
Вдоль обрыва стояли цементные столбики, даже на вид такие слабые, что, кажется, одним крепким ударом ноги можно снести любой. У автобуса отказали тормоза, и он вывалился в обрыв, сшибив эти столбики, как городки. Каждый год в этих местах случаются такие вещи, и каждый раз, когда я узнаю об этом, возмущаюсь, думаю куда-то писать, кого-то ругать, но потом как-то забывается, уходит.
– Ну как, – подошел ко мне Котик, – уломал?
– Кажется, склоняется, – сказал я.
– Я своего тоже обработал, – сказал он, – вон разговаривает с ним.
В самом деле, черный китель стоял рядом со сваном из второй машины. Тот что-то говорил. Мой страж слушал его, склонив голову. Топорик свешивался с безвольно опущенной руки. Казалось, сейчас сам закон осуществляет свое законное право на отдых.
– Слушай, это правда, – крикнул мне большой сван, одновременно кивком головы подзывая меня, – что Сандро из Чегема твой родственник?
– Да, – сказал я и, подходя, спиной почувствовал усмешку Андрея.
Большой сван, обняв меня одной, а моего стража другой рукой, сделал несколько шагов, как бы приглашая нас на миротворческую прогулку. Я охотно подчинился, но маленький страж хотя и не сопротивлялся дружескому жесту, однако выпрямился и затвердел под его рукой, подчеркивая этим свою самостоятельность. Большой сван что-то ему мягко внушал, пока мы прогуливались возле машин, тот молча его слушал.
– Давайте в машины, – сказал наш шофер, и все потянулись к машинам.
– Нельзя, кацо, нельзя, – сказал по-русски большой сван, когда мы остановились возле нашей машины.
– Посмотрим! – сказал мой страж и бодро вскинул топорик. Казалось, закон теперь приступил к своим обязанностям, но на этот раз, может быть, для того, чтобы выслушать смягчающие обстоятельства. Большой сван сделал мне обнадеживающий знак, одновременно чмокнув губами и мигнув разбойничьим глазом, и отправился к своей машине. Шоферы завели машины, но тут черный китель неожиданно подбежал к третьей машине и стал яростно гнать людей в нее, хотя они и так уже собирались садиться, а шофер даже завел мотор и просто ждал, пока мы проедем.
Пассажиры этой машины, сопротивляясь его подталкиваниям, останавливались и спорили, как и все люди, которых подталкивают, когда они и так идут в ту сторону.
Наконец часть из них залезла в кузов, двое уселись рядом с шофером, и машина тронулась. Черный китель, упруго пятясь и делая топориком заманивающие жесты, как балетный колдун, провел машину мимо нас на более широкую, незанятую часть дороги.
Когда грузовик проехал мимо, я обратил внимание, что шофер, стараясь не задеть нашу машину, на дорогу и тем более на стража с его заманивающими движениями не смотрит.
Я все еще не садился в машину, потому что на этот раз решил посадить его.
– Теперь вы садитесь, – сказал я, когда он, довольный проделанной операцией, вернулся к машине.
– Ничего, ничего, – замотал он головой и почему-то перебросил топорик из правой руки в левую и опустевшей рукой указал мне на кабину, что можно было понять, что жест этот личный, внеслужебный. – Ничего, мы привыкли, – сказал он, склоняясь.
– Нет, – возразил я твердо, – сейчас вы садитесь.
– Не стоило, – сказал он и неохотно влез в кабину. Я захлопнул за ним дверцу и, став на подножку, покрепче ухватился за нижний край оконного проема.
Машина тронулась.
Быстро темнело. Когда справа кончились меловые осыпи и снова навис над дорогой крутой склон, поросший лесом, стало совсем темно.
Шофер включил фары. То и дело скрежетали тормоза. Казалось, мотор все время делает физические усилия, чтобы не разогнаться всей тяжестью и не вывалиться в обрыв. Перед каждым новым поворотом шофер переключал скорость, и грузовик на мгновенье останавливался, словно переводил дыхание.
Холодный сырой воздух то и дело обдавал из черного провала, на дне которого чем дальше мы ехали, тем полногласней шумела река. Пустотелые облака кроили и перекраивали небо, но все время то там, то здесь открывались большие звездные куски неба. Звезды вздрагивали и покачивались, словно отраженные от поверхности бегущей воды.
Машина все еще сильно накренялась, и я никак не мог привыкнуть к этому. Каждый раз казалось, что она вот-вот перевернется на бок и придавит к стене. Я себя уговаривал, что ничего такого не может быть. Но через несколько минут машина снова накренялась, и тело напружинивалось, готовое кузнечьим скоком выпрыгнуть из катастрофы, хотя, конечно, выпрыгнуть было некуда… А главное, что каждый новый крен в самый момент крена казался сильней, опасней предыдущего, но потом, когда машина выпрямлялась, становилось ясно, что он ничуть не больше остальных.
Держаться за край оконного проема было неудобно, и постепенно руки мои оцепенели от напряжения, и внимание сосредоточилось на том, чтобы удержаться на подножке.
Когда машина шла ровно, я почти отпускал руки, давая им отдохнуть, а потом снова изо всех сил сжимал их. К тому же я порядочно окоченел. Только теперь я оценил силу и цепкость заместителя лесничего.
Кстати, он почти сразу уснул, как только сел в кабину. Дремал и второй сван.
Сначала заместитель уснул, откинувшись на спинку сиденья, обеими руками, как убаюканного ребенка, придерживая на коленях топорик. Потом голова его стала сползать в угол кабины, оттуда – вниз вдоль дверцы, потом, изменив направление, слегка вывалилась в окно и уперлась мне в грудь.
Было что-то трогательное в этой доверчивой беззащитности, с которой она уперлась мне в грудь и спала, мирно посапывая. Руки все так же продолжали лежать на коленях, нежно придерживая топорик. Когда от толчков топорик сползал с колен, он, не просыпаясь, подтягивал его и, слегка поерзав ладонями по его поверхности, успокаивался. Так мать, спящая рядом с ребенком, не просыпаясь поправляет на нем одеяло.
Я старался не шевелиться, чтобы не разбудить его. Теперь я был уверен, что мы с ним поладим. Душа моя вздрагивала от нежности. Хотелось погладить его жидкие волосы, но я боялся его разбудить.
Дорога делалась все лучше и лучше, и машину уже не так раскачивало. Однако удерживать его упирающуюся мне в грудь голову становилось все трудней. Нельзя было шевельнуться, и я довольно сильно окоченел.
В конце концов я решил перенести его голову на спинку сиденья. Я уперся локтем правой руки в дверцу изнутри, осторожно приподнял голову двумя руками и, продолжая упираться локтем в дверцу, положил его голову на спинку сиденья. Голова, не просыпаясь, обиженно вздохнула. Так, бывает, крестьяне, осторожно взяв в руки тыкву, свисающую с плетня, перекладывают ее на более устойчивое место, чтобы она не оборвалась под собственной тяжестью.
Через несколько минут внезапно, словно от толчка, он проснулся. Он приоткрыл глаза и, не меняя позы, насторожился, будто пытался осознать, как и в какую сторону изменилась действительность, пока он спал, если она изменилась. При этом руки его, лежавшие на топорике, слегка сжались.
– Как спалось? – спросил я тоном дворецкого.
– Кто, я? – удивился он.
– Да, – сказал я.
– Я не спал, – проговорил он, прикрывая ладонью зевок, – это он спит.
Он кивнул на свана, сидевшего рядом, который и в самом деле спал. После этого он опять откинулся на спинку сиденья, точно повторив позу, в которой он проснулся. Он даже слегка прикрыл глаза. Все это должно было означать, что он и раньше не спал, хотя, возможно, и был похож на спящего человека. Не знаю, для чего ему надо было скрывать свой невинный сон. Во всяком случае, я огорчился. Я решил, что он внушает мне уверенность в надежности своего контроля надо мной.
Через несколько минут он вдруг тронул шофера за плечо, и тот остановил машину. Я почувствовал, что черный китель собирается выйти из машины, и заволновался. Он взглядом показал мне, что не прочь открыть дверцу кабины.
Я сошел на дорогу и стал в смиренной позе. В самом деле я сильно волновался. Он открыл дверцу и, как-то деловито поеживаясь от ночной прохлады, вышел.
Я продолжал стоять в смиренной позе, чувствуя, что эти мгновенья сейчас решают мою судьбу.
И вдруг я почувствовал, как он, почти не глядя, слабым мановением руки, топорик, я успел заметить, был в другой, направил меня в кабину.
Стараясь не создавать излишней суеты, я быстро, и в то же время стараясь избегать в своей быстроте воровского проворства, проскользнул в кабину. Боком проскользнул, чтобы не слишком прямо промаячил перед его глазами этот несчастный карабин. И когда я ровным ликующим толчком прикрывал дверцу, успел заметить самое удивительное. Я успел заметить, как он с непостижимым лукавством отводит глаза от карабина, словно с ним, а не со мной уславливаясь, что они друг друга не видели.
Он еще несколько секунд простоял, ожидая вторую машину, а потом, озаренный и даже слегка ослепленный ее фарами, взмахнул топориком, давая ей приказ держаться за нами. Наша машина тронулась, и он исчез в темноте.
– Он здесь живет, – сказал сван, сидевший рядом. Оказывается, он проснулся. Возможно, он даже проснулся от моей радости.
– Да, я понял, – кивнул я, чувствуя огромную доброжелательность к этому факту.
После физического и нервного напряжения сидеть в кабине было необыкновенно уютно и тепло.
– Знаете, хороший парень и грамотный, но немножко любит… – сказал сосед по кабине и, не найдя подходящего слова, покрутил ладонью в воздухе, как бы стараясь показать очертания отрицательных флюидов, исходящих от самой его должности.
– Да, я понял, – сказал я, чувствуя огромную доброжелательность ко всему, в том числе и к этим отрицательным флюидам.
Я ему рассказал, как мой страж пытался отрицать, что он спал. Сван расхохотался, шофер тоже стал смеяться, хотя он мог рассмеяться гораздо раньше, когда все это случилось. Впрочем, возможно, тогда он просто нас не слышал.
– Что смеетесь? – вдруг отозвался Гено с той стороны.
Сван, сидевший рядом со мной, с удовольствием повторил мой рассказ, и они оба рассмеялись вместе с шофером.
– Значит, ты сам голову ему держал, а он говорит – не спал? – спросил у меня сосед, руками показывая на воображаемую голову.
– Да, – говорю.
– Ха-ха-ха! – снова рассмеялся он, откинувшись.
– Ха-ха-ха! – более сдержанно поддержал его шофер.
– Ха-ха-ха! – громыхал снаружи Гено.
– Я думал, – говорю, – сванский обычай считает позором спать на людях, потому он отказывается.
Тут я, конечно, слукавил, чтобы кружным путем польстить сванским обычаям. Получалось, что если я чту такие сомнительные сванские обычаи, то с каким почтением, можно было представить, я отношусь к истинным сванским обычаям.
– Гено, – крикнул мой сосед, – он думает, что по нашим обычаям в машине нельзя спать!
– Ха-ха-ха! – засмеялись все трое.
– Я здесь стоя спал! – крикнул Гено.
– Сванские обычаи, – серьезно сказал мой сосед, – не разрешают спать, только если в доме гость.
– Ага, – кивнул я.
– А русские обычаи разрешают?
– Нет, – говорю, – русские обычаи тоже не разрешают.
– Гено, – крикнул он, – ты слышишь, русские обычаи тоже не разрешают!
– Слышу, – отозвался Гено.
– Ха-ха-ха! – всех троих. «Вечная ирония жителей гор над жителями долин», – подумал я.
– Обычай для силы сохраняют, – вдруг сказал он, отсмеявшись, – а большому народу зачем обычай, он и так сильный.
«В этом что-то есть», – подумал я, хотя и не знал, что именно.
– Между прочим, он из хорошей семьи, – снова вернулся мой сосед к заместителю лесничего.
– Да? – спросил я из приличия, все еще думая о том, что он сказал.
– Мелиани будет княжеского происхождения, – сказал он почтительно.
– Да, Мелиани, – подтвердил шофер и переключил скорость.
– Да, да, Мелиани, – отозвался снаружи Гено. Через несколько минут Гено что-то сказал шоферу, и тот затормозил. Они начали о чем-то спорить, и я почувствовал по доброжелательной властности, с которой Гено говорил, а потом просто протянул руку и дал несколько пронзительных сигналов клаксоном, что он входит в роль гостеприимного хозяина.
– Давайте с машины! – приказал он и соскочил сам.
Еще в кабине я заметил, что направо от дороги стоит дом на высоких сваях с освещенными окнами. Дверь в дом была распахнута, а на веранде стояла женщина и смотрела в нашу сторону. Мы вышли. После долгой езды приятно было стоять на земле.
– Вещмешок забыл, – сказал шофер.
Я полез в кабину и вытащил вплюснутый в угол кабины свой вещмешок. Я размял его и закинул за плечо. Ночь посветлела. С востока край неба над горой был озарен восходящей луной. Облака наконец замерли и ровной грядой стояли вполнеба, осеребренные еще невидимой луной.
Женщина с корзиной в руке шла через двор. Из корзины поблескивали горлышки бутылок. Гено громко распоряжался. Когда подошла вторая машина, он велел так подогнать ее, чтобы она своими фарами освещала радиатор первой.
Все остальное произошло в несколько минут. Он вытащил из корзины кусок чистой мешковины и постелил на радиатор. Достал оттуда же буханку белого хлеба, открыл большой охотничий нож и раздраконил ее, склонившись над радиатором и прижимая буханку к груди. Буханка скрипела, крупными ломтями отваливаясь и падая на мешковину. Потом вынул из корзины круг сыру и, сладострастно выпятив губы, быстро настругал на хлеб сочащиеся полоски сыра. Потом он так же быстро стал доставать из корзины стаканы и, еще доставая, дал женщине какое-то распоряжение, и она проворно, даже переходя на побежку, вернулась в дом.
Вытащив три бутылки и поставив две из них на огнедышащий стол, он начал разливать третью, вертикально опрокидывая бутылку с мутным араки. Огонь похмельного вдохновения придавал его движениям быстроту и щедрую соразмерность. Не успел он закончить разлив, как жена прибежала и, смущенно улыбаясь, поставила на радиатор недостающие стаканы.
Все, кроме шофера второй машины, столпились вокруг радиатора. Подняв капот своего грузовика, тот заглядывал в мотор.
Предчувствие выпивки, как всегда, создавало духовный подъем. Все испытывали взаимную приятность.
– А ну! – властно предложил хозяин и окликнул шофера второй машины. Тот, не оборачиваясь, отказался, но после двух-трех повторных приглашений, мазанув руки ветошью, неохотно подошел к нам.
– Я же говорил, – сказал Котик, блестя глазами, – что все хорошо кончится.
– Как можно! – сказал большой сван, стоявший рядом с ним. Он слышал слова Котика, исполненные доброжелательности, и сам, стараясь сделать для меня что-нибудь приятное, добавил: – Между прочим, он княжеского происхождения.
– Да, знаю, – сказал я, и в самом деле испытывая приятность от его княжеского происхождения, – Мелиани.
– Да, Мелиани, – подтвердил большой сван.
– Мелиани, Мелиани, – зашелестели остальные. Мы взяли в руки стаканы. Оба шофера, взяв по куску хлеба и сыра, стали закусывать, показывая, что пить не собираются. Андрей тоже было заартачился, и товарищ его из Москвы быстро убрал протянутую к стакану руку.
– Что ты делаешь, – тихо сказал ему Котик по-абхазски, – сейчас обидятся.
– Прошу извинить, ребята, – сказал Андрей, обращаясь к хозяину и морщась от неловкости, – просто я неважно себя чувствую.
– Пей, – сказал хозяин, голосом показывая, что ему сейчас некогда вдаваться в подробности. Андрей взял стакан. Московский друг проворно последовал его примеру.
– Твой хвост меня просто смешит, – сказал Котик по-абхазски. Он любил Андрея и ревновал его к московскому другу.
– Прошу тебя, оставь его в покое, – ответил Андрей и опять сморщился.
– Давайте подымем! – провозгласил хозяин, отсекая лишние разговоры. – За удачную дорогу, за наше знакомство, за то, чтобы никто ни на кого не обижался. Тем более карабинчик на месте, – добавил он для ясности.
– Как можно, – сказал я, и все выпили. Стараясь не дышать, я вытянул стакан. После этого несколько раз незаметно выдохнул, чтобы поменьше запаха оставалось во рту. Все равно, как только вдохнул воздух, почувствовал такой запах, как будто мне затолкали в рот целый куст бузины. Такой уж это напиток, и тут ничего не поделаешь.
Но, может быть, именно поэтому сразу захотелось есть, и хлеб с сыром показались очень вкусными. Хозяин разлил по второму стакану. Оба шофера, взяв по куску хлеба и сыра, отошли к другой машине. Гено что-то коротко сказал жене, и она ушла домой, а через минуту вернулась с двумя бутылками.
– Зачем? – сказал Котик, хотя глаза его маслянисто заблестели. Сыр был жирный, и после этой отравы есть его с хлебом было просто наслаждение. Хлеб этот, видимо, шоферы из города завозят.
Мы подняли по второму стакану.
– За хозяина этого дома, за чудесное сванское гостеприимство, за вечных хозяев этих вечных гор! – сказал Котик и выпил свой стакан.
– Спасибо, дорогой! – сказал большой сван и выпил.
– Спасибо от имени вечных хозяев и вечных гор, – сказал второй сван и выпил.
– Гмадлоб, – сказал хозяин по-грузински и выпил.
Товарищ Андрея подождал, пока Андрей подносил стакан ко рту, и, убедившись, что другого пути стакану не будет, выпил свой. Все выпили, и всем еще сильней захотелось есть жирный сванский сыр с белым хлебом.
Между тем над этими вечными горами появилась полная луна и, несколько смущаясь, что застала нас за этой трапезой, стала подыматься в небо. Так один мой знакомый, не успеешь где-нибудь рассесться с друзьями, появляется, вооружившись своей смущенной улыбкой.
– Тебе туда, – сказал Гено и кивнул в сторону реки. Там, за рекой, на пологом склоне, был расположен нарзанный городок: балаганчики, шалаши, палатки самодельного крестьянского курорта. Где-то в середине городка подмигивал костер.
Выпили еще по одному стакану. Араки тем хороша, что любая закуска после нее кажется божественной. И вот сначала пьешь, чтобы еда сделалась божественной, а потом и араки улучшается, но все-таки божественной никогда не делается.
– Слушай, – вдруг вспомнил сван, что сидел рядом со мной, – это правда, что знаменитый эндурский тамада Бичико лопнул, когда хотел перепить Сандро Чегемского?
– Я слыхал, – сказал я, – только что-то трудно поверить, что человек может лопнуть.
– Да, да, может, – подтвердил большой сван.
– А сам Сандро что говорил? – спросил сван, что сидел рядом со мной.
– Я знаю эту историю, я могу рассказать, – сказал Котик.
– Дядя Сандро говорит, – начал я, чувствуя неожиданное воодушевление и не понимая, что хмелею, – когда дошли до двенадцати стаканов и тот их выпил и послал по кругу…
– Но ни один не смог выпить, – вставил Котик, – кроме дяди Сандро.
– Кое-кто выпил по шесть-семь стаканов, – уточнил я, пытаясь восстановить какую-то уплывающую деталь рассказа, – а дядя Сандро выпил десять стаканов.
– Ему еще только два стакана оставалось, – зачем-то уточнил Котик.
И вдруг я забыл какую-то тонкость – что, собственно говоря, помешало дяде Сандро выпить эти два стакана? Я остановился, чувствуя, что нарастает неловкое молчание.
– Очень интересно, – сказал Гено, разливая в стаканы араки.
– Ты про музыку не забудь, – напомнил Котик. Ай да Котик!
– Тут вся соль в музыке! – обрадовался я и все вспомнил.
– При чем музыка? – сказал большой сван и придвинул к себе свой стакан.
– Тонкая политика, – сказал сван, что сидел рядом со мной, и тоже придвинул к себе свой стакан.
И вдруг я опять все забыл, видно, переволновался с этим хранителем лесов.
– У дяди Сандро оставалось два стакана, – вмешался Котик, радуясь, что я забыл продолжение, – и он почувствовал, что выпитое стоит у горла, что дальше просто некуда пить…
– Так бывает, когда слишком много выпьешь, – подтвердил большой сван.
– Еще хуже тоже бывает, – сказал Гено.
– И тут ударила музыка! – вдруг вспомнил я все.
– Любимая лезгинка Бичико, – подхватил Котик, – и Бичико бросился танцевать. Он сделал один круг, и вдруг раздался такой звук, как будто барабан лопнул. Он упал и умер. У него что-то внутри лопнуло.
– Здесь тонкая политика, – повторил сван (что когда-то давным-давно сидел со мной в одной машине, а другой сван пытался отнять у меня карабин), – наверное, ваш Сандро договорился с музыкантами.
– Вполне возможно, – сказал Котик.
– Вообще, когда много выпиваешь, танцевать нельзя, – назидательно сказал большой сван.
– Вот эти стаканы подымем, – сказал Гено, – тем более танцевать не собираемся…
Мы выпили по стакану, а потом еще по одному. Гено хотел послать жену за новой бутылкой, но большой сван и Котик решительно, при молчаливом одобрении жены, воспротивились.
Мы распрощались, и ребята вместе со своими попутчиками расселись по машинам. Завели моторы, и, пока вторая машина задним ходом выезжала на дорогу, Гено неожиданно вырвал из кармана пистолет и дал в воздух несколько прощальных выстрелов. Из машин раздались радостные крики.
Жена Гено замахала рукой в сторону дома и что-то сердито прокричала мужу. По какой-то неуловимой интонации я понял, что она прокричала.
– Детей разбудишь, детей! – прокричала она.
– Может, провезти тебя? – сказал Гено, пряча в карман пистолет. – Или оставайся у нас?
– Спасибо, я пойду, – сказал я. Мы братски расцеловались, и я протянул руку его жене. Она неловко перенесла корзину с правой руки в левую и, застеснявшись, протянула мне ладонь.
Я перешел дорогу. Высоко в небе серебрилась луна, покрывая русло реки и нарзанный городок на той стороне колдовским светом. Лунное освещение делает землю пустынней, словно убирая с нее лишние предметы, готовит нас к жизни в том мире, где не будет многих вещей, милых нашему сердцу, но и мучивших нас в этом мире.
На той стороне костер все еще горел, и я был уверен, что вокруг него все еще сидят люди и слушают поучительные истории из жизни дяди Сандро.
– Насчет водолаза как брата прошу! – крикнул Гено.
– Хорошо, – сказал я и обернулся. Жена его быстрой, легкой тенью пересекала двор. Он все еще стоял у ворот.
– Напиши на сельсовет, передадут! – крикнул Гено.
– Хорошо, – сказал я, – если договорюсь…
– Для Гено Иосельяни, не забудь! – крикнул он. Я махнул рукой и стал спускаться вниз к реке. После долгой езды и долгого стояния на одном месте идти было приятно и легко. Голова оставалась ясной и чистой, и, кроме приближающейся реки, пожалуй, в ней ничего не шумело.
…Забегая вперед, должен сказать, что я так и не послал в горы водолаза. Иногда, почему-то по ночам, я вспоминал о своем обещании, и мне бывало совестно. Но дело в том, что у меня нет ни одного знакомого водолаза. А договориться с незнакомым водолазом, чтобы он поехал в горы на заработки, казалось мне делом подозрительным и маловероятным. Вообще, внизу у моря все это выглядит несколько фантастичным, точно так же, как и наша долинная жизнь, когда о ней вспоминаешь где-нибудь в горах, на уровне альпийских лугов.
Дядя Сандро и раб Хазарат
Этот рассказ я услышал от дяди Сандро, когда мы сидели за столиком под тентом в верхнем ярусе ресторана «Амра». Кажется, я повторяюсь, слишком часто упоминая верхний ярус этого ресторана. Но что делать, в нашем городе так мало осталось уютных мест, где, особенно в летнюю жару, можно спокойно посидеть под прохладным бризом, слушая шлепающие и глухие звуки, которые издают ребячьи тела, слетая с вышки для прыжков в воду, слушая их мокрые, освежающие душу голоса, созерцая яхты, иногда с цветными парусами, набитыми ветром до плодово-телесной выпуклости и в наклонном полете (якобы мечта Пизанской башни) состругивающие мягкую гладь залива.
Кстати, о Пизанской башне. Разглядывание ее во всяких альбомах и на любительских снимках всегда вызывало во мне безотчетное раздражение, которое почему-то надо было скрывать. Сам-то я таких альбомов не держу и тем более никогда не имел возможности самому сфотографировать ее. Так что в том или ином виде ее всегда мне кто-нибудь демонстрировал, и каждый раз надо было благодарно удивляться ее идиотскому наклону.
Однако сколько можно падать и не упасть?! Я считаю так: если ты Пизанская башня, то в конце концов или рухни, или выпрямись! Иначе какой воодушевляющий пример устойчивости для всех кривобоких душ и кривобоких идей!
В ночных кошмарах, правда, чрезвычайно редких, я всегда вижу один и тот же сон. Как будто меня привезли в Италию, надежно привязали в таком месте, где я день и ночь вынужден созерцать Пизанскую башню, приходя в круглосуточное бешенство от ее бессмысленного наклона и точно зная, что на мой век ее хватит, при мне она не рухнет.
Этот ночной кошмар усугубляется тем, что какой-то итальянец, вроде бы Луиджи Лонго, однако почему-то и не признающийся в этом, три раза в день приносит мне тарелку спагетти и кормит меня, заслоняя спиной Пизанскую башню и одновременно читая лекцию о еврокоммунизме. И мне вроде до того неловко слушать его, что я еле сдерживаю себя от желания крикнуть:
«Амиго Лонго, отойдите, уж лучше Пизанская башня!»
Во сне я прекрасно говорю по-итальянски, однако же молчу, потому что очень вкусными мне кажутся эти неведомые спагетти. И я вроде каждый раз уговариваю себя: «Вот съем еще одну ложку и скажу всю правду!»
И оттого, что я ему этого не говорю и у меня не хватает воли отказаться от очередной ложки, я чувствую дополнительное унижение, которое каким-то образом не только не портит аппетита, но даже усугубляет его.
И я вынужден выслушивать моего лектора до конца, до последней макаронины, а уж потом, после последней ложки, какая-то честность или остатки этой честности мешают мне сказать ему все, что я думаю. Если б я хоть одной ложкой спагетти пожертвовал, еще можно было бы сказать ему всю правду, а тут нельзя, стыдно, ничем не смог пожертвовать.
И вот он уходит, и тут из-за его спины появляется эта кривобокая башня. Недавно я узнал от друзей, что какой-то польский инженер разработал и даже осуществил проект выпрямления Пизанской башни. Конечно, такой проект должен был сотворить именно поляк. Конечно, в Польше все давно выпрямили, и его тоска по выпрямлению должна была обратиться на Пизанскую башню.
Сейчас мне вдруг пришло в голову: а что, если наклон Пизанской башни был знаком, показывающим некий градус отклонения всей земной жизни от божьего замысла, и теперь мы лишены даже этого призрачного ориентира? Или так: а что, если бедняга Пизанская башня, в сущности, правильно стояла, а это наша земля со всеми нашими земными делами под ней скособочилась?
Итак, мы в верхнем ярусе ресторана «Амра». Действующие лица: дядя Сандро, князь Эмухвари, мой двоюродный брат Кемал, фотограф Хачик и я.
Цель встречи? На такой следовательский вопрос я бы вообще мог не отвечать, потому что цели могло и не быть. Но на этот раз была.
Дело в том, что мой двоюродный брат Кемал, бывший военный летчик, а ныне мирный диспетчер Мухусского аэропорта, находясь в своей машине, мягко говоря, в нетрезвом состоянии, был задержан автоинспектором.
В таком состоянии я его несколько раз видел за рулем, и ему ни разу не изменили его точные рефлексы военного летчика и могучая нервная система.
При мне несколько раз его останавливали автоинспекторы, догадываясь о неблагополучии в машине скорее по чрезмерному шуму веселья на заднем сиденье, чем по каким-то нарушениям.
В таких случаях он обычно, не глядя на автоинспектора и одновременно воздействуя на него своим наполеоновским профилем, тем более что профиль винных запахов не издает, так вот, в таких случаях он, не глядя, сует ему не водительские права, а книжку внештатного корреспондента журнала «Советская милиция».
Книжка воздействует магически. Но на этот раз она не могла сработать. Дело было ночью, и он в машине был один. А когда он, выпивший, ночью в машине едет один, к его точным рефлексам бывшего военного летчика незаметно подключается сдвинутый во времени рефлекс ночного бомбардировщика: ему кажется, что война еще не кончилась и он летит бомбить Кенигсберг, который давно уже восстал из своих руин и, незаметно смягчив в советской транскрипции готическую остроугольность своего названия, превратился в Калининград.
В сталинские времена за один этот его запоздалый рефлекс могли посадить на десять лет. Но в наше чудесное время его только остановил автоинспектор, потому что он, согласно своему запоздалому рефлексу, старался выжать из своих «Жигулей» самолетную скорость.
Кемал затормозил. Ему бы дотерпеть, пока автоинспектор подойдет, и показать ему книжку внештатного корреспондента журнала «Советская милиция». Но он, затормозив, уснул за рулем столь безмятежным сном, что его разбудили только утром в помещении автоинспекции.
Но тут уже в игру вступил сам начальник автоинспекции Абхазии. Пока нарушитель спал, был составлен образцово-показательный акт, и когда он, проснувшись, все еще исполненный своего несокрушимого благодушия, попытался показать свою магическую книжку, у начальника хватило самолюбия не ретироваться.
Кемала лишили водительских прав чуть ли не на полгода. При этом издевательски оставили при нем удостоверение внештатного корреспондента журнала «Советская милиция», в данной комбинации теряющее всякий смысл. Однако он, будучи человеком крайне ленивым по части ходьбы, с таким наказанием никак не мог смириться.
Тут-то мы и обратились за помощью к дяде Сандро. Дядя Сандро свел его с князем Эмухвари. Князь Эмухвари в недалеком прошлом работал директором фотоателье, но к этому времени, как говорят спортсмены, сгруппировался и открыл свою частную фотоконтору.
Конечно, Кемал знал князя и до этого. Но как человек, основную часть своей жизни проведший в Центральной России, где если и оставались еще кое-какие аристократы, они не проявляли ни малейшего желания подходить к военным аэродромам, на которых или возле которых проходила его жизнь. Впрочем, если б они проявили такое странное желание, кто бы их подпустил туда?
И вот он, как человек, лучшие свои годы проведший в нашей славной метрополии, и будучи человеком крайне флегматичным, с некоторым консерватизмом реакции на жизненные впечатления, решил, что с влиянием аристократии в стране давно покончено, и не придавал никакого значения своему знакомству с князем. И тут дядя Сандро, как любимец самой жизни, указал ему на его чересчур отвлеченное понимание законов истории.
Начальник автоинспекции оказался выходцем из деревни, где княжил до революции один из дальних родственников нашего князя. Видно, хорошо княжил, потому что и такого родства оказалось достаточно. Дело быстро уладили.
Пару слов о флегматичности Кемала, потому что потом я об этом могу забыть. Конечно, он флегма, но слухи о его флегматичности сильно преувеличены. Так, сестра моя, например, рассказывает, что, когда он звонит по телефону, особенно по утрам, она по долгим мыкающим звукам узнает, что на проводе Кемал. И она якобы говорит ему:
– Кемальчик, соберись с мыслями, а я пока сварю себе кофе.
И она якобы успевает сварить и снять с огня кофе, пока он собирается с мыслями, а иногда даже поджарить яичницу. Ну с яичницей, я думаю, преувеличение. А турецкий кофе, конечно, можно приготовить, пока он собирается с мыслями.
Он, конечно, флегма, но, если его как следует раскочегарить, он становится неплохим рассказчиком. Мне смутно мерещится, что он заговорит в этом нашем повествовании, но не скоро, а так, поближе к концу. Так что наберемся терпения. Вообще, имея дело с Кемалом, прежде всего надо набраться терпения.
…Ах, как я хорошо помню его первый послевоенный приезд в наш дом! Он приехал, тогда еще стройный, бравый офицер, с толстенькой веселой хохотушкой-женой и бледно-голубым грустным томиком стихов Есенина.
Я, конечно, уже знал стихи Есенина, но видеть их изданными, держать в руках этот томик?! Книжка тогда воспринималась как бледная улыбка выздоровления тяжелобольной России.
Помню беспрерывный смех его жены-хохотушки и погромыхивание его хохота, когда я, тогдашний девятиклассник, прочитал ему собственную «Исповедь», которую я написал немедленно после чтения «Исповеди» Толстого, не только потрясенный ею и даже не столько потрясенный ею, сколько удивленный открывшейся мне уверенностью, что у меня не меньше оснований исповедоваться.
Кемал устроился работать на одном из наших аэродромов, потом они что-то там с хохотушкой-женой не поладили и разошлись. Жена его уехала в Москву, а Кемал женился еще раз, уже окончательно. К этому времени стало ясно, что насчет томика Есенина я ошибался. То, что казалось улыбкой выздоровления, было не чем иным, как брезгливой добавкой тирана в нашу духовную баланду по случаю великой победы над Германией.
После Двадцатого съезда, когда кинулись искать абхазскую интеллигенцию и выяснилось, что она почти полностью уничтожена Берией, а национальную культуру вроде надо бы двигать, Кемала срочно вытащили с аэродрома и назначили редактором местного издательства, где он за несколько лет дослужился до главного редактора. Он был для этого достаточно начитан, имел неплохой вкус и хорошо чувствовал абхазский язык.
У него было несколько столкновений с начальствующими писателями, и я его предупредил, что это плохо кончится.
– Ограничь свою задачу, – сказал я ему, уже будучи газетным волчонком, – помощью молодым талантливым писателям. Не мешай начальствующим бездарностям – иначе они тебя сожрут.
Он посмотрел на меня своими темными воловьими глазищами как на безумца, который предлагает посадить за штурвал самолета необученного человека только потому, что этот человек – начальник. И напрасно.
Примерно через год он написал обстоятельную рецензию на книгу одного начальствующего писателя, доказывая, что книга бездарна. Тот поначалу не очень удивился его рецензии, считая, что рукой рецензента двигает могучая противоборствующая группировка. В провинции, а может, и не только в провинции, у власти всегда две противоборствующие группировки.
И лишь через год, установив, что Кемал с противоборствующей группировкой даже не знаком, начальствующий писатель забился в падучей гнева. Однако, оправившись, он взял себя в руки и стал систематически напускать на него своих интриганов-холуев. Благодаря могучему флегматичному устройству характера Кемала он года два отбивался и отмахивался от этих интриг, как медведь от пчел. А потом все же не выдержал и закосолапил в сторону аэродрома, где, к этому времени растолстев и потеряв взлетную скорость, устроился диспетчером.
И так как он до сих пор там работает, мы вернемся к нашему сюжету, то есть к нашему походу в ресторан «Амра» (верхний ярус) после успешного династического давления князя Эмухвари на не вполне марксистскую психику начальника автоинспекции.
Может создаться впечатление, что Кемал повел всех угощать. Но это совершенно ошибочное впечатление. Кемал так устроен, что тот, который делает ему доброе дело, считает для себя дополнительным удовольствием еще и угостить его.
Такова особенность его обаяния. В чем ее секрет? Я думаю, придется возвратиться к Пизанской башне. В отличие от этой башни, которую мы вспомнили действительно случайно, а теперь якобы случайно к ней возвращаемся, сама фигура Кемала, мощная, низкорослая, вместе с его спокойным, ровным голосом, раскатистым смехом, обнажающим два ряда крепких зубов, производит впечатление исключительной устойчивости, прочности, хорошо налаженной центровки.
Я думаю, существует болезнь века, которую еще не открыли психиатры и которую я сейчас открыл и даю ей название – комплекс Пизанской башни. Прошу зафиксировать приоритет советской науки в этом вопросе.
Современный человек чувствует неустойчивость всего, что делается вокруг него. У него такое ощущение, что все должно рухнуть и все почему-то держится. Окружающая жизнь гнетет его двойным гнетом, то есть и тем, что все должно рухнуть, и тем, что все еще держится.
И вот человек с этим пизанским комплексом, встречаясь с Кемалом, чувствует, что в этом мире, оказывается, еще есть явления и люди, прочные, крепкие, надежные.
И человека временно отпускает гнет его пизанского комплекса, и он отдыхает в тени Кемала и, естественно, старается продлить этот отдых.
Вот так мы шли в ресторан «Амра», когда у самого входа встретили тогда еще неизвестного фотографа Хачика. Увидев князя, он раздраженно дощелкал своих клиентов и бросился обнимать его с радостью грума, после долгой разлуки встретившего своего любимого хозяина. Хачик был так мал, словно постарел, не выходя из подросткового возраста и тем самым как бы сохранив право на резвость.
И конечно, он поднялся с нами в ресторан и уже никому не давал платить, в том числе и Кемалу, если бы, конечно, ему пришло в голову пытаться платить.
Во время застолья Хачик несколько раз подымал красноречивые тосты за своего бывшего директора и говорил, что за сорок лет у него ни до этого, ни после этого не было такого директора.
Князь Эмухвари снисходительно посмеивался. В своих дымчатых очках он был похож на итальянского актера времен неореализма, играющего роль голливудского актера, попавшего в итальянский городок, где его помнят и любят по старым картинам.
Я пытался выяснить у него, чем ему так полюбился князь-директор, но Хачик, с гневным удивлением взглянув на меня, махал рукой в сторону князя и кричал:
– Хрустальная душа! Простой! Простой!
Правда, когда князь отошел, он, видимо, пытаясь отвязаться от моих расспросов, сказал:
– За пять лет работы князь ни разу ни у одного фотографа деньги не попросил! Что надо – получал! Но сам не просил! Простой! А другие директора, не успеешь вечером прийти в ателье, вот так трясут: деньги! А он простой! Ни разу не попросил! Хрустальная душа!
Дядя Сандро так прокомментировал его слова:
– Человек, который все имел, а потом все потерял, еще сорок лет чувствует себя так, как будто он все имеет. А человек, который был нищим, а потом разбогател, еще сорок лет чувствует себя так, как будто он нищий.
И дядя Сандро, конечно, прав. Простота есть безусловное следствие сознания внутренней полноценности. Неудивительно, что это сознание чаще, хотя и не всегда, свойственно людям аристократического происхождения.
Мещанин всегда не прост, и это следствие сознания внутренней неполноценности. Если же он благодаря особой одаренности перерастает это сознание, он прост и естествен, как Чехов.
Однако вернемся к нашим застольцам. Все началось с бутылки армянского коньяка и кофе по-турецки, ну а потом, как водится, пошло. За время застолья Хачик раз десять фотографировал нас в разных ракурсах при одном непременном условии, чтобы в центре фотографии оказывался князь. Иногда он к нам присоединял кофевара Акопа-ага.
Этот высокий старик с коричневым лицом, как бы иссушенным кофейными парами и долгими странствованиями по Ближнему Востоку, откуда он репатриировался, время от времени присаживался к нашему столу и заводил речь об армянах. Его горячий армянский патриотизм был трогателен и комичен. По его словам, получалось, что армяне ужасный народ, потому что ничего хорошего не хотят делать для армян. Его горькие претензии к армянам обычно начинались с Тиграна Второго и кончались Тиграном Петросяном, по легкомыслию, с его точки зрения, прошляпившим шахматную корону. Этот вроде бы не очень грамотный старик знает историю Армении, как биографию соседей по улице.
Сейчас он присел за наш столик, рассеянно прислушиваясь к беседе, чтобы собраться с мыслями и вставиться в очередную паузу.
– Теперь возьмем, – начал Акоп-ага, дождавшись ее, – футбольную команду «Арарат». Теперешний тренер – настоящий гётферан (задолюб). С таким тренером армяне никогда не будут чемпионами. Папазяна взял и поставил хавбеком. Но Папазян когда был хавбеком? Папазян родился форвардом и умрет форвардом. А он его поставил хавбеком. Почему? Потому что пришел на поле растущий Маробян. Хорошо, да, растущего Маробяна поставь на место Папазяна, но Папазяна зачем надо хавбеком? Папазяна переведи на правый край, он одинаково бьет и с правой и с левой. А правый край поставь хавбеком или скажи: «Иди домой, Ленинакан!» – потому что пользы от него нету, где бы он ни стоял. Вот это неужели сам не мог догадаться? Я ему написал, но разве этот гётферан меня послушает? Даже не ответил. Вот так армяне топят друг друга.
Продолжая поварчивать на тренера, Акоп-ага собрал пустые чашки из-под выпитого кофе, поставил их на поднос и ушел за стойку.
Во время застолья речь зашла о знаменитых братьях Эмухвари, деревенских родственниках князя. Дело началось с кровной мести. Три брата Эмухвари, отчаянные ребята, около семи лет, пока их всех не убили, держали в страхе кенгурийскую милицию. Это было в конце двадцатых и начале тридцатых годов. Позже, на политических процессах тридцать седьмого года, почему-то о них вспомнили, и они посмертно проходили на этих процессах как английские шпионы.
– Но как они могли быть английскими шпионами, – сказал дядя Сандро, – когда эти деревенские князья даже не знали, где Англия?
Князь улыбнулся и кивнул головой в знак согласия. И вот в связи с этим делом братьев Эмухвари дядя Сандро рассказал свою историю.
– Вот вы думаете, – начал он, разглаживая усы, – что я абхазцев всегда защищаю, а чужих ругаю. Но это неправильно Я, как Акоп-ага, страдаю душой за наших. И потому я говорю: и раньше, в старые времена, у абхазцев было немало дурости, из-за которой народ наш страдал, и сейчас среди абхазцев не меньше дурости, только теперь она имеет другую форму.
Раньше главная дурость была – это кровная месть. Некоторые роды полностью друг друга уничтожали из-за этого. Нет, я не против кровной мести, когда надо. Это было полезно. Почему? Потому что человек, который против другого человека плохое задумал, знал, что тот человек, против которого он задумал плохое, сам на себе не кончается. За него отомстят его родственники. И это многие плохие дела останавливало, потому что знали: человек сам на себе не кончается.
Но иногда даже стыдно сказать, из-за каких глупостей начиналась кровная месть. Над Чегемом в трех километрах от нашего дома жила прекрасная семья Баталба. Это было еще лет за пятьдесят до моего рождения. И семья эта дружила с родом Чичба из села Кутол. Обе семьи дружили и любили друг друга, как близкие родственники.
Каждый год, когда чичбовцы перегоняли скот на альпийские пастбища, они по дороге останавливались у своих кунаков, несколько дней там кутили, веселились, а потом дальше в горы гнали свой скот. Благодать была, такое время было.
И вот однажды остановились в доме своих кунаков, а вместе с ними был их гость. Он болел малярией, и они взяли его на альпийские луга, чтобы он там окреп и избавился от своей болезни. Тогда так было принято.
И вот они остановились у баталбовцев, те зарезали быка, и они дня два кутили, а когда собрались в дорогу, хозяин им навьючил на осла две хорошие бычьи ляжки.
И это очень не понравилось старшему из чичбовцев, он был строгий старик. Но он ничего не сказал и уехал со своими, погнал стадо в горы. Теперь, почему не понравилось? Потому что, по нашим обычаям (тогда соблюдали, сейчас кто вспомнит?), когда у тебя хороший гость и ты ему что-то зарезал и вы это зарезанное покушали, в дорогу нельзя давать от того, что уже зарезали. Надо специально зарезать что-нибудь еще, чтобы дать в дорогу. Так было принято.
Баталбовцы тут, конечно, сделали ошибку. Потому что отнеслись к чичбовцам как к близким людям и дали им две бычьи ляжки от быка, которого уже кушали. Но они забыли, что вместе с чичбовцами их гость, который, конечно, промолчал, но он не мог не знать, что эти две ляжки от уже зарезанного быка, которого они кушали. И чичбовцам, особенно старшему, было стыдно перед гостем за эти ляжки от быка, которого они уже кушали.
И вот они едут в горы, гонят перед собой сотни овец и коз, а старший чичбовец долго молчал, но наконец не выдержал.
– Эти баталбовцы, – сказал он, – оказывается, нас за людей не считают! Как нищим, бросили нам остатки со своего стола! Но они об этом пожалеют!
Гость, конечно, пытался его успокоить, но тот затаил обиду. И вот так у них пошло. А баталбовцы, между прочим, ничего не подозревают, потому что в те времена сплетни не было и им никто ничего не сказал. Они, бедные, думают: хорошо встретили гостей, хорошо проводили. Какое там хорошо! Но они ничего не знали: сплетни не было тогда еще среди абхазцев.
И вот опять представители этих семей встречаются на одном пиршестве. И тут молодой баталбовец опять допускает ошибку. Когда начали петь, так получилось, что лучших певцов собрали в одном месте. И этот молодой баталбовец оказался рядом с тем старым чичбовцем, который уже считал себя оскорбленным, а теперь этот молодой баталбовец запел возле него. И это было ошибкой, конечно.
Молодой должен был спросить у старого чичбовца:
«Не беспокоит ли мое пение вас? Может, мне отойти подальше?»
И тогда старый ответил бы ему скорее всего:
«Ничего, сынок, пой. Лишь бы нас хуже пения ничего не беспокоило».
Так обычно говорят. Но этот молодой баталбовец ничего не сказал, потому что про старую обиду не знал, а сейчас и подвыпил, и считал этого старика как своего близкого человека.
И вот каждую ошибку отдельно еще, видно, можно было перетерпеть, а две эти ошибки вместе взорвали старика, как атомная бомба.
– Что ты мне в ухо поешь! – оказывается, крикнул старик. – Да вы, баталбовцы, я вижу, совсем нас за людей не считаете!
С этими словами он выхватил кинжал и убил на месте этого юношу. Тут, конечно, крик, шум, женщины. Кое-как загасили, но разве такое надолго можно загасить? Через два дня старика убил отец этого юноши.
И вот так у них пошло. Разве это не дурость? В таких случаях или находятся старые, почтенные люди из обоих сел и они собирают лучших представителей обоих родов и примиряют их. Или один из родов не выдерживает и, как рой из улья, покидает родное село и переселяется куда-нибудь подальше. Или они друг друга уничтожают.
И вот так они живут уже лет десять. Никто никого не трогает, и многие решили, что наконец, может быть, через стариков уладят между собой это дело.
И так получилось, что от баталбовцев остались четыре брата и мать. И в семье чичбовцев тоже остались четыре брата и мать. Но у чичбовцев младший брат был еще слабенький – тринадцать лет ему было. И больше ни у той ни у другой семьи не было близких родственников. Только очень дальние.
А между прочим, выстрел был за баталбовцами. И вдруг в то лето самый яростный, самый храбрый из баталбовцев Адамыр ушел со скотом на летние пастбища, а остальные три брата остались дома. И это могло быть признаком, что баталбовцы хотят мира, мол, вот мы самого сильного нашего парня послали на альпийские луга, мы хотим мира, мы не боимся за свой дом.
Но чичбовцы поняли это по-другому. Нервы у них не выдержали. Чем ждать выстрела от наших врагов, решили они, воспользуемся тем, что Адамыр ушел на летние пастбища, убьем этих трех братьев, потом убьем Адамыра и наконец спокойно заживем.
И они так и сделали. Неожиданно напали на дом баталбовцев, убили трех братьев и угнали весь скот, который оставался дома. А один из чичбовцев, самый смелый, пошел в горы, чтобы опередить горевестника и там убить Адамыра.
Но Адамыр в это время покинул пастухов и ушел охотиться на туров. И там у ледников оставался два дня. А этот чичбовец целый день подстерегал его, не понимая, почему его нет среди остальных пастухов. К вечеру он подошел к балаганам, где жили пастухи, и спросил у них, куда делся их товарищ.
И пастухи, конечно, почувствовали, что дело плохо, но что там внизу случилось, они не знали. Они сказали этому чичбовцу, что Адамыр ушел через перевал в гости к своему кунаку-черкесу и вернется только через неделю. Чичбовцу ничего не оставалось делать, и он ушел вниз, в Абхазию. Ничего, думает, нас четыре брата, а он теперь один.
И вот на следующий день, в полдень, приходит горевестник и рассказывает пастухам, какое страшное горе случилось внизу. И пока пастухи думали, как подготовить Адамыра, он сам показался на горе и стал спускаться к балаганам.
С туром на плечах, сам как тур, спускается к балаганам и издали кричит: мол, почему вы меня не встречаете? Радуется удачной охоте, не знает, что его ждет. И вот он уже близко от балаганов, метрах в тридцати, и пастухи медленно идут навстречу, а он кричит и не понимает, почему пастухи не бегут. Обычно в таких случаях положено помочь удачливому охотнику. Но они не подбегают.
И вдруг он видит среди них чегемца и чувствует, что пастухи ему не радуются. И он останавливается метрах в десяти от них и смотрит на человека, поднявшегося из Чегема, и чувствует страшное, и боится этого. Наконец сбрасывает с плеч тура и спрашивает:
– Что дома?
И горевестник рассказывает ему об этом ужасе, и пастухи говорят, что один из чичбовцев приходил и спрашивал его.
– Передай, – сказал Адамыр горевестнику, – что через два дня, отомстив за братьев, приду их оплакать. А если не приду, значит, и меня вместе с ними оплачьте!
И, не сходя с места, зарядил свое ружье, повернулся, перешагнул через убитого тура и пошел вниз. Трехдневный путь прошел за одни сутки, догнал того чичбовца, который приходил за ним. Убил его, взвалил на плечи, как тура, и, пройдя еще километров десять до ближайшего дома, крикнул хозяина, чтобы он сохранил труп от осквернения до прихода родственников, и, положив его у ворот, пошел дальше.
Уже к рассвету он подошел к дому чичбовцев, поджег коровник, и, когда коровы стали мычать, пытаясь выбежать из огня, братья выскочили из дому. Двух старших Адамыр убил, а младшего, совсем еще мальчика, не стал убивать, а связал ему руки и сказал матери:
– Твои сыновья уничтожили моих братьев. Я последнего твоего сына не буду убивать, но он всю жизнь будет моим рабом. Властям пожалуетесь – на месте убью, а потом что хотят пусть делают.
Итак, он, отомстив за своих братьев, пригнал бедного мальчика к гробам своих братьев и оплакал их, держа одной рукой веревку, к которой был привязан мальчик. И он дал слово братьям до смерти держать рабом последнего чичбовца. Мальчика звали Хазарат.
И люди дивились этому случаю. Некоторые хвалили Адамыра, что он не убил мальчика, некоторые сердились, что он хочет сделать из него раба, а некоторые говорили, что это он сгоряча так решил, а потом остынет и отпустит мальчика.
Но он его не отпустил и около двадцати лет держал в сарае на цепи, как раба. Нашим чегемским старикам это очень не понравилось, но они ничего не могли с ним поделать. Такой он был яростный, одичавший человек. Если бы он жил в самом Чегеме, они бы его, конечно, изгнали из села, но он жил в стороне и никому не подчинялся. Они только ему передали, чтобы он не появлялся в Чегеме.
А власти в те времена вообще на это мало внимания обращали. Если в долинном селе кровник убивал врага и не уходил в лес, его арестовывали. Если уходил в лес, его даже и не искали. Но если кто-то убивал полицейского и писаря, они во что бы то ни стало старались найти убийцу и наказать его. А тут еще бедная мать Хазарата боялась, что он убьет его, и никому не жаловалась.
Адамыр так и не женился, потому что абхазцы стыдились отдавать за него своих дочерей, хотя он несколько раз сватался.
«А как отдашь за него дочь, – рассуждали они, – приедешь в гости к дочери, а там раб. А зачем мне это?»
И так они жили много лет, а потом умерла мать Адамыра, и они остались вдвоем – Адамыр и его раб Хазарат.
Несколько раз в году бедная мать Хазарата посещала своего сына, приносила ему хачапури, жареных кур, вино. Все это Адамыр ей разрешал. Еще он ей разрешал один раз в году стричь ему волосы и бороду и три раза в году разрешал ей купать его. И так, бывало, мать приедет к сыну, дня два посидит возле него, поплачет и уедет.
И вот, когда мне исполнилось восемнадцать лет, я решил освободить Хазарата. Вообще, когда человек молодой, ему всегда хочется освободить раба. Несмотря на молодость, я был уже тогда очень хитрый. Но как освободить? Адамыр больше чем на один день никуда не уезжал. А когда уезжал, собаки никого близко к дому не подпускали.
И вот я потихоньку от домашних сошелся с Адамыром. Если б отец узнал об этом, он бы меня выгнал из дому. Он Адамыра вообще за человека не считал. Наши абхазцы знали, что есть рабство и иногда турки нападали и уводили людей в рабство, но чтобы абхазец сам у себя держал раба, этого не знали.
И вот я постепенно сошелся с Адамыром, делая вид, что интересуюсь охотой, а про раба не спрашивал. Охотник он был редкий, что такое усталость и страх, не понимал.
И вот уже мы с ним несколько раз были на охоте, уже собаки ко мне привыкли и он тоже привык, потому что хотя и свирепый человек, но скучно все время одному. И однажды перед охотой он мне говорит:
– Я покормлю собак, а ты покорми моего раба.
– Хорошо, – говорю, как будто не интересуюсь Хазаратом.
И он мне дает котел молока и полбуханки чурека.
– А ложку, – говорю, – не надо?
– Какую ложку, – кричит, – слей молоко ему в корыто и брось чурек!
И вот я наконец вхожу в этот сарай. Вижу, в углу на кукурузной соломе сидит человек, одетый в лохмотья, с бородой до пояса, и глаза сверкают, как два угля. Страшно. Рядом с ним вижу длинное корыто, а с этой стороны под корыто камень подложен. Значит, наклонено в его сторону. Из этого я понял, что Адамыр тоже к нему слишком близко не подходит. Я уже слышал, что Хазарат однажды, когда Адамыр слишком близко к нему подошел, напал на него, но Адамыр успел вытащить нож и ударить. Рана на Хазарате зажила быстро, как на собаке, но с тех пор Адамыр стал осторожнее. Об этом он сам людям рассказывал.
Я сливаю Хазарату молоко в корыто и говорю ему:
– Лови чурек!
Я так говорю ему, потому что неприятно человеку на землю хлеб бросать, а подойти, конечно, боюсь.
Бросаю. Он – хап! Поймал на лету, и тут я услышал, как загремела цепь. К ноге его была привязана толстая цепь.
Он начал кушать чурек и иногда, наклоняясь к корыту, хлебать молоко. Это было ужасно видеть, и я окончательно решил его освободить. Особенно ужасно было видеть, как он хлебает молоко, жует чурек и иногда смотрит на меня горящими глазами, а стыда никакого не чувствует, что при мне все это происходит. Привык. Человек ко всему привыкает.
И так все это длится несколько месяцев, я все присматриваюсь, чтобы устроить побег Хазарата. И боюсь, чтобы Адамыр про это не узнал, и боюсь, чтобы мои домашние не узнали, что я хожу к Адамыру.
И теперь уже Адамыр ко мне привык и каждый раз перед охотой говорит:
– Я покормлю собак, а ты покорми моего раба. – И я его кормлю. Он ему кушать давал то же самое, что сам ел. Только в ужасном виде. Молоко и мацони сливал в корыто, а если резал четвероногого – бросал ему кусок сырого мяса. Возле него лежало несколько кусков каменной соли, какую скоту дают у нас.
Сейчас, как я слышал, некоторые дураки из образованных кушают мясо в сыром виде. Думают, полезно. Но люди тысячелетиями варили и жарили мясо, неужели они бы не догадались кушать его в сыром виде, если б это было полезно?
Теперь, что делал Хазарат? Он делал только два дела. Он молол кукурузу, руками крутил жернова. Они рядом с ним стояли. От этого у него были могучие руки. И еще он плел корзины. Прутья ему сам Адамыр приносил. Эти корзины Адамыр продавал в Анастасовке грекам, потому что чегемцы у него ничего не брали.
За несколько месяцев Хазарат ко мне привык, и, хотя глаза у него всегда сверкали, как угли, я знал, что он меня не тронет, и близко к нему подходил. Он с ума не сошел и разговаривал, как человек.
И однажды я встретил его бедную мать и тогда еще больше захотел его освободить. Она постелила полотенце на кукурузной соломе, положила на нее курятину, хачапури, поставила бутылку с вином и два стакана.
Мы с ним ели вместе, хотя мне, честно скажу, было это неприятно. А как может быть приятно кушать, когда рядом яма, где он справлял свои телесные дела? Правда, рядом с ямой деревянная лопаточка, которой он все там засыпает. Но все же неприятно. Но я ради его матери сел с ним кушать. А бедная его мать, пока я рядом с ним сидел, все время гладила меня по спине и сладким голосом приговаривала:
– Приходи почаще, сынок, к моему Хазарату, раз уж мы попали в такую беду. Ему же, бедняжке, скучно здесь… Приходи почаще, сынок…
А в это время Адамыр в другом конце сарая стругал ручку для мотыги. Оказывается, он услышал ее слова.
– А мне тоже скучно без моих братьев, – сказал он, не глядя на нас и продолжая ножом стругать ручку для мотыги.
– Эх, судьба, – вздохнула старушка, услышав Адамыра. И я вдруг почувствовал, что мне всех жалко. В молодости это бывает. И Хазарата жалко, и Адамыра жалко, и больше всех жалко эту старушку.
Особенно мне ее жалко стало, когда я увидел в тот день, что она стирает и латает белье Адамыру. Она ему старалась угодить, чтобы он смягчился к ее сыну. Но он уже не мог ни в чем измениться.
Однажды на охоте Адамыр мне сказал:
– Некоторые думают, что я держу раба для радости. Но раба держать нелегко, и радости от него нет. Иногда ночью просыпаюсь от страха, что он сбежал, хотя умом знаю, что он сбежать не мог. За одну ночь о жернов нельзя перетереть цепь. Я уже проверил. А днем я всегда замечу, если он ночью цепь перетирал. Да если и перетрет, куда убежит? Сарай заперт. А если выйдет из сарая, собаки разорвут. И все-таки не выдерживаю. Беру свечу, открываю дверь в сарае и смотрю. Спит. И сколько раз я его ни проверял, никогда не просыпается. Так крепко спит. А я просыпаюсь каждую ночь. Так кому хуже – мне или ему?
– Тогда отпусти его, – говорю, – и тебе полегчает.
– Нет, – говорит, – перед гробом братьев я дал слово. Только смерть снимет с него цепь, а с меня данную братьям клятву.
И вот, значит, я приглядываюсь, присматриваюсь, как освободить Хазарата. Сарай, в котором он привязан, из каштана. На дверях большой замок, а ключ всегда в кармане у Адамыра. Но он изредка уезжал на день или на ночь. И я так решил: сделаю подкоп, напильником перепилю ему цепь, выведу его, чтобы собаки не разорвали, и отпущу на волю. А потом, когда Адамыр вернется, если будет бушевать, я ему подскажу, что, наверное, мать Хазарата принесла ему напильник в хачапури, а подкоп он сам устроил своей деревянной лопатой и от собак как-то отбился. Я, конечно, знал, что он мать Хазарата не тронет.
Вот так я решил, и однажды Адамыр мне сам на охоте говорит:
– Слушай, Сандро, приди ко мне завтра вечером и покорми собак. Мне надо завтра ехать в Атары, я приеду послезавтра утром.
– Хорошо, – говорю.
И вот на следующий день еле дождался вечера. Наши все поужинали и легли спать. Тогда я тихонько встал, взял из кухни фонарь, напильник и пошел к дому Адамыра.
Иду, а самому страшно. Боюсь Адамыра. Боюсь – может быть, он что-то заподозрил о моих планах, притаился где-то и ждет. И я решил, до того как начинать подкоп, обшарить его дом. А если он дома и спросит, что я так поздно пришел, скажу: вспомнил, что собаки не кормлены.
Собаки за полкилометра, почуяв человека, с лаем выскочили навстречу, но, узнав меня, перестали лаять. Я вошел во двор Адамыра, огляделся как следует, потом зашел на кухню, оттуда в кладовку, потом обшарил все комнаты, но его в доме не было.
Тогда я прошел на скотный двор и увидел, что там лежат его три коровы. Вошел в коровник, повыше поднял фонарь и увидел, что там пусто. Тогда я вернулся на кухню, достал чурек, которым собирался кормить собак, но не стал их кормить, а набил кусками чурека оба кармана. Я это сделал для того, чтобы передать чурек Хазарату. Чтобы, когда мы выйдем из сарая и собаки начнут нападать, он им кидал чурек и этим немного собак успокаивал.
Потом я снова вошел в кладовку, снял со стены корзину, с которой собирают виноград, вышел на веранду с корзиной и фонарем и, подняв лопату Адамыра, пошел к сараю, где сидел Хазарат.
Теперь, для чего корзина? Виноградная корзина, она узкая и длинная, для того, чтобы потом, когда прокопаю ход, всю землю перетащить в сарай.
Если землю не перетащить в сарай, Адамыр догадается, что Хазарату кто-то помогал снаружи. И через это он может меня убить.
Ставлю фонарь на землю и начинаю копать точно в том месте, где была привязана цепь с той стороны сарая. Копаю, копаю и удивляюсь, что Хазарат не просыпается. В самом деле, думаю, крепко спит. Наконец все же проснулся.
– Кто ты? – спрашивает, и слышу, как зашевелился в кукурузной соломе.
– Это я, Сандро, – говорю.
– Что надо?
– Прокопаю, – говорю, – тогда узнаешь.
И вот через час я раздвинул рукой кукурузную солому, осторожно поставил фонарь и сам вылез в сарай. Хазарат сидит, и глаза, вижу, горят, как у совы.
– Вот, – говорю, – напильник. Мы перепилим цепь, и ты уйдешь на волю.
– Нет, – мотает он головой, – Адамыр со своими собаками меня все равно выследит.
– Не выследит, – говорю, – ты за ночь уйдешь в другое село, а там он и след потеряет.
– Нет, – говорит, – я отвык ходить. Далеко не смогу уйти. А близко он со своими собаками меня все равно поймает.
– Не поймает, – говорю, – а если ты боишься идти один, я пойду с тобой до Джгерды и спрячу тебя там у одних наших родственников. Потом я вернусь к себе домой, а ты пойдешь куда захочешь.
– Нет, – говорит, – я так не хочу.
– Тогда что делать? – говорю.
Он думает, думает, а глаза горят – страшно.
– Если хочешь мне помочь, – наконец говорит он, – принеси метра в два цепь. Мы привяжем ее к этой цепи, и больше мне ничего не надо.
– Зачем, – говорю, – тебе это?
– Я немножко буду ходить по ночам и привыкну. А потом ты мне поможешь убежать.
– Но ведь он проверяет свою цепь, – говорю, – он сам мне рассказывал.
– Нет, – говорит, – первые пятнадцать лет проверял, а теперь уже не проверяет.
Сколько я его ни уговаривал бежать сейчас – не согласился. И тогда я решил сделать, что он просит.
– Топор, – говорит, – принеси, чтобы сдвинуть кольца.
И вот я среди ночи почти бегу домой, залезаю в наш сарай, достаю из старой давильни, где лежит всякий хлам, цепь, примерно такую, как он просил. Возвращаюсь назад, беру топор Адамыра на кухонной веранде и вползаю в сарай. Пока я ходил, он перепилил напильником свою цепь и пропилил дырки в кольцах с обеих сторон. Я даже удивился, как он быстро все успел. У него были могучие руки от ручной мельницы.
Он взял мою цепь, вставил ее с обеих сторон в кольца, а потом, поставив эти кольца на жернов, обухом топора сдвинул их концы, чтобы ничего не видно было.
– Больше, – говорит, – ничего не надо. Иди! Когда ноги мои окрепнут, я тебе дам знать.
– Может, – говорю, – оставить тебе напильник?
– Нет, – говорит, – больше ничего не надо! Все! Все! Иди! Только с той стороны как следует землю затопчи, чтобы хозяин ничего не заметил.
И вот я, взяв топор и фонарь, осторожно вылезаю наверх.
И потом быстро, быстро заваливаю землю в дыру, а потом как следует затаптываю ее, чтобы ничего не было заметно. Собаки крутятся возле меня, но, думаю, слава богу, собаки говорить не умеют. И тут я вспомнил, что у меня в карманах чурек, и разбрасываю его собакам.
В последний раз с фонарем как следует осмотрев место, где копал, понял, что ничего не заметно, стряхнул с лопаты всю землю и отнес ее вместе с топором и корзиной назад. Все положил туда, где лежало, и так, как лежало. Потушил фонарь и бегом домой. Дома тоже, слава богу, никто ничего не заметил.
И вот проходит время, а я пока сам побаиваюсь идти к Адамыру. Прошло дней пятнадцать – двадцать. Однажды брат Махаз, он в тот день с козами проходил недалеко от усадьбы Адамыра, говорит:
– Сегодня весь день выли собаки Адамыра.
– Это и раньше бывало, – говорят наши, – он иногда уходит на охоту с одной собакой, а другие скучают.
И так об этом забыли. А через неделю слышим, женщина кричит откуда-то сверху, и крик этот приближается к нашему дому. Все, кто был дома, вышли, но никто ничего не может понять.
Крик женщины означает горе. Но он идет прямо с горы над верхнечегемской дорогой, а там никто не живет. Мы с отцом и двумя братьями, Кязымом и Махазом, быстро поднимаемся навстречу голосу женщины. Минут через пятнадцать встречаем мать Хазарата. Щеки разодраны, идет без дороги, по колючкам, ничего не видит. Смотрит на нас, но ничего не может сказать, только рукой показывает в сторону дома Адамыра.
Мы бежим туда, я не знаю, что думать, но все-таки поглядываю на Кязыма, потому что он прихватил с собой винтовку. Вбегаем во двор, а собак почему-то не видно и не слышно.
Я первым открыл сарай. Дверь была просто прикрыта. И вот что мы видим. Мертвый Адамыр лежит на спине, и лицо у него ужасное от страдания, которое он испытал перед смертью. Вся шея в синих пятнах, и голова, как у мертвой курицы, повернута.
А Хазарат лежит на кукурузной соломе, руки сложил на груди, а лицо спокойное-спокойное, как у святого. Он был до того худой, что отец сдернул цепь с его ноги, она уже не держалась. И тогда я вдруг вспомнил слова Адамыра: «Только смерть снимет с него цепь, а с меня данную братьям клятву».
Так и получилось, как он говорил.
– Видно, – сказал мой отец, – Адамыр забылся и слишком близко подошел к Хазарату. А тот кинулся на него и задушил. А потом сам умер от голода, потому что некому было дать ему поесть.
Только я один знал, почему это случилось. Но, конечно, никому ничего не сказал. Между прочим, отец мой, царство ему небесное, был настоящий хозяин. Таких сейчас нет вообще. Несмотря на этот ужас, который мы увидели, он узнал свою цепь! Вижу, вдруг приподнял одной рукой и смотрит, смотрит на свет – там было узкое окно без стекла, – ничего не может понять. Он хочет повыше поднять цепь, чтобы разглядеть как следует, а цепь привязана, не идет. А он сердится, и мне смешно, хотя страшное рядом. Потом отбросил и пожал плечами.
И тут неожиданно снаружи раздались выстрелы.
Выбегаем и видим: Кязым стоит возле скотного двора и стреляет в собак Адамыра. Одну за другой убил шесть собак. Оказывается, собаки, одурев от голода, напали в загоне на собственную корову, разодрали ее и съели. А потом убили еще двух коров, хотя уже скушать их не могли. Вот так одна дикость дает другую дикость, а эта дикость дает третью дикость.
Бедную мать Хазарата сопроводили в ее село вместе с телом сына. Несчастного Адамыра тоже предали земле рядом с его братьями, и на этом кончился его род, заглох окончательно когда-то большой, хлебосольный дом. А потом и дом вместе с сараем постепенно растащили какие-то люди, скорее всего, эндурцы.
И вот с тех пор я много думал про Хазарата. Я думал: почему он в ту ночь не ушел со мной? И я понял, в чем дело. Он боялся, что если уйдет, то не сумеет отомстить. А меня обманул, что разучился ходить. Он ходить мог, но, зная, что Адамыр всегда вооруженный и собаки могут пойти по следу, не хотел рисковать.
Он хотел удлинить цепь и неожиданно прыгнуть на Адамыра и задушить его своими могучими руками, а больше он ни о чем не думал. Он не думал, что умрет с голоду, не думал, что сам освободиться не сможет, он только думал об одном – отомстить за свое унижение. И тогда я понял: раб не хочет свободы, как думают люди, раб хочет одно – отомстить, затоптать того, кто его топтал. Вот так, дорогие мои, раб хочет только отомстить, а некоторые глупые люди думают, что он хочет свободу, и через эту ошибку многое получалось, – закончил Дядя Сандро свою сентенцию и с далеко идущим намеком разгладил усы.
Кемал расхохотался, а князь многозначительно кивнул головой в мою сторону, дескать, учись мудрости у дяди Сандро.
– А то, что этих бедных князей Эмухвари обвинили как английских шпионов, – добавил дядя Сандро, – это просто глупость. Они даже не знали, что есть такая страна Англия. А я был в Англии в тридцатых годах вместе с ансамблем Панцулая. Нас возили по стране, и я заметил, что Англия неплохая страна. Прекрасные пастбища я там заметил, но овец почему-то не было. Но для коз Англия не годится. Коза любит заросли колючек, кустарники любит, а овца любит чистые пастбища. Не пойму, почему они овец не разводят.
– Разводят, – сказал я, чтобы успокоить дядю Сандро.
– А-а-а, – кивнул дядя Сандро удовлетворенно, – значит, послушались меня. Лет двадцать тому назад сюда приезжал английский писатель по имени Пристли. Ты слышал про такого?
– Да, – сказал я.
– Читал?
– Да, – сказал я.
– Ну как?
– Да так, дядя Сандро, – сказал я, – ничего особенного.
Дядя Сандро засмеялся не совсем приятным для меня смехом.
– Я уже заметил, – сказал дядя Сандро, – вот эти пишущие люди интересно устроены, никогда про другого ничего хорошего не скажут. А вот я, когда танцевал в ансамбле, всегда признавал, что Пата Патарая первый танцор, хотя на самом деле я уже лучше него танцевал… Но дело не в том. Этому Пристли тогда у нас прекрасную встречу устроили. Показали ему лучший санаторий, показали ему самого бодрого долгожителя, самый богатый колхоз и меня, конечно, с ним познакомили. Я был тамадой за столом. И он сидел рядом со мной, вернее, между нами сидела переводчица. И мы с ним разговорились. Я ему тогда сказал, что был в Англии и видел там хорошие пастбища, но овец не видел. И я ему подсказал, чтобы английские фермеры овец разводили.
– А он что? – спросил я.
– А он, – отвечал дядя Сандро, – сказал: хорошо, я им передам. Значит, выходит, передал. И еще он вот что сказал. Фермерам, говорит, я передам про овец. Но у нас в парламенте и так слишком много овец сидит. Значит, критикует свое правительство. Тогда я понял, почему его так хорошо у нас встречают. А теперь я у тебя спрашиваю: ты, находясь в чужой стране, хотя бы про обком можешь сказать, что там козы сидят? При этом учти, что козы умнее овец.
– Нет, – сказал я.
– Э-э-э, – сказал дядя Сандро.
Князь улыбнулся, а Кемал расхохотался. Хачик отскочил от стола и с колена запечатлел эту картину.
Мы выпили по рюмке. Акоп-ага принес свежий кофе, и, когда снял чашечки с подноса и приподнял его, поднос сверкнул на солнце, как щит. Акоп-ага присел за стол и, поставив поднос на колени, придерживал его руками и время от времени, постукивая по нему ногтем, прислушивался к тихому звону.
Кемал обычно посещал другие злачные места и поэтому плохо знал Акопа-ага. Мне захотелось, чтобы он послушал ставшую уже классической в местных кругах его новеллу о Тигранкерте.
– Акоп-ага, – сказал я, – я долго думал, почему Тигран Второй, построив великий город Тигранкерт, дал его сжечь и разграбить римским варварам? Неужели он его не мог защитить?
И пока я у него спрашивал, Акоп-ага горестно кивал головой, давая знать, что такой вопрос не может не возникнуть в любой мало-мальски здравой голове.
– О, Тигранкерт, – вздохнул Акоп-ага, – все пиль и пепель… Это бил самый красивый город Востокам. И там били фонтаны большие, как деревьям. И там били деревьям, на ветках которых сидела персидская птица под именем павлинка. И там по улицам ходили оленям, которые, видя мужчин, вот так опускали глаза, как настоящие армянские девушкам. А зачем? Все пиль и пепель.
Может, Тигранкерт бил лучи, чем Рим и Вавилон, но мы теперь не узнаем, потому что фотокарточкам тогда не было. Это случилось в шестьдесят девятом году до нашей эры, и, если б Хачик тогда жил, он бил би безработным или носильщиком… Фотографиям тогда вобче не знали, что такой.
Но разве дело в Хачике? Нет, дело в Тигране Втором. Когда этот римский гётферан Лукулл окружил Тигранкерт, Тигран взял почти все войска и ушел из города. Тигран-джан, зачем?!
Это бил великая ошибка великого царя. Тигранкерт имел крепкие стен, Тигранкерт имел прекрасная вода, такой соук-су, что стакан залпом никто не мог випить, и Тигранкерт имел запас продуктам на три года и три месяца! А зачем? Все пиль и пепель!
Тигран-джан, ты мог защитить великий город, но надо было сначала вигнать всех гётферанов-греков, потому что они оказались предателями. Зачем грекам армяне? И они ночью по-шайтански открыли воротам, и римские солдаты все сожгли, и от города остался один пиль и пепель.
А пока они окружали его, что сделал Тигран? Это даже стидно сказать, что он сделал. Он послал отряд, который прорвался в город, но вивиз что? Армянский народ, да? Нет! Армянских женщин и детей? Да? Нет! Вивиз свой гарем, своих пилядей, вот что вивиз! Это даже стидно для великого царя!
О Тигран, зачем ты построил Тигранкерт, а если построил, зачем дал его на сжигание римским гётферанам?! Все пиль и пепель!
Пока он излагал нам историю гибели Тигранкерта, к нему подошел клиент и хотел попросить кофе, но Хачик движением руки остановил его, и тот, удивленно прислушиваясь, замер за спиной Акопа-ага.
– Сейчас проси! – сказал Хачик, когда Акоп-ага замолк, скорбно глядя в непомерную даль, где мирно расцветал великий Тигранкерт с фонтанами большими, как деревья, с оленями, застенчивыми, как девушки, и с греками, затаившимися внутри города, как внутри троянского коня.
– Два кофе можно? – спросил человек, теперь уже не очень уверенный, что обращается по адресу.
– Можно, – сказал Акоп-ага, вставая и кладя на поднос пустые чашки, – теперь все можно.
Немного поговорив о забавных чудачествах Акопа-ага, мы вернулись к рассказу дяди Сандро о Хазарате. Версия дяди Сандро о причине, по которой Хазарат отказался уходить с ним, была оспорена Кемалом.
– Я думаю, – сказал Кемал, отхлебывая кофе и поглядывая на дядю Сандро своими темными глазами, – твой Хазарат за двадцать лет настолько привык к своему сараю, что просто боялся открытого пространства, хотя, конечно, и мечтал отомстить Адамыру. Вообще природа страха бывает удивительна и необъяснима.
Помню, в конце войны наш аэродром базировался в Восточной Пруссии. Однажды я со своим другом Алешей Старостиным пошел прогуляться подальше от нашего поселка. Мы с ним всю войну дружили. Это был великолепный летчик и прекрасный товарищ. Мы с ним на книгах сошлись. Мы были самые читающие летчики в полку, хотя, конечно, и выпить любили, и девушек не пропускали. Но сошлись мы на книгах, а в ту осень увлекались стихами Есенина, и у нас у обоих блокноты были исписаны его стихами.
И вот, значит, погода прекрасная, мы гуляем и проходим через какие-то немецкие хуторки. Дома красивы, но людей нет, почти все сбежали. На одном хуторке мы остановились возле такого аккуратненького двухэтажного домика, потому что возле него росла рябина, вся в красных кистях.
И вот, как сейчас вижу его, Алеша с хрустом нагибает эту рябинку – не выдержала его русская душа, – и сам он весь хрустящий от ремней и молодости, такой он перед моими глазами, обламывает две ветки и отпускает деревцо.
Одну ветку протягивает мне, и мы стоим с этими ветками, поклевываем рябину и рассуждаем о том, где же располагались батраки, если кругом помещичьи дома.
И вдруг открывается дверь в этом доме, и оттуда выходит старик и зовет нас:
– Русс, заходить, русс, заходить!
Вообще-то нас предупреждали, чтобы мы насчет партизан были начеку, но мы ни хрена не верили в немецких партизан. Да и откуда взяться партизанам в стране, где каждое дерево ухожено, как невеста?
– Пошли?
– Пошли.
И вот вводит нас старик в этот дом, мы поднимаемся наверх и входим в комнату. Смотрю, в комнате две женщины – одна совсем девушка, лет восемнадцати, а другая явно юнгфрау лет двадцати пяти. Я сразу глаз положил на ту, которая постарше, она мне понравилась. Но для порядка говорю своему дружку, я же его знаю как облупленного:
– Выбирай, какая тебе нравится?
– Молоденькая, чур, моя! – говорит.
– Идет!
Вижу, и они обрадовались нам, оживились.
– Кофе, кофе, – говорит юнгфрау.
– Я, я, – говорю.
По-немецки значит «да».
И вот она нам приготовила кофе, надо сказать, кофе был хреновейший, вроде из дубовых опилок сделанный. Но что нам кофе? Молодые, очаровательные девушки – вижу, на все готовы. И старик, конечно, не против. Они боялись наших, и заручиться дружбой двух офицеров значило обезопасить себя от всех остальных.
Одним словом, посидели так, и я говорю:
– Абенд. Консервы. Шнапс. Брод. Шоколад.
– О! – загорелись глаза у обеих. – Данке, данке.
Они, конечно, поголадывали. И вот мы вечером приходим, приносим с собой спирт, консервы, колбасу, хлеб, шоколад. Сидим ужинаем, пьем. А старик, оказывается, в Первую мировую войну был у нас в плену и немного говорит по-русски. Но лучше бы он совсем не говорил. Путается, хочет все объяснить, а на хрена нам его объяснения? И все доказывает, что он антифашист. Они теперь все антифашистами сделались, так что непонятно, с кем мы воевали столько времени.
То ли дело эти молодые немочки, все с полуслова понимают… Мы с Алешей выпили как следует, наши барышни тоже подвыпили, и мы пошли танцевать под патефон. На каждой пластинке написано «Нур фюр дойч» – значит, только для немцев. И я, когда ставлю пластинку, нарочно спрашиваю:
– Нур фюр дойч?
– Найн! Найн! – смеются обе.
Ну, раз найн – пошли танцевать. Наконец старик опьянел и уже стал молоть такую околесицу, что его и племянницы перестали понимать. Он был их дядей. А нам он еще раньше надоел. Так что мы обрадовались, когда моя юнгфрау повела его вниз укладывать спать.
Теперь мы одни. Попиваем, танцуем, одним словом, кейфуем. Ну я так слегка прижимаю мою немочку и спрашиваю:
– Нур фюр дойч?
– Шельма, шельма, – смеется она, – русиш шельма!
– Найн, – говорю, – кавказиш шельма.
– О, шёнсте Кауказ! – говорит.
Мы с Алешей остались на ночь в двух верхних комнатах. Так начался наш роман, который длился около двух месяцев, с перерывами, конечно, на боевые вылеты. Пару раз ребята из аэродромной службы сунулись было к нам, но, быстро оценив обстановку, ретировались. Свои ребята, сразу все усекли.
И вот мы приходим однажды к нашим девушкам. Мою звали Катрин, я ее Катей называл, а молоденькую звали Гретой…
Тут дядя Сандро перебил Кемала.
– Ты совсем русским стал, – сказал он, – зачем ты называешь имя своей женщины при мне?
– А что? – спросил Кемал.
– Вот до чего ты глупый, – сказал дядя Сандро, – ты же знаешь, что это имя моей жены. Надо было тебе изменить его, раз уж ты решил рассказывать при мне.
– Ну ладно, – захохотал Кемал, – я ее больше не буду называть.
– Дурачок, – сказал дядя Сандро, – раз уж назвал, теперь некуда деться, рассказывай дальше.
– Так вот, – продолжал Кемал, поглядывая на дядю Сандро все еще смеющимися глазами, – однажды мы, как обычно, заночевали у наших подружек. Часа в три ночи просыпаюсь и выхожу из дома по нужде.
Вдруг слышу, подкатывает мотоцикл, останавливается, и двое, я их различаю по шагам, подымаются в дом.
Вот, черт, думаю, попались, как идиоты! У меня пистолет под подушкой, а сам я стою за домом в трусах, майке и тапках. Трудно представить более глупую ситуацию. Да еще слегка под балдой. На ночь спирту тяпнули, конечно. Вот, думаю, смеялись про себя, когда нам говорили про бдительность и партизан, и на тебе! Напоролись! Неужели наши подружки оказались предательницами? Нет, не могу поверить! И мне нравится моя… как там ее ни называй…
– Называй, называй, чего уж прятаться! – вставил дядя Сандро.
– Да, – продолжал Кемал, – и мне нравится моя Катя, и я, чувствую, ей нравлюсь, а эти вообще без ума друг от друга. Значит, нас этот антифашист предал? И товарища бросить не могу, и буквально голым – ха-ха! – не хочется попадаться немцам в руки.
Ну ладно, думаю, была не была! Высунулся на улицу. Никого. Стоит немецкий мотоцикл с коляской. Подошел к двери, слышу, раздаются голоса, но ничего понять невозможно.
Единственно, что я понял, – голоса доносятся с той стороны, где спит мой товарищ. И я решил подняться и проскочить в свою комнату, пока они у Алексея. Главное – добраться до пистолета. Но, конечно, я понимал: если нас девушки предали – нам хана, потому что в этом случае моя первым делом должна была отдать им пистолет. Но делать нечего, тихо открываю дверь и быстро поднимаюсь по лестнице.
И вдруг слышу: из комнаты Алексея доносится русская речь! Сразу отпустило! Стою на лестнице и с удовольствием слушаю русскую речь, не понимая, о чем там говорят. И только примерно через полминуты очухался, начинаю улавливать интонацию. Слышу, очень резкий голос доносится. Ага, думаю, патруль. Ну, нас патрулями не испугаешь. Вхожу в комнату. Моя Катя, вижу, бледная, в ночной рубашке стоит посреди комнаты и тихо говорит:
– Русиш командирен, русиш командирен…
Тогда я открываю дверь и сильным голосом кричу через лестничную площадку:
– Что там случилось, Алексей?
– Да вы тут не один! – слышу голос, и потом распахивается дверь, и на площадке появляется какой-то майор, а за ним солдат.
– Безобразие! – говорит майор и оборачивается к Алексею, а тот уже одетый стоит в комнате. – Почему вы не сказали, что вы здесь не один?
Бедняга что-то залепетал. Видно, он решил хотя бы прикрыть меня, если уж сам попался.
– Потрудитесь одеться! – приказал майор.
А я вижу, этот майор – штабная крыса. Мы, фронтовики, с одного взгляда узнавали человека, который живого боя не видел, хоть увешивай его орденами до пупа.
И я вижу, мой Алексей, храбрейший летун, четырежды раненный, дважды посадивший горящий самолет, дрожит перед этим дерьмом.
Вы ведь знаете, меня из себя трудно вывести, но тут я психанул.
– Товарищ майор, – говорю стальным голосом, – прошу вас немедленно покинуть помещение!
Вижу, растерялся, но форс держит. Оглядывается на Алексея, понимает, что он старший лейтенант, а по моему виду ни хрена не поймешь.
– Ваше звание? – спрашивает. Я поворачиваюсь, подхожу к кровати, вытаскиваю из-под подушки пистолет и снова к дверям.
– Вот мое звание! – говорю.
– Вы бросьте эти замашки, – отвечает он, – сейчас не сорок первый год!
– Конечно, – говорю, – благодаря вашей штабной заднице сейчас не сорок первый год!
– Я вынужден буду доложить обо всем в вашу часть, – говорит и спускается вниз по лестнице. Солдат за ним.
– Докладывайте, – говорю, – а что вы еще умеете!
Они вышли. Мы молчим. Мотоцикл затарахтел и затих.
– Ты, – говорит Алексей, – с ним очень грубо обошелся. Теперь нас затаскают.
– Не бойся, – говорю, – нас с тобой достаточно хорошо знает наше начальство. Подумаешь, у немочек заночевали…
– Но ты же угрожал ему пистолетом, – говорит он, – ты понимаешь, куда он это может повернуть?
– А мы скажем, что он врет, – отвечаю я, – скажем, что он сам хотел остаться с бабами и от этого весь сыр-бор. Чего это он в три часа ночи шныряет на мотоцикле?
– Конечно, – говорит Алексей, – теперь надо так держаться. Но ты напрасно нахальничал с ним.
Я-то понимаю, что ему теперь неловко перед своей Греточкой. Слов, конечно, они не понимали, но все ясно было и без слов: я выгнал майора, который заставил его одеться.
И я, чтобы смягчить обстановку, разливаю спирт, и мы садимся за стол. Сестрицы расщебетались, а Греточка поглядывает на меня блестящими глазами, и темная прядка то и дело падает на лоб. Хороша была, чертовка!
Одним словом, выпили немного и разошлись по комнатам.
– Майор гестапо? – спрашивает у меня Катя.
– Найн, найн, – говорю. Этого еще не хватало. Но вижу – не верит.
Через день у нас боевой вылет. Я благополучно приземлился, поужинал в столовке со своим экипажем, а потом подхожу к Алексею, он почему-то сидит один, и говорю:
– Отдохнем и со свежими силами завтра к нашим девочкам.
Вижу, замялся.
– Знаешь, Кемал, – говорит, – надо кончать с этим.
– Почему кончать? – спрашиваю.
– Затаскают. Потом костей не соберешь.
– Чего ты боишься, – говорю, – если он накапал на нас, уже ничего не изменишь.
– Нет, – говорит, – все. Я – пас.
– Ну как хочешь, – говорю, – а я пойду. А что сказать, если Грета спросит о тебе?
– Что хочешь, то и говори, – отвечает и одним махом, как водку, выпивает свой компот и уходит к себе.
Он всегда с излишней серьезностью относился к начальству. Бывало, выструнится и с таким видом выслушивает наставления, как будто от них зависит, гробанется он или нет. Я часто вышучивал его за это.
– Ты дикарь, – смеялся он в ответ, – а мы, русские, поджилками чуем, что такое начальство.
Ну что ж, вечером являюсь к своим немочкам. По дороге думаю: что сказать им? Ладно, решаю, скажу – заболел. Может, одумается.
Прихожу. Моя ко мне. А Греточка так и застыла, и только темная прядка, падавшая на глаза, как будто еще сильней потемнела.
– Алеша?! – выдохнула она наконец.
– Кранк, – говорю, – Алеша кранк.
Больной, значит.
– Кранк одер тот? – строго спрашивает она и пытливо смотрит мне в глаза. Думает, убит, а я боюсь ей сказать.
– Найн, найн, – говорю, – грипп.
– О, – просияла она, – дас ист нихтс.
Ну мы опять посидели, выпили, закусили, потанцевали. Моя Катя несколько раз подмигивала мне, чтобы я танцевал с ее сестрой. Я танцую и вижу, она то гаснет, то вспыхивает улыбкой. Стыдно ей, что она так скучает. Ясное дело, девушка втрескалась в него по уши.
Моя Катя, как только мы остались одни, посмотрела на меня своими глубокими синими глазами и спрашивает:
– Майор?
Ну как ты ей соврешь, когда в ее умных глазках вся правда. Я пожал плечами.
– Бедная Грета, – говорит она. Забыл сейчас, как по-немецки.
– Ер ист кранк… – Он больной, значит.
– Да говори ты прямо по-русски! – перебил его дядя Сандро. – Что ты обкаркал нас своими невозмутимыми «кар», «кар», «кар»!
– Так я лучше вспоминаю, – сказал Кемал, поглядывая на дядю Сандро своими невозмутимыми воловьими глазами.
– Ну ладно, говори, – сказал дядя Сандро, как бы спохватившись, что, если Кемал сейчас замолкнет, слишком много горючего уйдет, чтобы его снова раскочегарить.
– Да, м-м-м… – замыкал было Кемал, но довольно быстро нашел колею рассказа и двинулся дальше.
– Одним словом, я еще надеюсь, что он одумается. На следующий день встречаю его и не узнаю. За ночь почернел.
– Что с тобой? – говорю.
– Ничего, – говорит, – просто не спал. Как Грета?
– Ждет тебя, – говорю, – но сестра догадывается.
– Лучше сразу порвать, – говорит, – все равно я жениться не могу, а чего резину тянуть?
– Глупо, – говорю, – никто и не ждет, что ты женишься. Но пока мы здесь, пока мы живы, почему бы не встречаться?
– Ты меня не поймешь, – говорит, – для тебя это обычное фронтовое блядство, а я первый раз полюбил.
Тут я разозлился.
– Мандраж, – говорю, – надо называть своим именем, и нечего выпендриваться.
И так мы немного охладели друг к другу. Я еще пару раз побывал у наших подружек и продолжаю врать Греточке, но чувствую, не верит и вся истаяла. Жалко ее, и нам с Катей это мешает.
Мне и его жалко. Он с тех пор замкнулся, так и ходит весь черный. А между тем нас никуда не тянут. И я думаю: майор оказался лучше, чем мы ожидали. Через пару дней подхожу к Алексею.
– Слушай, – говорю, – ты видишь, майор оказался лучше, чем мы думали. Раз до сих пор не капнул, значит, пронесло. Я же вижу, ты не в своей тарелке. Ты же гробанешься с таким настроением!
– Ну и что, – говорит, – неужели ребята, которых мы потеряли, были хуже, чем мы с тобой?
Ну, думаю, вон куда поплыл. Но виду не показываю. Мы, фронтовики, такие разговоры не любили. Если летчик начинает грустить и клевать носом – того и жди: заштопорит.
– Конечно, нет, – говорю, – но война кончается. Глупо погибнуть по своей вине.
Вдруг он сморщился, как от невыносимой боли, и говорит:
– Кстати, можешь больше не врать про мою болезнь. По-моему, я ее видел сегодня в поселке, и она меня видела.
– Хватит ерундить, – говорю, – пошли сегодня вечером, она же усохла вся, как стебелек.
– Нет, – говорит, – я не пойду.
Теперь уже самолюбие и всякое такое мешает. Он очень гордый парень был и в воздухе никому спуска не давал, но и мандраж этот перед начальством у него был. Это типично русская болезнь, хотя, конечно, не только русские ею болеют.
И вот я в тот вечер опять прихожу к девушкам со всякой едой и выпивкой. Подымаюсь наверх и не обращаю внимания на то, что нет большого зеркала, стоявшего в передней. Захожу в комнату, где мы обычно веселились, и вижу, обе сестрички бросаются ко мне. Но моя Катя как бешеная, а у Греточки личико так и полыхает радостью. У меня мелькнуло в голове, что Алексей днем без меня все-таки зашел.
– Майор ист диб! – кричит Катя, то есть вор, и показывает на комнату. – Майор цап-царап! Аллее цап-царап!
– Я, я, – восторженно добавляет Греточка, показывая на голую комнату – ни венских стульев, ни дивана, ни шкафа, ни гобелена на стене, – один только стол, – майор ист диб! Майор ист нихт гестапо! Заге Алеша! Заге Алеша!
Значит, скажи Алеше.
– Это возмутительно! – кричит старик. – Цап-царап домхен антифашистик!
Сейчас это звучит смешно, а тогда я впервые почувствовал, что кровь в моих жилах от стыда загустела и остановилась. Конечно, грабили многие, и мы об этом прекрасно знали. Но одно дело, когда ты знаешь этих людей, да еще связан с женщиной, которая рассчитывала на твою защиту. Никогда в жизни я не испытывал такого стыда.
А главное, Греточка – вся рассиялась, глаза лучатся, невозможно смотреть. Она решила, что раз майор обчистил их дом, значит, он не может быть энкавэдэшником, а раз так, Алеше нечего бояться. Как объяснить ей, что все сложней, хотя майор и в самом деле был штабистом.
Так вот, значит, почему он шнырял в три часа ночи на мотоцикле: смотрел, где что лежит. Только поэтому и не накапал на нас.
Я сказал Грете, что обо всем расскажу Алеше, и старику соврал, что буду жаловаться на майора. Надо же было их как-нибудь успокоить. Девушки притащили откуда-то колченогие стулья, мы поужинали, и я со стариком крепко выпил.
На следующий день я все рассказал Алексею и вижу: он немного ожил.
– Хорошо, – говорит, – завтра пойдем попрощаемся. Кажется, на днях нас перебазируют.
Но мы так и не попрощались с нашими девушками. Нас перебазировали в ту же ночь. Новый аэродром находился в двухстах километрах от этого местечка.
Алексей все еще плохо выглядел, и меня не покидало предчувствие, что он должен погибнуть. И я, честное слово, облегченно вздохнул в тот день, когда его ранило. Рана была нетяжелая, и вскоре его отправили в госпиталь, в Россию.
На этот раз мы жили в небольшом городке. Однажды с ребятами вышли из кафе и поджидаем у входа товарища, который там замешкался.
– Кемал, – говорит один из ребят, – эта немочка с тебя глаз не сводит.
Я оглянулся, смотрю, шагах в пятнадцати от нас стоит немочка, приятная такая с виду, и в самом деле мне улыбается. Ясно, что мне. Я, конечно, слегка подшофе, тоже улыбаюсь ей как дурак и подхожу познакомиться.
Господи, это же Катя! Как это я ее сразу не узнал! Сейчас она была в пальто, в шапке, а я ее никогда такой не видел. Оказывается, она меня искала!
Ну, я прощаюсь с ребятами и снова захожу в кафе.
– Как Грета? – спрашиваю.
– О, Грета трауриг, – вздыхает она и качает головой.
Я объяснил ей, что Алеша ранен и отправлен в тыл. Мы переночевали в квартире у женщины, где она остановилась. Ночью она несколько раз плакала, вздыхала и повторяла:
– Шикзаль…
Значит, судьба. Я почувствовал, что она хочет что-то сказать, но не решается. Утром, когда мы встали, она сказала, что беременна. Смотрит исподлобья своими внимательными, умными глазками и спрашивает:
– Киндер?
Ну что я мог ей ответить?! Разве можно ей объяснить, что это посложнее, чем выгнать майора?!
– Найн, – отрезаю, и она опустила голову.
В тот же день мы расстались, и я ее больше никогда не видел. А с Алексеем мы увиделись через тридцать лет в Новгороде на встрече ветеранов нашего полка.
Мы все, приехавшие со всех концов страны ветераны, остановились в одной гостинице, где в тот вечер предстоял банкет во главе с нашим бывшим командиром полка, теперь генералом. Все это время я ничего об Алексее не знал, даже не знал, жив ли он.
Заняв номер, спустился к администратору и спросил у него – не приехал ли Алексей Старостин? Он посмотрел в свою книгу и кивнул: да, приехал, живет в таком-то номере.
Подымаюсь к нему, примерно часа за два до банкета. Смотрю: елки-палки, что время делает с нами! Разве я когда-нибудь узнал бы в этом облысевшем, как и я, человеке того молодого, как звон, красавца летчика, в далеком военном году обламывавшего ветки прусской рябины в красных кистях! А он смотрит на меня и, конечно, не узнает: мол, что от меня хочет этот лысый толстяк? Я расхохотался, и тут он меня узнал.
– А-а-а, – говорит, – Кемал! Только зубастая пасть и осталась!
Ну, мы обнялись, поцеловались, и я его повел в свой номер. Я с собой привез хорошую «Изабеллу». Сидим пьем, вспоминаем минувшие дни. И конечно, вспоминаем наших немочек.
– Ах, Греточка! – говорит он, вздыхая. – Ты даже не представляешь, что это было для меня! Ты не представляешь, Кемал! Я потом демобилизовался, женился, летал на пассажирских, у меня, как и у тебя, двое взрослых детей. Сейчас работаю начальником диспетчерской службы, пользуюсь уважением и у райкома, и у товарищей, а как подумаю, диву даюсь. Помнишь, у Есенина: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне!» Кажется, там, в Восточной Пруссии, в двадцать четыре года закончилась моя жизнь, а все остальное – какой-то странный, затянувшийся эпилог! Ты понимаешь это, Кемал?
И надо же, бедный мой Алексей прослезился. Ну, я его, конечно, успокоил, и тут он вдруг заторопился на банкет.
– Да брось ты, Алеша, – говорю, – посидим часок вдвоем. Наши места никто не займет, а они теперь на всю ночь засели.
– Ну что ты, Кемал, – говорит, – пойдем. В двадцать ноль-ноль генерал будет открывать торжественную встречу. Неудобно, пошли!
Ну что ты ему скажешь? Пошли. Такой он был человек, а летчик был первоклассный, в воздухе ни хрена не боялся!
На этом Кемал закончил свой рассказ и оглядел застольцев, медленно переводя взгляд с одного на другого.
– Слава богу, кончил, – сказал дядя Сандро, – еще бы немножко, и мы бы заговорили по-немецки!
Все рассмеялись, а князь разлил коньяк по рюмкам и сказал:
– И по работе он не так уж далеко ушел от тебя.
– Да, – сказал Кемал, – начальник диспетчерской службы, особой карьеры не сделал.
– Он не должен был бросать эту девушку, пока их не перевели в другое место, – сказал дядя Сандро и, чуть подумав, добавил: – А ты понял, почему он в последний раз согласился прийти попрощаться с ней?
– Ясно почему, – ответил Кемал, – он понял, что майор на нас не накапал и, значит, за нами никто не следит.
– Дурачок, – в тон ему отозвался дядя Сандро, – твой же рассказ тебе должен объяснять. Когда он согласился пойти попрощаться со своей девушкой, он уже знал, что в ту же ночь вас переведут в другое место.
– Нет, – засмеялся Кемал, – такие вещи держали в строгой секретности.
– Как нет, когда да! – возразил дядя Сандро. – Я же лучше знаю! Он вертелся возле начальства, и кто-то ему тихо сказал.
– Оставьте человека! – вступился за него князь, подымая рюмку. – Он, бедняга, и так наказан судьбой. Лучше выпьем за Кемала, угостившего нас хорошим фронтовым рассказом.
– Кто чем угощает, а Кемал рассказом, – уточнил дядя Сандро, насмешливо поглядывая на Кемала, – отбивает хлеб у своего дяди. Только «кар» нам больше не надо!
– А мне жалко этого человека, – сказал маленький Хачик, – бедный, любил… Потому плакал… Если б не любил, не плакал…
– Да нет, – начал Кемал возражать, но, неожиданно замолкнув, сунул палец в ухо и стал с нескрываемым наслаждением прочищать его. Движения Кемала напоминали движения человека, пахтающего масло, или водопроводчика, пробивающего своей «грушей» затор в раковине умывальника.
Кемал довольно долго, морщась от удовольствия, прочищал таким образом ухо, полностью отключившись от присутствующих, что присутствующим почему-то было обидно. Дядя Сандро молча с укором глядел на него, как бы улавливая в его действиях еще четко не обозначенный абхазским сознанием, но уже явно раздражающий оттенок фрейдистского неприличия.
– Что нет?! – наконец не выдержал дядя Сандро.
Кемал преспокойно вынул палец из уха, оглядел его кончик, словно оценивая на глазок качество спахтанного масла, видимо, остался этим качеством недоволен, потому что на лице его появилась гримаса брезгливого недоумения, явно вызванная огорчительной разницей между удовольствием от самого процесса пахтания и прямо-таки убогим результатом его. С этим выражением он вытащил другой рукой из кармана платок, вытер им палец, сунул платок в карман и как ни в чем не бывало закончил фразу:
– …Просто его немного развезло от «изабеллы», он чересчур приналег на нее…
Как и всякий мужчина, много увлекавшийся женщинами, Кемал не придавал им большого значения.
– Акоп-ага, – крикнул Хачик, – еще прошу по кофе!
– Сейчас будет, – ответил Акоп-ага, глянув в нашу сторону из-за стойки, на которой была расположена его большая жаровня с горячим песком для приготовления кофе по-турецки.
– Извини, пожалуйста, – сказал Хачик, обращаясь ко мне, – ты здесь самый молодой. Вон там арбузы привезли. Принеси два арбуза – хочу сделать фото: «Кинязь с арбузами».
– Да ладно, – сказал князь, – обойдемся без арбузов.
– Давай, давай, – вступился Кемал за Хачика, – это хорошая идея. Князь с арбузами, а мы с князем.
На том конце ресторанной палубы, уже как бы и не ресторанной, продавали арбузы. С детства мне почему-то всегда чудилось, что в арбузе заключена идея моря. Может, волнообразные полосы на его поверхности напоминали море? Может, совпадение времен – праздник купания в море с праздником поедания арбузов, часто на берегу, на виду у моря? Или огромность моря и щедрость арбуза? Или и там и там много воды?
На трех помостах вышки для прыжков, бронзовея загаром и непрерывно галдя, толпились дети и подростки. Те, что уже прыгнули, что-то выкрикивали из воды, а те, что стояли на помостках вышки, что-то кричали тем, что уже барахтались в море.
Одни прыгали лихо, с разгону, другие медлили у края помоста, оглядывались, чтобы их не столкнули, или свою нерешительность оправдывали боязнью, что их столкнут. И беспрерывно в воду летели загорелые ребячьи тела – головой, солдатиком, изредка ласточкой. Короткий бухающий звук правильно вошедшего в воду тела и длинный шлепающий звук неточного приводнения с призвуком дошлепывающих ног. Постоим, полюбуемся, послушаем: бух! бух! шлеп! шлеп! перешлеп! бух!
Я тоже сюда приходил в наше предвоенное детство. Тогда здесь была совсем другая вышка для прыжков: она увенчивалась бильярдной комнатой, и самые храбрые из ребят докарабкивались до крыши бильярдной и прыгали оттуда.
Вглядываясь в те далекие годы, я вижу этих ребят, но не вижу среди них себя. Жалко, но не вижу. И на третьем, высшем помосте не вижу я себя.
Сюда, на территорию водной станции «Динамки», как мы тогда говорили, никого не пускали, кроме тех, кто посещал секции плавания и прыжков.
Но больше половины ребят ни в каких секциях не состояли и приходили сюда снизу, по брусьям доползая до плавательных мостков, а потом оттуда по железной лестнице наверх и на вышку. Так приходил сюда и я.
Но это было довольно утомительно: с берега по сваям и железным проржавевшим, иногда с острыми зазубринами, перекладинам карабкаться метров восемьдесят. Так что я иногда подолгу простаивал возле входа на водную станцию, которую стерегла грузная и пожилая, как мне тогда казалось, женщина.
Дело в том, что почти ежедневно бильярдную посещал один парень с нашей улицы. Ему было лет двадцать, и звали его Вахтанг. Но почти все, и взрослые и дети, называли его ласково-любовно – Вахтик.
Закончив играть, он покидал территорию водной станции деловито-праздничной походкой, как бы означающей: я только что закончил очень нужное и очень приятное дело и сейчас же возьмусь за другое, не менее нужное и не менее приятное. В эти минуты я старался стоять так, чтобы он меня сразу заметил, и он всегда меня сразу замечал. Заметив меня, он что-то с улыбкой говорил женщине, стерегущей проход, и она, расцветая от его улыбки, пропускала меня.
Иногда, когда я вот так дожидался его, он подкатывал откуда-то сзади, и я чувствовал его добрую руку, ласково ложащуюся на мою голову или шутливо-крепко, как арбуз, сжимающую ее пятерней, и я при этом всегда старался улыбнуться ему, показывая, что мне нисколько не больно. Мы, не останавливаясь, проходили мимо стражницы, и она, расцветая от его улыбки, оживала до степени узнавания меня.
И тем более меня всегда удивляла тяжелая тусклость ее неузнавания, когда его не было. Не то чтобы я просился, но я стоял возле нее, и она могла бы вспомнить, что я – это я, и пропустить меня. Ну хорошо, соглашался я мысленно, пусть не пропускает, но пусть хотя бы узнает. Нет, никогда не узнавала.
И стоило появиться Вахтангу, стоило положить ему руку на мою голову как женщина оживлялась, словно включала лампочку памяти, и теперь мимоходом окидывала меня узнающим взглядом.
Я почему-то навсегда запомнил его летним, только летним, хотя видел его во все времена года. Вот он в шелковой голубой рубашке навыпуск, в белых брюках, в белых парусиновых туфлях празднично ступает по деревянному настилу пристани, и рубашка на нем то свободно плещется, то мелко-мелко вскипает под бризом и вдруг на мгновенье прилипает к его стройному крепкому телу.
И я вижу его – тогда так воспринималось, но оно и было таким – хорошее лицо с якобы волевым подбородком, но я уже тогда понимал, что его волевой подбородок смеется над самой идей волевого подбородка, потому что он весь – не стремление достигнуть чего-то, но весь – воплощение достигнутого счастья или достижимого через пять минут: только выйдет через проход, а там уже его ждет девушка, а чаще девушки.
– Ах, извините, девушки, за-дер-жался! – говорил он в таких случаях и, вскинув руку, мимоходом бросал взгляд на часы, лихо сдвинутые на кисть, и неудержимо смеялся, смеялся вместе с девушками, как бы пародируя своим замечанием образ жизни деловых людей.
Интересно, что Вахтанг и его друзья, целыми днями игравшие в бильярд на водной станции, почти никогда не купались. Чувствовалось, что это для них пройденный этап. Но однажды в жаркий день они вдруг гурьбой высыпали из своей бильярдной и, скинув свои франтоватые одежды, оказались стройными, мускулистыми, крепкими парнями.
Они буйно веселились, как великолепные животные неизвестной породы, прыгая с вышки то ласточкой, то делая сальто, переднее и заднее, то, выструнив стойку на краю трамплина, вертикально протыкали воду. Видно, все они были спортсменами в какой-то предыдущей жизни.
Потом уже в воде играли в пятнашки. Ловко ныряли, прячась друг от друга, и я тогда впервые увидел, как Вахтанг под толщей воды плавает спиной, чтобы следить глазами за парнем, нырнувшим за ним.
Мощными, ракетными толчками, каждый раз заворачивающими его в пузырящееся серебро пены, он все дальше и дальше уходил в глубь зеленоватой воды, а потом исчез.
Парень, гнавшийся за ним, вынырнул и, стоя на одном месте, озирался, стараясь не пропустить Вахтанга, когда он выскочит из глубины. Через долгое мгновенье Вахтанг все же вынырнул за его спиной и, крикнув: «Оп!», – нашлепнул ему на шею горсть песка, поднятого со дна.
Ходила легенда, что Вахтанг однажды на спор выпрыгнул в море из окна бильярдной. Одно дело прыгать с плоской крыши, там есть небольшой разгон, а тут можно было, не дотянув до воды, запросто грянуться о деревянный настил пристани. Вполне возможно, что он и в самом деле прыгнул из окна бильярдной, он был храбр легкой, музыкальной храбростью.
Вахтанг и его друзья весело бултыхались возле водной станции, а потом, как бы не сговариваясь, а подчиняясь какому-то инстинкту, всей стаей поплыли в открытое море, вернулись и один за другим, подтягиваясь на поручнях мускулистыми руками, пошлепывая друг друга, отряхивались, фыркали, подпрыгивали на одной ноге и мотали головой, чтобы выплеснуть воду из ушей, а потом с гоготом, подхватив свои одежды, словно опаздывая на бильярд, как опаздывают на поезд, побежали наверх, громко стуча пятками по крутой деревянной лестнице.
Где они? Затихли, сгинули, отгуляв и откутив, а я их еще помню такими – кумиров нашей предвоенной золотой молодежи, в чьих аккуратных головках с затейливо подбритыми затылками еще миражировал образ Дугласа Фербенкса!
Семья Вахтанга жила на нашей улице не очень давно. При мне строился их маленький нарядный дом, при мне выросла живая ограда из дикого цитруса трифолиаты, при мне рядом с их домом вырос маленький домик, соединенный с основным общей верандой.
– Когда Вахтик женится… молодоженам, – обрывок разговора его отца с кем-то из соседей.
При мне в их саду возвели качели с двумя голубыми люльками.
– Когда у Вахтика будут дети…
Они жили втроем, отец, мать и сын. По представлениям обитателей нашей улицы, они были богачами. Добрыми богачами. Отец Вахтанга был директором какого-то торга. Больше мы ничего о нем не знали. Да больше и не надо было знать, и вообще дело было не в этом.
По воскресеньям или после работы отец Вахтанга, надев на себя какой-то докторский халат и напялив очки, возился в своем маленьком саду. Он подвязывал стебли роз к подпоркам, стоя на стремянке, обрезал ненужные ветви фруктовых деревьев и усохшие плети виноградных лоз. Хотя отец Вахтанга был грузином, то есть местным человеком, в такие минуты он почему-то казался мне иностранцем.
В будни отец и сын часто встречались на улице. Отец возвращался с работы, а сын шел гулять. Обитатели нашей улицы, к этому времени высыпавшие на свои балкончики, крылечки, скамеечки, с удовольствием, как в немом кино, потому что слов не было слышно, следили за встречей отца и сына.
Судя по их позам, отец пытался остановить сына и осторожно выяснить, где и как он собирается провести вечер. И сын, с ироническим почтением склоняясь к отцу (угадывалось, что часть иронии сына относится к осторожным попыткам отца проникнуть в тайны его времяпрепровождения), как бы говорил ему: «Папа, ну разве можно останавливать человека, когда он собирается окунуться в праздник жизни?»
Наконец они расходились, и отец, улыбаясь, смотрел ему вслед, а сын, обернувшись, махал рукой и шел дальше. Интересно, что во время этих встреч сын никогда не просил у отца деньги. А ведь все знали, что Вахтанг во всех компаниях раньше всех и щедрее всех расплачивается. Было ясно, что в их доме никому и в голову не может прийти, что от сына надо прятать деньги. Было ясно, что для того отец и работает, чтобы сын мог красиво сорить деньгами.
Отпустив сына, отец шел дальше своей небыстрой, благостной походкой, устало улыбаясь и доброжелательно здороваясь со всеми обитателями улицы. Он шел, овевая лица обитателей нашей улицы ветерком обожания.
– Мог бы, как нарком, на машине приезжать…
– Не хочет – простой.
– Нет, сердце больное, потому пешком ходит.
– Золото, а не человек…
Вероятно, на нашей улице были люди, которые завидовали или не любили эту семью, но я таких не знал. Если были такие, они эту зависть и нелюбовь прятали от других. Я только помню всеобщую любовь к этой семье, разговоры об их щедрости и богатстве. Так, старший брат моего товарища Христо, помогавший своему отцу в достройке Вахтанговского дома, рассказывал сказочные истории о том, как у Вахтанга кормят рабочих. Поражало обилие и разнообразие еды.
– Один хлеб чего стоит! – говорил он. – Вот так возьмешь – от корки до корки сжимается, как гармошка. Отпустишь – дышит, пока не скушаешь!
Конечно, Богатый Портной тоже считался на нашей улице достаточно зажиточным человеком. Но в жизни Богатого Портного слишком чувствовалась грубая откровенность первоначального накопления.
Здесь было другое. Родители Вахтанга, видимо, были богаты достаточно давно и, во всяком случае, явно не стремились к богатству. Для обитателей нашей улицы эта семья была идеалом, витриной достигнутого счастья. И они были благодарны ей уже за то, что могут заглядывать в эту витрину.
Конечно, все они или почти все стремились в жизни к этому или подобному счастью. И все они были в той или иной степени биты и потасканы жизнью и в конце концов смирились в своих домах-пристанях или коммунальных квартирках. И они, любуясь красивым домом, садом, благополучной жизнью семьи Вахтанга, были благодарны ей хотя бы за то, что их мечта не была миражом, была правильная мечта, но вот им просто не повезло. Так пусть хоть этим повезло, пусть хотя бы дают полюбоваться своим счастьем, а они не только дают полюбоваться своим счастьем, от щедрот его и соседям немало перепадает.
Иногда поздно вечером, если я с тетушкой возвращался с последнего сеанса кино, мы неизменно видели, как отец и мать Вахтанга, сидя на красивых стульях у калитки, дожидаются своего сына.
Обычно между ними стоял тонконогий столик, на котором тускло зеленела бутылка с боржомом и возвышалась ваза с несколькими аппетитно чернеющими ломтями арбуза.
Взяв в руки ломоть арбуза и слегка наклоняясь, чтобы не обрызгаться, отец Вахтанга иногда ел арбуз, переговариваясь с тетушкой. Но главное – как он ел! В те времена он был единственным человеком, виденным мною, который ел арбуз вяло! И при этом было совершенно очевидно, что здесь все честно, никакого притворства! Так вот что значит богатство! Богатые – это те, которые могут есть арбуз вяло!
Обычно в таких случаях тетушка всегда заговаривала с ними на грузинском языке, хотя и они и она прекрасно понимали по-русски. И это тогда так осознавалось: с богатыми принято говорить на их языке. Поговорив и посмеявшись с ними, тетушка бодрее, чем обычно, хотя и обычно у нее достаточно бодро стучали каблучки, шла дальше. И это тогда понималось так: приобщенность к богатым, даже через язык, взбадривает. И еще угадывалось, что приток новых сил, вызванных общением с богатыми, надо благодарно им продемонстрировать тут же. Вот так они жили на нашей улице, и казалось, конца и края не будет этой благодати. И вдруг однажды все разлетелось на куски! Вахтанг был убит на охоте случайным выстрелом товарища.
Я помню его лицо в гробу, ожесточенное чудовищной несправедливостью, горестно-обиженное, словно его, уверенного, что он создан для счастья, вдруг грубо столкнули в такую неприятную, такую горькую, такую непоправимую судьбу.
И он в последний миг, грянувшись в эту судьбу, навсегда ожесточился на тех, кто, сделав всю его предыдущую жизнь непрерывной вереницей ясных, счастливых, ничем не замутненных дней, сейчас так внезапно, так жестоко расправился с ним за его безоблачную юность.
Казалось, он хотел сказать своим горько-ожесточенным лицом: если б я знал, что так расправятся со мной за мою безоблачную юность, я бы согласился малыми дозами всю жизнь принимать горечь жизни, а не так сразу, но ведь у меня никто не спрашивал…
Лица обитателей нашей улицы, которые приходили прощаться с покойником, выражали не только искреннее сочувствие, но и некоторое удивление и даже разочарование. Их лица как бы говорили: «Значит, и у вас может быть такое ужасное горе?! Тогда зачем нам было голову морочить, что вы особые, что вы счастливые?!»
Почему-то меня непомерностью горя подавила не мать Вахтанга, беспрерывно плакавшая и кричавшая, а отец. Застывший, он сидел у гроба и изредка с какой-то сотрясающей душу простотой клал руку на лоб своего сына, словно сын заболел, а он хотел почувствовать температуру. И дрожащая ладонь его, слегка поерзав по лбу сына, вдруг успокаивалась, словно уверившись, что температура не опасная, а сын уснул.
Отец не дожил даже до сороковин Вахтанга, он умер от разрыва сердца, как тогда говорили. Казалось, душа его кинулась догонять любимого сына, пока еще можно ее догнать. Тогда по какой-то детской закругленности логики мне думалось, что и мать Вахтанга вскоре должна умереть, чтобы завершить идею опустошения.
Но она не умерла ни через год, ни через два и, продолжая жить в этом запустении, стояла у калитки в черном, траурном платье. А годы шли, а она все стояла у калитки, уже иногда громко перекрикиваясь с соседями по улице и снова замолкая, стояла возле безнадежно запылившихся кустов трифолиаты, ограждающей теперь неизвестно что. Она и сейчас стоит у своей калитки, словно годами, десятилетиями ждет ответа на свой безмолвный вопрос «За что?».
Но ответа нет, а может, кто его знает, и есть ответ судьбы, превратившей ее в непристойно располневшую, неряшливую старуху. Жизнь, не жестокость уроков твоих грозна, а грозна их таинственная недоговоренность!
Я рассказываю об этом, потому что именно тогда, мальчишкой, стоя у гроба, быть может, впервые пронзенный печалью неведомого Экклезиаста, я смутно и в то же время сильно почувствовал трагическую ошибку, которая всегда была заключена в жизни этой семьи.
Я понял, что так жить нельзя, и у меня была надежда, что еще есть время впереди и я догадаюсь, как жить можно. Как маленький капиталист, я уже тогда мечтал вложить свою жизнь в предприятие, которое никогда-никогда не лопнет.
С годами я понял, что такая хрупкая вещь, как человеческая жизнь, может иметь достойный смысл, только связавшись с чем-то безусловно прочным, не зависящим ни от каких случайностей. Только сделав ее частью этой прочности, пусть самой малой, можно жить без оглядки и спать спокойно в самые тревожные дни.
С годами эта жажда любовной связи с чем-то прочным усилилась, уточнялось само представление о веществе прочности, и это, я думаю, избавляло меня от многих форм суеты, хотя не от всех, конечно.
Теперь, кажется, я добрался до источника моего отвращения ко всякой непрочности, ко всякому проявлению пизанства. Я думаю, не стремиться к прочности – уже грех.
От одной прочности к другой, более высокой прочности, как по ступеням, человек подымается к высшей прочности. Но это же есть, я только сейчас это понял, то, что люди издавна называли твердью. Хорошее, крепкое слово!
Только в той мере мы по-человечески свободны от внутреннего и внешнего рабства, в какой сами с наслаждением связали себя с несокрушимой Прочностью, с вечной Твердью.
Обрывки этих картин и этих мыслей мелькали у меня в голове, когда я выбирал среди наваленных арбузов и выбрал два больших, показавшихся мне безусловным воплощением прочности и полноты жизненных сил.
Из моря доносился щебет купающейся ребятни, и мне захотелось швырнуть туда два-три арбуза, но, увы, я был для этого слишком трезв, и жест этот показался мне чересчур риторичным.
Вот так, когда нам представляется сделать доброе дело, мы чувствуем, что слишком трезвы для него, а когда в редчайших случаях к нам обращаются за мудрым советом, оказывается, что именно в этот час мы лыка не вяжем.
Подхватив арбузы, я вернулся к своим товарищам. Акоп-ага уже принес кофе и, упершись подбородком в ладонь, сидел, задумавшись.
– Теперь мы сделаем карточку «Кинязь с арбузом», – сказал Хачик, когда я поставил арбузы на стол.
– Хватит, Хачик, ради бога, – возразил князь. Но любящий неумолим.
– Я знаю, когда хватит, – сказал Хачик и, расставив нас возле князя, велел ему положить руки на арбузы и щелкнул несколько раз.
Мы выпили кофе, и Кемал стал разрезать арбуз.
Арбуз с треском раскалывался, опережая нож, как трескается и расступается лед перед носом ледокола. Из трещины выпрыгивали косточки. И этот треск арбуза, опережающий движение ножа, и косточки, выщелкивающие из трещины, говорили о прочной зрелости нашего арбуза. Так оно и оказалось. Мы выпили по рюмке и закусили арбузом.
– Теперь возьмем Микояна, – сказал Акоп-ага, – когда Хрущев уже потерял виласть, а новые еще не пришли, был такой один момент, что он мог взять виласть… Возьми, да? Один-два года, больше не надо. Сделай что-нибудь хорошее для Армении, да? А потом отдай русским. Не взял, не захотел…
– Вы, армяне, – сказал князь, – можете гордиться Микояном. В этом государстве ни один человек дольше него не продержался у власти.
– Слушай, – с раздражением возразил Акоп-ага, – ляй-ляй, конференция мине не надо! Зачем нам его виласть, если он ничего для Армении не сделал? Для себя старался, для своей семьи старался…
Акоп-ага, поварчивая, собрал чашки на поднос и ушел к себе.
– Когда он узнал, что я диспетчер, – сказал Кемал, улыбаясь и поглядывая вслед уходящему кофевару, – он попросил меня особенно внимательно следить за самолетами, летящими из Еревана. Он сказал, что армянские летчики слишком много разговаривают за штурвалом, он им не доверяет…
– Народ, у которого есть Акоп-ага, – сказал дядя Сандро, – никогда не пропадет!
– Народ, у которого есть дядя Сандро, – сказал князь, – тоже никогда не пропадет.
– Разве они это понимают, – сказал дядя Сандро, кивая на нас с Кемалом, вероятно, как на нелучших представителей народа.
– А что делать народам, у которых вас нет? – спросил Кемал и оглядел застольцев.
Воцарилось молчание. Было решительно непонятно, что делать народам, у которых нет ни Акопа-ага, ни дяди Сандро.
– Мы все умрем, – вдруг неожиданно крикнул Хачик, – даже князь умрет, только фотокарточки останутся! А народ, любой народ, как вот это море, а море никогда не пропадет!
Мы выпили по последней рюмке, доели арбуз и, поднявшись, подошли к стойке прощаться с Акоп-ага.
– То, что я тебе сказал, помнишь? – спросил он у Кемала, насыпая сахар в джезвей с кофе и на миг озабоченно вглядываясь в него.
– Помню, – ответил Кемал.
– Всегда помни, – твердо сказал Акоп-ага и, ткнув в песочную жаровню полдюжины джезвеев, стал, двигая ручками, поглубже и поуютнее зарывать в горячий песок медные ковшики с кофе.
Мы стали спускаться вниз. Я подумал, что Акоп-ага и сам никогда не пропадет. Его взыскующая любовь к армянам никому не мешает, и никто никогда не сможет отнять у него этой любви. Он связал себя с прочным делом и потому непобедим.
Примерно через месяц на прибрежном бульваре я случайно встретил Хачика. Мне захотелось повести его в ресторан и угостить в благодарность за фотокарточки. Часть из них князь передал Кемалу, а тот мне.
Но Хачик меня не узнал, и, так как он уже был достаточно раздражен непонятливыми клиентами, которых он располагал возле клумбы с кактусами и все заталкивал крупного мужчину поближе к мощному кактусу а тот пугливо озирался, не без основания опасаясь напороться на него, я не стал объяснять, где мы познакомились.
Я понял, что он, совсем как та женщина, стоявшая у входа на водную станцию «Динамо», видел нас только потому, что мы были озарены светом его возлюбленного князя Эмухвари. Я уже отошел шагов на десять, когда у меня мелькнула озорная мысль включить этот свет.
Я оглянулся. Маленький Хачик опять заталкивал своего клиента, большого и рыхлого, как гипсовый монумент, поближе к ощеренному кактусу, а тот сдержанно упирался, как бы настаивая на соблюдении техники безопасности. Женщины, спутницы монумента, не выражая ни одной из сторон сочувствия, молча следили за схваткой.
– Хрустальная душа! – крикнул я. – Простой, простой!
Хачик немедленно бросил мужчину и оглянулся на меня.
Мужчина, воспользовавшись свободой, сделал небольшой шажок вперед.
– А-а-а! – крикнул Хачик, весь рассиявшись радостью узнавания. – Зачем сразу не сказал?! Этот гётферан мине совсем голову заморочил! Хорошо мы тогда посидели! Гиде кинязь? Если увидишь – еще посидим! Ты это правильно заметил: хрустальная душа! Простой-простой!
Я пошел дальше, не дожидаясь, чем окончится борьба Хачика с упорствующим клиентом. Я был уверен, что Хачик победит.
Чегемская Кармен
Прапрадед Андрея Андреевича, для меня он просто Андрей, был связан с декабристами, за что и был выслан в Абхазию, где попеременно сражался то с нашими предками, то с нашей местной малярией. Видимо, в обоих случаях сражался хорошо, потому что остался жив и был пожалован землями недалеко от Мухуса в живописном местечке Цабал. Черенок липы, присланный из родного края и в память о нем посаженный перед домом, без учета плодородия нашей земли (а как это можно было учесть?), за сто лет вымахал в огромное, неуклюже-разлапое дуплистое дерево и сейчас напоминает не столько Россию поэтическую, сколько Россию географическую.
После революции дом, в котором позже родился Андрей, был оставлен его родителям по распоряжению самого Нестора Аполлоновича Лакобы. К молчаливому удивлению старой липы, которая там его никогда не видела, Лакоба объявил, что до революции он долгое время прятался в нем. По словам Андрея, Лакоба просто любил его деда и хотел ему помочь.
Дом был как бы объявлен маленькой колыбелькой маленькой местной революции. К тридцать седьмому году, когда имя Лакобы было проклято, о существовании этой маленькой колыбельки, к счастью, забыли, а обитатели ее, надо полагать, в те времена каждое утро удивленно оглядывали друг друга, радуясь, что все еще живы. Сейчас там живет престарелая мать Андрея и две его сестры.
Сам Андрей давно в городе. Он, несмотря на молодость (конечно, по современным понятиям, ему тридцать пять лет), известный в Абхазии историк и археолог. По понятиям его прапрадеда-декабриста, он уже считался бы безнадежным стариком, непригодным даже для Южного общества.
Младая, гамлетическая революция дворян была обречена уже в силу самой несовместимости гамлетизма и революции. Раздумчивая дерзость плодотворна только в поэзии. Ленин это усек лучше всех, и все пятьдесят томов собраний его сочинений наполнены борьбой со всеми формами революционного гамлетизма.
Как-то Андрей мне рассказал, что лет десять тому назад он обнаружил высоко в горах, кстати, над Чегемом, средневековое святилище, где лежит целый холм наконечников стрел. По его словам, туда веками перед предстоящими битвами подымались воины Абхазии и, пожертвовав стрелой своему богу, давали клятву верности родному краю.
Мы с ним договорились подняться к этому святилищу. Несколько раз откладывали поездку, то ему было некогда, то мне, но вот наконец в субботний день начала лета мы приехали в село Анастасовка, откуда начали поход.
Село это давно переименовано, но в знак протеста и верности богу детства я опускаю его нынешнее название. Мы перешли по висячему мосту Кодор, к счастью, непереименованному, вышли в село Наа и пошли вверх по реке.
Что еще сказать про Андрея? Люди говорят, что одно время у него был буйный роман с одной невероятной вертихвосткой абхазского происхождения и он, бывало, мрачный как туча, мчался по улицам и, встречая друзей, неизменно спрашивал:
– Ты мою Зейнаб не видел?
Но все это было еще до нашего знакомства. Теперь у него чудная жена, как говорится, типичная тургеневская женщина. По-видимому, по закону контраста. Я ее часто вижу с коляской…
Кстати, вспоминая тургеневских женщин, я как-то не представляю ни одну из них с ребенком на руках. Что-то не могу представить. И потом, эти длительные поездки-побеги в Париж под крылышко Полины Виардо. Издали, когда они не мешают, видимо, как-то легче воспевать отечественных женщин. У Тургенева, по-моему, был такой метод: влюбился, укрылся, написал. Метод оказался плодотворным. И вот в русский язык навеки вошло понятие – тургеневская женщина. Она в дымке поэзии, она не самоисчерпывается жизнью сюжета или, может быть, даже жизнью самого Тургенева. В ней всегда что-то остается для читателя, и читатель в нее влюбляется, грустит.
То ли дело чадолюбивый Толстой, чьи любимые героини рожают и рожают. Мы ими восхищаемся, но влюбляться в них как-то даже безнравственно. Ясно по условиям игры, что ты, читатель, здесь совершенно ни при чем. Тебе показывают, как надо жить, а ты смотри, радуйся и учись.
Я уж не говорю о его грешных героинях, идущих на каторгу или бросающихся под поезд. Исключение – Наташа Ростова, которую сам автор любит не вполне законной любовью и отсюда невольно позволяет читателю влюбиться в нее… Так буйвол, прорвав плетень и наслаждаясь молочными побегами молодой кукурузы, не может не позволить коровам, козам и баранам устремиться вслед за собой на кукурузное поле. Толстой подозрительно долго не решается окончательно выдать ее замуж, но, окончательно выдав, с очаровательной наивностью (или сердито? – давно не перечитывал) промокает последние страницы о Наташе пеленками ее законного дитяти, чтобы скрыть свое прежнее отношение к ней, якобы так все и было задумано с самого начала.
На мой взгляд, в мире было два писателя, которые никак не вмещаются в рамки национальной культуры. Это Шекспир и Толстой. Шекспир – англичанин, Толстой – русский. Это так, но не точно. Шекспир – сын человечества, Толстой – сын человечества, и сразу все становится на свои места. Как айсберги в океан, эти имена плюхаются в океан человечества, как в свою естественную среду обитания. Конечно, всякий большой писатель принадлежит человечеству, но тут дьявольская разница.
Рисовали человечество многие, но человечество позировало только этим двум художникам.
Однако, так или иначе, мы говорим – тургеневская женщина. Хоть в этом Тургенев взял реванш. Ведь слава Толстого и Достоевского несколько подзатмила его славу, хотя дар его был огромен. Но он был слишком европеец, ему не хватало их неистовства. По-видимому, когда писатель знает все, что до него говорили великие люди о преступлении и наказании, ему трудно написать роман «Преступление и наказание». Впрочем, нам это не грозит.
Чтоб покончить с темой Тургенева, расскажу такой анекдот. Некоторые мои друзья, когда я им говорю, что я даже в сталинские времена иногда шутил, мне не верят. На самом деле так оно и было.
Когда я учился в Литературном институте, наши студенты однажды вздумали издать рукописный журнал. Мне предложили принять в нем участие, но я отказался, потому что уже тогда стремился напечататься типографским способом.
Журнал был издан в трех экземплярах, и разразился скандал. Дирекция и райком комсомола пришли в бешенство. Самое крамольное стихотворение принадлежало перу польского студента. Это был шуточный сонет на тему: женщина – Друг человека.
Если бы бедная дирекция и райком знали, что поляки выкинут еще и не такие коленца! Самого польского студента не особенно теребили. Стихотворение сочли отрыжкой шляхетского презрительного отношения к трудовой женщине. Но куда смотрели наши студенты, переводя это стихотворение и помещая его в журнал, да еще в трех экземплярах!
Оказывается, таскали не только составителей и участников журнала, но и тех, кто мог быть потенциальным автором. Дошла очередь и до меня. Вызвал секретарь парткома.
– Вы плохой патриот, – сказал он, впрочем, усадив меня на стул, стоявший напротив его стола.
– Почему? – спросил я.
– Вам же предлагали принять участие в журнале? – сказал он.
– Да, – согласился я.
– Вы должны были просигнализировать нам об этом, – сказал он и, грустно покачав головой, добавил: – Да, вы плохой патриот.
– Нет, – отвечал я бодро, – я хороший патриот.
– Доказательство? – спросил он со слабым любопытством, уверенный, что такового не окажется.
– На днях в общежитии, – сказал я, – и ребята могут это подтвердить, я громко зачитал то место в письме Флобера Тургеневу, где он пишет, что ему не с кем говорить, когда Тургенева нет в Париже. Представляете, великому Флоберу не с кем говорить, когда во Франции нет нашего Ивана Сергеевича?
Это были времена борьбы за наш всемирный приоритет во всем. Я пошел очень сильной картой. Не знаю, что наш парторг думал о Флобере, но то, что это человек не с улицы, он, конечно, понимал.
– Вот люди, – болезненно процедил он, – каждой зацепкой пользуются… Ладно, идите.
Мало того, что об этом несчастном журнале говорили на всех собраниях. Составителей заставили сыграть позорный скетч, где они, как зловещие заговорщики, заманивали в журнал политически наивных студентов. Каждый играл самого себя, и ничего в жизни я не видел более фальшивого.
Правда, кончилось все это достаточно мирно. Никого из института не выгнали. Недавно я встретил одного из составителей журнала, и он с благодарностью напомнил, что я и еще один студент, будущий поэт Гнеушев, на общеинститутском комсомольском собрании проголосовали против его исключения из комсомола. Только мы двое.
Ничего странного нет в том, что я сейчас об этом пишу. Странно то, что это событие, достаточно важное для тех времен моей жизни, начисто выпало из моей памяти. То есть я помнил, что были собрания с проработками, но как там я голосовал – забыл. Вероятно, по этому поводу хороший психоаналитик сказал бы: в те времена ты многое ждал от себя и потому не придал значения этому факту.
Вот что с нами делает жизнь!
Сейчас мне вспомнился еще один случай из жизни нашего милого Литературного института, и я его впишу сюда под видом демонстрации вырождения тургеневского понимания природы.
Однажды во время защиты дипломных работ одно стихотворение молодого поэта вызвало противоречивые оценки оппонентов.
Сюжет стихотворения был такой. Под окнами дома вырос прекрасный подсолнух, золотая чаша которого целый день, вместо того чтобы следовать за солнцем, глазела в окно. Обитатели дома не сразу поняли источник этого странного любопытства подсолнуха. Но вскоре они вместе с читателями догадываются, в чем дело. А дело было в том, что прямо напротив окна в комнате висел портрет товарища Сталина. Ясно, какое из двух солнц подсолнух предпочел.
Поэт был настолько тонок, что на последнем выводе не настаивал. Он просто создал живую картину жизни подсолнуха, упорно заглядывающего в окно комнаты, где висел портрет товарища Сталина, а вы думайте что хотите.
По поводу этого стихотворения разразилась доброжелательная дискуссия. Одни седоглавые профессора говорили, что поэт создал оригинальный образ, который украсит антологию произведений, посвященных вождю. Но нашелся и такой седоглавый профессор, мы должны быть верны исторической правде, который сказал, что стихотворение все-таки звучит неестественно.
Согласно диалектическому материализму и ленинской теории отражения, разъяснял он, природа безразлична к любому общественному строю, да, к любому, хотя только социализм и может спасти ее от хищнического истребления.
И в этом смысле товарищ Сталин действительно является солнцем для подсолнуха, но подсолнух не может этого осознать! Не может!!! И в этом великая драма идей!
Поэтому эмпирический факт заглядывания чаши подсолнуха в комнату с портретом товарища Сталина хотя сам по себе и любопытен, однако он не должен вводить читателя в заблуждение, ибо природа, к сожалению, не только не обладает классовым чутьем, чтобы тянуться к вождю мирового пролетариата, но даже не обладает и той примитивной формой сознания, которой обладает человекоподобная обезьяна.
Это смелое выступление было выслушано с полным вниманием, как одна из возможных точек зрения. В общем, студент, конечно, защитил свой диплом, и стихотворение в ближайшее время было напечатано.
Где он теперь, лукавый изобретатель умного подсолнуха? Я краем уха слышал, что он спился. Бедняга, он и в студенческие годы, в отличие от своего подсолнуха, больше заглядывался на бутылку с водкой.
Лучше вернемся к Андрею. Он во всех отношениях очень интересный человек. Кстати, он выучил абхазский язык, что всякому человеку нелегко, а русскому в особенности, учитывая, что абхазский язык содержит в себе шестьдесят с лишним фонем. Друзья его (друзья!) говорят, что он его выучил из-за этой вертихвостки, чтобы знать, о чем она говорит по телефону, и проверять ее переписку, если она вообще умела писать, добавляли они. Даже если это так, подвиг его остается при нем.
Кстати, он сделал небольшое, а может быть, и не такое уж небольшое, языковое открытие, которое мог сделать только талантливый дилетант. Он заметил то, что ни один филолог абхазского происхождения не замечал. Оказывается, по-абхазски «я купаюсь, купаться» одновременно означает – «я купаю своего коня, купание коня». И еще: «убивать себя, самоубийство» одновременно означает – «я убил своего коня, конеубийство». По-моему, интересно, хотя некоторые ученые, посмеиваясь, говорят, что это всего лишь случайное совпадение.
Вообще он возмутитель спокойствия. Недавно он выпустил книгу, в которой доказывает, что некоторые древние храмы Абхазии, ранее считавшиеся соседского происхождения, на самом деле плод архитектурного творчества аборигенов.
Братья не на шутку обиделись. Смеясь, он мне сам показывал кучу писем, полных возмущения и даже угроз убить исказителя истории. При этом письма отнюдь не анонимные. Некоторые из них подписаны учеными. В наше время приятно иметь дело с мужчиной, который, показывая такие письма, хохочет.
Дело на этом не кончилось. Рукопись следующей его книги в трех экземплярах, лежавшая в одном московском издательстве, внезапно исчезла. Рукопись, как коня, увели из редакционной конюшни. Нет ни малейшего сомнения, что это дело рук соседних ученых-конокрадов.
Разумеется, какой-то редактор был подкуплен. Советский страж, как известно, самый неподкупный страж в мире, если его никто не подкупает. А если же его подкупают, он не самый неподкупный страж в мире. К счастью, у автора сохранились черновики, и он рукопись восстановил.
Андрей много занимался историей Великой Абхазской стены – предмет нашей странной национальной гордости. Считалось, что эта крепостная стена, пересекающая всю Абхазию и проходящая через Чегем, была построена нашими предками еще во времена Юстиниана.
И вдруг он выдвинул версию, что стена эта выстроена совсем не во времена Юстиниана, а всего лишь триста лет тому назад, да еще сумасшедшим соседним царем.
Этот царь был женат на абхазской княжне. Однажды, по неизвестной причине разгневавшись на нее, он убил свою жену и отрезал ей уши. Зная, что абхазцы не простят ему отрезанных ушей своей княжны, он согнал свой народ и стал с лихорадочной быстротой возводить эту стену. Возможно, как хитрый царь, уже задумав убийство, он начал строить стену несколько раньше. Точных сведений нет.
Есть сведения, что он после этого убийства женился на собственной племяннице. В конце концов он и ее убил, по-видимому, устав от затейливой сладости кровосмесительства и переходя на более простодушную радость кровопролития. Но что характерно? Убив свою племянницу, он не отрезал ее ушей. И это может послужить нам прекрасной метафорой прогресса. Прогресс, друзья, это когда еще убивают, но уже не отрезают ушей. Однако не будем слишком ужасаться нраву эндурского царя, наши с вами цари мало чем от него отличались.
Версия о том, что Великая Абхазская стена была выстроена не во времена Юстиниана, а всего лишь триста лет тому назад, да еще сумасшедшим мингрельским царем, очень не понравилась абхазским ученым. Мне она тоже почему-то не понравилась. Как-то приятней было думать, что она построена нашими предками, и именно во времена Юстиниана. В крайнем случае несколько позже. Кстати, ее исключительную фрагментарность, обрывистость, изъеденность временем он объяснял спешным и халтурным характером строительства.
Абхазские ученые обиделись на эту новую версию, отнимавшую у нас предмет нашей национальной гордости и передававшую его в руки сумасшедшего эндурского царя. Указание на исключительно халтурный характер строительства было слабым утешением.
Соседские ученые, напротив, слегка ожили, проглотив обиду относительно халтурного характера строительства. Но одновременно они и несколько озадачились, не совсем понимая, кому же он, в конце концов, подыгрывает. Если он перешел на нашу сторону, рассуждали они, то тогда зачем эти ненужные, натуралистические подробности относительно отрезанных ушей?
У нас наука настолько политизирована, что люди как-то забывают, что истина и сама по себе интересна. Стоит отметить, что самые простые люди Абхазии, никогда научных книг не читающие, все-таки в курсе этих споров. Не без основания заметив, что в сталинские времена те или иные, так сказать, научные гипотезы предшествовали многим политическим акциям, они со жгучим интересом стараются разгадать, куда клонит тот или иной ученый.
Не так давно один грузинский ученый, впадая в эндурство, доказывал в своей книге, что нынешние абхазцы – это не те абхазцы, которые здесь жили во времена царицы Тамары, а совсем другое племя, перевалившее сюда с Северного Кавказа всего триста лет назад и теперь живущее здесь под видом абхазцев. При этом было решительно непонятно, куда делись те абхазцы, которые, по всем источникам, раньше здесь жили. В народе поднялся негодующий ропот, и власти спешно стали рассылать по всем селам своих гонцов-инструкторов, которые разъясняли народу, что его никто не собирается переселять на Северный Кавказ, что книга ученого – это обычная научная глупость.
Тогда народ стал доказывать гонцам-инструкторам, что это не глупость, а подлость.
– Неужели, – говорили простые люди, – нам как народу всего триста лет! Триста лет хорошая ворона и то проживет! Неужели жизнь нашего народа не длиннее жизни вороны? И если наши предки жили на Северном Кавказе, почему мы про закат говорим такими словами: солнце приводнилось, погрузилось, окунулось, занырнуло за горизонт? Разве из этого не ясно, что наши праотцы, создавшие наш язык, жили у моря и всегда видели, как солнце в него заходит? Что же это за наука, если она не понимает таких простых вещей?
– Хорошо, хорошо, – соглашались гонцы-инструкторы, – вы только не волнуйтесь, мы властям все как есть расскажем.
– Это вы волнуетесь, – отвечали простые люди, – нам нечего волноваться. Бегите и рассказывайте начальству то, что услышали.
И гонцы-инструкторы побежали и передали властям мнение народа, и власти дивились народной мудрости, одновременно стараясь выявить злоумышленников, научивших народ так говорить.
Кстати, опять триста лет. Какая-то роковая цифра. Если перекинуться на Россию, там то же самое. Триста лет татарщины, триста лет дома Романовых…
Мы с Андреем прошли мингрельское село Наа и углубились в лес. Рядом шумел Кодор, иногда просвечиваясь сквозь заросли ольшаника. Был теплый, облачный день.
Высокий, длинноногий Андрей легко вышагивал. Вот так он когда-то и обшагал нашу Великую стену, обшагал и ушагал с нею к соседям. За спиной у него болтался фотоаппарат и вещмешок с нашими свитерами и бутылкой водки, которой мы собирались угостить альпийских пастухов.
Одеты мы были легко и еды с собой не брали. По расчетам Андрея, часов через десять мы должны были выйти к альпийским лугам, где нетрудно было найти пастушеский лагерь.
Тропа вошла в сумрачную самшитовую рощу. Ничто так не напоминает первые дни творения, как самшитовые заросли. С каким-то странным волнением оглядываешь эти мелкокурчавые темно-зеленые кроны, эти закрученные как бы тысячелетиями земных катаклизмов стволы, обросшие голубоватыми мхами. Необычайная твердость и тяжесть самшитовой древесины заметна даже на глаз.
Слишком дряблый вариант первобытного папоротника и непримиримая твердость самшита, можно сказать, первые пробы природы древесного мира. Но древесный мир пошел средним путем и теперь как бы весь умещается между женственной мягкостью ольхи и человекодоступной твердостью дуба.
Но сумрачная самшитовая роща, но эти крученые железные стволы, эти староверы природы, так и не признавшие всемирной эволюции и все-таки редкими скитаниями рощиц дожившие до наших времен, не веет ли от них молчаливым презрением к нашей уступчивой приспособляемости? Кто знает!
Теперь тропа поднимается по смешанному лесу: дуб, каштан, ясень, граб, бук. Постепенно лес делается все более однородным и в конце концов переходит в сплошные светящиеся стволы буков. Смотришь на гигантских серебристых красавцев и удивляешься силе земного чрева, вытолкнувшего из себя этих великолепных исполинов.
Тропа кружится между стволами деревьев, порой отчаянно устремляется прямо вверх, но потом, как бы не осилив подъема, сменяет штурм на осаду и петлей затягивает гору.
Мы остановились передохнуть и закурить. Вдруг Андрей пытливо взглянул мне в глаза своими темными глазами и спросил:
– А ты мою Зейнаб не знал?
– Нет, – сказал я для краткости.
На самом деле я ее однажды видел и хорошо запомнил эту встречу. Я стоял в небольшой очереди за кофе перед открытой кофейней у пристани. Только я хотел заказать себе двойной кофе, как услышал за спиной:
– Кейфарик, возьми и на меня чашечку!
Я обернулся, несколько возмущенный такой бесцеремонностью обращения. Передо мной стояла прелестная девушка и с улыбкой глядела на меня. Когда к тебе обращается незнакомая красивая девушка и улыбается тебе так, как будто вы были когда-то знакомы, происходит что-то странное. Хотя ты точно знаешь, что вы никогда не виделись, тебе кажется, что вы все-таки виделись. Может быть, в какой-то предыдущей жизни?
Только я отвернулся от нее и заказал два кофе, как услышал:
– Кейфарик, возьми еще бутылку шампанского. Если нет денег, я заплачу.
В те времена у меня в самом деле не всегда бывали деньги. Но, к счастью, на этот раз были, и до такого позора, чтобы покупать шампанское на деньги женщины, не дошло.
Когда она это сказала, в очереди раздались малоприятные усмешливые похмыкивания. Я почувствовал, что надвигается скандальная ситуация, но сделал вид, что ничего не надвигается. Я взял в руки бутылку и два стакана, она подхватила две чашечки кофе, и мы двинулись к единственному свободному столику, расположенному у самого тротуара под развесистой лапой ливанского кедра.
Я осторожно стал открывать бутылку с шампанским, некоторым образом ожидая, что скандал начнется с нее, но пробка, вполне прилично чмокнув, отделилась от горлышка, и я разлил шипящую жидкость.
– За знакомство, – сказала она и, схватив стакан, жадно выпила его и добавила: – Мы вчера хорошо поддали…
Жадность, с которой она опорожнила свой стакан, и слова ее были в каком-то странном противоречии с необычайной свежестью лица. Она вынула из сумочки сигареты и закурила. Противоречие усилилось.
Это была стройная и вместе с тем ладно и крепко сбитая девушка. Она была одета в свежую голубую кофточку с погончиками и короткими рукавами, в ослепительно-белые брюки и белые туфли.
Темная челка падала на глаза и как бы насмешливо исключала из игры символ ума. Может быть, именно поэтому хотелось раздвинуть ее, как чадру, и взглянуть на этот символ. Необыкновенная подвижность красивого лица вызывала тревогу, боязнь, что благодаря этой бесконтрольной подвижности оно вдруг обернется безобразной гримаской. Однако, не становясь безобразным, оно добивалось своего, провоцируя внимание. Так подвижность кошки провоцирует внимание собаки.
– Зейнаб, куда намонтажилась? – раздался чей-то голос.
Я обернулся. Шагах в десяти за одним из соседних столиков, тесно облепив его, стояли человек шесть молодых людей. Они пили только кофе, но мне показалось, что у некоторых из них странно возбужденный вид.
– Не твое дело! – крикнула она туда, однако тут же следом послала улыбку, явно довольная, что ее наряд замечен.
– Зейнаб, вмажем опиухи! – раздался голос из-за того же столика и хохот компании.
– В другой раз, – опять улыбнулась она им и выпила второй стакан шампанского.
– Наркоманы? – спросил я.
– Да, – нежно улыбнулась она, – любители поторчать. Вон тот, что с краю, пятый год сидит на игле. У него сейчас глухой торчок. Вот он и молчит. У остальных бархатный.
– Неужели и вы? – спросил я.
– В жизни надо все попробовать, – назидательно сказала она, – чтобы было что вспомнить в старости. Я раз десять пробовала. Только не надо каждый день. Это сказки, что нельзя остановиться. Вот один из них сам соскочил с иглы, и ничего.
Пожилой человек, проходя мимо нашего столика, заметив Зейнаб, остановился, удивленно оглядел меня и сказал:
– Зейнаб, передай Дауру, в Краснодаре ждут…
Еще раз подозрительно оглядев меня, добавил:
– Пятнадцать или двадцать… Крайний срок послезавтра…
– Хорошо, – кивнула она и одарила его щедрой улыбкой. Тот не ответил на улыбку, возможно, из-за меня, и прошел.
– Зейнаб, – крикнул один из наркоманов, – а я скажу Дауру, чем ты тут занимаешься!
– Заткнись, фуфлошник, – отрезала она, – с кем хочу, с тем и пью!
– Это тихарик, Зейнаб, – не унимался тот, – он вас всех кладанет!
Тут она на мгновение ощетинилась. Темные глаза в мохнатых ресницах вспыхнули. Явно обиделась, то ли за себя, то ли за нас обоих.
– Ты, Витя, совсем оборзел! – крикнула она. – Как бы потом жалеть не пришлось!
Я разлил шампанское. Она выпила свой стакан и сказала:
– Не обращай внимания. Я знаю, ты пишешь стихи. Посвяти мне стихотворение, кейфарик!
Я что-то невнятно промычал в ответ в том духе, что у нее, вероятно, есть человек, который может посвящать ей стихи.
– Нет, – сказала она, – он совсем другим делом занимается.
– Каким? – спросил я, хотя уже догадывался, кто он такой.
– Он богачей обкладывает налогами! – захохотала она, откидываясь. Так с хохотом падают в море или в постель. – Это же ваш лозунг: грабь награбленное!
Я кое-как отмежевался от этого лозунга. И тут она добавила:
– Ты не подумай, что я воровайка. Я его подруга. Он мне нравится, потому что никого на свете не боится. И щедрый. Он мне однажды сказал: «Я бы тебе купил машину, но ты же сумасшедшая, разобьешься!»
Она опять расхохоталась, откидываясь, и снова закурила.
И тут вдруг, сделав в нашу сторону несколько шагов с тротуара, подошла маленькая девочка в беленьких гольфиках и с большой нотной папкой в руке. Подходя, она что-то сердито бормотала.
Остановившись в двух шагах от нас, она бесстрашно посмотрела на Зейнаб и сказала:
– Девушке неприлично курить. Тем более в общественном месте.
– Иди, иди, – отмахнулась от нее Зейнаб, но девочка продолжала стоять, и тяжелая нотная папка слегка оттягивала ей плечико.
– А вы курите и, оказывается, пьете вино. Это неприлично, – сказала она строго.
– Иди лучше и побренчи своей мамаше, – ответила Зейнаб, но мне показалось, что она несколько смутилась.
– Порядочная девушка не должна курить и пить вино, – сказала девочка. И по всему ее виду: маленькая, спокойненькая, в чистеньких гольфах, с чистеньким лицом – было ясно, что она не спешит уходить.
– Ну что ты приклеилась, лилипутка! – бросила ей Зейнаб презрительно, но мне показалось, что она все-таки несколько смущена.
– Я не лилипутка, – сказала девочка, – у меня нормальный рост для моего возраста. А вы ведете себя неприлично в общественном месте.
Зейнаб гневно нахмурилась. Девочка еще немного постояла и, наконец, видимо решив, что она-то свой долг выполнила, повернулась и достойно удалилась, покачивая своей большой нотной папкой, почти достававшей до тротуара.
– Из таких змеенышей, – сказала Зейнаб с ненавистью, – вырастают комсомольские вожаки. Недавно один такой вызывает меня. Я работаю, для понта конечно, на швейной фабрике. И вот он читает мне проповедь, что я связана с плохими людьми, а сам воняет на меня глазами и потную свою руку кладет мне на плечо. Я говорю: «Руки!» Он ее убирает и снова читает проповедь и зовет меня на какую-то вроде бы загородную экскурсию, а глаза воняют, и опять кладет руку мне на плечо. Я психанула, схватила пепельницу и врезала ему в морду! Он завопил. «Попробуй пожаловаться, – говорю, – мать твоя не наплачется!» Как миленький успокоился.
Она закурила, резко выдохнула дым, как бы отвеяв дурные воспоминания, и, просияв, сказала:
– Ты сейчас умотаешься, что я тебе расскажу. Недавно я была в театре. И вдруг вижу, с той стороны фойе выходит интересный, высокий дядечка… Только я подумала, хорошо бы к нему прикадриться, как вдруг… – Не удержавшись, она снова безумно захохотала. – Это был мой бывший муж… Я его не сразу узнала…
Не успел я оценить юмор ситуации, как с улицы раздался сигнал клаксона.
– Это меня, – встрепенулась Зейнаб. И, оглянувшись, добавила: – Пока, еще увидимся, кейфарик!
Она побежала к машине, стоявшей на противоположной стороне улицы. Рядом с шофером сидел человек с бронзовым профилем Рамзеса Второго, если, конечно, тот профиль, который я имею в виду, принадлежит именно Рамзесу Второму. Он ни разу не взглянул в сторону бегущей девушки, как мне показалось, демонстрируя недовольство. Она уселась на заднем сиденье, и машина укатила. К величайшему удовольствию наркоманов, я остался с пустой бутылкой из-под шампанского. Даже тот, что, по словам Зейнаб, был в глухом торчке, мрачно улыбнулся.
Я, конечно, слышал о Дауре. Знал, что он связан с подпольными фабрикантами и время от времени подаивает тех богачей, у которых капитал перевалил за миллион. Думаю, что это некоторым образом миф, думаю, что в реальной жизни богачей начинают доить несколько раньше. Но во всем этом есть некая правда. Как это будет видно из дальнейшего рассказа, богачей в стадии первоначального накопления он не только не потрошил, но, наоборот, защищал. Возможно, тут был принцип: дать овце нарастить шерсть.
Но меня не эта сторона его жизни занимала. Меня привлекали рассказы об ураганных вспышках его темперамента. Когда ты писатель и ведешь всю жизнь долгую, кропотливую, осадную войну, такой характер не может не привлекать.
Конечно, играют роль и благородные мотивы некоторых его безумных вспышек. Однажды двое иногородних парней стали приставать к соседке, девушке-грузинке. Она рядом с кофейней ела мороженое. Парни приставали столь грубо, что девушка расплакалась. Заметив это, Даур подошел к ним и вежливо предложил им извиниться перед ней. Те его послали подальше. Тогда он выхватил пистолет и уже заставил их стать перед ней на колени. Очевидец, рассказывавший об этом, утверждал, что парни эти оказались с достаточно крепкими нервами и далеко не сразу подчинились ему. Собралась толпа, друзья пытались увести Даура, но он, ослепнув от ярости, всех отгонял, пока не добился своего.
В другой раз он был на абхазской свадьбе, и какой-то районный пижон, не зная, кто он такой, сильно нагрубил ему. Мне об этом рассказывал человек, который сидел поблизости.
И вдруг Даур упал и потерял сознание. Пижона, конечно, мгновенно посадили в машину и услали домой. Окружающие удивлялись такой нежной впечатлительности, приводя гостя в себя. Придя в себя, он простодушно сказал:
– Так со мной бывает всегда, когда я должен был убить человека и не убил.
Видимо, сила возмущения и этические тормоза (не портить свадьбу) схлестнулись и вызвали этот шок. Слышу голоса: неадекватность реакции! Правильно, но мы с вами по отношению к жизни проявляем такую неадекватную терпеливость, что только при помощи таких людей и устанавливается некоторое относительное равновесие.
Через несколько месяцев мы с ним познакомились в этой же кофейне. Нас познакомил его двоюродный брат, мирный чиновник Министерства просвещения. Даур был чуть выше среднего роста, крепкого сложения, с горбоносым лицом, с большими голубыми глазами, которые смотрели на мир с печальной трезвостью навеки обиженного мечтателя.
В начале знакомства он был настроен несколько меланхолически, жаловался на свою неуживчивость. Потом взбодрился и сказал, что самой большой ценностью в жизни считает хорошую книгу. Было бы полной фальсификацией думать, что в его словах прозвучал намек на то, что я имею отношение к создателям хороших книг. Такого намека не последовало и в дальнейшем. Его интересовала проблема в чистом виде.
– У меня нет академического образования, – сказал он, – но я всю жизнь, когда это было возможно, много читал. Я бы тоже хотел прийти с работы домой, умыться, поужинать и сесть за книгу… Но не получается!
Последние слова он произнес не без комической горечи. И видимо, в качестве пояснения их рассказал такую новеллу.
– Познакомился я тут с одним армянином. Думал – порядочный человек. У него брата арестовали в Ростове. Ну, мы поехали в Ростов. Правда, брата его не смогли освободить, но я сумел так сделать, что ему дали минимальный срок.
И вот я через некоторое время узнаю, что здесь, под Мухусом, в селе, где жил этот армянин, два компаньона, тоже армяне, открыли подпольную фабрику. А этот ни за что ни про что каждый месяц берет с них деньги. Запугал, и они платят. Я встречаю его и спрашиваю:
– За что ты с них деньги берешь? Ты за них договариваешься с милицией, с прокуратурой или еще с кем?
Он мне говорит:
– Они в моем селе фабрику построили, пусть платят.
Тогда я ему говорю:
– Твое село в Армении, езжай туда и там получай деньги!
И так мы с ним немного поцапались.
Тут Даур вдруг замолк и, пожав плечами, задумчиво произнес:
– И зачем они ему платили каждый месяц? Заплатили бы мне один раз, и я бы их охранял…
Потом продолжил:
– Но вот проходит время, и я узнаю новость. Оказывается, у этих цеховщиков дела пошли плохо и они задолжали этому негодяю. Видно, они крепко поссорились по этому поводу, и негодяй с кортиком погнался за одним из компаньонов. Догнал его, всадил ему кортик в задницу, но так всадил, что повредил внутренности.
Мне рассказывают, что этот человек сейчас лежит в больнице и умирает, а операцию ему почему-то не делают. Я сразу понял, что к чему. Теперь второй компаньон и этот негодяй оба заинтересованы в его смерти. И на этом они снюхались. Если он умрет, дело останется второму компаньону, а этот, что сейчас в бегах, подкупит кого надо, жаловаться будет некому, и дело закроют.
Я прихожу в больницу. Смотрю, у дверей в палату стоит какой-то лобяра и не пускает меня.
– В чем дело?
– Больной уснул, не надо беспокоить.
Я оттолкнул его и вошел в дверь. Смотрю, лежит на кровати, живот вот такой, перитонит. Сам почти без сознания, у ног сидит жена и плачет. Наклоняюсь и спрашиваю у него:
– Как себя чувствуешь?
Он одними губами:
– Горит… – И больше ничего не может сказать.
Одним словом, я им испортил игру. Нашел хирурга, заплатил пятьсот рублей, больному сделали операцию, и он встал на ноги.
Проходит несколько месяцев. Однажды ночью слышу, меня зовут. А я уже лег. Надеваю брюки, накидываю пиджак поверх майки и спускаюсь на улицу. Стоит машина. Подхожу. Какой-то незнакомый парень сидит за рулем, а на заднем сиденье этот армянин.
– Садись, – говорит, – в машину. Разговор есть.
Я открываю дверцу и сажусь вперед.
– Давай, – говорит, – отъедем подальше. Здесь еще люди ходят.
– Пожалуйста, – говорю, – давай отъедем.
Едем, едем, а погода плохая, такой весенний полуснег-полудождь. Приехали на какую-то окраину. Тот, что за рулем, останавливает машину, а этот вытаскивает из карманов по пистолету и начинает меня ругать: ты, мол, не в свои дела вмешиваешься, ты такой, ты сякой, я тебя убью. А у меня ничего с собой нет. Закурить хочу – даже спичек не взял. Я говорю парню, что сидит за рулем:
– Видишь, во‐он там огонь горит. Люди еще не спят. Сходи туда и принеси мне спички.
Он молча встает и уходит. Я хочу, чтобы то, что я скажу этому армянину, никто, кроме него, не слышал. Мне свидетели не нужны. А этот продолжает ругаться и пистолетами мне тыкает в затылок. И тут я ему говорю:
– Убей меня сейчас, если можешь. Но учти, если ты меня не убьешь, я тебя из-под земли раздобуду и уничтожу.
Но он, видно, убить меня не собирался, хотел напугать. Или боялся, что друзья мои за меня отомстят. Одним словом, этот парень принес мне спички, я закурил, и мы поехали обратно. Оставили меня возле дома – и дальше.
Я не выдержал! Вбежал в дом, взял пистолет, открыл гараж, сел в машину и выехал. Ищу, ищу, объездил весь город, но так и не нашел.
И вот с тех пор проходит около года. Он дома не живет. В бегах. Я везде с оружием на случай встречи. И он, конечно, об этом знает. Подсылает ко мне делегацию за делегацией, чтобы я простил его. Я не прощаю.
Однажды суд должен был быть над одним нашим парнем. Я поехал на суд, но, зная, что там ползала стукачей будет, не взял свой пистолет. Въезжаю во двор суда и вдруг вижу – его машина стоит. Я чуть с ума не сошел от такой наглости. Тут были наши ребята, я взял у одного из них пистолет и жду его под лестницей, ведущей в зал заседания. Во дворе его нет, машина здесь, значит, он где-то наверху. Рано или поздно спустится.