Театр и военные действия. История прифронтового города бесплатное чтение
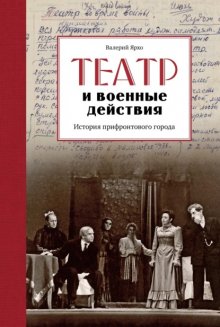
© Ярхо В. А., 2024
© Оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024 КоЛибри®
На большой сцене театра жизни не бывает маленьких ролей. Все время приходится импровизировать, разыгрывая пьесу собственной судьбы.
В. Ярхо
История одной находки
Исписанные шариковой ручкой разрозненные листки ученических тетрадей попали ко мне странным, затейливо-кружным путем. Они обнаружились в альбоме фотографий, некогда принадлежавшем одному из старейшин коломенской театральной сцены Василию Васильевичу Немову. После смерти хозяина альбом этот немало постранствовал по белу свету, едва не сгинув безвестно. Чудом выловленный на развалах блошиного рынка в Измайлово, куда он попал никому из ныне живущих неведомым путем, выкупленный и возвращенный в Коломну, он долго ждал своего часа.
Главным в нем всегда считались фотографии, запечатлевшие актеров Коломенского народного театра (КНТ) – в гриме и без, на сцене и за столом, с фрагментами афиш, видами города и прочими картинками прошлого. Теперь же прочитанные и расставленные по местам листочки рукописи, дополненные сведениями из иных источников, пожалуй, становятся главными, а фотографии превращаются в «иллюстративный материал» к ним.
Судя по тому, что рассказывал Василий Васильевич корреспонденту газеты «Коломенская правда» в ноябре 1979 года, он писал мемуары, которые предполагал передать литературно-художественному музею, затевавшемуся коломенской общественностью в ту пору. Да, видно, не успел все доделать, и далее набросков дело не пошло.
Тексты Василия Васильевича местами очень подробны, а где-то поверхностны. Далеко не все из того, что помнил Немов, он решился открыть потомкам. Не будем забывать, что жить Василию Васильевичу довелось во времена непростые, когда наивная откровенность могла увести «куда Макар телят не гонял», и уроки той суровой школы жизни он усвоил твердо. Порой рассказанное им вызывает сомнение, но «чистым Мюнхгаузеном» Василий Васильевич ни в коем случае не был. Любое из описанных им событий вполне подлежит проверке. Иное дело, что он не всегда мог быть его участником, и семьдесят лет спустя ему уже могло казаться, что читанное в газетах и слышанное от других происходило с ним самим. Эти моменты большей частью относятся к «петербургскому периоду» его жизни. Но во всем, что он сообщает о Коломне и коломенском житье, особенно в период Второй мировой войны, grand-père точен и скрупулезен, порой до занудливости. Что по нынешним временам особо ценно.
Часть 1
Младший жрец провинциального храма Мельпомены
75 лет тому назад в Петрограде
Самую густую «тень» Василий Васильевич наводил на историю своей семьи. Можно даже предположить, что та часть его записок, в которой он сообщал сведения о родне, просто утеряна, но более похоже на то, что Немов намеренно и очень скупо дозирует информацию. Дважды упоминает, что родился он в Санкт-Петербурге в 1893 году, но никак не объясняет, почему вскоре после его рождения семейство Немовых перебралось в село Горы Коломенского уезда Московской губернии, где Василий и прожил первые десять лет своей жизни.
О своем отце – Василии Елисеевиче Немове – Василий Васильевич сообщает, что тот служил солдатом в лейб-гвардии Преображенском полку, принимал участие в русско-турецкой войне 1877–1879 годов. Был награжден Георгиевским крестом за бои на перевале Шипка под командой генерала Скобелева[1]. Но более ничего. Только из ревизской сказки 1858 года[2] можно узнать, что Василий Елисеевич родился в 1855 году. Отец его, а стало быть дед Василия Васильевича, Елисей Ефимович, которому в 1858 году исполнилось 37 лет, был женат на Анне Корнеевне 32 лет от роду, и у них кроме Василия к моменту проведения ревизии были еще два сына и три дочери. Кроме того, у Елисея Ефимовича были братья и сестры, поминаемые в ревизских сказках, у тех свои семьи. Таким образом, мы узнаем, что происходил Василий Васильевич Немов из крепкого, разветвленного рода крестьян села Горы Коломенского уезда.
Служба в гвардейском полку Василия Елисеевича должна была окончиться в 1881 году. Судя по дате рождения, ему в 1875 году исполнилось 20 лет. К тому времени уже год как отменили рекрутские наборы и с 1 января 1874 года ввели всеобщую воинскую повинность. Призванные в армию служили по шесть лет, а во флоте семь лет. Чем занимался Василий Елисеевич в столице по выходе из полка, неизвестно. По какой причине семья Немовых вскоре после рождения сына в 1893 году перебралась из Петербурга на родину, в село Горы, никаких указаний не имеется.
Только в одном эпизоде Василий Васильевич мельком помянул о том, что у него была сестра. Но только одна сестра или несколько, были ли братья, об этом Василий Васильевич не пишет и не рассказывает. Так же и про матушку свою сообщает лишь в описании общего разговора, и совсем не много.
Записки В. В. Немова начинаются с его возвращения в Санкт-Петербург:
«В 1904 году приехал я в Санкт-Петербург из села Горы Коломенского уезда по письму своего дяди, чтобы устроиться на работу «к барину в казачки с отъездом за границу». Я опоздал на целый месяц, приехав вместо сентября в октябре. Мы ехали из села Горы с Сашкой Черняевым. Вез нас десятилетних в Питер «за одно» какой-то мужик из деревни Варищи, сговорившийся с родителями о вознаграждении.
Приехав с ним в Москву на Рязанский вокзал, пока переходили на Николаевский вокзал, увидали мы с Сашкой удивительную коляску, ехавшую без лошадей. В ней сидели четверо человек, по двое лицом к лицу, и один из них правил необычным экипажем при помощи какой-то рукояти посреди коляски. Мы все трое так и встали, засмотревшись на небывалую повозку.
Варищенский мужик, заботам которого нас с Сашкой поручили, купил нам по фунту горячей колбасы и по булке, сказав, что это нам в дорогу, до самого Питера должно хватить. Колбаса и булка показались нам необыкновенно вкусными.
В Питере дядя Миша встречал нас на Николаевском вокзале. Он стал меня ругать – зачем так опоздал с приездом – говоря, что лучше бы и не приезжал. В октябре в Питере были холодные утренники, а мы с Сашкой были в пиджачках «на рыбьем меху», а потому дрожали на холодном ветру, как котята. Московский поезд прибыл в столицу империи в 6 утра, когда еще не расцветало, на улицах горели газовые фонари.
Дядя взял у меня гостинцы, присланные матерью – горшок «русского масла» да два десятка яблок, узелок с моими пожитками, нанял за 30 копеек извозчика до Казанской улицы. В пролетке дядя Миша все бурчал на нас, что опоздали с приездом. Барин, к которому он собирался меня пристроить, соглашался ждать две недели, а теперь, поди, уже и уехал. Хоть дядя всю дорогу зудел и я от холода дрожал, но всю дорогу я любовался вилами столицы. Ехали мы сначала по Невскому проспекту, освещенному газовыми фонарями, которые как раз начали гасить фонарщики. В руках у фонарщика была длинная палка, которой он дергал цепочку фонаря наверху и тот гас. Фонарщик ходил от одного фонаря к другому, переходя проспект, постепенно продвигаясь от Николаевского вокзала.
Мы по Невскому доехали до Казанского собора, и там извозчик свернул в Казанскую улицу, остановившись у дома № 35».
Место жительства – самый центр столицы – указывает на многое. Прямо это не говорится, но из записок Немова ясно, что в доме № 35 по Казанской улице дядюшке Васи принадлежала большая квартира, комнаты в которой сдавались квартирантам. То есть родственники Немовых были хорошо обеспеченными людьми, чего нельзя сказать о родителях мальчика, отправивших сына «в люди». Желание «сплавить лишний рот» – верная примета бедности. Но этим Васю не попрекали. Вот что он пишет далее:
«Жена дяди Миши, тетя Поля, приняла нас хорошо, по-родственному. Она была наша, из Гор, а по фамилии Писарева. Ее моя мать сосватала со своим братом Михаилом Ивановичем Суверовым[3]. Дядя мой служил старшим швейцаром в гостинице «Старая Рига», что была в Новом переулке. Он очень сердился на меня за опоздание. Говорил, что время тревожное и что лучше бы меня отправить обратно. Но тетя Поля заступилась за меня, сказав, что ей со мною будет веселей. Она обещала, что будет всюду со мною ходить искать места «мальчика». Говорила, что у нас в Питере большое знакомство – одних дядей пять человек. Дядя Миша и тетя Поля были бездетными, а потому в конце концов дядя смягчился и не стал меня отправлять обратно в Горы. Только требовал во всем его слушаться, ничего без спросу не трогать и никуда из дому не уходить одному. Так я начал жить в родном мне Питере, где я родился в 1893 году.
Дядя ходил на дежурство в «Старую Ригу» к 9 утра и был на службе до полуночи. Сначала я везде ходил с тетей, но потом привык к большому городу и стал ходить один. Мальчик я был любознательный и с каждым днем уходил от дома в Казанской улице все дальше и дальше. Так постепенно я добрался до берега Невы, по набережной добрался до дворца, где каждое утро караулил солдат в парадной форме.
Церемония эта производилась под музыку военного оркестра. Проходили солдаты стрелковых полков, потом кавалерия, за ними конногвардейцы. Особенно я удивлялся уланам – у них на головах были очень маленькие каски с квадратиками, от которых спускались два шнурка, а каска держалась на ремешках, пропущенных под подбородком. У конногвардейцев на касках был двуглавый орел с распущенными крыльями, будто бы готовившийся взлететь. За конной гвардией церемониальным маршем проходили моряки, а за ними еще войска в разных мундирах и головных уборах, отличавшихся от остальных формой и расцветками. Постепенно я узнал, где находятся казармы всех участников разводов дворцовых караулов.
Так я три месяца слонялся по Питеру с утра до вечера, в компании с другими мальчиками. Все мне было интересно: Нева, дворец, военная музыка и даже музеи. Так наступил декабрь. На Неве встал крепкий лед, и по нему проложили узкоколейную железную дорогу, по которой от Зимнего дворца до Зоосада бегали поезда с маленькими вагончиками. Вдоль дороги на столбах были вывешены электрические фонари, и когда вечером их включали, то выглядело это чрезвычайно красиво. Поездка стоила 5 копеек, и я, сэкономив из даваемых мне тетей на еду 10–15 копеек, тратил пятачок на поездку в трамвайчике ледяной дороги.
Один раз, привычно уйдя из дому с самого утра, изрядно уже проголодавшись, бродил я по городу и около трех часов дня на Невском проспекте увидел толпы народу. По одежде судя, среди этих людей было много рабочих и студентов. В руках у них были лозунги и транспаранты, требовавшие смены власти. Причиной выступления было недовольство народа сдачей Порт-Артура[4], гибели крейсера «Варяг» и «Князь Суворов», подрыв флагманского броненосца «Петропавловск», гибель адмирала Макарова со всем штабом. Возмущало предательство генералов Стесселя и Кондратенко, которых требовали судить военным судом и даже расстрелять вместе с несколькими министрами царского правительства.
В праздник Богоявления 6 января 1905 года на Неве происходило водосвятие. В Исаакиевском соборе была отслужена обедня, а после нее торжественный выход всех присутствовавших к Неве, где напротив Зимнего дворца во льду была вырублена иордань, возле которой устроили временную часовню с золотым куполом. Мне удалось пробраться в Исаакиевский собор, где я примазался к хору певчих с левой стороны. Они приютили меня как умевшего петь – в родном селе Горы я пел в хоре, которым управлял Н. Н. Покровский[5]. После обедни, когда все министерство во главе с царем подходили к кресту, меня уже в соборе не было. Я выбрался из собора через боковой выход и через Александровский сад добежал до деревянного тогда Дворцового моста. Там уже было много народу, но я пробрался к самому краю, откуда было все хорошо видно, что происходит в часовне, куда на рысаках стало подъезжать разное начальство, потом прибыл сам царь в сопровождении градоначальника. Их приветствовали артиллерийским салютом. Всего ожидался 101 выстрел, который производила артиллерийская батарея, развернутая на той стороне Невы, подле Зоологического сада. Вдруг одна из пушек выпустила не салютационный, а боевой снаряд, который попал во дворец, там разорвался так, что посыпались стекла в окнах. Из часовни высыпали люди, бросившиеся в разные стороны. Одни бежали к дворцу, другие к дворцовому саду, где кучера ждали своих седоков. Паника поднялась жуткая. Раздался крик: «Казаки!», и все бросились с моста. Действительно на мосту показались казаки, которые стали бить плетьми народ. Мы, несколько человек, сойдя на лед, побежали к часовне водосвятия и там стояли, пока не улеглась паника. Домой я вернулся только к вечеру, рассказав дяде с тетей, как все было. Дядя стал ругаться, грозился отправить обратно домой и запретил мне выходить из дому на улицу…
Свидетельство о «Кровавом воскресенье»
Два дня пришлось просидеть «под домашним арестом», но 8-го января дядя Миша вдруг прибежал домой днем и сказал, что в гостиницу «Старая Рига» пришли люди из Охранного отделения и велели всем служащим, кроме нескольких человек, из гостиницы уходить. Дяде, как старшему швейцару, и еще нескольким служащим велели оставаться, но предупредили, что в гостинице будут располагаться агенты «охранки», и они будут при них. Так как неизвестно было, сколько это будет продолжаться, дядю отпустили домой собраться и предупредить родственников. Он предупредил, что, скорее всего, он будет дежурить несколько дней к ряду, а нам с тетей Полей велел утром 9 числа уходить в гости к родственникам Ярославцевым, жившим в Казачьем переулке. Прихватив с собой кое-какие нужные вещи, дядя Миша попрощался и ушел.
Утром пошли мы с тетей Полей к Ярославцевым и застали там гостившую у хозяев монашку, которая родом была из наших Гор. Она была родной тетей тети Поли. Очень монашке не нравилось то, что творится в Питере. Заодно ругнула она и мою мать, отправившую меня «постреленка» в город, где такие страсти творятся. Поругав то и се, монашенка та сказал тете Поле, что завтра же поедет домой и меня с собой возьмет. Но тетя ответила, что никуда меня не отпустит, потому что она обещала устроить меня на работу и свое слово, данное Евгении Ивановне (моей матушке), она сдержит[6]. После этих слов я облегченно вздохнул.
После обеда мы от Ярославцевых пошли домой и около 4 часов дня проходили по Гороховой улице. До моста через Фонтанку дошли спокойно, но ближе к мосту стал попадаться народ, ходивший с Гапоном к дворцу с петицией. Полиция стояла кордонами и требовала идти по тротуару, не скапливаться больше 3–4 человек и не заводить никаких разговоров. Мы с тетей шли молча и так дошли до Екатерининского канала, и там на Горбатом мосту вспыхнула потасовка – народ расправлялся с полицейскими в светлых шинелях, посланных для разгона митингующих. Полицейских сбрасывали через перила моста на лед. Упав, ударившись об лед, они кое-как поднимались и спешили спрятаться под мостом.
Мы едва протиснулись через сутолоку на Горбатом мосту и, дойдя до Казанской улицы, были остановлены кордоном военных. Тетя сказала офицеру, что мы живем на Казанской в доме № 35, и нас пропустили. Офицер посоветовал идти побыстрее и чтоб нигде не останавливаться.
– А то могут и подстрелить, – пояснил он.
Добравшись до дома, мы услыхали от жившей в нашей квартире курсистки и рабочего, снимавшего угол на кухне, ходивших к дворцу, что там положили множество народу, а Гапон куда-то сбежал. Всюду выставлены оцепления солдат, которые никого не пускают проходить.
Мне захотелось посмотреть, что происходит, и я тихонько выбрался из дому, сделав крюк через Вознесенский проспект, через Исаакиевскую площадь и Александровский сад, добрался до решеток Дворцовой площади, притаился в кустах и смотрел, как на ломовых извозчиках увозят тела убитых. Меня заметил патрульный солдат, подбежал и сказал:
– Ты что здесь делаешь? Я тебя пристрелю, шкет ты этакий!
С испугу я заплакал, и он, видя мои слезы, смягчился и сказал:
– Ну-ка марш отсюда, пока офицер не увидел! Вишь народу сколько застрелили? Смотри и запомни, что видел, да не болтай только. Ну, беги и не оглядывайся, Бог с тобой!
Дома я все рассказал тете Поле. Утром она не хотела меня отпускать на улицу, но удержать меня было невозможно. Пошел на Невский, а там шествие рабочих с питерских заводов, требовавших разгрома царского правительства, кричавших «Долой монархию», пели «Вы жертвою пали» и «Отречемся от старого мира». Несли транспарант из черной материи, по которой белым было написано «Смерть царю». Шествие встретили конные полицейские, которые врезались в толпу. Но их не испугались – полицейских стаскивали с коней и избивали. На подмогу полиции прислали казаков. Они принялись бить всех подряд нагайками. Гонясь за людьми, заскакали даже на паперть Казанского собора. Мне досталось по спине ногайкой, так что распоролся пиджак. В ответ я чем-то бросал в казаков. После этой бойни меня из дому не выпускала даже тетя Поля. У нас дома собралась вся родня, и тетя попросила дядю Сашу найти мне хоть какое-то место, чтобы определить меня на работу и мне некогда было бы бродить по улицам».
Творческая среда
По решению семейного совета Васю Немова определили на работу «мальчиком» к богатому мануфактурщику К. И. Татаринову. Хозяин положил год «испытательного срока», чтобы паренек «выучился делу». За это время жалования ему не полагалось – Вася должен был работать «за харч, одежу и науку». Даже «чаевые» – коли удастся таковые «сшибить» – должен был сдавать хозяину. Без спросу из магазина нельзя было отлучиться. И все же, несмотря на все строгости, Василий «прижился» у Татаринова. Мальчика, что называется, приметили.
Судя по тому, что Василий был отдан «в люди» десяти лет от роду и с той поры никакого упоминания об учебе не осталось, в его образовательном багаже была только начальная земская школа. Но мальчишка был шустрый, сообразительный. Легко схватывал, поддавался обучению, а главное в нем было заметно это желание к самосовершенствованию. По-видимому, за эти самые качества – шустрость и сообразительность – из мануфактурного магазина Василия «взяли в дом к хозяину» на должность «мальчика для услужения».
Господин Татаринов слыл меценатом. Дома у него собирались большие компании творческих людей, в числе которых бывали знаменитые композиторы и артисты – Николай Андреевич Римский-Корсаков, Александр Константинович Глазунов, Фёдор Иванович Шаляпин, Мария Гавриловна Савина, Вера Фёдоровна Комиссаржевская, Владимир Николаевич Давыдов, Константин Александрович Варламов, Юрий Михайлович Юрьев. В дружеском застолье они вели разговоры об искусстве, обсуждали новые спектакли, вспоминали прежние, хвалили одних, поругивали других, пародировали третьих. Случалось, устраивали домашние концерты. И хотя Ваське Немову на эти суаре ходу не было, он умудрялся тайком пробираться в соседнюю комнату, откуда мог видеть и слышать участников музыкальных вечеров, наслаждаясь их искусством. Пока что со стороны[7].
Пристрастившись к театру, подросший Василий особое предпочтение отдавал опере. Хозяин этому не препятствовал, и когда было можно, юноша ходил в Мариинский театра и театр Филармонического общества. Большую роль в жизни Василия Немова сыграл Народный дом на Выборгской стороне. Там был самый настоящий театр, на сцене которого ставили драматические спектакли и оперы любительские труппы. В Народном доме имелась обширная библиотека с читальным залом. Работали разнообразные кружки для взрослых и детей. Там читались лекции на самые разные темы. Занятия в Народном доме серьезно расширили кругозор юноши, а кроме того, он завел там весьма полезные для себя знакомства.
В театре Народного дома сложилась сильная оперная труппа, которой руководил Николай Николаевич Фигнер – оперный певец, друг Чайковского, первый исполнитель роли Германа в «Пиковой даме» и Ленского в «Евгении Онегине».
Оставив карьеру военного моряка, Фигнер поступил в Петербургскую консерваторию, откуда его изгнали за бесталанность и слабый голос, но он не сдался. Добившись субсидий частных благотворителей, Николай уехал в Италию, где учился в Неаполитанской консерватории. Дебютировал в 1882 году на сцене неаполитанского театра в главной роли оперы «Фауст» Шарля Гуно. Потом был Милан – опера «Фра-Дьяволо» Даниэля Обера и контракт на гастроли по театрам итальянской провинции. Пройдя эту «итальянскую апробацию» и приобретя уже кое-какую известность, Николай Николаевич гастролировал в Мадриде, Бухаресте и ряде других европейских городов, театры которых славились своими оперными постановками.
Наконец в 1887 году Фигнер с триумфом возвратился туда, где его отвергли, – он пел в Петербурге на сцене Императорской русской оперы. Его признали солистом и зачислили в штат труппы оперного театра. О прежних гонениях никто предпочитал не вспоминать. В 1895 году Николай Николаевич был увенчан званием солиста Его Величества. В 1912 году его произвели в «штатские генералы», пожаловав чин действительного статского советника. Из-за сахарного диабета Николай Николаевич принужден был оставить большую сцену, но вовсе уйти из столь милого его сердцу мира театра он просто не мог. Возглавив Народный дом на Выборгской стороне, Николай Николаевич управлял его оперной труппой любителей и сам порой не прочь был «тряхнуть стариной», выходя на сцену со своими подопечными.
В труппе Народного дома Вася Немов подвизался в хористах. Голосистого паренька приметил Фигнер, и между ними завязались отношения, которые Василий Васильевич называл дружбой, хотя скорее это было покровительство одного и ученичество другого. Они познакомились в 1910 году, когда Вася уже вступил в пору цветущей юности. Ему исполнилось 17 лет, и перед ним встал вопрос – что делать далее. Оставаться «мальчиком при доме» он не мог – вырос. Взрослая мужская прислуга уже выходила из моды – новый век диктовал свои правила. По торговой части он не пошел. Образованием молодой человек похвастаться не мог. На завод поступать было поздно – профессии учились с мальчиков. Ровесники Васи уже давно вышли из учеников, обжились среди фабрично-заводского люда, обзаводились семьями. Рядом с ними он бы выглядел чужаком-переростком. Да, видимо, не особо и хотелось ему руки пачкать – его манила сцена, и по-своему это был верный ход. Тогда для актеров и певцов образовательный ценз не требовался. Был бы талант и амбиция. Но, чтобы «прибиться к театру», нужно было «себя показать», а этому тоже надо было учиться. И такая возможность у него была! Благоволивший Василию господин директор Народного дома взялся обучать юного хориста разным актерским хитростям.
Будучи искушен в жизни театрального «закулисья», Николай Николаевич на правах старшего товарища рассказывал Василию о великих певцах, знакомил его с тонкостями театрального мастерства. В свою очередь Василий пробовал «показывать» фрагменты из произведений Гоголя, Тургенева, Островского, Толстого, Чехова. Получалось у него, как у всех начинающих, не очень хорошо, но Фигнер подбадривал, говорил, что труден первый шаг, а задатки есть. Отмечал богатую мимику, хорошую память, эмоциональность и наблюдательность, но указывал и на недостатки – слабость внутреннего перевоплощения, недостаточную индивидуализацию речи персонажей. Советовал работать над речью, голосом, глубже вникать в тексты пьес, смелее создавать свой сценический образ.
Господин директор свел паренька с хористом Народного дома Исаем Григорьевичем Дворищевым, носившим почти официальное звание «адъютант Шаляпина». В этом было много правды. Он и впрямь исполнял при знаменитом басе роль, схожую с адъютантской. Сын портного из черты оседлости, Исай начинал как певчий синагоги местечка Друя Виленской губернии. Войдя в возраст, он перебрался в Воронеж и там пристроился бутафором в местном театре. У него появился шанс «показаться», и голос Исая оценили, разрешив ему петь в хоре. Постепенно, занимаясь с такими корифеями жанра, как Леонид Собинов и Иосиф Томарс, он «вышел в солисты». Уехал из Воронежа в Казань, где поступил хористом в местную труппу, а в Самару его пригласили уже как солиста. Потом были Одесса, Харьков, Москва, Санкт-Петербург. Довелось ему выходить на одну сцену с Шаляпиным, и они крепко подружились. Пробовавший себя в качестве режиссера, Исай Григорьевич помог Фёдору Ивановичу в постановках его выступлений и так проявил себя, что без него Шаляпин уже никуда не ездил и нигде не выступал.
Утвердившись в столь важной роли «закулисного распорядителя» оперной звезды мирового масштаба, Дворищев сам уже на сцену не выходил, и, можно сказать, душу отводил, выступая в хоре Народного дома. Когда Фигнер познакомил его с Васей Немовым, помня себя «вот таким же, Исай Григорьевич стал покровительствовать юноше, открыв для него доступ на любые спектакли с участием Шаляпина. Ну и сам кое-чему учил его. Все помнившие Дворищева отмечали его отменные актерские данные. Если солист он был не особо выдающийся, то его игра на сцене очень запоминалась. Совсем немногие «оперные» играют на сцене, а не просто исполняют певческие партии в костюмах и декорациях.
Военная служба
Вся эта распрекрасная жизнь оборвалась летом 1914 года, когда началась Мировая война. Подлежавшего призыву «первой очереди» Немова, которому шел 21-й год, забрали в армию. Но ему и тут повезло – он попал в часть, находившуюся на Дальнем Востоке. Судя по косвенным данным, Василий Немов служил в артиллерийских частях Заамурского округа пограничной стражи. В своих записках он пишет о том, что попал в Харбин, где и прослужил первый год войны. Там же в записках упомянуто, что он служил в батарее, а это подразделение артиллерии, соответствующее пехотной роте.
Осенью 1915 года была сформирована 1-я Заамурская артиллерийская бригада, которую перебросили на Запад, включив в состав 9-й армии Юго-Западного фронта, командование которым в марте 1916 года принял генерал Брусилов. И опять в ход идет география – Немов упоминает город Каменец-Подольский, где ему довелось «тянуть армейскую лямку». По понятной причине он умолчал о визите в Каменец государя императора Николая Александровича, Самодержца Всероссийского, инспектировавшего войска перед готовившимся наступлением. А рассказать бы ему было что!
Вечером 28 марта 1916 года Николай II прибыл на личном поезде в город. На перроне его встречал почетный караул, приветствовали, обнажив головы, «отцы города» во главе с генерал-губернатором. Когда государь вышел на перрон, на звонницах городских церквей ударили в колокола. От православных храмов не отставали католические костелы и собор Армянской церкви. Не имевшие обычая колокольного звона иудеи не звонили, но в городских синагогах по случаю визита монарха свершались торжественные богослужения.
Утром 29 марта император и командующий в сопровождении свиты на нескольких автомобилях совершали объезд войск. Линия фронта проходила недалеко от города, и Каменец-Подольский неоднократно подвергался авиационным налетам. От бомб, сбрасываемых с немецких и австрийских аэропланов, пострадали многие здания города, и при проезде императорского кортежа по Каменцу можно было заметить, что некоторые дома так и стоят без стекол.
Части 3-й Заамурской дивизии, 9 и 11-го армейских корпусов выстроились на выгоне у дороги, ведущей к Голоскову и Проскурову. Скопление войск и движение автомобильного кортежа было замечено наблюдателем с поднятого противником аэростата. Австрийские аэропланы «Таубе» и «Альбатрос» пытались атаковать автомобили императорской свиты и выстроившиеся для встречи высочайших особ войска. Русская зенитная артиллерия открыла огонь по вражеским бомбардировщикам, не давая им возможность приблизиться и сбросить бомбы, а подоспевшие русские истребители «Ньюпор» заставили противника ретироваться. Это происшествие никак не отразилось на поведении государя. Казалось, он совершенно не замечал опасности, грозившей ему, и вернулся в Каменец, только завершив объезд частей.
На другой день, 30 марта 1916 года, состоялся парад 3-й Заамурской дивизии и 2-го армейского корпуса. Облаченный в форму полковника Павлодарского полка, с Георгиевским крестом на груди, подтянутый и стройный, Николай II, ловко и умело управляя конем, верхом объехал полки. Солдаты, винтовки которых находились в положении «на караул!», приветствовали его криками «ура!».
Потом части продефилировали церемониальным маршем. Парад принимали стоявшие на крыльце Мариинской женской гимназии император, генерал Брусилов и министр двора граф Фредерикс со свитой. Войска двинулись вниз по улице, прошли по Новоплановскому мосту, Старому городу и по селу Довжок. Прямиком с парада они отправились на боевые позиции, те самые, которые станут «исходным рубежом» в конце мая, когда начнется крупномасштабное наступление, вошедшее в историю под названием Брусиловский прорыв.
Карьерный взлет
В ходе тяжелейших боев, увенчавшихся грандиозной победой русского оружия, Василию Немову посчастливилось выжить. В декабре 1916 года 9-я армия с Юго-Западного фронта была переброшена южнее, в Румынию, правительство которой вступило в войну на стороне стран Антанты летом 1916-го. За несколько месяцев боевых действий румынская армия была разгромлена и под ударами австро-венгерских войск спешно отступала к русской границе. Так появился Румынский фронт русской армии, в состав которого попала и победоносная 9-я армия. Совместными действиями румынских и русских войск противник был остановлен на реке Сирет, фронт стабилизировался.
Штаб фронта находился в Яссах, где обосновалось и правительство Румынии, объявившее город временной столицей после того, как «австрияки» оккупировали Бухарест. Как «фронт встал», часть Немова отвели в тыл, расположив в окрестностях Кишинева, ставшего тыловой базой фронта. Там находились госпитали, склады, мастерские и иные службы обеспечения. Оттуда, из-под Кишинева, Немова штаб полка командировал в Москву для закупки канцелярских принадлежностей.
Почему выбор пал на него? Человек бывалый. Призван из столицы. Разбирается в железнодорожных маршрутах. Язык подвешен. Но, пожалуй, главное было то, что Немов с его-то «поставленным» голосом был батарейным запевалой, а когда в боях наступало затишье, он охотно пел для сослуживцев по батарее и дивизиону[8]. Запевалы и затейники всегда ценятся в военной службе. Они, что называется, на виду у начальства. Словом, Немова в полку знали и ему доверяли. Зима 1917 года ожидалась спокойная. На фронте затишье. Вот и решили послать его для закупок.
Так и вышло, что Февральская революция застала Василия Васильевича в Москве, куда он был командирован с Румынского фронта. В полк Немов вернулся, переполненный впечатлениями от событий, свидетелем которых стал. Привез с собой газеты, листовки разных партий. Его жадно расспрашивали про то, как да что там, в тылу, в Москве этой самой и в Петрограде,[9] когда война кончится, что там насчет земли???
Во многом неожиданно для себя рядовой Немов разом превратился в важную фигуру – стал человеком, который «сам все видел своими глазами, сам все слышал своими ушами». На волне этой популярности товарищи выбрали Василия в полковой Комитет. По тем временам Комитет был реальной силой, обладал властью и вмешивался в дела управления полком. Насколько вмешивался? Настолько, что командованию приходилось согласовывать свои действия с выборными «комитетчиками». Без их утверждения никакой приказ вышестоящего штаба нельзя было исполнять. Власть Комитета простиралась так далеко, что его представители, и Немов в их числе, «реквизировали в пользу солдат офицерскую кассу». На эти деньги решили заказать солдатам плащи. Для обеспечения сослуживцев вещевым довольствием Немов летом 1917 года был снова командирован в Москву, уже как выборное лицо, от полкового Комитета. Плащи он заказал, да пока они шились, много чего произошло. Кое-что заприметив еще по дороге, а потом, находясь в Москве, рассмотрев ситуацию внимательнее, Василий Васильевич поступил так, как многие тогда.
Туманный период биографии
Полувеком позже в газетном интервью он «напустил тумана». Дескать, воевал, участвовал в Брусиловском прорыве, а потом… в 1920 году дебютировал на коломенской сцене. В записках Василий Васильевич сообщает больше, но все равно путано. Одной строчкой. Пишет, что, пока шились плащи, он уехал в Горы, где примкнул к театральному кружку. И то сказать, как еще можно написать о мягко говоря «самовольном оставлении части»!? А говоря без выкрутасов, о дезертирстве. В военное время.
Но подождем бросать в солдата булыжники патриотических обвинений. Нужно ведь понимать, что война к тому времени всем обрыдла до последней степени крайности. Конца-краю ей видно не было, а тут революция. Лозунг Временного правительства «война до победного конца». Была предпринята попытка наступать летом 1917 года, чтобы добить немцев, истекавших кровью на двух фронтах, но наступление провалилось, войска понесли большие потери. Революционные партии с одной стороны, правые с другой яростно критиковали Временное правительство. В июле 1917-го большевики предприняли попытку вооруженного переворота в столице, но мятеж подавили силами гвардейских полков. Верхушку большевистской партии обвинили в связях с немецким Генштабом и в антигосударственной деятельности. Военная контрразведка петроградского гарнизона произвела задержания нескольких видных организаторов мятежа. По ее представлению были выданы ордера на арест Ленина и людей из его ближайшего окружения. Они скрылись, перейдя на нелегальное положение. Их объявили в розыск как германских агентов.
Газеты пестрили требованиями «навести порядок». Правительство обещало. Неудачу июньского наступления военное командование объясняло развалом военной дисциплины в армии, чему, по мнению высоких армейских чинов, не в последнюю очередь способствовали полковые комитеты. Ставший верховным главнокомандующим генерал Корнилов своим приказом восстановил в прифронтовой полосе смертную казнь для нижних чинов за отказ исполнять команды офицеров, ввел военную цензуру и предложил создать специальные лагеря для нарушителей дисциплины.
Почуяв прямую угрозу для себя как полкового «комитетчика», успевшего отметиться общественной активностью, Василий Немов почел за благо в свою часть не возвращаться. За дезертирство полагался расстрел, но для этого надо было его еще поймать. С фронта тогда бежали многие. В тылах царила неразбериха, характерная для времен больших перемен. Шансы у дезертиров были неплохие, если не делать глупостей.
Рассудив здраво, Василий решил, что искать его будут в первую очередь в Петрограде, откуда он был призван, а потому подался из Москвы совсем в другую сторону. Он надеялся первое время отсидеться в родном селе, а там видно будет. На жаргоне того времени это называлось «примениться к местности».
В Горах, где он, уехав еще мальчишкой, не был более десятка лет, про жизненные обстоятельства солдата Василия Немова знали только с его же слов. Выданная Комитетом и заверенная полковой канцелярией бумажка, удостоверявшая тот факт, что рядовой Немов командирован в Москву по служебной надобности, у него имелась. Искать его в дальнем углу Коломенского уезда никто не спешил.
Да и кому искать-то было? Полицию и жандармерию Временный комитет Государственной думы, взявший на себя функции управления страной, расформировал. Новая милиция, наспех собранная из студентов, гимназистов, чиновников и прочих дилетантов, не могла справиться с наведением порядка в Коломне, а уж до дальних сел и вовсе руки не доходили.
К тому же в России кипели политические страсти. Партии готовились к борьбе за власть на предстоящем Учредительном собрании. Все мысли были устремлены в будущее, о настоящем мало кто заботился, все откладывая на потом. Вот выберут правительство, закончится война, и тогда уж…
В этой мутной воде если и был риск попасться Василию Немову, то разве что случайно. Облавы на дезертиров время от времени проводили, но городским милиционерам поймать кого-то на селе было трудновато. «Своих» от «чужих» крестьяне прятали испокон веку. А местным милиционерам «там было жить», они это помнили крепко.
Словом, расчет оказался верен – вполне благополучно прокантовавшись в Горах три месяца, Василий дождался падения Временного правительства, свергнутого большевиками, после чего скрываться ему никакой нужды не стало. Однако… Именно с этого момента в биографии Немова растекается «белое пятно», которое простирается аж до 1920 года.
Чем Василий Васильевич занимался в эпоху «военного коммунизма» и Гражданской войны? Как зарабатывал хлеб насущный? Из всех подробностей об этом времени сам Василий Васильевич рассказывал, что в 1920 году он дебютировал на коломенской сцене, сыграв Аркашку Счастливцева в спектакле по пьесе «Лес» Н. Островского. В Красной армии Немов не служил, в Гражданской войне не участвовал. Про это, уж поверьте, в советское время помянули бы непременно. Такое являлось предметом гордости. Почему его – фронтовика с боевым опытом, артиллериста, по здоровью и возрасту вполне годного к строевой, – не мобилизовали в 1919–1920 годах, когда в Красную армию «гребли всех подряд», совершенно не ясно. Он про это ничего не сообщает. И про многое другое тоже. На фоне того, что и без него известно о тех временах – голод, бессолица[10], Гражданская война, карточная система, тиф, грипп-испанка, мобилизация, трудовая повинность, хронология бытия Василия Немова прорисовывается с большим трудом. Этакий пунктир биографии с долгими временными разрывами.
Дебют на сцене
Свой рассказ о сельском житье Немов начинает с того, что примкнул к театральному кружку при земской школе. Когда это произошло – сказать трудно. Только по ряду косвенных признаков можно предположить, что это случилось уже после Октябрьской революции, но не ранее 1920 года[11].
Можно сказать, он вернулся к родным пенатам. И вот тут обнаруживается интересный поворот сюжета. Когда Василий еще мальчиком бегал в эту самую школу, русский язык в ней преподавал Николай Николаевич Покровский[12], тот самый, который руководил и хором, в котором Вася выучился петь так, что смог пристроиться на левый клирос Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
После отъезда Васи Немова в Петербург жизнь в земской школе шла своим чередом. Причем одним только учением дела в ней не заканчивались. При школе сложился довольно серьезный театральный кружок, располагавший значительными средствами. Судить мы об этом можем не с чьих-то слов, а по подборке документов, составленных главным полицейским чином Горской волости урядником Шамраем, к которому необходимо было обращаться за разрешением, устраивая спектакль, концерт или спортивное состязание. Сам же урядник составлял отчет о том, как дозволенное им мероприятие прошло. Эта бюрократическая волынка отравляет насущное бытие, но всегда идет на пользу историкам, исследующим старину. И что же мы видим в делах господина полицейского урядника? А вот что! Силами горского Общества любителей хорового пения 22 февраля 1913 года в земской школе был поставлен спектакль по пьесам Коныгина «Жертва энтузиазма» и «Охота пуще неволи, или Хочу быть актером» И. Чернышева. Распорядителем дела по устройству спектакля выступал учитель земской школы Николай Николаевич Покровский. Билеты и афиши печатались в Коломне, в скоропечатне и литографии «Наследники П. В. Кулагина». Продан был 281 билет. За чай и закуску актерам, взятым в магазине Кузнецова в Озерах, уплатили 7 рублей 97 копеек[13]. За игру на гармони аккомпаниатору Семену Рязанкину уплатили 5 рублей, а за разбитое по ходу спектакля стекло в окне школы было внесено 63 копейки.
Это же общество давало спектакль в помещении земской школы 19 апреля 1913 года. Распоряжался снова учитель Покровский, пригласивший труппу заезжих актеров антрепренера Лилина-Якоби, а в качестве режиссера подвизался Сергей Перфильев. Господам артистам заплатили 25 рублей за игру. Да еще 24 рубля пришлось выложить за проезд труппы по железной дороге. От станции гастролеров на подводе вез Федор Карякин, а Иван Кондратов на другой телеге доставил реквизит. Музыкальное сопровождение снова обеспечивал игрой на гармонике Сергей Рязанкин, получивший от господина Покровского 5 рублей.
К тому времени, когда в Горах объявился рванувший с фронта Немов, театральным кружком руководила учительница Филиппова, которой отчаянно не хватало исполнителей мужских ролей. Дело дошло до того, что, ставя чеховского «Медведя», в роли старого слуги Луки пробовали выпускать на сцену женщину, богато одаренную природной статью. Ее пытались гримировать под мужчину, но выходило только хуже. Наклеенные усы и бакенбарды никак не гармонировали с внушительного размера бюстом.
В этом кружке подвизалась и сестра Немова, и по ее просьбе Василий суфлировал, подсказывая исполнителям текст. Видя всю нелепость положений в сценах с грудастым Лукой, вняв просьбам Филипповой и войдя в положение «господ любителей», Немов согласился сыграть в спектакле роль старого слуги. Ролька небольшая, характерная. Невеликого опыта Василия Немова на нее вполне хватило. Он сыграл «от души», и у него все получилось. Этот вполне локальный успех на сцене любительского театра в родном селе сильно повлиял на Немова, который, по его же словам, после этого Луки в «Медведе» уверился в своем таланте и просто-таки «заболел театральной игрой». Ему отчаянно захотелось стать актером.
Вот в это можно поверить стопроцентно. Очень может быть, давно зревшее в нем нашло выход. К тому же кроме актерского дара открылся у Василия талант организатора.
По горским меркам был Вася Немов «столичной штучкой», человеком, повидавшим многое. Очень скоро, оттеснив учительницу Филиппову, которой и кроме театра дел в школе хватало, стал Василий лидером театрального кружка, пополнившегося такими же, как он сам, «возвращенцами». Многие из тех, кто в прежние времена уходили из Гор в Москву или Коломну на заработки, возвращались обратно. В голодное и опасное время в селе прожить было проще.
Памятуя уроки Фигнера и Дворищева, Немов поставил спектакли по пьесам «Бедность не порок» и «В чужом пиру похмелье» Островского, «Крестьяне» и «Король жизни» Софьи Белой, «Перепуганные» Невеждина и еще какие-то, какие именно за давностью лет Немов уже и не помнил.
В то бедное на развлечения время такая театральная самодеятельность имела огромный успех. Параллельно с горской труппой Немов в соседнем большом промышленном селе Озеры, где было несколько ткацких фабрик, создал драматический коллектив, с которым смог поставить шесть спектаклей. О нем заговорили в уезде! Вскоре Василий перебрался в Коломну, поступил на Коломзавод, а вечерами занимался в театре при доме Красной армии. Самодеятельных артистов и режиссеров подкармливали – им полагался паек, что в то голодное время приходилось весьма кстати.
Коломенские любители искусств
Перемещение увлеченного театром молодого дилетанта из Озер в уездный город произошло вполне закономерно. Традиции любительского театра в Коломне сформировались задолго до революции и смены общественно-политической формации государства. В те поры люди совсем не творческих профессий – рабочие, служащие, торговцы, военные – не ждали, когда кто-то станет их развлекать. Сами выходили из положения. Умение хорошо петь или играть на каком-нибудь музыкальном инструменте было очень престижно. Гармошка, мандолина, балалайка, гитара, труба, кларнет или скрипка были во многих «простых» домах. Люди побогаче обзаводились своими пианино, а то и роялями.
Те, кто мог себе позволить, брали уроки у учителей музыки и вокала. Люди победнее и попроще учились сами, по всяким самоучителям. При школах, училищах, гимназиях, где обычно устраивались музыкальные кружки. Повзрослев, «виртуозили», уже совершенствуясь самостоятельно, кому как бог на душу положит.
Музыкантов и певцов привечали в компаниях, к ним проявляли благосклонность девицы. Умевшая петь и играть на инструментах девушка имела больше шансов удачно выйти замуж. Такие невесты особо ценились.
В общественных собраниях и в частных домах устраивались декламации и чтение новых пьес, опубликованных в журналах, «на голоса». Чрезвычайно популярен был тогда жанр «живые картины» – род статической пантомимы, когда несколько человек в декорациях и костюмах замирали в позах, копируя картины знаменитых художников или скульптурные группы. С живыми картинами успешно конкурировали любительские спектакли. Обычно это была летняя забава, особенность дачного сезона, когда устроить подобие сцены на свежем воздухе было проще. Зимой приходилось искать места в городских клубах, договариваясь со старшинами, сходится в домах, имевших просторные комнаты.
Люди творческие, увлеченные общими интересами, всегда стремятся сплотиться. Поэтому вполне закономерно, что еще на рубеже XIX и XX веков в селе Боброво, большая часть населения которого была так или иначе связана с Коломзаводом, возникли несколько кружков музыкантов, певцов, актеров-любителей. Для того чтобы поддержать эти благие начинания, на личные деньги основателя завода Аманда Струве и директора Антона Лессинга в Боброво выстроили то, что тогда было принято называть «Народный дом». Подобные общедоступные культурно-просветительские учреждения, род открытого для посещений клуба, тогда устраивали практически повсеместно. Народные дома были и государственные, и земские, и частные. Название их варьировались, но суть оставалась та же.
По проекту знаменитого московского архитектора Максима Карловича Геппенера в 1898 году на окраине села Боброво возвели большое деревянное здание с башенками, похожее то ли на замок, то ли на сказочный дворец. Место было выбрано с большим умом. С одной стороны до самой станции «Голутвин», зажатые между Рязанским шоссе и линией железной дороги, тянулись кривоватые улочки с переулочками старого села Боброво, а с другой стороны от заводского клуба ровными рядами, разбитые на правильные участки, выросли усадьбы и дома поселка, названного Новая стройка. Это была частная застройка рабочих завода, перебиравшихся на жительство в город из окрестных деревень. Строительство домов субсидировалось заводской администрацией, дававшей кредит на льготных условиях, помогавшей материалами и рабочей силой. Следы этой деятельности заметны до сих пор, и в XXI веке, – поставленные артелями заводских плотников дома простояли полтораста лет, и в них до сих пор живут потомки тех, кто строил «при хозяине»[14].
В здании, построенном по про