Допогуэра бесплатное чтение
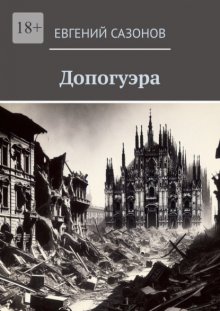
© Евгений Сазонов, 2024
ISBN 978-5-0064-1943-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Допогуэра
1
В пылу драки Карло Кавальери, мальчик двенадцати лет, довольно прилично получил по мордасам и рухнул на пропыленную землю, точно срезанный серпом подсолнух. Ударом его осенил ровесник по имени Микеле Куаранта. Так уж повелось, что столь юные противники при каждой встрече бились с отчаянием взрослых. Вокруг же них кипело сражение – около дюжины мальчишек колотили друг друга всем, что попадалось под руку.
Лежа на боку, поверженный Карло поглядел сквозь пыль и слезы на покоящуюся рядом иссеченную статую Траяна и в ее каменных глазах прочел: «Судьба у тебя такая». И тогда мальчик подумал, что между ним и императором мало общего, ведь тот был победителем, а Карло – лишь подсолнухом на пропыленной земле.
– Все, расходимся! – крикнул Микеле своим ребятам и заслонил солнце над Карло. – Ну и досталось же тебе. Передай всем, что «дети дуче» снова на коне.
За сражением с балкона гостиницы наблюдали двое: американский журналист и его любовница-француженка. Когда все закончилось, мужчина нырнул в тень комнаты и защелкал фотоаппаратом:
– Вот так. Выше подбородок, к солнышку. Я хочу поймать тебя в просвете занавесок. Видишь, как они играют на ветру, и это солнце – свет что надо.
– Я хочу еще, – сказала она.
– Мне надо восстановиться, подожди минут двадцать, и будет тебе еще.
– Ты больше не любишь меня?
– Перестань.
– Почему эти ребята так жестоко дрались? – спросила она.
– История занятная.
– Тебе хватит двадцати минут?
Он вернулся на балкон, облокотился о прогретую солнцем балюстраду и, закурив, заговорил с напускной деловитостью:
– Два года назад Муссолини был свергнут, а Италия перешла на сторону союзников и воевала уже против Германии. Позже немцы вызволили Муссолини и поставили его во главе марионеточного государства. В общем, получилось так, что во время войны итальянцы сражались по обе стороны. Сейчас Милан, как и вся страна, поделен на два лагеря: на одной улице, соседствуя, могут жить те, кто сотрудничал с фашистами, и те, кто был в Сопротивлении. А дети недавних врагов выясняют отношения: с одной стороны – «дети дуче», у кого родители были пособниками Муссолини, с другой – «сыны Италии», мальчишки из семей участников Сопротивления.
– Как интересно, – сказала она.
– Милан вообще интересен. Оглядись вокруг: война только закончилась, город в руинах – это занимательный период, итальянцы зовут его dopoguerra, буквально «после войны». Разруха, вонь, мухи, нужда в еде, одежде, нет работы – это и есть Милан сорок пятого. Униженная личность на фоне разбитой красоты эпох.
– Ты так и назовешь статью? – спросила она.
– Сейчас меня интересует фотография, – ответил он.
– Тут много солнца, – улыбнулась она.
– И голуби, голуби, голуби.
– Ты все не можешь простить им шляпу? – засмеялась она.
– Плевать мне на шляпу, плевать на войну. Я готов, детка.
2
Приятели Карло на прощание похлопали его по плечу и со взрослой прямотой посоветовали готовиться к трепке дома. Как-никак, а новые брюки и рубашка теперь годны разве что на тряпки.
– Ничего, мы им еще зададим!! – крикнул напоследок Сесто. Он всю драку активно болел за товарищей, но мудро не вмешивался.
Карло брел домой. Тело ныло от боли, ум переживал, душа в смирении сложила крылья. «И почему мы вечно проигрываем? Разве мы слабее? Силы равны, но мы опять повержены. Почему?» – думал он.
Карло замечал сочувствующие взгляды тетушек, что развешивали мокрое белье, скучали в открытых окнах, чистили рыбу на скамьях. Жалость и сострадание. Но жалость не тот наставник, который научит тебя боксировать. Отец говорит, что каким бы тяжелым ни было поражение, главное – к этому не привыкнуть. Так узрите же, матери: «сыны Италии» опять побиты, но опять «сыны Италии» подняли голову, и разбитый нос для них – тьфу, просто урок стойкости. Ведь никто не рыдал и не просил пощады! «Сыны Италии» приняли удар достойно, как и подобает чадам Сопротивления.
Мальчик спустился по широкой лестнице к каналу и глянул на свое отражение. Из мутной воды на него смотрело серьезное лицо. Под правым глазом наливался горестным свинцом синяк. Карло хотел умыться, но до воды не достать. Проклятье! Даже тут неудача! Тогда он перешел по мосту и уверенно зашагал вдоль деревянного забора. Повернув за угол, он нашел чугунную колонку, где тонкой струйкой из пасти бычка текла водица.
Рядом стояли двое мужчин лет пятидесяти. Один был в майке и шляпе и бойко жестикулировал перед лицом хмурого долговязого собеседника.
– Да я тебе говорю, он спятил! – Мужчина в шляпе перекрестился. – Богом тебе клянусь! Тоже мне, великий поэт выискался! Дармоед, иждивенец!
– Но где же он живет теперь? – промямлил долговязый.
– Напротив фонтана Пьермарини. Ух паршивец! – выпалил мужчина, показывая открытую ладонь. – Там дом в два этажа, и окна у него обычные, а одно круглое! И наш Леопарди, да простит меня Господь, поселился в убогой комнатушке за этим окном на первом этаже.
– А-а, – протянул долговязый. – Видал я то окно, оно зарешеченное.
– Так его и прозвали «поэт за решеткой». Он знаменитость у нас теперь, сидит стишки сочиняет да советы пустые раздает. А то, что братья, не разгибая спины, вкалывают как проклятые за гроши, – это его не волнует! Он, видите ли, выше грязной работы!
– Но на что он живет? – спросил долговязый.
– На подачки, друг мой. На подачки матери да сердобольных старушек. Тридцать девять лет идиоту!
Карло умыл лицо, шею, оттер пятна на штанах и уловил урчание в животе. Драка вымотала его и разогрела аппетит. Кровь остановилась, и он побрел дальше, оставляя позади громкие жалобы на поэта. Мальчика не беспокоил поэт – его беспокоило другое.
Навстречу шли партизаны, парни и девушки, мужчины и женщины, одетые не бог весть как, не бог весть во что. Вооруженные. Счастливые. И сколько искреннего жизнелюбия, сколько радости, сколько отваги было в их лицах! Они победители, они шествуют здесь хозяевами, громко чеканя шаг по грубой мостовой. И Карло стало стыдно, ему вдруг почудилось, что неунывающие триумфаторы вот-вот начнут подтрунивать над его слабостью. Герои проникнутся к нему презрением и прогонят из города как недостойного сына своего отца. Его отец был в народной бригаде, командовал партизанским отрядом. Да, сейчас он стал гражданским и тянет семью, но они-то, вооруженные партизаны, конечно же, знают Роберто Кавальери по прозвищу Сокрушитель. Но знают ли они, что это его сын плетется побитый и опустивший голову? Того гляди и заревет, как девчонка. Не вешай нос, Карло, выше голову! Еще выше!
А вот и его двор, уложенный каменными плитами и взятый в окружение четырехэтажными белыми фасадами. В плиты врезаны округлые бордюры, что служат ограждением для отстоящих друг от друга одиноких лип. В открытых окнах виднеются горшки с цветами, слышатся крики малышей да сетования на разный лад. Жизнь тут бурлит цветами и детьми. В маленьком палисаднике тетушки Бертини уже вовсю цветет ладанник, разливая по округе аромат медовой смолы. Как говорит тетушка, постой у кустов с минуту – и будешь пахнуть, как цезарь. Что тут скажешь? Простые окна, простые двери, простые истории, простые люди. И каким-то чудом вся эта простота избежала бомбежек.
3
Карло поднялся на второй этаж. Перед ним коридор, по четыре входа слева и справа. За каждой дверью живет семья, и много детей в тех семьях. А за последней по правую сторону живет его семья, но состоит она из трех человек: отец, мама и Карло. Вообще здесь принято иметь много ребятишек. Карло знает, откуда берутся дети, однако квартира мала, а с родителями он спит в одной комнате, не вповалку, конечно, но все же при таких обстоятельствах братика или сестренку увидит он нескоро.
Мальчик тихонько приоткрыл дверь и прислушался. На кухне льется вода и слышны удары теста о стол – мама готовит. Медленно, как любопытный котенок, вполз он в прихожую, прикрыл за собой дверь, благо та не скрипучая, и, обливаясь потом от волнения, на цыпочках подкрался к проему. Заглянул за угол, в кухню. Мама стояла перед ним, глаза их встретились – сквозняк выдал Карло.
– Ох ты! Ну и ну! Да как же это! Что с лицом? А новая рубашечка! Брючки-то! – всплеснула руками мама.
Карло уставился в пол насупившись, крепко сжимая кулаки. Не любил он этих оханий.
– Я заработаю, – буркнул он.
– Чего ты заработаешь? Еще тумаков?
– Тысячу лир, – утер нос Карло. – На новую одежду.
– Ну посмотри на меня. – Мама подошла и присела на корточки. – Кто это сделал? Опять Микеле?
– Не скажу, – обидчиво пробурчал мальчик.
– Мы так устали, Карло. Я и твой отец, поверь, мы очень устали от войны. Устали драться. И не только мы. Взрослые хотят мира. Мирной жизни. А вы всё сражаетесь. Считаете, что продолжаете наше дело?
– Но они, – всхлипнул Карло, – они же чернорубашечники.
– Все закончилось. Нет больше «свой – чужой», есть Италия. Я думаю, многие осознали ошибки, и мы должны научиться прощать и идти дальше. Как вы зовете их?
– «Дети дуче», – ответил он.
– Они наши соседи, и им тоже приходится несладко. Ты знаешь, что их семьи живут в ожидании ареста? А многие уже арестованы. Я видела, как их отказываются обслуживать в лавках. На их домах пишут ругательства. Они ограничены в правах. Но я верю, что вскоре мы вновь станем одним народом. Все забывается, сынок. Оставьте в покое соседей, прошу тебя.
Карло молчал.
– Пойдем, – сказала она. – Тебе нужно умыться.
Из разговора с мамой Карло кое-что усвоил. «Дети дуче» чувствуют себя отвергнутыми, а это делает их более ожесточенными – вот в чем кроется секрет их силы, их упорной свирепости. Всеобщая ненависть для них как топливо для танка.
4
Усталость набросила на плечи мальчика тяжелый плащ, и, завернувшись в него, точно в кокон, он улегся спать в самый разгар солнечного дня. То был сон лечебный, сон мирный, настоящий, глубокий – о таком старики лишь мечтают. То был сон из тех, что годы так несправедливо отбирают у тебя в обмен на житейскую мудрость, ведь как ни крути, а бессонницей ты расплачиваешься за понимание многих вещей.
Закрыв глаза, Карло увидел себя на вершине колокольни где-то на небесах, а внизу, уходя за горизонт, распушился облачный океан. Плотные пенистые ярко-белые облака клубятся и наплывают тихими волнами на деревянный остов, отчего башня мерно качается вперед-назад. У мальчика приятно кружится голова, будто он снова оказался в колыбели, убаюканный ласковой рукой матери. Колокол за его спиной бесшумно отплывает назад, а вернувшись, мягко толкает Карло, и тот летит вниз, без страха.
Под облаками цветет зеленая земля, напитанная озерами и реками, насыщенная густыми лесами и лугами. Земля, крещенная любовью солнца. Карло оказывается в поле у леса, вокруг колосится рожь и кипит крестьянский труд. Вот местные парни рубят и тут же обтесывают вековые дубы, из которых построят церкви и амбары. Вот дородные женщины косят осоку; усталые, но веселые, останавливаются они иногда, чтобы стереть пот со лба, испить воды да переброситься парой слов; благоухание свежескошенной травы разливается повсюду, точно здесь пролилась амброзия. Вот маленькая девочка подносит Карло только что испеченный хлеб, круглый, теплый и приятный на ощупь. А какая хрустящая корочка! Надавишь на нее – и словно райские меха выдувают дивный аромат мякоти. Запах из божьей пекарни, не иначе! Он с благодарностью принимает дар и, вознеся хлеб к солнцу, просит лазурное небо благословить эту землю и людской труд. Рядышком резвятся молодые разноцветные козочки. Бодаясь и толкаясь, запрыгивают на ветви огромного дерева и мекают в шелестящей листве, вообразив себя стайкой озорных птиц. Вдали же, на склонах зеленеющих гор, виднеются пашни, а рядом устроились на перерыв мужественные пахари. Они отдохнут немного, подкрепятся молоком и козьим сыром, возьмут в руки плуги, лопаты и мотыги и вновь примутся поднимать целину. Все здесь гармонично и складно, все здесь ладится и дышит честным трудом, а оттого и счастливы эти люди, и бесхитростны они, и порядочны. Ни дать ни взять – идиллия.
Но холодный ветер проносится сквозь стога и нивы. Цикады утихают, птицы больше не щебечут, коровы вдруг уходят с лугов, унося в тишину звон колокольчиков. Надвигается туча. Огромна она и тяжела. Неповоротливо выползает ее темное тело из-за вершин горной гряды. Несет она гром и молнии да дождь стылый. Морозным будет дождь, побьет он урожай и переполнит реки, и выйдут те реки из русел и разольются по цветущим лугам да по земле кормящей. Сокрыла туча солнце, и дух беды лег тенью мрачной на крестьянские лица.
И видит мальчик старика, что взирает в небо бесстрашно, с вызовом, как Моисей на воды Красного моря. «Как пережить нам ненастье?» – спрашивает Карло. Старец отвечает: «Молчанием. Лишь утаив слова, мы сможем вынести урок и остаться в мире, который так дорог нам. И в тишине пройдет над головами туча, и вернется все на свои места. Но как порой тяжело, мой мальчик, закрыть слова в себе». «Но я не понимаю, – протестует Карло, – разве молчание может остановить грозу?»
И тут он замечает алый цветок в палисаднике, где растет красный клевер. Этот цветок питается бурями – решает Карло и открывает глаза.
5
Наступил вечер. Проголодавшийся мальчик стоял у окна и высматривал папу. Святое правило гласило – семья ужинает только вместе. Крепкий сон распалил его аппетит, но нарушить правило он не решался: не такие они, «сыны Италии», что идут на поводу у желудка.
– Карло, – позвала мама, – помоги расставить посуду.
– Папы-то нет еще. – Ужасно не хотелось что-то делать. Есть хотелось, а трудиться – не очень.
– Ты же знаешь, Карло, что я чувствую его приближение.
Это было так, Эвелина Торре, жена Роберто Кавальери, обладала каким-то удивительным чутьем – предугадывала скорое появление того или иного человека. Бывало, ни с того ни с сего посмотрит на дверь и произнесет: «Почтальон сейчас постучится» – и спустя полминуты почтальон тут как тут. А бывало, скажет сыну, чтоб на улицу отправлялся, – и тут же камушек в окно стукнет: это Массимо, лучший друг Карло, гулять зовет.
Эвелина не ошиблась и на этот раз. Через открытое окно Карло с любопытством разглядывал отца, широкоплечего красавца в белой рубашке, что шел гоголем по двору, грациозно закидывая пиджак то за одно плечо, то за другое. Статный, с гордо поднятой головой, он был весь из себя такой важный, что человек несведущий решил бы, что синьор зазнался. Но каждый во дворе, каждый в Милане, а кое-кто и в Риме – каждый знал, что Роберто Кавальери по прозвищу Сокрушитель имеет полное право гордиться собой и ставить на место кое-кого в Риме.
Роберто руководил партизанским отрядом, что действовал в тылу врага, и вместе с супругой и боевой подругой Эвелиной изрядно подпортил жизнь этим негодяям. А каков он был в знаменательный день взятия Турина!! То был не человек, то был лев, медведь, гепард – да все хищники разом проснулись в нем! Как же он дрался на баррикадах, как же он стрелял! Пример для бойцов. После победы Роберто Сокрушитель отказался возглавлять трибуналы. Как человек по натуре добрый, хотел он мирной жизни. Сами они с женой были родом из захудалой деревни в Пьемонте, но борьба за свободу вывела их в люди. Им дали квартиру в Милане, и верно – довольно полевой жизни. Роберто получил должность в послевоенной администрации, да не абы какую: руководит он теперь работами по разбору завалов, что оставили бомбежки. А что! И продвинется потом – на архитектора выучится. Это ведь он только с виду крестьянин, грубоват да самодоволен, но таланту в нем хватит на десятерых. Только такой талант мог руководить серьезными ребятами-партизанами.
Но что за человечек крутится вокруг складного Роберто? В годах, низенький, полный, плешивый, в толстых очках. Так и вертится волчком, не знает, с какой стороны подойти к важной птице. В руках мнет портфель, пытается донести что-то, но куда ему, с его ростом. На мгновения останавливается, вытирает лысину платком и, растерянно глядя себе под ноги, вновь семенит к величавому собеседнику. Какие же у него толстые ноги, удивляется Карло. С такими ногами в бою далеко не пробьешься. Что же он делал во время войны?
Вскоре Роберто поднялся домой.
– А что, жена, приготовила ли ты мужу ужин? – радостно заголосил он на пороге.
– Если бы все было так просто, – мило проворчала Эвелина. – Воду опять отключали на полдня.
– Ничего, жена, все налаживается, – сказал Роберто и присвистнул: – Вот так дела, Карло! Кто это тебя так?
Ну вот опять, подумал мальчик, опять те же расспросы, опять давать те же ответы. Чего они все так носятся с этими синяками? Сами прошли войну, а удивляются подбитому глазу.
– И нос-то как разбили, – кивнул отец.
– Разбили, – повторил Карло.
– Ты плакал? – спросил отец.
– Нет, слезы сами потекли, – признался сын.
– Ты стоял до последнего?
– Да.
– Ты стоял на своем?
– Да.
– Что ты скажешь об этом?
Карло внимательно посмотрел на отца, со всей серьезностью, какая только может быть у мальчика двенадцати лет, и, сжав кулаки, вымолвил:
– Мы все равно победим.
– Ох, святой Господь, – вздохнула мама. – Это никогда не кончится.
– Тихо, женщина! – Роберто властно вскинул руку, словно ударил ее по губам.
Дружная атмосфера, царившая до того, пропала, будто кто-то щелкнул выключатель. То был разговор мужской, без соплей и сантиментов.
– Повтори, сын.
– Я отделаю его. – Слова эти, выкованные из железа, упали на пол тремя подковами, и звон их еще долго резал покой комнаты.
Роберто был горд за отпрыска. Только что он вытащил из него на свет мужчину. Он увидел это во взгляде и услышал в голосе. Это была твердь земная, решимость правого дела. Будь ты хоть трижды слаб перед противником, но если обладаешь такой же волей, как Карло, тебе все нипочем. Ты пройдешь сквозь пламя, сквозь камень, да черт побери, ты одолеешь хоть князя тьмы! Такие люди не сдаются, такие люди забирают врага с собой в преисподнюю!
– Подойди, Карло. – Роберто встал перед сыном на колени и поцеловал его в макушку. – Ты мой сын.
У Эвелины навернулись слезы. Так-то. Библейская сцена, хоть картину с них пиши.
6
Утром Карло разбудил дух ароматных зерен: мама варила кофе. Какое же оно все-таки изумительное, это кофе. В деревне у бабушки, где мальчик провел всю войну, кофе не было. Были бобы, пшеничные лепешки да овощи. А про кофе там и знать не знали. Бабушка Чезарина, мама его мамы, была женщиной суровой, ходила всегда в черном, то был траур по ее мужу, дедушке Карло, отцу Эвелины. Любила она его, а вот про кофе и слышать ничего не желала. И блюда, ею приготовленные, были ей под стать – просты и черствы. Что не съедено сегодня, пойдет на стол завтра.
Солнце пролезло в открытое окно спальни и, как добросовестный маляр, окрасило уже порядком выцветшие обои в жирно-желтый цвет. Несмотря на помятое лицо, настроение у Карло было приподнятое: кофе варится, солнце светит, в школу только через месяц, а главное – ему все понятно. Каждое утро он просыпался с чувством понимания, как все устроено. А устроено все элементарно: черное – это черное, белое – это белое. Враг есть враг, друг есть друг. В Карло процветал упрямый идеализм, бескомпромиссный, отточенный, ограненный духом времени. Его кумиры – партизаны, его игрушки – обломки искусства, его друзья – его единомышленники, дети партизан. Карло подозревал, что жизнь размежевана и другими границами, но что есть мелочи быта в сравнении с высочайшими целями, такими как борьба со всем злом мира, борьба с Микеле, являющимся отпрыском этого зла? Хотя у мелочей быта имелись и голоса с именами, и свои насущные проблемы, и пропускать их мимо ушей было невозможно.
Взять хотя бы соседа с нижнего этажа, Великого Воспитателя Лео Мирино. Почему Великий Воспитатель? А потому, что жил он вместе с бабушкой и занимался ее воспитанием. Странный человек этот Лео. Лет ему под сорок пять, и какой-то нескладный, обрюзгший, коротышка с опухшей круглой физиономией, торчащим животом-мячиком и заплывшими хитренькими глазками. Ходил всегда в грязнущей майке, выставляя напоказ густые волосы на груди и на плечах. Не сказать, что слыл пьяницей, но под хмельком видали его частенько. Бывало, раздобудет где-нибудь здоровенную бутыль с вином в соломенной оплетке, поставит ее донышком на плечо, улыбаясь по-детски прислонится к ней ухом, будто слушает забродившие сказки, и бредет, довольный, по улице, как древний египтянин с водой бредет от Нила. Ну а дома в Лео раскрывался талант назидателя, этакого мудрого наставника для несмышленой бабули.
Карло прислушался к звукам снизу – и точно, как по расписанию, Лео начал утро с наставлений. А так как перегородки стен и пола были тонки, подобно дешевым вафлям, эти наставления внимал и впитывал каждый, кому посчастливилось быть дома.
– Да поставь ты этот горшок вот здесь! – причитал Лео. – Ну что ты за человек-то такой? Бабушка, бабушка. О-ох, боже-боже. Да нет же. Нет! Убери. Ага… Так… Вот, вот… Пробуй еще… Отлично. Ну справилась же! Теперь там. Да пошустрее, бабушка. Ну! Нет! Ну пыль так не вытирают, смочи тряпку и аккуратненько выжимай. Что значит «сам протри»? Э нет, бабушка, учись делать уборку. Мне-то зачем? Гм. Кхе-кхе, а напылила-то, напылила! Плохо смочила тряпку. Тьфу ты черт! Вот старая кляча! Смочи ее как следует, а то пыль только подняла! Да не бурчи ты. Твоя речь должна быть четкой, внятной.
Карло представил, как на этих словах Великий Воспитатель топнул ногой, убрал одну руку за спину, а кончики пальцев другой руки сомкнул щепотью и трясет ими перед носом дремучей женщины. Такой он, Великий Воспитатель Лео Мирино.
«Набить бы ему морду», – вспомнились слова отца.
Но Роберто Сокрушитель, даже несмотря на боевое прошлое, не желал конфликтовать с соседями, ведь все-таки люди они здесь новые.
7
– Карло! Карло! – раздался хрипловатый голос с улицы. – Давай уже спускайся!
– Массимо! – Карло подбежал к окну. – Иду! Подожди пять минут!
Внизу его ожидал лучший друг Массимо, достойный сын своего отца, того самого Акилле Филиппи – «рыцаря пылающего меча», того самого Филиппи, что слыл гласом Партии действия. Журналист. Республиканец. Патриот. Из-под его пера в подпольной газете выходили такие обличающие статьи, что многим приспешникам режима и стукачам пришлось очень несладко.
Именно Акилле Филиппи вывел на чистую воду в сорок четвертом бакалейщика с улицы Брера, этакого старичка-добрячка с домашним и родным, как у сдобной булочки, лицом. Сколько же этот добряк выдал партизанских схронов! Сколько отличных ребят по его вине лежат сейчас в земле, не дожив до Апрельского восстания! Бакалейщик знал многое, что-то отмечал искоса, что-то украдкой подслушивал, делая вид, что расставляет товар. Двери его лавки всегда были открыты, открыты, как говорится, для всех, а в первую очередь для его же глаз и ушей. Кто-то по доброте своей, а кто-то по наивности вываливал ему на прилавок мелкие слушочки и вроде бы пустяковые сведения, а тот с улыбкой во весь рот и мещанским добродушием слушал, как бы вполуха, да отмахивался: «Ну бывает, – пожимал плечами, – так что ж теперь?», «А как вы хотели? Времена нынче такие», «Бог нас не оставит». Но хитренький ум добрячка подмечал в этих ничего не значащих разговорах вскользь оброненные имена, случайно названные места, невзначай обозначенные дороги. Он прикидывал, что к чему, делал выводы, уточнял у людей знающих и со всеми этими сведениями являлся в полицию.
Не один месяц потратил рыцарь Акилле Филиппи, чтобы вычислить неуловимого доносчика, из-за которого расстроилась уйма планов и погибло в застенках много хороших людей. Но, сопоставив то и это, опросив таких-то лиц и лично проведя слежку, автор вышел из закоулков Тайны на площадь Правды. И все сошлось. И предатель был уличен. Что партизаны сделали с бакалейщиком после выхода статьи? Ровным счетом ничего. Почему? Не успели. Родственники замученных сами расправились с таким открытым, честным и милым старичком. Расправились с щедрым дедушкой, что частенько по доброте угощал их детишек конфетами. Угощал да выпытывал что-нибудь про маму, папу, тетушку Аннабеллу и подругу ее Вильгельмину, которая прячет в сапоге какие-то бумаги. «А не принесешь ли ты, малыш, мне те бумаги? Принесешь? Ну и славненько, вот держи, зайчик, печенье. Понравилось крумири? Ну, принесешь бумаги – получишь целый кулек крумири. Но, тсс, родителям ни слова. Беги, зайчик, дедушка подождет».
Однажды утром группа мальчиков, церковных служек, что следовали мимо издалека, обнаружила бакалею сожженной дотла. А старичка-добрячка нигде не было. Куда же он делся? Те, кто знали, куда пропал старичок, и много лет спустя не желали вспоминать об этом. Нельзя хранить в себе такие сцены.
А «рыцарь пылающего меча» Акилле Филиппи теперь работал в спортивной газете.
8
Карло ждали приключения. Он заскочил в маленькую комнатку, по размеру скорее кабинку, умылся над треснутой раковиной, почистил зубы ужасно едким порошком и побежал к маме требовать завтрак.
– Вот неугомонный-то! – всплеснула руками Эвелина. – Вчера получил как следует, а сегодня опять на улицу собрался. Нанеси мазь на раны, как я тебя учила, и садись за стол.
Карло открыл приготовленную бабушкину склянку, откуда на него дохнул душистый аромат деревенских трав. Эта смесь, в которой на первом плане угадывался пряный розмарин, вернула его в деревню, в царство бабушки Чезарины. Ох и суровая же вдова эта Чезарина. Карло она спуску не давала – нечего внучку расти неженкой! Запах из баночки застыл в воздухе, отстоялся размытыми нотками и уверенно осел на мальчика, раскрыв весь букет деревни и воспоминаний. Розмарин отдавал сосной, так же пахли дрова, которые он нехотя колол под тягостным прищуром Чезарины. И где она только раздобыла этот тяжелый топор с необтесанной рукояткой?! Топор капризничал, то и дело выскальзывал из рук, просился в более мужественные ладони. Нет, мальчишке это не под силу, пускай лучше учится доить коров. Но Карло унаследовал от отца упрямство, беззлобное, но волевое и несгибаемое. Такое упрямство характерно для жителей севера. Взявшись покрепче, он замахнулся орудием, продержал его с мгновение над головой, а затем как бы уронил колун, добавив в него немного собственных сил. Полено раскололось. Смекалистость и живой ум – тоже подарок от отца. Чезарина еле заметно кивнула, как бы говоря: «Толк из тебя будет». Ох и суровая женщина эта вдова, и одобрение от нее получить – дорогого стоит. Иные люди хвалят тебя за все, за что бы ты ни взялся и как бы оно ни шло, и это обесценивает их признание. Но редкая и скупая похвала от таких кремней, как Чезарина, – это да, это означает, что ты чего-то да стоишь.
Карло закрыл баночку, так и не смазав синяк. Ни к чему это. Пускай все видят – Карло Кавальери не стыдится фингала. Карло Кавальери получил его честно, в бою, как партизан!
Ему не терпелось вырваться на свежий воздух. Того гляди что-нибудь пропустишь. Друг Массимо на днях предлагал подсмотреть за неким «поэтом за решеткой» да разузнать, почему о нем столько разговоров. Что ж, можно и разузнать.
Легкий завтрак из кофе и горячего бутерброда с зеленью придал Карло сил.
– Вот видишь, утенок, – (брр-р! Он же просил. Чего доброго, услышит кто!) – я подлатала брючки и рубашку. Прошу тебя, не дерись больше, хотя бы чтобы я могла спать по ночам, а не портняжничать.
– Да, мам, – бросил он, одеваясь на ходу.
Эвелина осталась одна.
9
Работы было невпроворот: готовка, уборка, стирка. Да тут еще Карло вознамерился стать писателем, вот выдумщик-то! Но для него это лучше, чем влезать в драки. Говорят, у пожилого конторщика имеются старые учебники по итальянскому языку и кое-какие университетские пособия. Что ж, посмотрим.
Все ее нынешние хлопоты – это составляющие быта, размеренного и спокойного, такого не похожего на дикую партизанскую жизнь. Та жизнь – это ночевка в лесных землянках, вши, засады в подворотнях, любовь на открытом воздухе и снова вши. А быт, что тут сказать, он миролюбив и благочестив, он глядит на тебя репкой с огорода, в ожидании, что ты польешь его, сдобришь, окучишь, произнесешь над ним молитву, дабы он наполнялся земными соками и толстел. Вообще быт довольно капризный. Но прояви ты к нему внимание – и он отблагодарит тебя уютом и семейной гармонией. А партизанская жизнь? Она – это огненный гвалт, смерч разъяренный и жаркий, что несется над тобою и красуется: мол, гляди, во мне ты найдешь истину и познаешь себя, ведь я есть грех, есть эмоция, есть слезы твои и чувства твои. Да, в тех условиях человек становится собой. Но опасен гвалт, чуть зазеваешься – и вырвет он тебя с корнем, и перемелет, и, как соломенную куклу, разорвет на тростинки, что погорят в ревущем пламени. Да, она прошла сквозь ад земной.
Эвелина присаживается отдохнуть. Из застенного тайничка достала она маленький секретик и любуется им, улыбается, прижимает к сердцу, как девочка. Осторожничает с ним и бережно поглаживает. Такой ее никто не видел. На людях Эвелина Торре иная. Что-то она совсем раскисла, ох и натворил же дел этот секретик! Эвелина расплакалась. Но-но, хватит. Довольно прошлого. Она прячет милую безделицу в тайничок и возвращается к делам.
В это же время через дорогу несколько молодых и сильных, как буйволы, парней, обливаясь потом под лучами миланского солнца, разгружают грузовик с нехитрой мебелью. Шкафы и кровати заселятся на первый этаж уцелевшего отделения почты. Фабрика рядом разрушена, брусчатка вырвана из земли и раскидана по округе, словно зерно, а почта цела: видно, хранит ее почтовый ангел. В это здание вскоре заедут те, кто остался без крова. Но временно. Многое в городе пока временно.
Командует разгрузкой знаток женщин, стройный и обаятельный Анджело, что до безумства обожает сладенькие груши и упругие молоденькие яблочки. Уж кто-кто, а он к своим двадцати пяти годам вкусил столько соитий, что и сам считал это излишеством. Но что поделать, таким он пришел в наш мир. Соблазны вели его по вечерним садам наслаждений, где острыми плодами зрела его любовь, любовь к телу, к ощущениям, к поцелуям, к девичьему дыханию. Все эти вздохи и постельные разговоры составляли смысл его жизни. Взглядом, словами, движениями мог он разжечь самую черствую матрону. И нес он в себе что-то темное, ему самому непонятное, иное, а иногда и пугающее, но та сила будто исправно исполняла уговор между ними, преподнося Анджело женщину в дар. Будто беспомощная отдавалась она этому обольстителю, похитителю стыда и сердца. Ему было достаточно слегка, как бы ненароком коснуться ее, и он все понимал без слов – да или нет, и если нет, то это поправимо. Эти прикосновения. Вспоминая о них, он закатывал глаза. Когда губы и языки находят друг друга, раскрывается букет приятностей. У каждой женщины букет особый, от одного поцелуя, что горяч, как лава, тебя бросает в сладострастную дрожь и кровь приливает куда надо, от другого поцелуя ты словно вдыхаешь морозный холодок и хочется отстраниться от нее, но дело нужно довести до конца – такова природа. Иногда он брал женщину силой, но противилась она напоказ и как-то совсем наигранно – капитуляция по негласному сговору. А еще Анджело – большой любитель мяса.
– Эй, Анджело! – ухмыляются веселые грузчики, вставшие в цепочку и передающие тюки с бельем.
– Говорят, наведывался ты к Лучии? – подмигивает один.
– Хи-хи-хи! – смеется другой. – А синьор Този тут как тут! Любовничков и застукал!
– Ха-ха-ха! – надрывается третий, подхватывая связку. – Ох! И говорят, синьор Този уши-то тебе надрал?
– Говорят то, говорят это! – огрызается Анджело. – Посмотрите на меня, – сверху вниз он всплескивает ладонями, – у меня хоть что-то сломано? Я хромаю? Или на лице ссадины?
– А может, синьор Този надавал тебе по другому месту?! – смеются в голос ребята.
– Тупицы! Калеки! – Анджело вскидывает вперед руку, а кулак другой набрасывает на локоть. – Пошли вы!
– Но Лучию знает каждый, – не унимаются парни. – Заполучить Лучию – что выклянчить прощение у падре Фоти. А под силу ли тебе орешек покрепче?
– Ее-то легко заполучить?! – негодует Анджело. – Да она та еще ослица, чтоб ты знал, упряма до чертиков.
– Ох-ох! – язвит один. – А родинки на ее заду и бедре.
– Да! – отзывается другой. – В виде паучков таких мелких.
– И не кричит никогда, рот ладонью закрывает, – вспоминает третий.
– Мы все ее знаем! – хором смеются парни. – Синьор Този не прогадал с женой! Ха-ха!!
– Вот так дела! – изумляется Анджело. – И как она могла спутаться с такими остолопами?
– Так что насчет орешка? – подначивают грузчики. – Соблазнишь ли ты саму Эвелину Торре, жену Роберто Кавальери Сокрушителя?
А вот это уже вызов!
Анджело был знаком с Роберто и Эвелиной. В годы Сопротивления он имел кое-какие дела с контрабандой и с Тайлером Норманом – английским агентом, прикомандированным к отряду Сокрушителя. Через Нормана Анджело несколько раз виделся с Эвелиной, но в те короткие деловые встречи никаких выводов он сделать не успел. Хотя заполучить такую опасную бестию в коллекцию, возможно, было бы венцом всех побед. Она строит из себя верную жену, покорную, послушную. Поговаривали, что Роберто был у нее первый и остается ее единственным. «Как бы не так, – подумал сердцеед. – Единственным! Ха! Была бы овечка, а барашки найдутся!»
– Вот тот дом, – указал первый грузчик. – Вот то окно на втором этаже. Я помогал заносить им стол. Эвелина целыми днями хлопочет по хозяйству. Она крепкий орешек, преданная подруга Роберто.
– А у тебя, Анджело, орешки слишком малы, чтобы уложить ее в койку, – ухмыльнулся второй.
– Ладно! – прервал третий. – У нас еще шесть адресов, хорош болтать. За дело. А то приуныл наш Казанова, – подмигнул он.
«Почему бы и нет, – решил зверь внутри Анджело. – День жаркий. Могу же я попросить воды у доброй хозяюшки. А где доброта, там и желание».
– Я хочу пить, – объявил он парням, и парни все поняли.
Взгляд его переменился, стал плотоядным, хищным, словно он рыл сырую землю в поисках клада.
«Я хочу женщину», – зарычал зверь.
И все замерло. Работа остановилась. Грузчики так и застыли с тюками, пооткрывав рты. Они переглянулись, вопросительно и глуповато, нахмурили брови, зацокали языками. Один неодобрительно замотал головой, как бы проговаривая: «Ну и ну! Ну и дела!» Второй присвистнул и поправил козырек трофейного кепи. Третий сказал:
– Мы же просто шутим, Анджело. Она жена опасного человека, у них есть сын.
– Опасного человека? – теперь уже смеялся он. – А знаешь ли ты, плешивая ты обезьяна, что я сделал синьору Този, когда он застукал нас? Не знаешь? И не узнаешь. Синьор Този не расскажет об этом. Я унизил его – разбил лицо и помочился на бедолагу. Если Роберто и прознает, то пусть пеняет на себя, – тыльной стороной ладони он провел по горлу, как ножом. – Работайте, а я попрошу воды у синьоры.
«Женщина», – отозвался его зверь и, зевнув, потянулся на солнце кошкой. Зверь просыпается. Зверь принюхивается. Зверь знает – она пахнет потом; в ней живут паразиты; в том месте у нее терпкий привкус; у нее свои болезни; она имеет вес, и он может прочувствовать его, когда придерживает ее за круп и кладет на себя. Она всего лишь человек. Она хочет того же, чего хочет его сила.
10
Улица облита палящим зноем.
Страсть приручила Анджело и тащит во двор Эвелины на поводке. Снуя, как шакал у таверны, он прикидывает, где ее комнаты, высматривает в окнах женскую фигуру, щурится от солнца, вдыхает аромат ладанника и предвкушает близость.
Он разогрет. Он в стенах дома. По лестнице, накинув вульгарный халатик, к нему спускается прохлада, а с ней и легкий озноб. От волнения и впрямь пересохло горло. К перилам он прикасается с нежностью и не сразу убирает руку, кожей пальцев он ощупывает поверхность, к которой притрагивалась она. Ее следы затеряны среди прочих. О! Чем только не напитаны деревянные поручни! Сколько рук втерли в них пот и вдавили свои страсти! Под лаком живут пустые траты, текут девичьи слезы, зреет обман, сохнет пролитое молоко… А вот и ее частица, выглядывающая из трещинки пугливой змейкой. Меж пальцев он растирает черный волос, но не может подобрать ключ к ее святилищу. Странный прилистник ее ума, этот черный волос.
Вот и второй этаж. Общая дверь открыта, справа последняя – дверь Эвелины.
А жена и боевая спутница Роберто Кавальери Сокрушителя занята готовкой. Ложкой выскабливает она мякоть-паутинку из половинки тыквы. Отделяет семечки, складывая их рядками на блюдце. Как мышка, шустро слизывает оранжевые кусочки с ладони. Тыква пахнет домашним порядком. Тыква – хранитель очага. Тыкве двести восемьдесят дней от роду. Но она сладка и свежа, благодать, а не тыква.
Но что это? Вспышкой в голове Эвелины возникает образ чужака. Он будет через минуту – сообщает внутренний голос; он знает, чего хочет, – добавляет интуиция. Эвелина отложила ложку и с тревогой зашагала по кухне. Сердце застучало часто и глухо, словно на него накинули мешок, а ее лишили дыхания. Она открыла шире окно и глубоко вдохнула горячий воздух с парами лукового супа, что варила бабушка-воспитанница с первого этажа. Что-то сейчас будет.
В дверь постучали. За порогом хищник, поняла Эвелина. Жизнь на грани смерти отточила ее чутье, но к борьбе она готова всегда. Животное или человек – неважно. Что бы он ни удумал, пойдет все по ее сценарию.
– Синьора Эвелина, – промурлыкал тип и склонился над ней слишком близко. – Вы меня не помните? Я – Анджело. Я помогал вам с провозкой вещевых мешков пару лет назад.
Животное облизнулось.
– Ах да, – припомнила она. – Да, я вас помню.
– Простите, синьора, – (до чего же приятный у него голос, заметила она, струится кашемировым платком, подхваченным ветерком…) – мы с парнями разгружаем мебель через дорогу, а тут такая жара… а колонка на углу сломалась… вот я и решил постучать в первую попавшуюся дверь и попросить воды.
«В первую попавшуюся? – усомнилась она. – Именно на втором этаже, именно в конце коридора?»
«Она провоняла тыквой и специями, – принялся за работу зверь, – фартук, милая косынка, опрятная рубашка, пуговицы застегнуты по горло, хотя дома одна, в духоте. Строит из себя пуританку. Актриса».
– Я дам вам кувшин, – сказала она.
– Будем благодарны, синьора.
«Грудь упругая, – продолжал зверь, – росточком невысока; волосы черные, длинные; глаза карие, навыкате; матовая кожа; нос узкий; губы бледные, выступающие; из-под косынки на правую щеку свисает прядь – так она скрывает шрам». Он вспомнил слухи – она попадала в плен.
Его торс ясно угадывался под майкой: крепкий пресс, рельефные мышцы, сильные руки. И главное, от мужчины исходила магия. Он светился здоровьем и пороком. Магия сияла ярче солнца во сто крат, магия выплетала двойника-невидимку из возбуждающих паров его тела. Двойник обнимал женщину, вливался в нее через поры и управлял ее волей, ведя ее тело к его телу.
Она повернулась спиной и направилась в кухню. Он оценил ее формы. «Стройная, спина крепкая», – одобрил зверь.
Анджело шагнул за ней, отодвинул занавеску и уставился на комнату. Необходимо осмотреться, ведь обстановка влияет на процесс. Нужно выбрать угол, куда он зажмет ее, если она вздумает упираться. Ему бы только тронуть ее губы, и аппетит вспыхнет в ней факелом. Нет! Факельным шествием! Огоньки закружат в ее животе, распаляя любовь, а щеки нальются розоватым румянцем, и она будет готова.
«Видишь? Там прямо спальня, – указал зверь. – Смотри-ка, там распятие над койкой. Заметь – койка на пружинах, скрипучая, как ты любишь».
Анджело полной грудью вбирает в легкие застоялый воздух и дурман вскрытой тыквы, что печется в солнечном луче. М-м-м, тыква! Упругая, округлая, увесистая, пряная! Решено! Он закроется с женщиной в спальне. Она никуда не денется. Распятие их не выдаст.
Эвелина возвращается с кувшином, и герой-любовник кладет теплые ладони поверх ее похолодевших пальчиков. Их взгляды сосредоточиваются друг на друге. Он немного напирает, и женщина отступает в комнату. Вокруг ни звука. Анджело ждет возражений, это будет сигналом впиться в ее губы. Но она молчит. Губы ее сжаты крепко. Где угрозы? Где проклятия? Где укусы? Где хотя бы малое возмущение? Где? Где? Где? Он теснит ее дальше. Она продолжает пятиться, но так же безмолвно. Отчего-то ему не по себе. А что с ее глазами? Этот взгляд. Только сейчас он понимает, как любопытен ее взгляд, полный тревоги и странного интереса. Ее глаза ощупывают Анджело. Она пытливо выглядывает в нем нечто, лишь ей ведомое. Смотрит и будто бродит в его душе. Заглядывает в мрачные уголки, держа высоко тусклую свечу, и выискивает что-то. Пробирается на цыпочках по подворотням, тихой змеей обвивает фонарные столбы на пустырях и прислушивается с неподвижным лицом к всеобъемлющему мраку. Она словно инспектор из последней инстанции ада, что неподкупен и вывернет наизнанку проштрафившийся чертовский филиал. И вдруг она натыкается на зверя. Тот хочет удрать, но за спиной его непроглядная глушь и мерзлая пустота – истинное естество Анджело. Зверь дрожит. Зверь взывает к высшим силам. А она берет его за шкирку, подносит к нему свет и осматривает с ног до головы, нахмурив брови, точно врач, сбитый с толку. Вертит его и так и сяк, обнюхивает и морщится. Щупает и с неприязнью вытирает засаленные руки о сорочку. Прислушивается к стуку его сердца и несильно бьет по лапам – чтобы не брыкался. Освещает и изучает его укромные места. Взгляд ее остекленевший и жуткий, как у языческого идола. Зверь напуган. Проведя должное исследование, она отрицательно качает головой, безмолвно констатируя: «Нет. Не то». Затем швыряет шкодливое животное на место и задувает свечу.
«Уйдем отсюда! – взвыл зверь. – Она нам не по зубам».
– Что-то еще? – спросила Эвелина.
– Простите, – спохватился Анджело. – Я, должно быть…
– Кувшин можете оставить себе, – сказала она.
– Спасибо. – Сконфуженный, он вышел за порог и лишь бросил через плечо: – Прощайте, синьора.
Зверь был унижен. Зверь поквитается за это с другой женщиной.
А что Эвелина? Она как ни в чем не бывало спешит к застенному тайничку и снова тетешкается с секретиком. Лепечет ему нараспев потешки, как ребеночку, все расспрашивает о чем-то и тихо-тихо грустит да вздыхает: «Ах! Мой секретик! Жаль, что нет нас больше. Ты и я где-то там, далеко-далеко. Потерялись мы с тобою где-то там, далеко-далеко». Смотрит Эвелина задумчиво в никуда, покачивается и улыбается вселенскому вакууму, а Вселенная жалеет ее, но помочь не может. Вселенная многого не может, и кто осознал это, тот иллюзий не строит.
А зверь ничуть не испугал ее, подобных зверей она уже видела.
11
Так далеко от не тронутого войной двора Карло еще не уходил, а потому дома и дороги в этой части Милана казались ему картинностями иной страны. И зачем только этот поэт забрался в такие дебри? Массимо отлично помнил дорогу к фонтану Пьермарини, рядом с которым обитал стихотворец, и потому его несло вперед с твердой уверенностью, он был коренным миланцем и знал каждый угол. Хотя маршрут намеренно выбрал подлиннее: так сказать, захотел провести экскурсию приятелю. Карло едва поспевал, но не жаловался, а лишь часто дышал, скромно намекая на усталость. Солнце пекло. Духота сочилась отовсюду, точно от солнца отпал кусочек и разлился шипящим жаром по улицам.
Улицы же предстали перед мальчиками в дикой красе, будто поработал над ними Великий Варвар. После бомбежек сорок третьего – сорок четвертого Милан превратился в галерею обрушенных стен, от которых до сих пор, особенно в безветренную погоду, веяло запахами гари, тухлятины и войны. Закопченный миланский кирпич впитал в себя крики детей и взрослых, припадающих к бездушным стенам во время налетов: люди жались к камню так плотно и с такой надеждой, что отдавали ему свое тепло, дыхание, а затем и жизнь. Кирпич помнил все, и, как утверждали старые девы, склонные к мистицизму, если поднести его к уху, как ракушку, то можно ухватить детский голосок, шепчущий молитву о спасении. Милан был словно остров, скроенный золотыми руками давно ушедших зодчих и поднявшийся спустя сотни лет с глубин Средиземного моря. Теперь он стал изящной обителью контрастов. Здесь над головами возвышаются металлические остовы, что некогда несли на себе храмовые своды, а на округлых лестницах, ведущих в святые базилики, горланят жеманные проститутки; скульптуры императоров и античных богов изуродованы пулями и лишены оружия, и никто больше не воздает им должное; по отколотым барельефным лицам и бронзовым лягушкам разъезжают грузовики, набитые рабочими, Великий Воспитатель Лео Мирино называет этих людей простонародьем; с открытых балконов свисают флаги гарибальдийских бригад и Комитета национального освобождения, а под ними сбиваются в кучки сироты; то тут, то там еще слышны выстрелы – это отстреливаются «те, за кем пришли» и расстреливают на месте «тех, за кем пришли». Милан в эту пору – это музей обожженных фасадов, это застывший в глазах орнамент огня, ревущего над землей, это разбитые урны с прахом архитекторов, это треснувшая фреска со сценкой оседлого уюта, это пестрящие цвета: белый, зеленый, красный и желтый. Милан в эту пору – это смрад нечистот, вонь разложения, опекаемая щедротами солнца, это кислый запах заплесневевшего клубничного морса, забытого кем-то в каморке. Милан в эту пору – это издевательское жужжание мух всюду, куда бы ты ни пришел, это отборная ругань на твоего соседа, это громкий донос на твоего соседа. Милан в эту пору – это незамысловатая еда, а то и отсутствие ее, это дефицит вкуса, это надежда на помощь плодов из деревни. Милан в эту пору – это прикосновение к вязкому торсу нищего, к холодному лбу убитого, к умедляющемуся сердцу бездомного, это ощущение раскаленного песка на пальцах, когда жаждешь опустить руки в прохладу ручья.
Милан схвачен в кольцо полуразрушенных колоннад, он, как и вся Италия, – должник. Кризис экономики, национального самосознания и такие болезненные репарации – расплата за деяния дуче.
Массимо сбавил шаг. До того он бежал, растрачивая себя и совсем не экономя силы, а потому сдулся еще на четверти пути. Но это послужило ему маленьким уроком, и теперь он знал – важна не поспешность, важен выбранный путь. «Сократим тут!» – «Угу». Они сошли с широкой улицы, прорезанной трамвайными рельсами, где к дорожным знакам были намертво пригвождены таблички, а иногда и фотографии с именами разыскиваемых «иуд», «доносчиков», «изменников», «клеветников» и целой оравы «каинов». Солнце резало ярко, и от глянцевых фотографий блики отражались и бросались в глаза, точно свет штормовых фонарей. «Ух! Чертовы морды! – погрозили „сыны Италии“ худыми кулаками. – Даже от ваших физиономий на столбах одни неприятности!»
Только ребята юркнули в проулок по уходящей вниз дорожке, как на них выкатился велосипедист, язвительно декларируя гудком свое право на свободную дорогу.
– Болван! – бросил ему вслед Карло.
– Болван! – громче повторил Массимо, и исхудавший гонщик повернул к ним сухое, бледное, с запавшими глазами и выступающими, как у смерти, скулами лицо. Мальчишки поспешили скрыться между высоких стен.
– Ну и болван же он, – смело откашлялся Карло.
– Олух какой-то, – поддержал Массимо.
Узкий переулок вывел их на участок разоренного сквера, где в окружении мелкой домашней ерунды траурной пирамидой высотой с трехэтажный дом громоздилась серая скала из кусков бетона, раскрошенной декоративной лепнины и колотых карнизов. На склонах ее ютились лохмотья пропавших апельсинов, делившие соседство с оформленными кучками напыщенного темного дерьма. Фу, вонища! А надменные мухи деловито жужжали между теснящимися массами, будто заключая меж собой сделки с недвижимостью. Из полуразрушенных тел близлежащих домов к скале, как к пророку, тянулись тонкие, с опавшей плотью стержни арматуры, с их искалеченных лап над мальчиками сердито нависали фрагменты стен и подоконников.
Впервые Карло испытал непонятное чувство тихого ужаса. Апельсины и дерьмо. Никакой романтики, что сверкает золотой отцовской улыбкой в партизанских песнях. Мухи и вонь, да, вероятно, люди, погребенные заживо под завалами. Он слышал о них, слышал и об удушье, и о переломанных костях. Но он пропускал эти россказни мимо ушей: в его героическом сознании, таком детском и праведном, не было места страданиям, была только сплошная арена, на которой изо дня в день вершились подвиги. И никак не хотел он заглядывать за кулисы. Но тут – крах, гниль, обломки, и оттого что-то в нем заворочалось.
Он взглянул на Массимо. Черты друга были сосредоточены, как у ювелира при пайке. Его волосы, русые и всегда взлохмаченные, будто он только оторвался от подушки, свисали растрепанными стрелками над веснушчатым лицом с проницательными глазами цвета холодного серебра и слегка вздернутым носом. На руках и коленях мальчика под красноватой коркой пузырилась зудящая сыпь, беспокоившая его второе лето. Зимой, мерзавка, убегала, вероятно, в поисках другого, живущего в теплых краях дитяти.
У сыпи-кочевницы была своя история. Массимо утверждал, что подцепил ее от чересчур упитанного кота по кличке Фамильяр, помпезно врученного ему в доме двоюродного брата в качестве игрушки. Рыжая зверина была размером с самого Массимо, и держать такого увальня – удовольствие то еще. Но кота все устраивало: важно распушившись, он томно мурлыкал и сопел рыбьим дыханием, по-простецки положив большую мохнатую голову на плечо, уткнувшись в ухо влажным носом и крепко обхватив свою няньку массивными лапами, – «Ну, теперь баюкай меня. Чего жмуришься?» Так Массимо и простоял, напуганный наглостью животины, долгое время, пока кто-то из взрослых не спохватился, что ребенку не по себе и бледен он, будто извалялся в детской присыпке. Чтобы отцепить наглеца, понадобилась сила двух человек. Напоследок рыжий надоеда оставил на руках мальчика легкие царапины, и с того летнего дня высыпания на коже пристали к Массимо, как волосы к мокрым ладоням. Все говорило о том, что кот-хитрец таким образом перекинул свой недуг на здоровую и безгрешную малютку. «Видать, якшался пушистый нахал с ведьмовской знатью», – сонно объявила травница Агостина, женщина, безусловно, сведущая в кошкиных проделках, но не знавшая лекарств от кошачьих сыпей.
Так что Карло знал о Массимо? Познакомились они не так давно, но быстро сдружились, поскольку детям героев нужно держаться вместе. У них была общая цель – победа над «детьми дуче». Общие интересы – мелкие проказы да игры в мяч посреди осколков старого мира. Общая компания – плоть и кровь партизан. Одна вера – в справедливость. А что еще? Пожалуй, и все. Карло замечал, что его друг смотрел на мир с особенной, глубоко задумчивой любознательностью. Да, он всегда носился вместе с ватагой «сынов Италии» по разрушенным улочкам и осиротевшим пустырям и соглашался со всеми решениями их компании, участвовал в драках наравне с ребятами постарше, буквально поддакивал во всем и поддерживал разговоры о героическом будущем их страны, где все будет устроено по справедливости. Его считали хорошим товарищем, который без ненужной демагогии придет на помощь и выручит, когда надо и где надо. Лишнего он не болтал и не навязывался. Но его тяжелый, налитый мудростью эпохи взгляд смущал Карло. Казалось, Массимо глядит в самую суть вещей, докапывается до молекул и атомов. По его нахмуренным бровям и поджатым губам было заметно, что он часто делал выводы, однако оставлял их при себе. Быть может, он что-то знал?
– Какое лицо! – сказал Массимо. По острым краям развалин неуклюжей походкой моряка, только сошедшего на берег, он поднялся на гладкий выступ переломанной плиты и, растолкав дружно сомкнутые кусочки перекрытий, извлек отколотый от фасада лик.
«Так вот на что ты так странно смотрел, – подумал Карло. – Почему? Ведь это только маска».
Карло не знал Массимо по-настоящему. А тот и не спешил открываться, побаиваясь бесхитростной прямолинейности друга и остальных ребят. В лучших традициях городской детворы «сыны Италии» забавлялись купаниями в миланских каналах, беготней в обвалившихся портиках, ползанием с проверкой на храбрость под накрененными колоннами и насупленными консулами. Они щебетали нараспев сальные шуточки и громко гоготали при виде совокупления бесстыжих собак. Клянчили поцелуйчики у краснеющих девиц и клялись заплатить вдвойне (правда, попозже) проституткам на ступенях. Но Массимо же, сколько себя помнил, глядел на мир сквозь хрустальный шар искусства, он видел во всем многогранность и туманный, неуловимый отсвет сотворения. Даже в хаосе и разрушении он читал строки, выведенные изящной рукой вселенской гармонии. Изгибы мраморных тел, упокоившихся под крошкой битого булыжника, будоражили его воображение, он представлял, как снежной ночью восстают императоры, поэты, чтецы, гладиаторы, ангельские девы, хмурые философы, сердитые псы и псицы, и как бредут они, грузно раскачиваясь, по пустым улицам, и как покидают город и бросаются в шумную и бурлящую реку, чтобы по дну русла достичь берегов святотатцев, что посмели сбросить их с пьедесталов, с Олимпов, выкинуть из эдикул. Месть творений гениев. А он бы рисовал историю их крестового похода: вытачивал их идеальные тела на склонах гор, отливал бы из бронзы награды и сочинял бы легенды о камне, что постоял за себя. Скульптуры влекли Массимо, и частенько, когда никто не видел, он обнимал статуи в укромных переулочках и нашептывал им на ухо обращенные к Всевышнему просьбы подарить ему талант скульптора, художника, резчика, ну или, на худой конец, стекольщика. Ему были присущи внезапные, не к месту идеи: ад и рай живут в яблоке; брикет масла хранит память о зеленом луге; змеи плескаются только в забытых корытах; сосцы волчиц тверды, как копья; суровый человек с охапкой ружей на ощупь мягок, как перезрелая слива. Если бы он владел инструментами выражать себя, то превращал бы вымысел в искусство. Кто научит его?
Но делиться собственным мировидением Массимо не решался – в городе, перемолотом жерновами амбиций и трагедий, где пышно цвела колючая проволока, где на первый план пока выходили цинизм и растерянность, он все держал в себе, в силу страха оказаться непонятым и стать мишенью для насмешек. Потому он подпевал друзьям по любому поводу, он не хотел выделяться, он хотел быть «славным парнишкой». Их глупые разговоры он часто пропускал мимо ушей, при этом одобрительно кивая и витая где-то между панорамами Альп и вопросами «что было до…».
Он очень дорожил дружбой с Карло, потому как видел в нем качества, которые сильно хотел бы перенять: лидерство, смелость, умение отстаивать свои интересы и высказывать в лицо накопившиеся претензии. И Массимо учился у него. Украдкой следя за его мимикой, жестами, движением бровей в гневе, подхватывал некоторые выражения вроде «Чего эти подлецы там вынюхивают и высматривают?», «Пора намять им бока!», «Только так и не иначе!», «Разрази меня гром, если я струшу!».
А еще в своем щедром воображении Массимо сотворил кумира – Бессмертного Зодчего. И кумир его был творцом искусств и строителем новых городов. Иногда он наблюдал за его работой и представлял, как Зодчий однажды войдет в его дверь и заберет в святилище Римской Мастерской, научит создавать музыку гранита, напевать мелодию терракоты, смычком тянуть вязкие нотки из истрийского камня.
– Какое лицо! – повторил Массимо.
– Зачем оно? – спросил Карло.
– Отец попросил принести домой какое-нибудь украшение на стену, – солгал Массимо. Опасаясь за раскрытие своей тонкой души, он научился извертываться, как промасленный чемпион в греко-римской борьбе. На все был готов ответ, прямо как у святых взрослых.
12
Из-за угла послышались вой и фырканье, словно сквозь обнаженные улицы неслись оголтелые кобылы. В страхе перед наступающими силами Карло и Массимо укрылись за склоном. Их макушки и испуганные глаза торчали, будто из окопа. На площадку сквера выскочили торговка оливковым маслом синьора Валентина и ее подруга – продажница рыболовных снастей Джина. Торговали они рядышком на рынке Навильо-Гранде. Великий Воспитатель, что был горазд на раздачу прозвищ, называл их клеветницами и базарницами. Жаль, они не были его родными бабушками. Уж он-то слепил бы из них людей! Уж он-то научил бы их сдержанности да учтивости! Они бы добились под его присмотром успехов, и того гляди выбились бы в люди, и открыли бы денежное дело, хотя бы и пошивочную мастерскую, как мудрый еврей Самсон Мучник, которому разбили голову на улице.
Пожилые, тучные, с печатью хитрого злорадства на одинаково обвисших, как складки у старой шторы, лицах, кумушки пинали и пихали друг друга, попутно отпуская щедрые проклятия, сдобренные щипками за бока, – две похожести, будто скомканные из единого куска заветрившегося суфле.
– Блудница! Тьфу! Гадюка!! – восклицала Валентина. – Ты уродливая подзаборница, ты позорница в роде людском! Я плюю на тебя и мужа твоего, рогоносца! Уйди с дороги моей, грязнуха!
– Ах вот ты как платишь мне за доброту, отродье ты куриное! Дырка! – Джина плюнула ей в лицо и, ухватив за волосы, начала дергать голову несчастной из стороны в сторону. – Отброска, вонючка! – выла она.
Между тем Валентина ловко занырнула под терзавшую ее руку, и теперь они оказались лицом к лицу.
– Ну вот ты и попалась, чертова дочь! – Повелительница оливок принялась царапать лицо Джины с нескрываемым удовольствием. Глаза ее засверкали, как звездочки над вечерним праздником. – Получай, крысиная морда!
Но опытная драчунья Джина, как праведный локомотив, протаранила противницу всей тушей, отчего обе рухнули на перемолотую землю.
Почти синхронно, как цирковые медвежата-недотепы, женщины, раскачиваясь, уселись рядышком и выпрямили вперед короткие ноги. Рассеянно они огляделись вокруг, как бы проверяя, не видел ли кто. Убедившись в пустоте сквера, они стали отряхивать одинаково плотно прилегающие к рыхлым фигурам передники.
– Ну, дорогуша, кхе-кхе, скажем так: с таким подходом не видать нам награды, – провозгласила Валентина, указав пальцем в небо, тем самым уповая на решение Всевидящего. Мудро сморщив лоб и многозначительно раздувая сальные ноздри, она сцепила пальцы на животе и рассудительно заявила: – Давай-ка бросим жребий, и победившая со спокойной душой отправится в штаб.
– Ох-хо-хо! С таким трудом я узнала о нем правду и в кои-то веки решила сделать доброе дело, как ты тут как тут и хочешь отнять у меня право сдать его властям, – посетовала Джина, поправляя волосы.
Надув щеки и выпучив глаза, Валентина ткнула Джину под ребро.
– Ух!! – взвизгнула та. – Опять начала? Чего это ты?
– Чего это я?! Чего это я?! – передразнила Валентина. – Ты глупенькая потаскушка! А скажи-ка мне, «чего это ты», кто познакомил тебя с его братом? Кто надоумил тебя угостить его вином прямо у прилавка?
– Но то ведь для «налаживания связей», – признала Джина. – Откуда мне было знать, что попутно он растреплет о своем братце?
– О братце, что учил дочку Майораны литературе!! Ты только вдумайся: дочку Май-о-ра-ны! – прокричала Валентина, бешено вращая глазами. – Убийцы, прелюбодея, самого скверного и поганого человека во всей Италии!
– Кто такой Майорана? – шепотом спросил Карло друга.
– Тш-ш-ш, – прошипел Массимо. – Тише говори. Майорана был начальником полиции при режиме. Главный враг партизан.
– Но первой правду узнала я, и посему…
– А не пойти ли тебе к чертям собачьим, поганая ты правдорубка! – перебила Валентина. – Свела вас я, и потому я и доложу властям, с кем знавался «поэт за решеткой».
– Так вот оно что! – Голос Массимо был тихим, как ускользающий за дверь сквозняк. – Похоже, наш поэт запачкался при Муссолини.
– Награды захотела? Исчадье клоаки! Курица надутая! – Джина плюнула в лицо торговке и уже было засобиралась встать, как Валентина притянула ее к себе:
– Да погоди ты, погоди. Вот смотри, поэта же любят? Ему верят? Его пророчества сбываются. Ведь так?
– К чему это ты?
– Да к тому, простофиля моя, что когда узнается, кто сдал поэта, то этому человеку не поздоровится, а сдавать его тайно смысла нет – не получишь причитающегося.
– Так и что же? – Мысли зашевелились в голове Джины, но раскачивались они долго, неохотно и совсем уж лениво.
– А то, моя недалекая, что выдам его – я и награду получу – я, а значит, и на меня весь гнев прольется. Ведь так? – предположила Валентина.
– Продолжай.
– Смотри: мы поделим деньги пополам, а весь удар людской приму я, в смирении и в терпении. – Она сложила руки в молитвенном жесте и увлажняющимися глазами поглядела на бетонные ломти, нависшие над их головами.
– Ха! – восторженно выплюнула Джина и, взмахнув руками, огляделась, будто ища поддержки своего удивления. – А ведь, черт бы тебя побрал, что-то в этом есть! За поэта могут и поквитаться. Хотя ты, стерва, всегда была хитрицей. – Она восхищенно поглядела на Валентину. – А не обманешь ли ты меня, старая гиена?
– Клянусь, не обману! – выкрикнула хранительница оливкового масла.
– Поклянись селезенкой внука, – потребовала Джина.
– Клянусь селезенкой внука, – гордо отозвалась Валентина.
– Поклянись печенью внука и его правой почкой, – велела Джина.
– Клянусь печенью своего внука и его правой почкой, – сказала Валентина, поднимаясь на ноги.
– А левой почкой?
– И левой почкой.
Так они и разошлись, по-комариному улыбаясь и ненавидя друг друга, но хватаясь за каждую возможность оболгать кого-то, полить грязью, оклеветать, и это сплачивало их, как сестер. Они презирали друг в друге свои же отзеркаленные черты, но жить без ежедневных перепалок им было в тягость. Их сердца были грязны, и истоки этой грязи следовало искать еще во временах Древнего Рима. В их крови сновал белок сенатских осведомителей, то и дело подскакивал сахар испанских работорговцев, в их крови раскрывалась холестериновая раковина пьяниц, что славились в Галатии безобразным поведением. Их предки копили ненависть к себе же подобным, и она росла и множилась в склизких жилах потомков. Они были похожестями, слепленными из эпизода скабрезной пьески. Такие люди живут очень долго и счастливо, они избранны и неуязвимы, будто божьи лопаты окопали их защитным кругом. Праведные из праведных. Лучшие из лучших.
13
Валентина была довольно упитанной, низенькой и плотно сбитой женщиной шестидесяти двух лет. Ее голову укрывали короткие кучерявые жесткие черные, как вдовья вуаль, волосы, седину она скрывала смесью сажи и минерального порошка. На ее широком квадратном лице карие глаза, брови и ленивые губы сгрудились вокруг маленького носа, как если бы ее рожица выглядывала из темной воды, оставляя лишь додумывать, как выглядит все остальное. Ходила она вяло, вразвалку, подчеркнуто перемещая вес тела то на правую ягодицу, то на левую, при этом надменно поглядывая на окружающих, как на подданных. Всем видом она будто намекала на наличие большого достатка и, словно в ожидании бурных аплодисментов, вздергивала кверху подбородок. Она любила хорошие застолья, любила грубых мужчин, любила запах козьего молока и любила изводить внука восьми лет, мочившегося в постель. Чего она не любила – так это расточительства, неуемного транжирства, мотовства. Но обожала, когда к ней приходили и просили денег в долг, тут-то она наигранно сетовала на здоровье, плюхалась на лавку и, хватаясь за сердце, причитала низким басом о нелегкой жизни, сбежавшем двадцать (двадцать пять) лет назад муже и неблагодарных детях, что подсунули ей внучка, который точно назло постоянно оправляется в штаны и в кровать. Жалея бабушку, просившие обещали вернуть все с хорошим процентом – ведь святая женщина же! И за что ей такие кары?!
Но сейчас, когда выпал шанс подзаработать и проявить себя, она приободрилась пуще прежнего. Разрушенный сквер выкашлял ее на широкую улицу, где под аккомпанемент далекого поездного гудка и застольной брани, доносившейся из недр выжженной витрины, она торжественно зашагала в партизанский штаб: берегись, преступность, опасайся, мошенничество, прячьтесь, карманники, ну а пособники старого режима, готовьтесь к взбучке – правосудие идет!
Усталый капитан выслушал ее пафосную речь (тут она была в ударе). Почесал лоб, прикинул что-то в уме, расправил усы (то был знак, что он преклоняется перед ее авторитетом, точно вам говорю). Нащупал где-то под столом карандаш (понятное дело, он растерялся перед святой разоблачительницей). Записал что-то на желтоватом листке (ну и ужасный же почерк, а попробуй найди офицера с красивым почерком). Помолчал (видать, тугодум). Покряхтел (ну точно тугодум). Зевнул (да как он смеет!). И, поблагодарив синьору, попытался распрощаться.
– Но синьор капитан! А как же деньги?
– Что? А? О чем вы, синьора?
– Деньги, синьор капитан.
– Синьора, вы утверждаете, что этот ваш «поэт за решеткой» был репетитором по языкам…
– По литературе, синьор капитан.
– По литературе у дочери начальника полиции Майораны. Я вас правильно понимаю?
– Да, синьор капитан.
– Ну и что с того?
– Как… как… – задыхалась она. – Майорана – враг Милана.
– Его давно поймали и повесили. Что я, по-вашему, должен сделать с учителем его дочки?
– Он… он… мне… Где мои деньги за информацию, чертов ты прохиндей! – не сдержалась Валентина. – Господь всеведущий, ты только глянь, как они издеваются надо мной! – воззвала она, тряся кулаками над головой.
– Вы нелепы, синьора, – фыркнул капитан.
– Но вы же сами вешали объявления, что за сведения о приспешниках Муссолини будете давать вознаграждение! Я бедная женщина, у меня больной внук, мой кроха, мой сиротка. Мы живем впроголодь. Всю войну я укрывала дома пару ваших ребят. – Тут она благополучно солгала. Глаза ее затопили слезы. Руки умоляюще бились о впалую грудь офицера. – Он же может знать, где прячутся майорановые костоломы! Эти антихристы!
– Ну хорошо, хорошо!! – сдался капитан. – Проверим его. Может, и сегодня. Если что-то он знает – получите.
– Господь не даст мне пропасть. Как сказал Иисус…
– Прошу вас, приходите завтра, синьора. У нас много дел. Чао!
Когда Валентина оставила комендатуру, капитан извлек мятую папиросу из нагрудного кармана и принялся хлопать себя по рубашке в поисках спичек. Сухие, как ветви, руки поднесли ему огонек.
– Что думаешь? – сказал охотник на бывших полицейских по прозвищу Птицелов.
– Да брось, – отмахнулся капитан. – Какой-то книжный червь с явными проблемами… – он постучал себе по голове. – Не стоит оно того.
– Я возьму пару ребят, – холодно произнес Птицелов. – Проверим. Так покойней.
У капитана пробежал мороз по коже.
– Когда ты так говоришь, мне делается дурно, – признался капитан.
– А мне делается дурно от мысли, что не все сволочи на том свете. – Птицелов хлопнул его по плечу и отправился за ребятами.
14
А вот и он – фонтан Пьермарини, водруженный в центре небольшой площади, составленный из трех стоящих друг над другом розовых бассейнов. Он пересох, он покрыт патиной, он наполнен бетонной крошкой. Средний бассейн поддерживают две изогнутые в стыдливом смущении сирены – Теодолинды. Глядя на их груди, Карло ощутил чувство, которое, как он считал, только отвлекало его от важных дел.
В десятке шагов от фонтана располагалось простое двухэтажное здание, смотревшее на площадь мирными глазами прямоугольных окон. Но одно оконце выбивалось: идеально круглое, прошитое мелкой железной решеточкой, сиротливо жалось оно на первом этаже к углу фасада. Размером окошко было с днище дубовой бочки, проливающей винную темень в таинственную комнату стихотворца.
Одетый в испачканную серую робу тощий доходяга лет двадцати, с длинным носом, плачущими губами и красной от солнца ранней залысиной, подкрался к оконцу. Дрожащей рукой пошлепал по решетке, что-то проворчал и, навострив уши, застыл на месте, как памятник.
– Чего это он там делает? – спросил Карло.
– Видно, пришел за пророчеством. Тем-то и славится поэт, – объяснил Массимо. – Он дает советы и предсказывает будущее.
– Шарлатан, – сказал Карло.
– Таких называют оракулами.
– Бабушка звала таких лодырями, – гнул свою линию Карло. – Ерунда все это.
– А то! – хихикнул Массимо. – Говорят, что половина советов бесполезна. Пришел к нему как-то инженер Давиде и спросил: «Во сколько лет я помру?» А поэт ему: лицо, говорит, лучше умой. А инженер: «Зачем это?» А тот ему: а собака твоя, говорит, нос сует в дерьмо и в другие места, а потом ты ее целуешь и щечками о нее трешься. Хи-хи!
На этих словах дворняжка-бездельница, лежавшая в тени фонтана, лениво подняла голову и, хмуро глянув на мальчишек, фыркнула – мол, нечего тут околачиваться с такими сплетнями, собаки здесь в хвост приличные. Важно поворчав да глухо прорычав что-то, она высунула язык и, тяжело дыша, уронила ушастую голову на теплую брусчатку. Жара держалась беспощадная.
Доходяга, вставая на цыпочки, тянулся то правым, то левым ухом к решетке. Из мрака на него падали тихие слова. Его невыразительные глаза становились все шире и шире, а когда они закрутились, как колеса, он в резком порыве отпрянул от окна, а затем, вынув из кармана промасленную ветошь, кинул ее на землю и принялся прыгать по ней, как если бы скакал на пружине.
– Ах ты ж! Ах ты же… ты же… скотина ты такая!! Поэт-недоумок ты!! Я ему изливаю душу, а этот… этот вот… он мне… – Забросив еще пару проклятий в круглое окошко, доходяга, сморкаясь в поднятую тряпицу, поспешно удалился. Что ему сказал поэт, оставалось только гадать.
За самой же решеткой, в глубине черной комнаты таилось безумие. Точно сонный варан, глядело безумие на людей и на улицу, и имело оно форму человека. И было оно когда-то человеком – учителем литературы. Та потерянная душа любила слова и сочинительство. Во времена режима человек этот оставался предан словесности и обучал детей соратников Муссолини – так ему было удобно, и выше этого он не лез.
Он обожал некую Чечилию, но та упорно не замечала его, при этом отдаваясь всем напропалую. Он посвящал ей стихи и открывал чувства, а она лишь скоренько ускользала от его занудства, чтобы поманить пальчиком счастливчика помоложе. Она любила всех: бедных, богатых, уродливых и красивых, опытных и не очень – всех, кроме поэта. Ей ничего не стоило задрать перед ним юбку, но для нее он был сродни слизню, она презирала то преклонение, то религиозное вожделение, что он испытывал к ее прелестям. Она желала от мужчин грязи и крепких объятий, она обожала ссадины на бедрах, она предпочитала быть брошенной после первой же ночи или первой же подворотни и была без ума от полноты жизни со всеми ее подножками. Любовникам она прощала все: оскорбления, побои, обман, но чего она не могла простить – так это болезненного преклонения. Она ведь обычный человек со своими чудачествами и недугами, что дремлют в теле до поры до времени. Она томно кипела в животной страсти, а насытившись ею, теряла интерес к соителю. Да, она была шлюхой, но честной перед собой и перед теми, кто имел ее. Поэт все понимал, но романтизация Чечилии стала наваждением превыше рассудка. И когда она исчезла, для него мир потерял и цвет, и вкус, и запах. И сам поэт стал будто глух. Он готов был стерпеть тысячи раз привычное «нет» из ее развратных губ, но ее отсутствие в жизни лишало его смысла этой жизни.
Оправдывая себя любовной неудачей, он спрятался в мрачной комнате, где предавался пьянству и стихотворству. Он считал себя слабым, он так и говорил себе: «я слаб» – так ему было удобно. Так он стал поэтом взаперти. Поэтом, занявшим неприглядную нишу в панно разрушенного города. Людские домыслы сотворили из него оракула, и ему несли подати в виде крепкого вина и более крепкой граппы. На пьяную голову поэт давал советы страждущим и жалобщикам и делал пространные предсказания, которые трактовались как твоей душе угодно. Пророк всегда нужен людям – и до войны, и во время, и после.
В конце концов алкогольный демон поймал его, как бешенство ловит лисицу. Чечилия испарилась, а демон остался.
– Пойдем, – решил Массимо. – Спросим у него чего-нибудь.
– Ну вот еще! Ты же сам сказал, что его советы – чушь несусветная.
– Нет, пойдем! – заупрямился Массимо, потянув друга за рукав. – Чушь не чушь, а интересно же! А то сдается мне, что трудами тетушки Валентины поэта скоро не станет.
– Ну и…
– Ну все. Пока никто не мешает, побежали.
Озираясь, подобно мелким жуликам, идущим на дело, мальчуганы засеменили к святилищу. Дворняжка-бездельница хотела было увязаться за ними, но, оценив их простенькую одежонку, решила, что парнишки явно не богатеи и корму от них не дождешься, так что пускай проваливают, решила она, и вновь задрыхла щенячьим сном. Ох и жара! Воды бы, но фонтан пуст.
– Эй! – закинул Массимо в окошко, что висело в полуметре над ним. – Господин поэт!
– Какой он еще господин? – прошипел Карло.
– Тш-ш-ш. Так надо, а то ничего из него не вытянем.
– Тоже мне «господин поэт».
– Сударь поэт!
– Да что ж такое-то! Ты его еще королем назови! У нас все равны и нету никаких господ и сударей.
– Тш-ш-ш-ш. Вроде он там шевелится.
Карло прислушался и уловил странный шорох, точно кто-то шелушил в темноте лук.
– Кто там? – тихо прохрипел голос за решеткой. – Что за звереныши?
– Как ты нас назвал?! – взорвался Карло.
– У-у-у. Они с характером, ну, будьте так любезны, буду звать вас крохами.
Поэт, следуя традиции, был под хмельком. Резкая кисло-цветочная вонь ударила из темницы, овеяв мальчишек ароматом пьяной тоски. То, что неожиданно прильнуло к окну, напугало их, и ребята отскочили от стены, как от голой жаровни. Что и говорить, а демон-выпивоха оставил на поэте горячечное тавро. Небритое и чрезмерно одутловатое лицо, затененное сетью, имело цвет серой плиты, дремлющей в забытом склепе. Опухший нос придавал лицу вид оскотинившейся морды, точно срисованной с военного плаката вроде «Ты на посту вино лакал! Так получи же трибунал!». Потухшие глаза поэта глядели диковато и растерянно, будто кто-то вот так, по щелчку пальцев, охладил его живой пыл, бесцеремонно выдрав из мозаичной картины счастья, которого достоин каждый, но от которого многие бегут, прячась в сточные ямы пьянства. Порой мы боимся счастья больше, чем бед, – наверное, в этом кроется ирония, наверное, за этой иронией мы можем услышать сдержанный смех Бога.
– Чего же вы убегаете? – вздохнуло лицо во мраке. – Струсили?
– Карло Кавальери никогда не трусит! – с апломбом заявил Карло и, подняв голову так, чтобы был виден подбитый глаз, приблизился к черному святилищу. К запахам пролитого вина примешался смешанный смрад мочи, едкой рвоты и яркого пота, перехватив дыхание. Однако вездесущих мух тут не было: видно, демон-выпивоха отпугивал их, оставляя право на поедание поэта за собой.
– Ху-ух! – заухала гримаса, отхлебнув из кувшина. – Знаешь, кроха…
– Баста! Кто дал вам право звать нас крохами?
– Ладно, ладно! – запричитал пьяница. – Представьтесь, монсеньор.
– Меня зовут Карло, это Массимо.
– Хэх! Тоже хотите что-то спросить?
– Угу, – кивнул Массимо.
– Но мои ответы не бесплатны. Где вино?
Массимо побледнел. Он знал о податях, но не придал им значения, решив, что правило взимания на детей не распространяется.