Неравенство равных. Концепция и феномен ресентимента бесплатное чтение
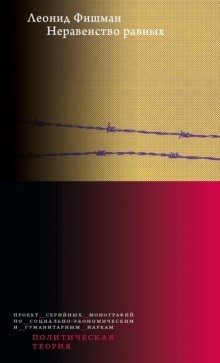
© Фишман Л. Г., 2024; 2025
Введение
Призрак бродит по миру, призрак ресентимента. Ресентимент черных, которых упрекают за это в «черном расизме», и ресентимент белых, обнаруживших себя далеко не такими процветающими, как прежде. Зачастую подпитываемый религией ресентимент целых стран и регионов – как наследие в равной мере колониального прошлого и неудачных попыток присоединиться к цивилизованному миру. Ресентимент бедных, вытекающий из бессильного возмущения неспособностью и невозможностью изменить свое положение. И ресентимент не самых обездоленных, но давно упершихся в «стеклянный потолок», который более не пробивается доступными социальными лифтами. С ними тесно переплетается ресентимент многочисленных мнимых и подлинных жертв дискриминации и разнообразных видов неравенства – от привычных классового и расового до культурного, телесного или гендерного. Надо всем этим гордо реет популизм, как правый, так и левый, для которого ресентимент – едва ли не второе имя. Да и раньше было не лучше – призрак коммунизма, к которому мы ради красного словца отсылаем в первой строчке, был на самом деле призраком все того же ресентимента, хитроумно выданного за научную теорию. Ибо «у пылкой риторики “Манифеста Коммунистической партии”, лженаучной марксистской трудовой теории стоимости и классового анализа истории человечества, единый эмоциональный источник, а именно ресентимент по отношению к тем, кто контролирует материальную сторону жизни»[1].
Ресентиментом пытаются объяснить почти все что угодно, начиная с леволиберальных политических стратегий, поддерживающих идентичности, основанные на «жертве»[2], и заканчивая победой Дональда Трампа в Америке[3] и особенностями российской внутренней и внешней политики[4]. Некоторые авторы склонны даже считать, что сегодня мы сталкиваемся с «политикой ресентимента». Политика ресентимента, по мнению Фрэнсиса Фукуямы, включает в себя случаи, когда тот или иной политический лидер мобилизует последователей, эксплуатируя их групповые обиды, чувство унижения или подозрение, что ими пренебрегают или что их недооценивают. К таковым можно отнести Владимира Путина, Виктора Орбана, Усаму бен Ладена (как и откликнувшихся на его призыв молодых единоверцев). Ресентимент в демократических странах оказывается не менее мощной силой – примером тому является движение Black Lives Matter (BLM). Другие примеры – борьба против сексуального насилия и сексуальных домогательств в университетских кампусах и офисах в Америке, против дискриминации трансгендеров. «И многие из тех, – продолжает Фукуяма, – кто голосовал за Дональда Трампа, надеясь “вернуть Америке былое величие”, помнили прежние – лучшие – времена, когда их положение в собственных сообществах было более надежным. Настроения путинских сторонников в чем-то схожи с раздражением избирателей из сельских районов США. Негодование первых по поводу высокомерия и презрения западных элит по отношению к России тождественно возмущению вторых безразличием городских элит обоих побережий США и их медиасоюзников к проблемам американской глубинки»[5].
Сегодня вряд ли найдется такая политическая сила или социальная группа, которую ее противники не изобличали бы в ресентименте. Означает ли это, что ресентиментом пронизаны все современные общества сверху донизу или же, в силу каких-то причин, скорее получил огромное распространение взгляд, обнаруживающий ресентимент? Подозревать последнее позволяет то, что термин «ресентимент» с самого начала использовался в большей степени с целью разоблачения или изобличения, чем с целью объективного анализа реально существующих феноменов. Так что же такое ресентимент – объективный социальный факт или ярлык, наклеиваемый на оппонента в запале борьбы? На этот вопрос мы и попытаемся ответить в предлагаемом исследовании.
Глава 1. Социальный генезис ресентимента: противоречия в классическом понимании
Феномен ресентимента обращает на себя внимание в конце XIX – начале XX века, когда классы, ранее считавшиеся страдающими или неспособными изменить свое положение, начинают обретать силу. Ресентимент не является проблемой, когда силы у них еще нет и они не помышляют о том, чтобы стать чем-то большим. Наличие ресентимента не так заметно, когда почва для его проявлений сужается ввиду роста возможностей угнетенных классов и интенсификации социальной мобильности, как это было в послевоенное тридцатилетие с характерными для него ростом среднего класса, повышением влияния организованных трудящихся, расцветом социального государства. Однако сегодня мы имеем дело с последствиями десятилетий неолиберальной социальной политики – падением влияния организаций трудящихся, сокращением среднего класса, кризисом «общества труда». В результате снова удобряется почва для всех тех чувств, поведенческих установок и моральных стратегий, которые объединяются в феномене ресентимента и представляют собой смесь негодования по поводу своего ущемленного положения и осознания неспособности его сейчас изменить. По мере перерождения современных обществ из классовых в классово-сословные, в которых статус снова имеет значение для все больших групп населения, актуализируется и проблематика ресентимента. Огромный потенциал ресентимента содержат замораживание социальной структуры, остановка социальных лифтов, нисходящая социальная мобильность, прекаризация. Прекариату же, как отмечалось, больше свойственен ресентимент, чем бунт; поэтому его антикапиталистические лозунги, с которыми выступило, например, движение Occupy Wall Street («Захвати Уолл-стрит») в 2011 году, могут расцениваться как проявление ресентимента.
Словом, современность открывает для проявлений ресентимента новые горизонты. Феномен ресентимента был замечен в эпоху «восстания масс», когда невиданное ранее приобщение народов к культуре позволило говорить об ее относительном упадке вследствие демократизации: грубый голос народа стал слышней, чем в прежние эпохи. Сегодня, в силу ряда причин, связанных с техническим прогрессом и культурными трансформациями, этот голос еще слышнее. Массы впервые в истории приобрели возможность высказываться практически без институциональных фильтров в виде высшего образования, без цензуры, которую подразумевали даже самые демократические газеты, – и быть услышанными. Отсюда, в частности, взлет разного рода хейтерства, когда возродившееся чувство бессилия от невозможности действительно изменить свое положение в равной мере выплескивается и на элиты, и на людей, сходных по социальному статусу, но отличающихся политическими взглядами, моральными установками, полом, цветом кожи. Ситуацию усугубляет тот факт, что, по справедливому замечанию Ирины Шафаревич, «в социальных сетях люди, представляющие определенные слои общества, демонстрируют высокий уровень жизни, достаток, успешность и беззаботную жизнь, которые выступают предметом зависти и ненависти тех, кто не может получить данные материальные и духовные блага. Отсутствие возможности самореализации, неполноценность и неудовлетворенность создают благоприятные условия для формирования ресентимента»[6].
Понятие ресентимента, казалось бы, имеет огромный потенциал при осмыслении ряда моральных и политических аспектов трансформаций, происходящих в современных обществах. Но в том виде, в котором его сформулировал Фридрих Ницше, уточнил Макс Шелер и в каком его обычно используют сейчас[7], оно оказывается одновременно и слишком, и недостаточно привязанным к социальной структуре обществ, для анализа которых применяется. Происходит это потому, что ницшевские и шелеровские представления о ресентименте хотя и отсылают к социоструктурным аспектам его генезиса, но делают это противоречиво и некорректно.
Как замечает Чер-унг Пак, у Шелера ресентимент «всегда проявляется в неразрывной связи с определенной исторической и социальной констелляцией. Исследовать его – значит узнать, в рамках каких социальных условий он возник. <…> Шелер выделяет ресентиментные типы, существование которых не зависит от индивидуальных характеров и переживаний, поскольку они имеют свое основание в известных, типично повторяющихся человеческих “ситуациях”»[8]. Иными словами, понятие ресентимента подразумевает отсылку одновременно и к социальной группе (без которой оно потеряло бы значительную часть своей убедительности), и к «человеческой ситуации» (которая не может быть четко привязана к той или иной социальной группе). Но вместо обращения к реальным социальным группам и «человеческим ситуациям» оно имеет дело с крайне идеализированными и упрощенными их образами, со стереотипами, долгое время присутствовавшими в культуре вполне определенного класса. Ницше и Шелер увязывали генезис этих «типично повторяющихся человеческих ситуаций», характеризующихся слабостью, бессилием, отложенным стремлением к мести и т. д., практически исключительно с низшими классами («мораль рабов»), а их противоположность – с классами высшими, с аристократией («мораль господ»). Аристократичность, от которой они отталкивались, для них (как позже и для Николая Бердяева) имела исключительно духовное происхождение. Она налагала «обязанности благородства» и была прекрасна, тогда как «плебейская обида на мир, подпольная озлобленность, уязвленность неблагородны, уродливы»[9].
Ресентимент, с точки зрения Ницше, рассматривается как самообман, выдача нужды за добродетель, которая возникает, «когда угнетенные, растоптанные, подвергшиеся насилию увещевают себя из мстительной хитрости бессилия: “будем иными, чем злые, именно, добрыми! А добр всякий, кто не совершает насилия, кто не оскорбляет никого, кто не нападает, кто не воздает злом за зло, кто препоручает месть Богу, кто подобно нам держится в тени, кто уклоняется от всего злого и вообще немногого требует от жизни, подобно нам, терпеливым, смиренным, праведным”»[10]. С точки зрения Ницше, все это «самоодурачивание бессилия… роскошь самоотверженной, умолкшей, выжидающей добродетели, точно слабость самого слабого – то есть сама его сущность, его деятельность, вся его единственная неизбежная, нераздельная действительность – представляла бы собою некую добровольную повинность, нечто поволенное, предпочтенное, некое деяние, некую заслугу»[11]. Ресентимент – это также прикрытие лозунгом справедливости банальной мести: «…нечего удивляться, видя, как именно из этих кругов исходят попытки, не раз уже имевшие место, – освятить месть под именем справедливости, точно справедливость была бы, по сути, лишь дальнейшим развитием чувства обиды, и вместе с местью возвеличить задним числом все вообще реактивные аффекты»[12].
Но каков же социальный субъект ресентимента? И какой социальный субъект ему противопоставляется? Упор на иммобилизм, паразитизм и иные негативные черты страдающего ресентиментом субъекта – характерная черта классического дискурса о ресентименте, который повествует об ущербной во всех отношениях личности. Ей противопоставляется личность благородная, гармоничная, сильная, словом – образец человека, который должен выступать в качестве объекта для подражания. Типичное для Ницше возведение хорошего к аристократическому, а плохого к плебейскому звучит так: «Ориентиром, выводящим на правильный путь, стал мне вопрос, что́, собственно, означают в этимологическом отношении обозначения “хорошего” в различных языках: я обнаружил тут, что все они отсылают к одинаковому преобразованию понятия – что “знатный”, “благородный” в сословном смысле всюду выступают основным понятием, из которого необходимым образом развивается “хороший” в смысле “душевно знатного”, “благородного”, “душевно породистого”, “душевно привилегированного”: развитие, всегда идущее параллельно с тем другим, где “пошлое”, “плебейское”, “низменное” в конце концов переходит в понятие “плохое”»[13]. Ницше пишет о «высокородных», которые чувствуют себя счастливыми, потому что являются активными людьми, не лгут себе, «позитивны»[14], в отличие от пассивных, «бессильных, угнетенных, гноящихся ядовитыми и враждебными чувствами людей»[15]. Это крепкие и цельные натуры, «в которых преизбыточествует пластическая, воспроизводящая, исцеляющая и стимулирующая забывчивость сила (хорошим примером этому в современном мире является Мирабо, который был начисто лишен памяти на оскорбления и подлости в свой адрес и который лишь оттого не мог прощать, что – забывал)»[16]. «Активный, наступательный, переступательный человек все еще на сто шагов ближе к справедливости, нежели реактивный… Оттого фактически во все времена агрессивный человек, в качестве более сильного, более мужественного, более знатного, обладал и более свободным взглядом, более спокойной совестью…»[17]. Если у благородного и проявляется ресентимент, то совсем ненадолго и не отравляет его. Идеализированному аристократу противопоставляются люди ressentiment, «эти физиологически увечные и источенные червями существа»[18], придумавшие самую «нечистую совесть». Если в аристократах обнаруживаются отталкивающие черты, то их наличие приписывается негативному влиянию низов: «рабское» в иерархии ценностей Ницше – это низкое в самих верхах, результат проникновения худших психологических свойств политически пассивной массы в господский менталитет. Это «светская чернь», «мещанство во дворянстве», «дикие помещики», «смесь французского с нижегородским» и т. д.[19] В конечном счете в рамках ницшевской концепции ресентимента если некто долго испытывает характерные для ресентимента чувства, то он, несомненно, «раб», ущербный человек и ему должно быть стыдно признаваться в самом наличии этих чувств.
Отдельно следует указать на то, что в рамках классической концепции ресентимента предполагается, что люди ресентимента не могут иметь и правильного представления о справедливости просто потому, что они подвержены чувству негодования, желанию отомстить, возмущению несправедливостью. Как замечает по данном поводу Андрей Прокофьев, «в современной этической мысли… первичный импульс мстительности (и в определенной мере – первичный импульс зависти) является а) универсальной энергетической основой чувства справедливости, б) структурным прообразом этого чувства. Тот, кто не имеет способности к первичным мстительным переживаниям, оказывается лишен возможности превратиться в справедливого человека. Он может стать гением альтруистического служения другим людям, но опыт справедливости будет знаком ему только внешне»[20]. Ницше же всячески стремится оторвать чувство справедливости от ресентимента, описывая последний исключительно как реактивную месть, а справедливость – как безэмоциональное дистанцирование от всяческой субъективности и личной обиды. Понятно, что при такой постановке вопроса истинное чувство справедливости ведомо только аристократам, не склонным к мстительности. Именно они и формулируют лишенные субъективности законы, которым людям ресентимента остается лишь безоговорочно подчиняться: «…для людей ресентимента безоговорочное исполнение закона (каким бы он ни был по своему содержанию), а равно основанные на законе оценки представляют собой максимум совершенства. Они, имея неограниченную склонность к мести, подвергаются жесткому воспитательному воздействию, чтобы стать в минимальной степени мстительными. Однако для тех, кто создает законы, последние имеют характер “частных средств” выражения воли к власти, их содержание задано целью усиления воли к власти. Для представителей “активных и агрессивных сил” правовые ситуации являются “исключением”, а нарушение закона может оказаться столь же ценно, как и его соблюдение, если, конечно, нарушение не вызвано приступом реактивных аффектов»[21]. Иными словами, для аристократа закон, который он, может быть, сам и сформулировал, не писан, а писан он только для черни. В этом суть понимания справедливости, вытекающего из классической концепции понимания ресентимента.
Правда, взгляд Ницше на открытый им феномен не лишен противоречий. Все первичное, истинное и здоровое в духовной сфере исходит от аристократии, в том числе и «право господ давать имена»: «…они говорят: “это есть то-то и то-то”, они опечатывают звуком всякую вещь и событие и тем самым как бы завладевают ими. Из этого начала явствует, что слово “хорошо” вовсе не необходимым образом заранее связуется с “неэгоистическими” поступками, как это значится в суеверии названных генеалогов морали»[22]. Это исключительно важное замечание. Если господа исходят из своего права давать имена и вовсе не обязательно делают это с точки зрения «хорошо», то нужно быть последовательным и признать также, что позже приписываемые ими рабам и прочим униженным поползновения дать их поступкам альтернативные изначальным имена принадлежат также им, и вовсе не обязательно в период упадка аристократии, а едва ли не в момент ее появления на исторической сцене. Это частично признает и сам Ницше, приписывая некоторую «нездоровость» части аристократии, а именно – жреческой: «…что же касается снадобий, измышленных ими самими против собственной болезненности, то не впору ли сказать, что по своим последствиям они оказываются в конце концов во сто крат более опасными, нежели сама болезнь, от которой они должны были избавить?»[23]
Ницше во многом вторит Шелер. Ресентимент по Шелеру – это «самоотравление души, имеющее вполне определенные причины и следствия. Оно представляет собой долговременную психическую установку, которая возникает вследствие систематического запрета на выражение известных душевных движений и аффектов, самих по себе нормальных и относящихся к основному содержанию человеческой натуры, – запрета, порождающего склонность к определенным ценностным иллюзиям и соответствующим оценкам. В первую очередь имеются в виду такие душевные движения и аффекты, как жажда и импульс мести, ненависть, злоба, зависть, враждебность, коварство»[24]. Возникает ресентимент там, где «особая сила этих аффектов идет рука об руку с чувством бессилия от невозможности претворить их в поступки, и поэтому их “сдерживают, закусив губу”, – из-за физической или духовной слабости, из страха и трепета перед тем, на кого направлены аффекты. Почва, на которой произрастает ресентимент, – это прежде всего те, кто служит, находится под чьим-то господством, кто понапрасну прельстился авторитетом и нарвался на его жало»[25].
Как и для Ницше, для Шелера ресентимент является отрицанием естественного, жизнеутверждающего, подлинного, «аристократического» начала. Важное место в концепции Шелера занимает представление о некоем «вечном ранговом порядке ценностей» и «соответствующих ему аксиоматически ясных законах предпочтения, которые столь же объективны и столь же “очевидны”, как и истины математики»[26]. На этом порядке покоится подлинная нравственность. «Ресентимент же – источник переворотов в извечном порядке человеческого сознания, одна из причин заблуждений в познании этого порядка и в претворении его в жизнь»[27]. (Рене Генон, который вспоминается в связи с этим пассажем Шелера и к которому мы обратимся позже, очевидно, тот же самый порядок вещей называет «нормальным»[28].) Из дальнейшего изложения нетрудно заключить, что в социальном смысле вечному ранговому порядку ценностей соответствует порядок феодально-сословный со всеми вытекающими следствиями.
Концепция ресентимента Шелера во многом является инвариантом концепции Ницше, основанной на противопоставлении аристократов и плебеев. Это заметно даже в том пункте, в котором, как обычно считается, позиция Шелера противоречит позиции Ницше, – а именно в вопросе о сущности христианства. Несмотря на то, что Шелер, в отличие от Ницше, не считал подлинный дух христианства проявлением ресентимента, обнаруживается «странная связь между Ницше и Шелером в том смысле, что то, что Шелер называет истинной, неизвращенной христианской любовью, имеет несколько общих черт с чистотой ницшеанской “белокурой бестии”: жизненность, благородство духа и прежде всего склонность быть “активным”, а не “реактивным”. Когда Шелер порицает буржуазную современную этику – например, выраженную в социальном чувстве или альтруизме – и взывает к любви, которая проистекает “из изобилия силы, благородства и жизненной силы”, в нем прослеживаются следы определенного позднеромантического аристократизма, также нетрудно обнаружить и наивность, свойственную Ницше»[29].
Шелер рассуждает о целостном чувстве собственного достоинства, свойственном «благородному человеку», которое не «складывается» из особых чувств, основанных на ценности его отдельных качеств, способностей, дарований, а «составляет скорее саму его сущность и бытие». «Напротив, глубинный корень “подлости” (в точном смысле слова) заключается в том, что ощущение собственного достоинства и достоинства другого основано только на схватывании отношения между собственной ценностью и ценностью другого, а также в том, что вообще ясно осознаются только те качества, которые представляют собой “возможные” дифференцирующие значения между собственной ценностью и ценностью другого. “Благородному человеку” ценности даны в переживании до сравнения; подлый переживает их впервые лишь в сравнении и через его посредство»[30]. Несмотря на кажущуюся нейтральность этого пассажа, видно, что он дается с точки зрения «благородного», то есть того, кому нет нужды (во всех смыслах) глядеть на другого с точки зрения «больше», «меньше», «выше», «ниже». Сведение ресентимента к психическим и культурным феноменам позволяет допускать его наличие у формально «благородных» – со скидкой на то, что, проявив такие чувства, они якобы лишаются своего благородства, переходя в разряд «подлых». Иными словами, это утонченная, но, быть может, не слишком осознаваемая защита ницшевской исходной точки зрения.
То, что позиция Шелера – это в конечном счете позиция аристократа в морали, видно и из следующих его рассуждений, призванных выявить подоплеку современных взглядов на собственность. «Согласно их взглядам, – утверждает Шелер, – право собственности происходит из трудовой обработки вещей, а не из захвата или чего-то еще. Ясно, что этот новый масштаб ведет к радикальной критике существующего порядка собственности, поскольку право собственности исторически восходит к захвату, войне и дарению, к праву первородства и т. д. Все наследственное право, базирующееся на этих предпосылках, становится в принципе уязвимым, раз его нельзя представить как чисто техническое средство распределения вещей, наиболее целесообразное с точки зрения плодотворного труда над ними. <…> Разве не очевидно, что в основе этой “теории” лежит зависть трудящихся классов к тем группам, которые получили собственность не ценой труда, что как раз поэтому их право собственности и объявляется либо принципиально иллюзорным, либо всего лишь результатом насилия, так что лишить их его – якобы “справедливое” дело?»[31]
Для Шелера былой сословный социальный порядок – порядок, в котором осуществляется «осмысленная селекция лучших», что соответствует «живой природе аристократии». Остатки этого порядка выбрасываются на свалку истории, с тем чтобы «гешефт можно было делать еще лучше». В итоге общество атомизируется, а «вместо “сословия” – понятия, в котором групповое единство определяется благородной кровью и традицией, – появляется пустое понятие “класса”, то есть группы, объединенной на основе собственности, так называемого “образования” и известных модных нравов»[32].
Требование человеколюбия ставится под подозрение Шелером потому, что «во имя него выдвигается требование ликвидации феодального и аристократического устройств общества, всех форм крепостной зависимости и личной несвободы, “прогнивших” и бессмысленных с точки зрения общей пользы монашеских орденов»[33]. Для Шелера современность с ее ресентиментом наступает тогда, когда «начинается ожесточенная борьба против всех жизненных форм и ценностей, ведущих свое происхождение из рыцарской жизни и воинской касты вообще. <…> Перед нами уже не полнокровная, плещущая через край жизнь, та, что с любовью и блаженством отдает от своего богатства и избытка, от своей уверенности и крепости, а погружение в бедность и боль, заражение чувством подавленности и угнетенности, возникающее в результате созерцания их внешних выразительных проявлений; это и есть специфически современное “квазисострадание”, “жалостливое чувство”, устраняемое путем оказания помощи»[34]. Даже христианство, настоящее, подлинное, тоже возводится им к рыцарству, ибо «христианская аскеза – веселая, радостная: это рыцарское сознание силы и власти над физическим телом!»[35] Эта связь полноты жизни и подлинности христианского мироощущения с воинской кастой свидетельствует о том, что с социологической точки зрения Шелер занимает ту же позицию в вопросе о происхождении ресентимента, что и Ницше, с той разницей, что, когда он говорит о духе подлинного христианства, он то ли приписывает воинской касте также и его истоки, то ли относит их к некоему возвышенному мироощущению Средневековья вообще, затем утраченному. Избавленная от ресентимента общественная жизнь, таким образом, должна протекать в обществе, настолько жестко поделенном на сословия, чтобы никому из низших сословий и в голову не приходило завидовать высшим. Таковым в представлении Шелера выступает идеализированное средневековое общество:
Средневековый крестьянин, живший до XIII века, не сравнивал себя со своим господином, ремесленник не сравнивал себя с рыцарем и т. д. Крестьянин равнялся в лучшем случае на более богатого или уважаемого крестьянина – и точно так же дело обстояло у всех: сравнение происходило только внутри собственной сословной сферы. У каждого сословия был свой круг жизненных задач, связанных со спецификой его деятельности, и эта идея особой жизненной задачи, присущая группе как таковой, удерживала сравнивающее восприятие в рамках отдельных общностей. Если последние между собой и сравнивались, то лишь как групповые единства. Поэтому в такие эпохи все отношения жизни пронизывает идея о данном Богом и природой «месте», на котором каждый человек призван исполнить свой особый долг. Ценности человека и его жизненные запросы формируются только в сфере значимости этого места. Каждый – от короля до шлюхи и палача – занимает формально «благородную» позицию, с точки зрения которой он на своем «месте» незаменим[36].
Шелер не задается вопросом, каким образом в такой идиллической картине мог зародиться ресентимент. Но если он не мог зародиться в отношениях между господином и крестьянином или ремесленником и рыцарем, то, исходя из логики самого Шелера, он мог зародиться только в среде аристократии. Между тем Шелер тщательно избегает такого хода мысли, продолжая выводить ресентимент из зависти низших классов к высшим. Однако само то обстоятельство, что феномен ресентимента был замечен именно в эпоху подъема силы низших классов[37], обнаруживает всю некорректность этого увязывания, всю произвольность этой претензии частного в морали на всеобщее. И сам Шелер отчетливо понимал, что ресентимент не может вырасти из абсолютной униженности и бессилия: «Раб, по природе являющийся рабом или чувствующий и сознающий себя рабом, не испытывает никакого чувства мести, когда хозяин оскорбляет его; точно так же – и распекаемый слуга-подхалим, и ребенок, получающий затрещину. Наоборот, высокие, сдерживаемые втуне притязания, гордыня, не соответствующая внешнему статусу, особенно благоприятны для пробуждения чувства мести»[38]. Тем более удивительно, что, в одном весьма важном аспекте сказав «а», Шелер не говорит «б». Он признает, что «максимально сильный заряд ресентимента должен быть в таком обществе, где, как у нас, почти равные политические права и соответственно формальное, публично признанное социальное равноправие (курсив наш. – Л. Ф.) соседствуют с огромными различиями в фактической власти»[39] и что вторым фактором в формировании ресентимента являются «зависть, ревность и стремление к конкуренции»[40]. Тем не менее ему не приходит в голову, что подобные отношения и подобные чувства могут иметь широкое распространение между членами одного класса[41] и этот класс вовсе не обязательно находится внизу социальной пирамиды. Как мы постараемся показать ниже, на роль такого класса как нельзя более подходит реальная исторически существовавшая, а не вымышленная Ницше и Шелером аристократия. И в такой же степени она имеет крайне мало общего с картиной класса, якобы свободного от ресентимента.
Глава 2. Ресентимент как умонастроение аристократии
Сколь бы самоочевидной в силу подкупающей простоты ни казалась связь между ресентиментом и низшими классами, сам комплекс характерных для него моральных чувств и стратегий поведения вряд ли мог появиться среди низших классов. Гораздо резонней предположить, что для его появления как значимого социального феномена было необходимо не уникальное сочетание черт личности у раба или крестьянина, одержимого, подобно старухе из сказки о золотой рыбке, неправомерной гордыней, а положение в социальной структуре, которое бы генерировало «высокие, сдерживаемые втуне притязания, гордыню, не соответствующую внешнему статусу»[42]. Еще Аристотель указывал на то, что завидуют друг другу люди близкого социального положения: «…тем, кто к ним близок по времени, по месту, по возрасту и по славе… тем, с кем соперничают, потому что соперничают с перечисленными категориями лиц… Одинаковым образом [мы относимся] и к людям, занимающимся подобными вещами. <…> Завидуем мы и тем, чьи приобретения или успехи являются для нас упреком; ведь такие люди нам близки и подобны нам… и тем, кто имеет или приобрел то, чем следовало бы обладать нам или чем мы обладали. И те, кто еще не достиг или совсем не достиг чего-нибудь, завидуют тем, кто быстро [достиг этого же самого]»[43]. Иными словами, социально обусловленная зависть, которая, как считается, лежит в основании ресентимента, возникает и поддерживается вовсе не тогда, когда расстояние между завистником и объектом зависти велико, а, наоборот, когда оно минимально[44]. А если и не минимально, то видится вполне преодолимым легальным путем.
Сегодня с ресентиментом обычно связывают популизм – по определению представительство низших классов. Но, как проницательно писал Ричард Сеннет еще по поводу Ричарда Никсона, «его симпатии – не приверженность новому порядку, но скорее чистое негодование, ressentiment по отношению к порядку существующему. В глубине души его политика – это политика пренебрежения к знати, критикующая недоступность привилегированных школ; класс, к которому он апеллирует, ненавидит привилегированных, но не собирается упразднять сами привилегии. Критикуя истеблишмент, представители этого класса (курсив наш. – Л. Ф.) надеются пробить в его стенах брешь, через которую они сами смогли бы по одному пробраться по ту сторону»[45]. Что же это за класс? Точно не пролетариат, по крайней мере американский. Как настойчиво подчеркивает Пол Фассел, пролетарии совсем не завидуют самым высшим классам; напротив, все оттенки зависти низших к высшим легко обнаруживаются между различными градациями среднего класса[46].
Поэтому картина, согласно которой рабы и маргиналы совершают колоссальную духовную работу по переоценке ценностей, в результате чего чувства бессилия и отчаяния, желание мести и осознание того, что она не может реализоваться в адекватных поступках, подвергаются колоссальной культурной переработке, и в итоге бессилие трансформируется в силу, поражение – в победу, а «ressentiment сам становится творческим и порождает ценности»[47], выглядит малоубедительной. Не стоит забывать, что революционеры, которые формулируют и воплощают на практике «ресентиментные» теории, обычно происходят из не самых обездоленных слоев, а часто все из тех же аристократов[48] или буржуа. То же касается и феноменов, в которых типичным для ресентимента образом тесно переплетаются политика и искусство. Так, «школа ресентимента»[49] в Америке возникла не тогда, когда негры были рабами, а женщины домохозяйками, а тогда, когда многие из них стали университетскими профессорами и развернули идеологизированные этнические, гендерные и «квирные» штудии. И поскольку речь зашла о политиках идентичности, с которыми нередко связывается современный ресентимент, стоит особо заметить, что он выражается в категориях достоинства[50], защиты оскорбленных чувств, компенсации за прежние несправедливости в форме привилегий[51]. Все это вызывает ассоциации с этосом некоего привилегированного, квазиаристократического социального слоя, который если и не страдает сам, то озвучивает чаяния страдающих на своем языке.
Иными словами, генезис ресентимента следует искать в высших классах или близких к ним социальных группах. Но, конечно, нельзя отрицать, что в дальнейшем свойственный ресентименту комплекс моральных чувств и поведенческих стратегий может быть перенят другими классами. В этом виде он обращает на себя внимание в эпохи, когда угнетенные классы приобретают реальные возможности для изменения своего положения или, во всяком случае, получают основания считать, что могли бы достичь большего, если бы такая возможность им была предоставлена.
Правдоподобные представления о генезисе ресентимента в более ранние эпохи (то есть, если следовать Ницше, в эпоху Античности и в Средние века) можно получить путем выявления таких социальных групп (и типичных для них «человеческих ситуаций»), статус которых хотя бы в некоторых существенных отношениях близок к статусу высших классов, а «слабость» и «униженность» лишь относительны и оставляют надежду на изменения к лучшему. Здесь мы попытаемся описать некоторые из ситуаций, сыгравших, по нашему мнению, ключевую роль в генезисе ресентимента в европейской культуре. Как бы парадоксально это ни выглядело с точки зрения мыслителей, введших понятие ресентимента, эти ситуации связаны с максимальной близостью к феодальной аристократии, то есть к той социальной группе, с которой Ницше и Шелер связывали прямую противоположность ресентименту.
Речь идет о двух типических ситуациях, имеющих непосредственное отношение к наследованию социального статуса – младшего сына и бастарда.
Долгое время действовавшая в Западной Европе система майората дискриминировала младших наследников, которым приходилось делать карьеру по церковной линии, в свободных профессиях, заниматься наемничеством или даже торговлей. Чем строже соблюдался этот принцип, тем сильнее в глазах младших представителей рода проявлялась его несправедливость. К периоду изживания феодальных порядков в Европе комплекс переживаний обделенных наследников породил настроения, выразившиеся, в частности, в словах Монтескье: «Дух тщеславия установил у европейцев несправедливое право старшинства, столь неблагоприятное для продолжения рода, ибо оно побуждает отца все внимание уделять только одному ребенку и отвлекает его от других, вынуждает его противиться благосостоянию нескольких детей, чтобы обеспечить благосостояние старшего, разрушает, наконец, гражданское равенство, на котором зиждется процветание общества»[52]. Заметим, что этот пассаж, начинающийся с вполне ресентиментного отторжения «духа тщеславия» (своего рода «блестящего порока», свойственного аристократии и осуждаемого с позиции младших детей из все той же аристократии), заканчивается отсылкой к принципу гражданского равенства. Эта могущественная идеологическая доктрина третьего сословия в Великую французскую революцию оказалась созвучна настроениям многих представителей дворянства – может быть, потому, что она вытекала и из их собственной «человеческой ситуации». В связи с этим хочется заметить, что комплекс связанных с майоратом ресентиментных переживаний и революционных устремлений разворачивался в накатанной тысячелетиями культурной колее. Как замечал Елеазар Мелетинский, осуждение майората в пользу более архаичного, но и более социально справедливого минората (наследования младшим сыном) прослеживается еще в Ветхом Завете: «…одобряемое автором перехватывание благословения Авраама младшим сыном Иаковом в ущерб Исаву и покупка первым первородства у второго; предпочтение, которое Иаков отдает младшему сыну Иосифу и младшему внуку Ефрему; воцарение Давида, младшего сына, которому завидуют старшие братья, и т. п.»[53]. Особенно в европейской сказке старшие братья часто оказываются активными соперниками несправедливо обделенного героя. «Старшие братья часто пытаются приписать себе подвиги младшего, отнять его награду. Так же и мачеха пытается подменить падчерицу своими дочерьми. <…> Старшие братья в сказке могут убить младшего или сбросить его в нижний мир (откуда его затем выносит птица), либо просто отнять у него царевен, чудесные предметы и т. п., либо приписать себе убийство дракона, показывая его отрубленную голову. Так же и мачеха может подменить падчерицу в качестве невесты или жены принца своей дочерью, а падчерицу изгнать или заколдовать. Героя, обручившегося в дальних странствиях с некой чудесной красавицей, могут заставить ее забыть и подсунуть ему другую невесту. Подмена совершается с помощью коварства, хитрости, обмана и колдовства»[54]. Однако униженный, оскорбленный и обделенный младший брат оказывается в действительности умнее, хитрее, способнее и, нередко, благороднее старших родственников, за счет чего торжествует над ними. И когда чувствовавшие себя обделенными младшие братья приходили забрать свое во время великих буржуазных революций, они всего лишь проделывали на практике то, что столетиями ранее осуществляли только в сказках. Сказки эти, конечно, пронизаны ресентиментом, но некоторые из них до сих пор находятся в основании европейской культуры и играют важную роль в ее социальной и идеологической динамике.
Отдельно следует отметить то, что майорат как повод для проявления зависти, соперничества, ненависти, бессилия, желания мести и прочих характерных для ресентимента чувств породил целую литературу, изобилующую характерными примерами. Так, один из героев Гофмана, пытаясь, будучи наследником майората, помочь брату, наталкивается на отповедь: «Ненавистное происходит от ненависти!.. Как милостиво бросает владелец майората свои червонцы бедному нищему!»[55] А вот пример отношений между двумя другими братьями: «“Ты жалкий, несчастный нищий, – сказал старший, двенадцатилетний мальчик своему младшему брату, – когда умрет отец, я стану владельцем Рзиттенского майората, и ты принужден будешь смиренно целовать мне руку, когда тебе понадобятся деньги на новый сюртук”. Младший брат, разъяренный высокомерной надменностью старшего, бросил в него нож, оказавшийся под рукой, и чуть его не убил»[56].
Елена Чиркова, посвятившая краткий обзор художественной литературе о майорате, отмечает, что в Англии система майората сформировалась в XIII веке и поэтому «больше всего упоминаний о майорате в английской литературе, во многих произведениях он движет сюжетом»[57]. В качестве примера приводится «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (1813). За неимением сыновей имение одного из героев должно перейти к его кузену. «. Который после моей смерти сможет вышвырнуть вас из этого дома, как только ему заблагорассудится», – говорит герой своим дочерям. Их матерью это воспринимается как ужасно несправедливое деяние. В новелле немецкого романтика Ахима фон Арнима «Майорат» (1820) описывается майорат-хаус неких благородных господ фон ***, владельцы которого живут за границей. В это же время их дворецкий периодически раздает милостыню нищим, среди которых «с легкостью могли бы, когда б не стыдились того сами, сыскаться и родственники хозяев, поскольку при основании майората о младших ветвях родословного древа предпочли не вспоминать». Герой произведения фон Арнима, Лейтенант, рассказывает историю о том, как он сам едва не получил майорат: «…мне было тогда лет тридцать, а дядюшке моему – шестьдесят, а детей у него не было. И взбрело же ему в голову жениться еще раз, и на молоденькой. Тем лучше, подумал я, она-то его насмерть и уездит. Но обернулось к худшему; он, конечно, вскорости помер, однако жена его незадолго до этого успела-таки родить ему сына, нынешнего майоратс-герра, а я остался с носом!» В связи с этим Лейтенант, несостоявшийся наследник майората из новеллы фон Арнима, рассказывает о «совершенно кошачьих» законах, царивших в его большой семье: «Первенца кормят, холят и лелеют, а младших его братишек и сестренок суют в помойное ведро головою вниз, и все дела».
Конфликтуют старший и младший братья в комедии Шекспира «Как вам это понравится», где майорат – экономическая предпосылка сюжета. Действие происходит во французском герцогстве. Умирает Роланд де Буа. Наследство распределено между тремя сыновьями примерно как в сказке «Кот в сапогах». Почти все отписано старшему, Оливеру, с поручением позаботиться о двух других – Жаке и Орландо, в том числе дать им образование, приличествующее знатному статусу. Младший, Орландо, получает согласно бумагам «какие-то жалкие тысячу крон» собственных денег, но и те остаются в распоряжении старшего брата. Оливер обращается с Орландо как со слугой. Жака он хотя бы отправляет в школу, а младший сидит дома, ужинает за одним столом с челядью, в него вкладывают «меньше, чем в лошадь», – тех хотя бы объезжают, нанимая наездников.
Как только Орландо начинает высказывать претензии, старший брат прерывает его властным: «А знаете ли вы, перед кем вы стоите?» В ответе младшего – конфликт книги: «Я знаю, что вы мой старший брат, и в силу кровной связи и вам бы следовало признавать меня братом. Обычай народов дает вам передо мной преимущество, так как вы перворожденный; но этот же обычай не может отнять моей крови, хотя бы двадцать братьев стояли между нами! Во мне столько же отцовского, сколько и в вас, хотя, надо сказать правду, вы явились на свет раньше меня, и это даст вам возможность раньше добиться того уважения, на которое имел право наш отец»[58].
Даже там, где конфликт не носит непримиримого характера, все обстоит отнюдь не безоблачно. «Главные герои “Виргинцев” Теккерея – братья Джордж и Гарри – сосуществуют более мирно, нежели сыновья де Буа и отпрыски Губерта, несмотря на то, что старший получает по майорату почти все семейное наследство. Госпожа Эсмонд “с величайшей торжественностью провозгласила своим наследником и преемником старшего сына Джорджа, а младшему, Гарри, который был моложе своего брата на полчаса, с этих пор постоянно внушалось, что он обязан его уважать”. Сердце матери не могло смириться с тем, что одному – имение, другому – “чашка чечевичной похлебки”. Да и в том, что старший сын будет обходиться с младшим достойно, у нее уверенности не было, потому что старший был “непокорным сыном”. И “вдова принялась упорно копить деньги для младшего обездоленного сына, как повелевал ей материнский долг”…»[59]. У нее были для этого основания, поскольку в ином случае младший сын мог бы в лучшем случае претендовать на скромный стол, кров, одежду, деньги на карманные расходы при весьма вероятной перспективе потерять и это после смерти матери и в случае утраты дружеского расположения старшего брата.
Другая ситуация, в ряде аспектов более показательная, чем описанная выше, – это положение бастардов в средневековой Европе. До XII века высокородные бастарды даже формально могли претендовать на то же, что и законные наследники могущественных аристократических и королевских родов. Карьеры Вильгельма Завоевателя и Владимира Красное Солнышко – яркие тому свидетельства. После датского короля Свена II целых пять его незаконнорожденных преемников быстро сменили друг друга на датском троне: Харальд III, Кнуд IV, Олаф I, Эрик I, Нильс. Бастарды на датском престоле того периода не были редкостью, поскольку законный брак считался желательным, но необязательным. В других местах дела обстояли аналогичным образом. Например, согласно валлийскому праву, еще в начале XIII века бастарды, признанные отцами, имели право на имя отца, его опеку, наследовали имущество и власть[60]. Затем, как отмечает Галина Зеленина, «возможности для них сократились (в отличие от предшествующих столетий, бастарды аристократов больше не могли быть признаны наследниками, стать князьями церкви или – в Англии – пэрами), но при этом их статус и имеющиеся права были юридически зафиксированы, и в этом смысле бастарды были узаконены»[61]. Такое двусмысленное положение не позволяло бастардам законно претендовать на высшие места в социальной иерархии[62]. Тем не менее и после XII века бастарды нередко добивались высокого положения. Например, английская королева Елизавета I была рождена в браке, но отец позже назвал ее незаконной дочерью. Бастардом был португальский король Жуан I, прозванный Великим. Маргарита Пармская, дочь императора Карла V, которой были отданы в управление Нидерланды, со стороны матери имела очень скромное происхождение: горничная. Русская императрица Елизавета Петровна также не была рождена в законном браке. Бастарды имели шанс достичь своего силой, когда мятежная знать поддерживала их против законных наследников. Показательно, что в произведениях вроде французской эпической поэмы «Рауль де Камбре» и других текстах бастардами оказывались самые любимые и почитаемые герои – например, король Артур и Карл Великий[63]. Позже манифест такого рода настроений прозвучит из уст Эдмонда, побочного сына Короля Лира:
- Побочный сын! Что значит сын побочный?
- Не крепче ль я и краше сыновей
- Иных почтенных матерей семейства?
- За что же нам колоть глаза стыдом?
- И в чем тут стыд? В том, что свежей и ярче
- Передают наследственность тайком,
- Чем на прискучившем законном ложе,
- Основывая целый род глупцов
- Меж сном и бденьем? Да, Эдгар законный,
- Твоей землей хочу я завладеть.
- Любовь отца к внебрачному Эдмонду
- Не меньше, чем к тебе, законный брат,
- Какое слово странное: «законный»!
- Ну ладно, мой законный. Вот письмо,
- И если мой подлог сойдет успешно,
- Эдмонд незнатный знатного столкнет.
- Я в цвете сил. Я подымаюсь в гору.
- Храните, боги, незаконных впредь[64]
Не проявляется ли таким образом исторически первая, аристократическая форма ресентимента, когда самым любимым и достойным объявляется ущемленный в правах, но в конечном счете добивающийся своего бастард? И не отсюда ли вытекает «ресентиментное» представление, что возвеличивать надо исключительно по заслугам, а не по происхождению, – представление, которое позже станет идеологическим оружием в руках противников наследственных привилегий? Несмотря на то, что положительные ответы на эти вопросы кажутся нам обоснованными, ожидаемо возражение следующего характера. Не смешиваем ли мы здесь разные, хотя и близкие явления: ресентимент (ressentiment), с одной стороны, и чувства негодования и обиды (resentment) – с другой?[65] Иначе говоря, не имеем ли мы в случае младших наследников и бастардов дело с обычными обидой и негодованием, а не собственно с ресентиментом? Действительно, так, скорее всего, и было, особенно в период, когда принцип майората еще не возобладал, а права незаконнорожденных наследников не были четко закреплены и столь же четко ограничены. Но когда приниженное положение младших наследников и бастардов было закреплено, тем самым закрыв перед ними ряд дорог, открытых аристократам, так сказать, первого сорта, было выполнено главное условие превращения гнева, обиды и зависти в собственно ресентимент – ощущение невозможности изменить свое положение.
Человеческие ситуации, порождающие ресентимент в трактовке Ницше и Шелера, нередко основаны на выдаче себя за того, кем ты не являешься. Но не такова ли ситуация, типичная для аристократа, который, являясь наследником своего славного предка, далеко не всегда равен ему ни в плохом, ни в хорошем? Не ему ли надо постоянно тщиться выглядеть тем, кто он не есть, подгонять под свое реальное положение идеалы, позволяющие хотя бы формально быть достойным славы предков? Уклоняться от мести более могущественным, оправдывая это соображениями самого разного толка и неизменно оставаясь в своих глазах не теряющим благородства? Изощряться, подобно монахам, уклоняющимся от строгого поста тем, что они признают рыбой бобров и морских птиц на том основании, что те водятся в воде, или едят мясо в пост за пределами трапезной на том основании, что устав запрещает его есть в трапезной? (К слову, монахи эти часто – бывшие аристократы, которые привыкли есть мясо и нашли способы есть его и в монастыре[66].) Как заметил когда-то Франсуа Рене де Шатобриан, «аристократия проходит через три последовательных возраста: возраст превосходства, возраст привилегий, возраст тщеславия; по выходе из первого она вырождается во втором и угасает в третьем»[67]. Даже если отвлечься от специфических ситуаций младшего наследника и бастарда, трудно не заметить, что само по себе существование аристократии зиждется на, если так можно выразиться, институционализированном ресентименте. Каковы бы ни были личные достоинства идеализированных основателей родов и династий, природа нередко отдыхает на их потомках, которым для сохранения своего положения остается рассчитывать на законодательное закрепление своих привилегий и насилие. В сущности, это означает институционализацию признания собственной относительной ущербности по сравнению со славными предками, которым люди, как гласит предание, подчинялись почти исключительно вследствие их высоких личных достоинств. И это тщательно маскируемое ощущение ущербности бессильно по отношению к его настоящим виновникам. Точно так же бессильно возмущение по поводу несправедливости судьбы, наделившей тебя недостаточно знатными предками или прочими не слишком благоприятными обстоятельствами рождения.
Поэтому, например, новоиспеченные аристократы из вчерашних буржуа или даже воинов, при формальном равенстве с аристократами, имеющими в своем роду множество славных предков, не равны им. Как замечает по этому поводу Макс Вебер, «сословно привилегированные группы никогда без оговорок и предрассудков не допускали в свой состав “парвеню”, даже если жизненный стиль последнего полностью соответствовал требуемому, допускались лишь его потомки, воспитанные в духе конвенций своего слоя и не запятнавшие сословную честь трудом во имя собственного благополучия»[68]. Неблагородная знатность становится источником ресентимента, поскольку хотя «монарх может возвысить любого, одарить его какими угодно титулами и богатством, но одновременно вознаградить семью поколениями предков он не в силах… как гласит испанская пословица, король не может сотворить идальго»[69]. Полупрезрительного отношения удостаиваются и жены аристократов неблагородного происхождения. «Маркиза де Креки в своих воспоминаниях упомянула несколько известных ей мезальянсов, и среди выскочек, ставших женами аристократов, лишь одна вызвала ее одобрение. Это некая мадемуазель Маццарелли, по мужу маркиза де Сен-Шамон. Госпожа де Креки характеризует ее как женщину бедную и незнатную, но вместе с тем честную и умную. В чем же, по мнению маркизы де Креки, выражались ее честность и ум? В воспоминаниях описано, как скромно держалась новоиспеченная мадам де Сен-Шамон в присутствии знатных особ и согласилась приблизиться к ним, лишь когда ее самым любезным образом пригласили. Плебейке полагалось знать свое место»[70]. Вполне возможно, такое же разграничение между знатностью и благородством имело место, к примеру, при становлении римского нобилитета во времена расцвета Римской республики, когда его плебейская часть еще считалась аристократами второго сорта. И оно, несомненно, имело место в России, когда в результате реформ Петра Первого дворянство пополнилось лицами, не имевшими знатных предков, в то время как, по ироничным словам Пушкина,
- Понятна мне времен превратность,
- Не прекословлю, право, ей:
- У нас нова рожденьем знатность,
- И чем новее, тем знатней.
- Родов дряхлеющих обломок
- (И, по несчастью, не один),
- Бояр старинных я потомок;
- Я, братцы, мелкий мещанин.
- Не торговал мой дед блинами,
- Не ваксил царских сапогов,
- Не пел с придворными дьячками,
- В князья не прыгал из хохлов,
- И не был беглым он солдатом
- Австрийских пудреных дружин;
- Так мне ли быть аристократом?
- Я, слава богу, мещанин.
Правда, мы должны отметить, что пассаж великого поэта иллюстрирует ситуацию, до известной степени обратную описанным выше. Здесь также присутствует сильный отзвук ресентимента, но теперь страдающей стороной в отношениях неравенства равных становятся, напротив, потомки древних родов. Это особенно характерно для России, где в XVIII и в начале XIX века «государство осыпало благодеяниями придворную аристократическую элиту, однако и провинциальные дворяне имели возможность подняться на самую вершину военной или гражданской бюрократической лестницы… Открытая перед рядовыми дворянами возможность продвижения наверх в действительности являлась одним из ключевых условий, обеспечивших как процветание послепетровской монархии, так и лояльность дворянства по отношению к абсолютистскому государству»[71]. Мы можем предположить, что такая возможность подъема на позиции, близкие к вершине, также являлась и источником ресентимента: дослужившийся до высокого положения неродовитый дворянин не мог не думать, что его титулованным собратьям по классу то же самое далось значительно легче; что для последних, к примеру, служба в кавалергардах – все равно что членство в престижном клубе, которое они себе могут позволить, ибо расходы на такое членство превышают жалованье и т. д.
Софи Калдор определяет ресентимент как долгосрочное отношение или «эмоциональную установку», направленную на враждебный внешний объект, который, по мнению обиженного человека или группы, имеет незаслуженный статус[72]. Но именно такого рода долгоиграющие эмоциональные установки характерны для социального бытия аристократии, потому что оно подразумевает наличие множества близких по статусу, но не совпадающих позиций, что порождает постоянное их сопоставление, соперничество, зависть. Мария Оссовская по этому поводу писала, что «титулованное дворянство, нетитулованное дворянство, провинциальное джентри – все они считали себя наследниками рыцарских традиций, но говорили часто разными голосами. <…> Отличать высшее дворянство от заурядного тем более необходимо, что между ними нередко существовал антагонизм, хотя вместе они и составляли привилегированное сословие»[73]. Какие-нибудь сквайры терпеть не могли лордов, считая их придворными блюдолизами; нравы света им глубоко отвратительны. Вместе с тем ряд коллизий влечет и сближение статусов высших классов, которое в Англии порождает стремление описывать различных их представителей как «джентльменов». В связи с этим характерны старания буржуа дать такое определение джентльмена, которое подошло бы и к разбогатевшим мещанам. «Типичным примером было предпринятое Даниелем Дефо различение между джентльменами по происхождению и джентльменами по воспитанию и образованию. Лишь последние, по его мнению, заслуживают звания джентльмена. Это происходило уже в XVIII веке, когда возросли и значение, и притязания “среднего класса”; но тенденция ставить происхождение позади личных достоинств джентльмена появилась гораздо раньше. Эти достоинства выдвигает на первый план Чосер, происходивший из разбогатевшей бюргерской семьи. Еще раньше мнение, согласно которому благородство определяется исключительно характером, упорно повторяется во Франции. Около 1290 года Жан де Мён, соавтор “Романа о Розе”, обстоятельно доказывал, что благородство зависит от добродетелей человека. Персонифицированная Природа говорит здесь: “Привычно слушать от людей, // Надутых важностью своей, // Что человек, чей знатен род // (Как говорит о нем народ), // По праву самого рожденья // Заслуживает предпочтенья // Пред тем, кто на земле корпит // И, не трудясь, не будет сыт. // По мне же, благороден тот, // Кто добродетелью живет, // А подлым я б назвать могла // Того лишь, чьи дурны дела”. “Чтоб благородство сохранить, – читаем мы дальше, – Достойным предков надо быть, // Что славное сыскали имя // В свой век заслугами своими. // Но предки, век окончив свой, // Заслуги унесли с собой, // Оставив лишь богатство детям. // Они ж довольствуются этим // И, кроме этого, у них // Заслуг нет вовсе никаких, // Когда достойными делами // Они не вознесутся сами”»[74]. Мы без труда можем заметить, что близость социальных позиций (или претензия на таковую) порождает неоднократно упомянутую «переоценку ценностей» в ницшевском духе. Тут и приоритет джентльменов по воспитанию и образованию перед джентльменами по происхождению, и определение благородства как следствия личных качеств, а не принадлежности к знатному роду, и утверждения, согласно которым бедность вполне совместима с дворянством, а звания джентльменов вполне достойны, например, врачи и адвокаты, ибо они не работают рукам[75].
Еще одним источником ресентимента является различие между аристократией завоевателей и аристократией покоренных народов. По крайней мере, во Франции времен Старого порядка эта разница осознавалась четко и для многих представителей дворянства шпаги была важным источником самоидентификации, равно как и причиной противопоставлять себя дворянам мантии, не говоря уже о простолюдинах. Дворяне шпаги не упускали случая напомнить, что они являются потомками завоевателей-франков. Дворяне мантии и представители третьего сословия подхватили этот вызов и приступили к переоценке ценностей, представляя себя как более образованную, продуктивную, творческую часть элиты, в отличие от ограниченной и по большому счету паразитической части военной аристократии. В этом случае мы имеем дело с ситуацией, начинавшейся с типичного ресентимента, который культивировали в себе представители галло-римской знати, попавшие в подчинение варварам-франкам. Надо к тому же заметить, что галло-римская аристократия была в большой мере христианизирована и образованна и поэтому пополняла ряды духовного сословия. Это действительно могло привнести в западное христианство ту долю ресентимента, о которой пишет Ницше, то есть специфической переоценки ценностей с целью отвоевать у аристократии завоевателей сферу институционализированной религии, а затем и подчинить эту аристократию в моральной области. Но то, что начиналось как переоценка ценностей и ресентимент, в итоге зашло гораздо дальше и стало одной из основ формирования классового подхода – идеологическим основанием для свержения Старого порядка.
Акцентирование нами внимания на отношениях внутри аристократии вовсе не означает, что в среде иных классов отсутствуют отношения, порождающие ресентимент как следствие фактического неравенства людей, обладающих примерно равным статусом или претензиями, позволяющими претендовать на таковой. (В средневековых обществах, например, много всяких статусов, в любом сословии обнаруживается своя иерархия.) Более того, как мы покажем ниже, предпосылки ресентимента древней всякой аристократии. Высшие классы пользуются нашим особым вниманием по двум причинам: 1) в силу существующей в долгие периоды, закрепленной законом (хотя и не везде) нисходящей социальной мобильности конкретно для класса аристократов (которая ведет именно к понижению социального статуса в отличие от тех же крестьян, у которых не всегда мог быть майорат); 2) в силу того, что аристократы и буржуа к тому времени, когда проблема ресентимента приобретает актуальность, являются классами наиболее образованными, задающими интеллектуальную моду. Поэтому именно они способны дать ресентименту если не идеологическое, то культурное оформление. Иными словами, если мы исходим из того, что аристократия долгое время является ведущей культурной силой, которой прочие классы (в первую очередь буржуазия) могут лишь подражать, то будет последовательным признать, что и в области ресентимента этот класс является законодателем моды.
Поскольку мы упомянули моду, то сразу напрашивается ассоциация с местом, которое является ее источником в сословном обществе. Это так называемый «свет» и, особенно, «двор». Они же выступают и в качестве одного из главных мест, где расцветает ресентимент. «Прочитайте, что писали историки всех времен о дворах государей, – писал по этому поводу Монтескье, – вспомните, что говорят во всех странах о гнусной природе придворных; это не умозрение, а плоды печального опыта. Честолюбивая праздность, низкое высокомерие, желание обогащаться без труда, отвращение к правде, лесть, измена, вероломство, забвение всех своих обязанностей, презрение к долгу гражданина, страх перед добродетелью государя, надежда на его пороки и, что хуже всего, вечное издевательство над добродетелью – вот, полагаю я, черты характера большинства придворных, отмечавшиеся – всюду и во все времена. Но трудно допустить, чтобы низшие были честны там, где большинство высших лиц в государстве люди бесчестные, чтобы одни были обманщиками, а другие довольствовались ролью обманываемых простаков»[76]. Двор и свет как места пребывания аристократии заслуживают особого внимания, поскольку именно там во всей полноте разворачиваются взаимодействия, пронизанные неравенством, попиранием слабого сильным, менее знатного более знатным. Особую роль во всех этих взаимодействиях играет зависть – чувство, в классической концепции ресентимента приписываемое рабам, плебеям и прочим «подлым» и неблагородным. Однако именно в среде «праздного класса», как не без основания отмечал Торстейн Веблен, играет огромную роль «завистническое сопоставление» с другими членами этого же класса[77]. Состязаются ли аристократы (или их исторические предшественники) в воинской доблести или меряются богатством, проигрыш, пусть даже и символический, влечет за собой часто потерю уважения и самоуважения. Чего бы они ни достигли в этом отношении, они никогда не будут вполне удовлетворены «результатом своего завистнического сопоставления»[78] И в целом «образ мысли, характеризующий жизнь праздного класса, постоянно вращается вокруг личного господства и завистнического представления о чести, достоинстве, заслугах, статусе и обо всем, что с ним связано»[79].
При этом данные взаимодействия порождают ресентиментные переживания не в последнюю очередь в силу того, что они облекаются в утонченные культурные формы, призванные замаскировать и смягчить реальное неравенство формальным равенством благородных. Показательно, что чем ближе к Новому времени, тем больше нравы света и двора описываются в категориях лжи и лицемерия, гнусного интриганства и вопиющей неестественности. Так, например, согласно Лабрюйеру, если познакомиться с королевским двором поближе, «он теряет все свое очарование, как картина, когда к ней подходишь слишком близко» («О дворе», 6). «Двор похож на мраморное здание: он состоит из людей отнюдь не мягких, но отлично отшлифованных» («О дворе», 10). «Двор – царство страшных пороков и холодной учтивости, он привлекает и пугает, заставляет вступать в опасную игру “жадных, неистовых в желаниях и тщеславных царедворцев”» («О дворе», 22). Показательно, что в описании этого автора большое внимание уделено «моральной деградации высших кругов общества во главе с наиболее родовитой знатью. Лишенные своих старых феодальных привилегий, прикованные к подножию трона, французские гранды стремятся вознаградить себя ложным величием за утерю реального политического главенства в государстве. Спесь извращает психологию не только вельмож, но и аристократов, не только дворянства крови, но и привилегированной части буржуазии – дворянства мантии. Для поддержания престижа своего имени французский аристократ рискует состоянием; он готов для этой же цели пойти на любую подлость. При дворе идет страшная борьба за должности, но “человек, получивший видную должность, перестает руководствоваться разумом и здравым смыслом… сообразуясь отныне лишь со своим местом и саном” (“О дворе”, 51). Двор развивает низкие инстинкты, ибо наиболее тщеславные люди чувствуют себя ничтожными перед волей самодержца. “Люди согласны быть рабами в одном месте, чтобы чувствовать себя господами в другом” (“О дворе”, 12)»[80].
Проблематика двора и света с их лицемерием людей, обреченных терпеть унижения и часто изображать не то, что им думается, «отказываться от своего величия для заимствованного»[81], изощренно мстить врагам и т. д. (причем не пытаясь сломать этот порядок в целом), открывает нам существенную сторону ресентимента как умонастроения, характерного для тех представителей высших классов, которые считают имеющийся порядок в целом справедливым и недовольны лишь своим местом в нем. Поэтому путь к выходу за пределы ресентимента описывается уже в категориях идеологий, порожденных ресентиментом только отчасти. (В связи со сказанным следует, в частности, отметить просветительскую реакцию на холод и жесткость лицемерного света: ею становятся призывы к естественности и простоте, которые вскоре станут компонентами демократических идеологий.) Но пока этого не произошло, например во Франции при Старом порядке, двор становится местом, в котором, как и в прочем обществе, происходят сближение и культурное смешение между высшей аристократией и буржуазной по происхождению просвещенной публикой, которая нередко искала покровительства в высших сферах. «Просветители со своей стороны не имели ничего против такого покровительства. Они с радостью и гордостью писали о том, что историки нашего времени называют “слиянием элит”: то есть о сближении придворной аристократии с литераторами. Так, известный романист, историк и моралист Шарль П. Дюкло в “Размышлениях о нравах этого века” (1751) утверждал, что в результате проникновения литераторов в придворное общество выиграли обе стороны: светские люди получили образование и новые развлечения, а литераторы – светские манеры и положение в обществе. Похожего мнения придерживался и Вольтер, подтверждением чему может служить его статья “Литераторы” (Gens de lettres) для “Энциклопедии” Дидро и Д’Аламбера. По словам Вольтера, “дух века сделал их по большей части пригодными как для научных занятий, так и для света; этим они намного превзошли литераторов прошлых веков. До Бальзака и Вуатюра их не пускали в общество; с тех пор они стали его необходимой частью”»[82].
В связи со сказанным следует отдельно указать на то, что образование (в широком смысле – как приобщение к «высокой культуре») играет огромную, если не ключевую роль в формировании ресентиментных настроений в классово и сословно разделенных обществах. Высшее образование до известной степени сближает получающих его с представителями аристократии. Это происходит уже потому, что, как заметил в свое время Т. Веблен, оно восходит к жречеству как посреднику между господами и плебеями. Образование, таким образом, является побочным продуктом деятельности праздного класса жрецов, а высшее образование «оставалось в известном смысле побочным занятием духовенства»[83], «подставного праздного класса, находящегося на службе у “потусторонней аристократии“»[84]. Показательны рассуждения американского социолога о сходстве академических и ученых ритуалов с ритуалами духовенства и вообще высших классов: «…нормы академической почтенности… устанавливаются высшими социальными рангами и классами; а к тем, в свою очередь, эти нормы переходят по законному праву фамильного наследования»[85]. В особенности коррелируют с аристократизмом занятия гуманитарными науками, поскольку они «вполне приспособлены для формирования характера студента в соответствии с традиционной эгоцентричной системой потребления, системой созерцания и наслаждения истиной, красотой и добром, согласно общепринятому образцу приличия и совершенства, яркой чертой которой является праздность – otium cum dignitae (досуг с достоинством, достойный досуг)»[86]. Тем не менее мы должны еще раз подчеркнуть, что сближение части выходцев из третьего сословия в образовании и воспитании с аристократами с давних времен является в той же мере предпосылкой их действительного уравнивания (социальный лифт), как и ресентимента – тогда, когда оно не ведет к фактическому равенству возможностей[87]. Догадываться об этом позволяет, к примеру, описываемый Ниной Ревякиной случай ренессансного гуманиста Витторино да Фельтре[88], который учил как богатых, так и бедных благородных, равно как и неблагородных, побуждая их достичь благородства, понимаемого им как добродетель. Неблагородных он характерно утешал и подбадривал: «Все вступают в жизнь одним и тем же путем, поскольку у всех одно и то же начало; но нет никакой родовитости у тех, кому предстоит родиться, она у рожденных воспринимается не от предков, а идет от чистой души; поэтому пусть они ее лелеют и пусть действуют мужественно, у того, кто желает благородства, оно будет»[89]. При этом Ревякина вскользь замечает, что среди благородных учеников были правители, кондотьеры, церковные деятели, юристы, литераторы, придворные, но «среди них не было педагогов в университетах, учителей в городских школах, воспитателей в семьях – эти функции выполняли другие ученики мантуанского наставника»[90]. Трудно сказать, какие чувства испытывали неблагородные ученики от утешений учителя (который все-таки отдавал некоторое предпочтение социально близким ему благородным, особенно из бедных семей). Но, вероятно, возможность подъема по социальной лестнице, даваемая таким обучением, до некоторой степени омрачалась пониманием социальной дистанции между благородными и неблагородными. Все-таки неблагородные ученики могли видеть, что одни становятся правителями и придворными, а потолок других – преподавание в университете. Позже, уже в процессе получения образования, они сталкивались с ситуацией, когда потомок лорда получал искомую степень по прошествии двух лет, не сдавая экзамена, тогда как всякий другой добивался ее семь лет. И это помимо того, что, по словам Уильяма Мейкписа Теккерея, «несчастливцы, у которых нет кисточек на шапках, называются “стипендиатами”, а в Оксфорде – “служителями” (весьма красивое и благородное звание). Различие делается в одежде, ибо они бедны; по этой причине они носят значок бедности и им не дозволяется обедать вместе с их товарищами-студентами»[91]. В то же время совместное обучение создавало ситуацию известного сближения неравных по происхождению слоев, по крайней мере в отношении образования, не только побуждавшую низших возвыситься, но и становящуюся предпосылкой для ресентиментных переживаний и порожденных ими идеологем. К последним можно отнести и саму идейную основу совместного гуманистического воспитания и образования: представление о благородстве как добродетели, то есть как о достижимом индивидуальными усилиями, а не врожденном качестве. (Пройдет время, и из него вырастут широко распространенные в среде буржуазии и обедневшей аристократии меритократические представления, которые внесут свой вклад в крушение Старого порядка.) В более же приземленном смысле получение представителями низших слоев хорошего образования и воспитания давало им повод считать себя явно более достойными лучшей участи, нежели пользующиеся различными привилегиями отпрыски знатных родов – особенно если последние носили на себе явную печать физической, интеллектуальной и нравственной деградации. Так, «У. Теккерей, говоря о некоем баронете, возмущался при одной только мысли о том, что человек, с трудом умеющий читать, человек грубый, которому доступны только “животные чувства”, восседает среди высших сановников Англии (речь шла о членстве в палате лордов). <…> Ядовитый Свифт в “Путешествиях Гулливера” так описывает воспитание знати: “Молодые ее представители с самого детства воспитываются в праздности и роскоши и, как только им позволяет возраст, сжигают свои силы в обществе распутных женщин, от которых заражаются дурными болезнями; промотав, таким образом, почти все свое состояние, они женятся ради денег на женщинах низкого происхождения, не отличающихся ни красотой, ни здоровьем, которых они ненавидят и презирают… слабое, болезненное тело, худоба и землистый цвет лица служат верными признаками благородной крови; здоровое и крепкое сложение считается даже бесчестием для человека знатного, ибо при виде такого здоровяка все тотчас заключают, что его настоящим отцом был конюх или кучер. Недостатки физические находятся в полном соответствии с недостатками умственными и нравственными, так что люди эти представляют собой смесь хандры, тупоумия, невежества, самодурства, чувственности и спеси. И вот без согласия этого блестящего класса не может быть издан, отменен или изменен ни один закон; эти же люди безапелляционно решают все наши имущественные отношения”»[92].
Исходя из сказанного, можно заключить, что ресентимент скорее спускается вниз по социальной лестнице, чем наоборот. Здесь стоит заметить, что проникновению ресентиментных настроений в социальные низы способствовал уже сам по себе майорат. Младшие дети дворян становились священниками, военными, монахами, торговцами. Некоторые уезжали за океан, открывали и завоевывали новые страны. В своей книге о формировании «преследующего общества» в Европе XII века Роберт Мур обращает внимание на прослойку младших сыновей рыцарей, часто незаконнорожденных, оказавшихся жертвами ужесточившихся законов о наследовании. Вследствие шаткости своего положения эти люди постоянно конкурировали за благосклонность покровителей, которая давала им должности, известность и богатство, боясь потерять ее, а вместе с ней и все, что у них было[93]. Ради укрепления собственного положения они были вынуждены проявлять повышенное рвение в формировании государственно-бюрократических структур в Западной Европе и за ее пределами (много младших сыновей, покинувших родину, было, в частности, среди жителей английских колоний в Северной Америке). Поступив на государственную службу или выбрав церковную карьеру, обделенные из аристократического класса отличались рвением и в преследовании социальных групп, признанных опасными для общества (еретиков, евреев, прокаженных и др.). Закономерно предположить, что их деятельность порождала у преследуемых чувства ненависти и бессилия, которые отчасти испытывали они сами, причем эти ненависть и бессилие должны были обретать гораздо более выраженный ресентиментный характер ввиду значительно меньших возможностей изменить свое положение.
Позволив себе небольшое отступление от проблематики собственно социального генезиса ресентимента, отметим также, что в ряде случаев ресентимент выступает как комплекс чувств и установок, которые низшие классы перенимают от высших как свидетельство приобщения к культуре и, так сказать, проблемам высших классов. Это относится отнюдь не только к моде или бытовым привычкам. В основе национализма, например, лежит отождествление человека из социальных низов с высшими классами своей страны. Национальные элиты заинтересованы в том, чтобы не-элиты воспринимали силу богатых и влиятельных как свою собственную. В такой ситуации низы как бы приобщаются к силе верхов. Но точно так же «сверху вниз» транслируются ощущение слабости и чувство негодования. С этим мы сталкиваемся, в частности, когда при проведении реформ одна страна пытается подражать другим, служащим ей эталоном, но терпит неудачу. Вследствие этого, как замечают Эдуард Понарин и Борис Соколов, опираясь на концепцию Лии Гринфельд[94], у населения этой страны «развивается разочарование, перерастающее в агрессивную неприязнь к государству, бывшему ранее образцом. Особую роль в этом процессе играют элиты (в первую очередь интеллектуальная элита), которые сначала создают некий идеал, на который призывают равняться (Англия для французских интеллектуалов первой половины XVIII века, Франция для немцев времен наполеоновских войн и т. д.), а затем, по мере разочарования, переходят в оппозицию к своим недавним кумирам»[95]. Здесь имеет значение и то, что неизбежная при таких обстоятельствах стратегия имитации сама по себе довольно унизительна, особенно если провозглашаются «конец истории» и отсутствие альтернативы. В результате и для обществ в целом успехи имитации начинают выглядеть свидетельствами не столько социальных достижений, сколько социальной неполноценности[96] – и порождают характерный комплекс чувств и соответствующих им политических дискурсов.
В отличие от ситуации великих революций, бенефициарами ресентимента тут однозначно оказываются правящие элиты: солидаризация с ними низов в общем ощущении слабости становится их (элит) силой. В этом смысле достаточно типичен пример современной России, где после крушения советского строя проводились реформы по западному образцу, не увенчавшиеся однозначным успехом или совсем не достигшие поставленных целей. Принципиальным здесь было, собственно, не достижение целей вестернизации, а то, что российские элиты, несмотря на все усилия и уступки «западным партнерам», так и не стали для них «своими» – при формальном равноправии. Наложившись на объективные экономические и политические противоречия между Россией и Западом, состояние отторжения привело к тому, что на уровне риторики постепенно возобладали антизападничество, идеи «особого пути», в свою очередь пробудившие потребность в теоретическом объяснении-оправдании невозможности «догнать Запад» («эффект колеи», неблагоприятный климат, отсутствие пригодных для эксплуатации колоний и т. д.). Именно в этом кроется одна из причин популярности критики концепций модернизации, что отвечает настроениям правящей элиты. На уровне масс соответствующие чувства находят выражение в антиамериканизме, осуждении разлагающейся лицемерной и двуличной Европы, приписывании недифференцированному Западу постоянных злых умыслов по отношению к России. При всем том применительно к современной России трудно говорить о полной неспособности «отомстить» обидчику (что лежит в основе ресентимента). Напротив, сжечь Запад, а заодно и весь мир в ядерном огне она как раз в состоянии. Не следует упускать из виду то обстоятельство, что, в отличие от Восточной Европы, у нас, в сущности, и не пытались всерьез воспроизвести западный путь. Как утверждает Глеб Павловский, «РФ не подражала западному “победителю” – имитирование в Москве изначально применяли как технику. РФ декларирует готовность имитировать западные институты. Но сама российская аппаратура имитации не являлась институтами демократии и не собиралась ими быть»[97]. И то и другое снижает не только градус ресентимента, но и его творческий потенциал. Не потому ли элиты современной России не могут выдвинуть в качестве альтернативы какой-либо мессианский мироустроительный проект? В подобных условиях наиболее комфортной стратегией до недавних пор представали ожидание мести, надежда на крушение зловредного Запада. Характерно, что крушение это (а значит, и месть) отодвигалось в неопределенное будущее. Однако признаки его неотвратимости обнаруживали постоянно – и в нарастающей порче западных нравов, и в западной демографии, и в социальных проблемах Запада и сопутствующих им политических потрясениях вроде «желтых жилетов», Brexit, избрания Трампа, движения BLM, штурма Капитолия, не говоря уже о перипетиях украинского кризиса. Там, где чувство унижения и желание отомстить не достигают достаточного накала, не возникало и сильного творческого порыва с целью изменить мир. Оставалась лишь злорадная надежда когда-нибудь увидеть «проплывающий труп врага», после чего его наследие достанется тебе естественным образом.
Завершая эту главу, мы должны подчеркнуть следующее. Утверждения, что аристократическая среда, особенно придворная, есть место интриг, зависти, подлых приемов, постоянного соперничества, выявления тех, кто слабей, с целью унизить и т. д., – банальность для всякого современника господства аристократии в любой исторический период. Все это просто неизбежно для класса, который отделяется от других и регулирует отношения внутри себя путем построения иерархической системы привилегий. Не менее банально представление о том, что распространение в обществах культурных и цивилизационных достижений (в том числе и сомнительных в моральном плане) идет сверху вниз: буржуа подражают аристократам, пролетарии – буржуазии. Заметим, что роль такого подражания неоднократно подчеркивалась в социальных науках в тот период, когда создавалась классическая концепция ресентимента. Огромное внимание ей уделяли такие исследователи, как Уильям Мак-Даугал, Габриель Тард, которые «ссылаясь на склонность людей подражать тем, кто в чем-то их превосходит, приписывали привилегированным особую роль в распространении определенных образцов и нововведений.“ Главная роль знати, – писал Г. Тард, – ее отличительная черта – это ее инициаторский, если не творческий характер”»[98]. Было бы только последовательным из таких предпосылок сделать вывод, что низшие классы и ресентимент усваивают от высших. Этого не произошло. Увы, как справедливо замечает Сьёерд ван Тайнен, человек ресентимента принципиально неспособен поставить диагноз самому себе[99]. Вероятно, поэтому все описанные выше явления не рассматривались творцами концепции ресентимента в качестве предпосылок его формирования. Находясь в плену странного самоослепления, они отрицали наличие у аристократии даже обычной зависти и генезис ресентимента искали в «морали рабов» или, как минимум, людей неблагородных, «подлых». Такая избирательная слепота, однако, заставляет нас заключить, что классики концепции ресентимента, хотели они этого или нет, отсылали не к реальной аристократии, а фактически к нормативно-идеологическому конструкту, который у них только ассоциировался с аристократией. На деле же он был сугубо модерновым феноменом, которому, в силу разных причин, дали название лишь по аналогии.
Тем не менее уже Макс Шелер уловил важнейшую черту ресентимента, которая является общей как во времена господства аристократии, так и в эпоху Модерна. А именно – то, что ресентимент скорее проявляется в обществах или социальных группах, состоящих из людей, примерно равных если не во всех, то во многих отношениях (например, по происхождению, образованию, воспитанию, правовому статусу и т. д.), но неравных фактически. Завидуют, злятся, негодуют друг на друга, считая себя несправедливо обделенными судьбой, люди, принадлежащие к сообществу, в котором разворачивается драма, если так можно выразиться, неравенства равных. В истории цивилизации первым из таких сообществ является аристократическое, что не означает, правда, отсутствия у феномена ресентимента несводимых к сословно-классовым коллизиям архаических корней.
Глава 3. Архаические формы ресентимента и их значение
Классический дискурс о ресентименте фокусируется на области психологического и социальноклассового, уже освещенной ярким светом если не Современности, то Цивилизации. В этом свете ресентимент, даже если мы переворачиваем его генезис с головы на ноги, остается почти исключительно постыдным свидетельством слабости, добродетелью из нужды и иллюзорной компенсацией. Даже если его носители побеждают, то как-то нечестно, оставаясь по большому счету неполноценными.
Однако архаические корни ресентиментного мировоззрения находятся гораздо глубже, что является одной из причин его живучести и устойчивости. Прежде всего здесь следует обратиться к универсальному для многих культур сказочному сюжету о несправедливо притесняемой соплеменниками и родственниками невинной сиротке. Содержание этих рассказов не исчерпывается исключительно социальной коллизией, хотя возможно объяснение в духе, что в подобного рода сказках «наиболее отчетливо отразился распад родовых отношений»[100]. С нашей точки зрения, наиболее показательно то, что в них речь всегда идет об ущемленном сироте, который, если угодно, имеет полное моральное и формальное право на внимание, помощь, участие и сочувствие со стороны родственников, но не получает их. Так, согласно Е. Мелетинскому, эти ситуации связаны с укреплением малой семьи и ослаблением связи с братом матери; в сказках отражается «конфликт сироты с семьей дяди, которая должна его усыновить», конфликт с самим дядей. При этом в меланезийских сказках намечается «идеализация обездоленного» – «сироту здесь компенсируют духи за нанесенные ему обиды, но он еще не является героем в полном смысле слова». Но он становится героем в сказках эскимосов, чукчей, степных индейцев. У индейцев сирота «часто оказывался почти в таком же положении, как “патриархальные” рабы из иноплеменников. В сказках эскимосов и индейцев… Он живет с бабушкой в отдельной хижине на краю селения, ближе соплеменники не подпускают его к себе. Он питается объедками вместе с собаками или получает жалкие подачки за работу слугой. У него нет одежды, он грязен, и сверстники смеются над ним, женщины его отвергают, а мужчины-воины не хотят брать в поход, на охоту и т. д.»[101]. Тем показательней его триумф, когда «“грязный парень”, которым все пренебрегают, не только вознаграждается за то, что был лишен законной доли при распределении добычи, но и проявляет необыкновенные таланты (приобретенные обычно в результате “откровения”), становится благодетелем племени. <…>. Он обычно изображается благодетелем тех, кто его обижал, учит мудрости соплеменников»[102]; но также он нередко и мстит им. О ресентиментной подоплеке (в классическом понимании) героя волшебной сказки свидетельствует и его специфическая пассивность. Такой герой обычно не действует сам, за него действуют высшие силы, силы волшебные, на которые он и возлагает свои надежды. «Волшебная сказка, – пишет по этому поводу Е. Мелетинский, – знает два типа героя: относительно активный, отдаленно напоминающий эпического, и собственно сказочный, пассивный. Эта пассивность (иногда нарочитая, игровая, иногда естественная) косвенно отражает активность волшебных сил. В терминах русской сказки эти два варианта можно обозначить как “Иван-Царевич” и “Иванушка-дурачок” (ср. “запечник” – норвежский Аскеладден, в женском варианте Золушка).
Мнимо “низкий” герой, герой, “не подающий надежд”, лишь незаметно и постепенно обнаруживает свою героическую сущность, торжествует над своими врагами и соперниками. Первоначально низкое положение героя может получить социальную окраску, обычно в рамках семьи: сирота, младший сын, младшая дочь, падчерица (гонимая злой мачехой) и т. п. Социальное унижение преодолевается повышением социального статуса после испытаний, предшествующих заключению брачного союза с принцессой (принцем), и получением “полцарства”. Известная внешняя скромность и даже робость сказочного героя прямо противоположны вызывающему поведению героя эпического, но и эта скромность приобретает архетипическое значение. Мотив героя, “не подающего надежд”, иногда эксплуатируется и в героическом мифе, начиная с “подкидыша” Мауи или американо-индейского мальчика-героя, выброшенного из вигвама в кустарник, и кончая библейским пастухом Давидом, неожиданно поразившим Голиафа»[103]. Но именно таков человек ресентимента по Ницше: он также уклоняется от полной ответственности за действие; враги его злы и плохи не потому, что творят зло и несправедливость по отношению к человеку ресентимента, а потому, что нарушают некие высшие законы, волю богов. Эти же законы и боги их рано или поздно наказывают.
Иными словами, уже здесь мы сталкиваемся с человеческой ситуацией, по-видимому, типичной для формирования ресентимента. Есть некто униженный, который по ряду причин (прежде всего в силу родственной связи) может претендовать на равный с другими статус (который он точно имел бы ранее), но не обладает им, а подвергается унижению и дискриминации. Эта ситуация, тем не менее, не оправдывается в сказках. Напротив, в них осуществляется переоценка ценностей. Последний становится первым, обретая силы, которыми он может распорядиться как для мести притеснявшим его, так и для благодеяния.
В последнем случае, замечает Ромэн Назиров, древние сказочно-мифологические представления отсылают нас к древнейшей социальной функции обездоленных, младших и слабых. Мотив торжествующего «младшего» становится всемирным потому, что он отражает процесс передачи опыта старших поколений, которая становится возможной благодаря заботе о стариках, как раз осуществляемой такими «младшими». Сюда же относятся ремесла, шаманство и иные занятия, которые практикуют плохо пригодные к охоте и собирательству члены племени, но которые этому племени тоже необходимы. Все это также является обязательным условием воспроизводства собственно человечности, которая, по известному утверждению Маргарет Мид, подразумевает прежде всего заботу о больных и раненых. В то же время именно в этот период, по-видимому, берет начало та линия в человеческой культуре, в которой то, что позже станут называть ресентиментом, тесно переплетается с тем, что позже будут считать социальным и моральным прогрессом.
«Еще в каменном веке, – пишет Назиров, – хромой, больной, слабый слились в образ презираемого младшего. Но со временем хромой стал Первым Кузнецом (богом), эпилептик – знахарем, чесоточный – шаманом или жителем луны. Возвеличенный младший стал героем мирового фольклора. На заре классового общества к нему были привязаны мечты “мизинных” людей о восстановлении справедливости. Его физическая ущербность и неказистая внешность стали символами социальной ущемленности и добровольно принятой маской до времени скрываемой силы. Сокрытие своего превосходства над господином, эта вечная тактика угнетенных классов, стала иронией Эзопа и Сократа, народных мудрецов, смеющихся над неправой властью. Совершилась трансформация архаического мотива младшего, из него исчезли “чудесные”, мистические элементы, отошедшие в монопольное владение институционализированного культа. Мудрость слабого, духовное превосходство младшего очистились от своего магического ореола, которым они были с необходимостью окружены в эпоху палеолита»[104]. Как мы можем заметить, в этом пассаже мотив, в котором можно усмотреть ресентимент, не исчерпывается мстительным торжеством младшего над старшим и угнетенного над угнетателем. Он также не сводится к утверждению реванша слабых над сильными в области морали, а отсылает нас к неким фундаментальным основаниям, благодаря которым воспроизводятся человечность и человеческие общества. С точки же зрения этих оснований «жизнеутверждающее», «радостное», «здоровое» мировоззрение «аристократии» является иллюзорно-ущербным, построенным на старательном и подчеркнутом забвении некоторых фундаментальных оснований социального бытия, а именно – оснований солидарности. Гегелевская диалектика раба и господина в этом смысле – один из способов осознания односторонности этого аристократического мышления (впрочем, как и отвечающего ему ресентимента).
В связи со сказанным следует уделить внимание, если так можно выразиться, болевой точке жизнерадостной аристократической мифологии, которая находится в основании классической концепции ресентимента. Для начала рассмотрим, какую роль играют жрецы в ницшевской концепции ресентимента. С одной стороны, жрецы – тоже аристократы, но… «Есть нечто изначально нездоровое в таких жреческих аристократиях и в господствующих здесь же привычках, враждебных деятельности, частично высиженных на размышлениях, частично на пароксизмах чувств, следствием чего предстает почти неизбежная у священников всех времен интестинальная болезненность и неврастения; что же касается снадобий, измышленных ими самими против собственной болезненности, то не впору ли сказать, что по своим последствиям они оказываются в конце концов во сто крат более опасными, нежели сама болезнь, от которой они должны были избавить?»[105]
Откуда возникает такая нелюбовь к жрецам, такое подозрительное к ним отношение? Из тьмы веков до нас дошли сведения о том, что некогда жрецы властвовали над аристократами, были их старшими братьями, на фоне которых аристократы выглядели сильными, но туповатыми и эмоционально неполноценными. Вполне возможно, что дошедшие до нас сведения о господстве жреческого класса в ряде древних обществ являлись наследием более архаических времен, когда предшественники жрецов в виде шаманов, знахарей, отчасти ремесленников выполняли признанные сообществом функции. Очевидно, в эти времена и существовал тот самый порядок вещей, который Шелер описывает в категориях рангового порядка ценностей, а Рене Генон называет «нормальным». Проблема была в том, что на вершине этого порядка стояли не аристократы, а жрецы, с точки зрения которых аристократы были классом не совсем полноценным. Ибо, как пишет Рене Генон, «в природе Брахманов, несомненно, преобладает саттва, направляя ее к состояниям сверхчеловеческим; в природе Кшатриев преобладает раджас, стремящаяся к реализации возможностей, заложенных в человеке. Преобладанию саттва соответствует интеллектуальность; преобладанию раджас соответствует то, что из-за отсутствия лучшего термина мы называем чувствительностью; это еще раз подтверждает мысли, высказанные нами выше по поводу природы Кшатриев, а именно то, что Кшатрии не предназначены для чистого знания: присущий им путь можно было бы назвать путем “преклонения”, если перевести таким образом, впрочем очень несовершенно, санскритский термин бхакти, то есть путь, отправной точкой которого является элемент эмоционального уровня; и хотя этот путь встречается вне собственно религиозных форм, роль эмоционального элемента нигде еще не была так сильна, как в нем, ибо он выражает неким специфическим оттенком всю доктрину в целом»[106]. Развивая этот тезис, Натэлла Сперанская утверждает, что «высшая каста брахманов была носителем духовной власти, основанной на абсолютном знании, в то время как каста кшатриев была наделена властью мирской, делегированной от власти духовной»[107]. Пока этот «нормальный» порядок не испортился, «между этими двумя кастами существовала гармония, которая была нарушена только вследствие восстания, или бунта кшатриев, строго говоря, приблизившего пришествие низших каст. Мирская власть восстала против духовного могущества, желая избавиться от зависимости и высшего авторитета последнего. <…>
Кшатрии никогда не имели доступа к чистому метафизическому знанию, ибо их посвящение было посвящением в “малые мистерии”, в то время как брахманы посвящались в “великие мистерии”, сердцем которых была Доктрина Нерастворимости. <…> Подлинное понимание пути Kaivalya (согласно М. Серрано, пути “персонифицированного Абсолюта”) изначально было недоступно второй касте, знавшей лишь путь Samadhi. Наиболее полное описание пути Samadhi мы встречаем в Бхагавадгите, предназначенной для касты кшатриев. Этот путь описан как Путь преданности, растворения, поглощения сознания Господом Кришной. Вступающий на этот путь “должен быть преданным слугой Божественной Личности”. Кришна никогда не учил Арджуну пути Kaivalya: “Ищи убежища лишь в Едином Вечном. Искорени чувство обособленности”, – говорится в Sutta Nipata. В “Майтри Упанишаде”, тексте, предназначенном для высшей касты брахманов, содержится знание о Доктрине Нерастворимости, или пути Kaivalya: “Кто, зная это, почитает Брахмана этими тремя [способами], тот идет за пределы Брахмана к высшей божественности среди богов и достигает счастья – негибнущего, неизмеримого, свободного от страдания”»[108].
По мере того как социальный паразитизм жрецов становился все более очевидным, а функции управления могли перенять и предшественники аристократии, сложились предпосылки для так называемого бунта кшатриев. Иными словами, столкнулись два класса, за первым из которых было присвоение плодов архаического ресентимента, а за вторым – свежее ощущение обделенности и второсортности. Это было мироощущение класса, стоящего на вершине социальной пирамиды, но не на самом ее верху.
Таким образом, соперничество брахманов и кшатриев порождает как архетипические культурные стратегии традиционного обоснования превосходства, так и оппонирующие им стратегии ресентимента, заключающиеся в первую очередь в «переоценке ценностей», настаивании, как пишет Генон, на достаточности для господства «частичной инициации» аристократии (в отличие от «полной» жреческой). Более того, дискриминированность аристократии священством в некотором отношении имела те же корни, что и угнетение женщин мужчинами. Относительно священников аристократия выглядела менее интеллектуальным и более чувственным, привязанным к земной эмпирике, то есть более «женственным» классом, что и было причиной невозможности познания ею великих жреческих тайн, недостижимости полного посвящения. Несомненно, это ущемляло мужское достоинство кшатриев. В то же время, по Генону, доступная в полной мере только жрецам Традиция не сводилась к голому интеллектуализму и, тем более, рационализму; она опиралась на совсем уж мистически понятую «интуицию»[109].
Правда, как замечает тот же Генон, один раз открывшийся путь переоценки ценностей и ниспровержения высшего класса относительно низшим уже не может быть закрыт – и аристократию вытесняют другие классы. С этой точки зрения значение ницшевского открытия (и прочтения) ресентимента заключается в его аристократической ангажированности. Ресентимент, таким образом, выступает как мироощущение, видимо, типичное для нисходящего класса, который в качестве моральной компенсации рисует себе преувеличенную картину собственного совершенства. Последней противопоставляется приписываемая дышащим в затылок классам их собственная утраченная уверенность в этом совершенстве, равно как и никуда не исчезающая в среде аристократии зависть низших к высшим, которая экстраполируется на низшие классы. Превознесение аристократии как социальной группы, по определению не подверженной ресентименту, призвано скрыть давнюю обиду относительно неполноценного сословия, не допущенного к высшим тайнам, не полностью инициированного, в конечном счете онтологически обделенного[110]. Ницшевское обличение священников как ресентиментного сословия, ориентированного на руководство чернью, маскирует тот факт, что некогда и аристократия была для священников чернью. Как выразился по этому поводу Александр Секацкий, «и класс аристократии был некогда пролетариатом в позиционном смысле… <…> Революционное, пролетарское прошлое аристократии может быть восстановлено лишь в самых общих чертах, но содержанием этой исторической миссии было восстание против власти вещего слова, против непререкаемой диктатуры ритуала. Бунт явился потрясением исходных матриц социализации и обретением новых средств производства – производства человеческого в человеке. Столетия спустя в гордых рыцарях-феодалах, способных одним жестом добиваться повиновения окружающих, трудно было опознать некогда обездоленных париев эпохи архаики, но именно сила, которую они сокрушили, сделала их столь сильными»[111].
Возвращаясь к базовому архаическому сюжету ресентимента, мы можем отметить, что он восходит к отношениям неравенства, распространяющимся скорее на естественную иерархию внутри рода, семьи, между сильными и слабыми, здоровыми и больными, молодыми и стариками и проч. Именно поэтому они продолжают оставаться актуальными очень долгое время, в частности, для аристократии и других социальных групп, для которых большое значение имеют вопросы наследования имущества и социального статуса. Архаические корни ресентимента, отразившиеся в определенных сюжетах, стратегиях «мести», восстановления утраченного и т. д., могут в более поздние времена сочетаться с современными идеологическими формами ресентиментного мышления и мироощущения. В конце концов, обещание «кто был ничем, тот станет всем» тоже можно рассматривать как проявление ресентимента. Здесь же мы хотели бы заметить, что рассмотрение социальных, классовых отношений по аналогии с родственными позволяет подходить к аутсайдерам как к неудачникам, ставшим таковыми исключительно вследствие своих личных качеств вроде лени, уродства и т. д. Но эта же аналогия порождает почву для характерного для ресентимента возмущения своим неравным по факту положением при наличии естественных оснований для равенства по родству. Так, известный лозунг буржуазных революций, лозунг «братства», вероятно, неслучайно сформулирован именно таким образом. Следует обратить внимание на то, что этот лозунг во времена Великой французской революции самый неопределенный. Если пытаться его интерпретировать с более поздней, идеологической точки зрения, то он выглядит преждевременным, потому что его слишком «левая» интерпретация нереализуема. В то же время в период революции, когда требуется мобилизация, он не может быть просто отброшен[112]. Но то, что апелляция к родственным связям оказывается столь живуча даже и в век Просвещения, что она не может быть заменена более соответствующей духу времени апелляцией к собственности, говорит о невозможности полного устранения этой архаически-ресентиментной линии в буржуазной революции. В XVI веке французские представители третьего сословия были неприятно поражены тем, что дворяне не хотят установления с ними «братских» отношений, признания за третьим сословием статуса пусть младшего, но брата. В свою очередь, дворяне считали оскорбительной саму мысль о «братстве» с простолюдинами: «Мне стыдно, государь, произнести перед вами те выражения, в которых нас оскорбили; они сравнивают ваше государство с семьей, состоящей из трех братьев. Мы не хотим, чтобы сыновья сапожников и башмачников звали нас братьями; между нами и ими такая же разница, как между господином и лакеем»[113]. Такого рода коллизии были неизбежны в условиях сословного социального устройства, в котором отношения господства и подчинения описывались в терминах естественных родственных связей. Но где семья – там и зависть младших к старшим, там и специфические формы притеснения, там и ресентимент как следствие отношений между формально равными, но фактически неравными членами. К концу XVIII века классовая борьба вокруг лозунга братства и равенства свидетельствует о том, что и в наступающий век демократии все равно кто-то обречен оставаться младшим братом, тогда как в роли Старшего Брата будет выступать отнюдь не только одно буржуазное государство.
Глава 4. Ресентимент: концепция и феномен
В длиной главе мы исходим из того, что следует различать ресентимент как феномен, существующий в пронизанных неравенством обществах, и концепцию ресентимента как одновременно разновидность ложного сознания и специфическую критику ложного сознания справа — каковой она является в момент своего появления. В этом отношении концепция ресентимента изначально сама есть «повторное переживание», как и всякий «реакционный» дискурс. Она вторична, как вторичен вообще консервативный модус мышления. Замечательно то, что устами Ницше упрек во вторичности адресуется как раз носителям ресентимента со стороны низших классов, в то время как у аристократии мироощущение первичное, подлинное и здоровое. Перебрасывать такого рода «горячую картошку» бессмысленно: как мы показали, реальная аристократия, равно как и средние классы, наряду с ощущением неотчужденной полноты жизни и здоровья, сами постоянно порождают ресентимент как вторичное, больное, источенное червями восприятие реальности и обладающее прочими подобными признаками мироощущение. Замечательны сами эти терминологические отсылки к «реактивности», «реакции», которые ясно указывают на тот вызов, ответом на который стала в том числе концепция ресентимента.
4.1. Ресентимент: французский феномен и немецкая теория
Но почему ответ на этот вызов прозвучал именно из Германии? Если слово «ресентимент» было заимствовано Ницше из французского языка, то резонно ожидать, что оно обозначало феномен, который пышным цветом расцвел прежде всего во Франции. Как мы попытаемся показать ниже, это действительно было так. Потому что на самом деле образцовая страна ресентимента, в которой он зарождается, расцветает и, главное, отцветает, будучи вытеснен веяниями эпохи революций, – это Франция.
Франция XVI–XVIII веков – страна, в которой происходят постепенный подъем буржуазии, ее перемешивание с аристократией, сближение их социальных позиций, ослабление социальных и культурных перегородок – и в то же время утрата аристократией части прежних позиций при остающемся формальном господстве и наличии ряда привилегий, недоступных или труднодоступных для буржуазии. При этом и у буржуазии, и у аристократии на протяжении длительного периода остаются ресурсы, обладание которыми желанно для обеих сторон, но не всегда может быть реализовано. Упрощенно выражаясь, аристократы хотели бы иметь буржуазное богатство, а буржуа – аристократические привилегии, но иметь и то и другое доступно лишь очень немногим. Данные процессы были замечательно описаны Огюстеном Тьерри в его известном «Опыте истории происхождения и успехов третьего сословия».
Буржуазия со времен ее включения в систему сословно-представительной монархии описывается Тьерри как еще одно привилегированное сословие наряду с дворянством и духовенством, как «третий класс вполне свободных и обладающих собственностью людей», который, «несмотря на то, что он был ниже двух других», разделил с ними «политические права старинных сословий»[114]. Иными словами, буржуазия была включена в систему привилегированных сословий со сравнительно низким статусом, что, по мере роста ее благосостояния, образованности, влияния, либо вызывало законное желание повысить статус, перейдя в дворянство, либо, при невозможности этого, становилось причиной радикальной оппозиционности [115]. К концу XVI века статус этого нового привилегированного сословия в некоторых отношениях был смежным с дворянским: «Высшие должности в суде и финансовом управлении помимо более или менее значительного жалования представляли еще привилегии, означавшие нечто вроде личного ненаследственного дворянства, которое не выводило их обладателей из третьего сословия (курсив наш. – Л. Ф.)»[116].
Показательно рассуждение Тьерри о потерях и приобретениях буржуазии. Приобретения – судейские и административные должности, торговля, промышленность, наука, литература, искусство, свободные и прибыльные профессии – поднимали ее значение[117], тогда как феодальные по природе привилегии и муниципальные свободы постепенно утрачивались. В то же время, замечает Тьерри, «если теряло дворянство, то его потери были непоправимы; если теряла буржуазия, то ее потери были только кажущимися: если ей преграждали проторенную дорогу, перед ней тотчас открывались новые и более широкие пути»[118]. Иными словами, Тьерри описывает ситуацию, в которой для аристократии и буржуазной квазиаристократии создаются предпосылки к формированию ресентиментного мировосприятия. Дворяне теряют, но не приобретают, при том что низшее сословие объективно уравнивается с ними, а то и превосходит их если не в формальном статусе, то в возможностях и способностях. По словам одного из представителей третьего сословия, «вовсе не ежегодный сбор закрывает дворянам доступ к должностям, а недостаток их способностей, а также продажность должностей»[119]. «В то самое время как дворянство мало-помалу опускалось до уровня среднего класса, этот последний поднимался быстрее, чем когда-либо, выделяясь своими талантами, общественным значением и положением в государстве»[120]. Дворянам в такой ситуации остается лишь отстаивать свои исконные привилегии, например право занятия офицерских должностей, из которых на закате Старого порядка стали постепенно исключать всех успевших на них проникнуть представителей третьего сословия. Показательно, что аргументировалось это буквально тем, что у буржуа и так много разных возможностей, тогда как у благородных осталась лишь служба. Так, командир полка, маркиз де Креноль в 1764 году писал отстраненному им от службы поручику из буржуазной семьи: «…у Вас есть средства, Вы молоды, Вы не останетесь без дела, если только захотите посвятить себя образу жизни, которому следовали Ваши предки; этот жизненный путь очень почтенен, когда честно идут по нему; но на службе Вы вне Вашей сферы, вернитесь в нее, и Вы будете счастливы. Я знаю, милостивый государь, что рождение дело случая, и нет основания хвалиться тем, которые хорошо рождены. Но у рождения есть привилегии, есть права, которые нельзя нарушать, не смутив общих основ. Самое реальное, что осталось дворянству, – это военная служба; дворянство создано для нее, и если подданные, созданные для другого предназначения, займут место дворян, то это будет существенно противоречить установленному государем порядку»[121].
Замечательно, что, поскольку дворяне теряют, но не приобретают, они испытывают в некоторых отношениях зависть к третьему сословию. Так, описывая ситуацию, сложившуюся вокруг наказов дворянства на заседании Генеральных штатов в 1615 году, Тьерри отмечает, что заявления представителей третьего сословия «сопровождаются взрывом завистливой вражды против королевских чиновников и вообще верхушки третьего сословия»[122]. «Завистливая вражда» – почти полная формула ресентимента, проявлением которого, по крайней мере с точки зрения идеолога буржуазии, выглядит поведение дворян, тогда как образ мышления третьего сословия имел все возможности выйти за его рамки: «Поскольку старинные права были не чем иным, как старинными привилегиями, их восстановление в целом под именем свободы могло быть предметом вожделения только для двух первых сословий; третьему же сословию, если не считать его старинных муниципальных вольностей, увлечение которыми его уже не волновало, нечего было жалеть в прошлом: все для него было в будущем. Поэтому в заключительной части своей политической роли оно и стало великим очагом, неутомимой движущей силой нового направления умов, идей социальной справедливости, идей равной для всех свободы и гражданского братства»[123].
Описанные выше процессы становятся источниками многочисленных коллизий, зависти, бессильной злобы ввиду невозможности изменить положение – и, конечно же, морализаторства с целью выдать нужду за добродетель, то есть обосновать, почему истинному аристократу на самом деле не нужно богатство, а буржуа – титулы. Если обратиться к французским моралистам указанного периода, из их наблюдений предстает картина общества, пронизанного лицемерием, общества, в котором все является на деле не таким, каким хочет выглядеть.
NB! Мы должны заметить, что элементы ресентимента в общественном сознании были зафиксированы отнюдь не только у французских моралистов, но и в целом у ряда мыслителей указанного и близкого к нему периодов: «В этических взглядах мыслителей рассматриваемого периода можно выделить исследование партикулярного уровня в морали, частные ценности которого вменяются как всеобщие: мораль, основанная на ложной идее справедливости, существующей в обществе (Дж. Бруно); мораль, исходящая не из блага государства, а из страха, из своих личных нужд (Н. Макиавелли); мораль, которая исходит из области эгоистических интересов, где царит человеческое рабство, которое есть бессилие человека перед лицом своих страстей (Б. Спиноза); мораль цивилизованного состояния, которая исходит из страха позорной смерти, стимулирующего разум (Т. Гоббс); принципы христианской этики (Г. Гроций); законы общественного мнения (Дж. Локк); общественная мораль (Ф. Ларошфуко); добродетель, которая произошла из частного интереса, сопряженная с любовью к власти и могуществу (К. А. Гельвеций); мораль развитого государства (Б. Мандевиль); мораль общественного предписания (моральные идиоматизмы) (Д. Дидро); мораль общественного договора (Ж.-Ж. Руссо); моральный субъективизм у Г. В. Гегеля; мораль как превращенная форма общественного сознания (К. Маркс).